Терентий Фёдорович Новак Пароль знают немногие
Часть первая
Самый трудный экзамен
1
В большом пятиэтажном доме на улице Восточной в эти дни было необычно тихо, словно кто-то взмахом волшебной палочки угомонил неспокойных его обитателей.
Аудитории Ровенского учительского института опустели. В учебном корпусе начался ремонт — пахло краской, мастикой, цветами. Только в деканатах дробно стучали пишущие машинки.
Студенты стайками собирались у дверей аудиторий. Каждый с замиранием сердца ждал своей очереди, чтобы подойти к столу, на котором белели полоски экзаменационных билетов: «Какой выбрать?» А когда в экзаменах наступал перерыв, юноши и девушки разбредались кто куда. Одни запирались в общежитии, разложив на кроватях конспекты, другие с книгами в руках уходили в парк или вишневые сады, зеленевшие на городских окраинах. Закрывая ладонями уши, мужественно преодолевая соблазны чудесного июньского дня, будущие педагоги лихорадочно повторяли пройденное...
Сессия подходила к концу. В моей зачетной книжке все графы последнего семестра были заполнены и скреплены витиеватыми закорючками преподавательских подписей. Только последняя строчка оставалась пустой.
Время клонится к вечеру. Мы втроем — Коля Абрамчук, черноглазая Фаня и я — сидим в большой комнате мужского общежития. Отрываясь на минуту от книги, я перевожу взгляд на стену, где висит расписание экзаменов: «Второй курс, истфак. Новая история. 23 июня».
— Не терпится? — спрашивает Абрамчук, кладя мне на плечо руку. — Не горюй, казак! Протянем как-нибудь еще два дня, сдадим последний экзамен, а там... гуляй сколько хочешь.
Фаня радостно захлопала в ладоши:
— Ой, хлопцы, даже не верится. Неужели через два дня? Ни лекций, ни семинаров, ни звонков... Буду читать день и ночь, загорать на пляже, купаться. Роскошь! А ты чем думаешь заниматься, Терентий?
— Поеду к родителям в село. Хорошо сейчас в нашей Гоще... Да и старикам по хозяйству надо помочь.
— А мне хотя бы в коротенькую экскурсию. Ну к примеру, в Киев, Ленинград или Одессу... И в Москву, разумеется, — мечтательно говорит Николай. — Побывал бы в Мавзолее — раз, в Третьяковской галерее — два, в метро — три, — загибая по очереди пальцы, перечисляет он. — Поездил бы, посмотрел страну.
Дверь без стука открылась. В ее проеме показался мой земляк, комсорг института Гриша Гапончук.
— Как поживаете, историки? Ишь, хитрецы! Я думал, науку штурмуете, головы трещат, устали, бедняги, а вы, значит, гостей принимаете! — с добродушной улыбкой кивнул он в сторону Фани.
— Привет литератору! — в тон Гапончуку откликнулся Николай. — Присаживайся, комсорг, есть разговор.
— Некогда. Я на минутку, к Терентию.
— Все к Терентию, — беззлобно упрекнул его Николай. — А когда же к нам? Слушай, Гриша, — он схватил Гапончука за руку, — только что я твоего Терентия просил, а теперь и ты вот пришел... Ну в самом деле, помогите, ребята. Ты — наш комсорг, Терентий — профсоюзный деятель, оба бывшие подпольщики, пользуетесь влиянием. Сделайте доброе дело: устройте мне экскурсию по стране. Львовские студенты едут, сам читал в газете, тернопольские — тоже, а мы разве хуже? — Николай умоляюще посмотрел на Гапончука. — Я уже полтора года как советский гражданин, а что видел? Кроме Ровно и своего села, нигде не был.
— А теперь побываешь, — спокойно ответил Гапончук. — После сессии поедешь. В списки тебя включили. Так что не волнуйся.
— Ты не шутишь?
— Не шучу. Точно. В экскурсию по стране едет большая группа студентов из западных областей.
Николай восторженно закружился по комнате.
— Ну я пойду, ребята, — поднялась Фаня. — Вы тоже не засиживайтесь, пора и отдохнуть, а то с самого утра все зубрите.
Все трое вышли проводить гостью.
Было по-летнему жарко. Мы не заметили, как очутились у раскинувшегося на возвышенности парка. Этот парк мы закладывали вместе, в сороковом, через год после освобождения Западной Украины. Молодые деревца принялись на удивление быстро, окрепли, разрослись. Я любил бродить здесь. Отсюда, с высокого пригорка, город был как на ладони, открывалась широкая панорама улиц, домов, садов. Мне нравился спокойный и тихий Ровно. Хотя, если говорить правду, первые годы жизни в нем оставили не так уж много радостных воспоминаний...
Рано расстался я с родной Гошей — бедным, обшарпанным волынским полуселом, полуместечком. Запомнилась пыльная, вся в выбоинах дорога. Над степью с криком носятся галки. Уныло торчат на развилках почерневшие от дождей кресты. Понурив голову, еле переставляет ноги наша старая коняга. Отец сидит спереди и молча думает свою невеселую думу. Дома осталось семеро детей. Как прокормить их? Во что одеть?
Где найти заработок? Как вылезти из долгов? Чтобы хоть немного облегчить положение семьи, меня, восьмого, отец решил пустить на «самостоятельный хлеб». Что это такое — «самостоятельный хлеб» в бывшей панской неволе — я узнал довольно быстро.
В полотняных штанах, выкрашенных синькой, с узелком, в котором лежали несколько луковиц и черствая краюха хлеба, спрыгнул я с телеги на одной из ровенских улиц возле шорной мастерской Василевского. В сопровождении отца вошел в контору.
Предприятие пана Василевского было небольшим, но пользовалось известностью далеко за пределами города. Из самых отдаленных фольварков «кресув всходних» (так окрестили польские паны Западную часть Украины, находившуюся под их владычеством) съезжались в мастерскую осадники и легионеры — именитая и мелкая шляхта. Отовсюду поступали заказы на роскошные кавалерийские седла, на разукрашенные инкрустацией уздечки, на дорогую сбрую для породистых рысаков и на упряжь для панских выездов. Паны любили покрасоваться, пустить пыль в глаза. Василевский же любил злоты.
Разумеется, не сам он натирал мозоли на руках, выполняя многочисленные заказы. Этим занимались рабочие, задыхавшиеся в тесных клетках, пропахших кожей-сырцом и смолой.
Меня приняли учеником «за харч». С этого момента и началась моя трудовая жизнь. В первый же день один из мастеров, хозяйский прихвостень, к которому я был приставлен для обучения ремеслу, приказал мне принести два ведра воды. Я нечаянно поскользнулся, и капли воды попали на лоскут дорогой парчи, приготовленной для обивки седел. Моментально на мой стриженый затылок с силой обрушился тяжелый кулак. И так случалось чуть ли не ежедневно. Приходилось голодать, мерзнуть, терпеть подзатыльники. Домотканые латаные штаны и такая же рубашка, в которых я приехал из села, еще долго оставались моим единственным, и праздничным и будничным, костюмом. Хороший шорник из меня так и не получился. Зато, работая в мастерской пана Василевского, я многое увидел в ином свете. Впервые в жизни узнал о забастовках, о нелегальных собраниях рабочих, стал посещать их. И с каждым днем все яснее и отчетливее представлял себе, что между теми, кто имеет мастерские, собственные выезды, и теми, кто трудится, получая за свою работу жалкие гроши, идет непримиримая борьба и в этой борьбе я должен занять свое место в строю.
Как-то жарким летним днем двадцать восьмого года поляк Станислав, широкоплечий, белокурый парень из нашей мастерской, сунул мне в карман тоненькую брошюрку, напечатанную на папиросной бумаге, тихо сказал: «Прочти! Только будь осторожен». Вечером я прочитал брошюрку. В ней говорилось о комсомоле, о силе рабочей солидарности. Так вошла в мою жизнь нелегальная литература, открывшая путь к постепенному познанию марксистско-ленинских идей.
Потом я стал коммунистом-подпольщиком. Партийные задания, стычки с полицией, жандармские нагайки, кошмарные дни и ночи в застенках «двуйки»[1], допросы, побеги, снова запрещенные книги, собрания, маевки... Дела и заботы партийного подполья накрепко сдружили, сроднили меня с городом. Я знал в Ровно каждую улицу, каждый закоулок. Они были свидетелями моей беспокойной юности...
Теперь мне двадцать девять, для студента-второкурсника возраст солидный. А сколько же Гапончуку? Он моложе меня на целых два года.
Я посмотрел на своего давнего друга, шагавшего рядом с Фаней несколько впереди. Статный, высокий, красивый, в белой украинской рубашке с закатанными по локоть рукавами, он что-то увлеченно рассказывал девушке... В памяти всплыла еще одна полузабытая картина.
...Внезапный, как молния, пистолетный выстрел. Шершавая рукоятка браунинга словно прикипела к моей ладони. Охранник-жандарм без стона валится на бок, с грохотом падает его винтовка. Несколько ударов по тяжелому замку — и распахивается дубовая дверь: «Выходите, товарищи!»
Из темного провала двери тюремной камеры ко мне в объятия бросается Гриша Гапончук, секретарь подпольного Гощанского райкома КПЗУ[2]. За ним выбегают еще несколько узников — наших товарищей коммунистов. Свободны! Мы помогли им вырваться, спасли от расправы пилсудчиков. А потом — отход, погоня, свист жандармских пуль за спиной... Нас прижали к самой границе. За рекой Горынь лежала сказочная, недосягаемая земля: там раскинулась Советская страна. Минуты раздумья, колебаний... Нам посчастливилось перебраться через границу.
Когда это было? В тридцать шестом?.. Да, как раз в то время на улицах Львова воздвигались баррикады. Уже полыхало пламя войны в Испании. Григорию тогда было всего двадцать два года.
— Эй, комсорг! А мы с тобой еще молодые, черт побери! Ты когда-нибудь думал об этом?
От моего толчка в бок Гапончук удивленно поворачивается. Наши взгляды встречаются. Он еще не понимает, о чем я говорю, не успевает вдуматься в мои слова, но приподнятое настроение мигом передается и ему. Гриша дает мне сдачи и тоже звонко, от души смеется.
Мы подхватываем Фаню под руки.
— Бежим! Ну, быстро!
Коля Абрамчук растерянно моргает. Фаня хмурится. Ей кажется, что мы ведем себя несолидно, по-детски: «А еще комсорг и председатель институтского профкома!»
Над головой ясное-ясное небо и много солнца. Где-то в высокой синеве звенит краснозвездный самолет. И сессия приближается к концу... Чудесно все-таки жить на свете!
— Вы готовы на подвиг? — остановившись, спрашиваю я. Все трое одновременно поворачиваются в мою сторону.
— На какой?!.
— Подняться завтра на рассвете и всем — в парк. С утренней росой. Немножечко силы воли, и подвиг во имя науки обеспечен. Повторим на свежую голову все вопросы программы. Согласны?
— Согласны.
— Тогда до завтра!
Оставив друзей, я вернулся в общежитие.
2
Город медленно просыпался. Он лежал внизу, под нами, окутанный легкой полупрозрачной дымкой. Лучи солнца еще не коснулись влажных крыш и густых садов. А здесь, на взгорке, они уже играли всеми цветами радуги в каплях росы. Фаня, поеживаясь, встала со скамейки.
— Замерзла? — Гриша взглянул на ее легкую кофточку. — На вот пиджак, набрось на себя.
Девушка отвела его руку.
— Не нужно, это я так. Сидеть не хочется. Красота-то какая вокруг, взгляните! — Глаза ее мечтательно устремились вдаль, туда, где медленно, словно нехотя, отступал захваченный солнцем ночной туман. Там лежали колхозные поля. Безбрежные, как море, массивы хлебов клонили к земле наливающиеся колосья, тихо покачивались от налетавшего ветерка и, словно волны, убегали от городской окраины к самому горизонту, сливаясь там с нежной пеленой утреннего неба. — Как в сказке, — продолжала Фаня. — И чувство такое, будто летишь высоко-высоко, а под тобой вся земля...
— Ну вот что, лирики, — ломким баском перебил ее Абрамчук, — не знаю, у кого как, а у меня такое предчувствие, что полечу я на последнем экзамене головой вниз. Мы зачем сюда пришли? Пейзажами любоваться или повторять новую историю? А ты, Гришка, не размагничивай людей. Если сам рассчитался с сессией, другим не мешай заниматься. Давай, Терентий, на чем мы остановились?
— Франко-прусская война. Причины поражения Франции. Усиление Пруссии. Дальше — Парижская коммуна. Кто желает блеснуть знаниями? Кажется, вы, студент Абрамчук? Прошу!
Николай наморщил лоб, собираясь с мыслями, решительно откашлялся, но сказать ничего не успел.
За нашими спинами в зарослях послышались голоса. На поляну вышли однокурсники Гапончука, филологи Кисель и Фишман.
— Зубрим помаленьку? — прищурился Кисель.
— Из-за вас много не назубришь, — отрезал Николай. — У нас завтра последний зачет. Понимаете? Мы должны кое-что подчитать. А вот вас зачем черти сюда принесли? Непонятно. Дрыхли бы лучше, бродяги вы несчастные.
— Юноша! На ваше оскорбление представителей святой науки филологии мы отвечаем презрительным молчанием! — торжественно, явно кому-то подражая и улыбаясь одними глазами, произнес Фишман. — Мы...
Он не успел договорить. Воздух вдруг наполнился мощным, необычно-тревожным ревом десятков авиационных моторов. Самолеты шли с запада, их было много. Казавшиеся сначала расплывчатыми темными точками, они быстро приближались, на глазах увеличиваясь в размерах. Минуту спустя на их крыльях мы отчетливо увидели зловещие черные кресты. В тот же миг застучали зенитки. В прозрачной синеве неба вспыхнули ватные облачка. Они медленно светлели, будто таяли...
— Что это? — растерянно спросила Фаня, обращаясь ко всем нам одновременно. — Откуда столько самолетов? Почему стреляют?
Мы испуганно переглядывались. Натужно захрипели установленные неподалеку громкоговорители. Диктор стал передавать какое-то сообщение, но в грохоте стрельбы и все нарастающем вое моторов мы ничего не могли расслышать.
Мощные взрывы всколыхнули землю. Над белыми, залитыми утренним солнцем кварталами домов поднялись черные клубы дыма. Отсюда, с высоты, было видно, как рухнуло, словно раскололось, большое двухэтажное здание. Потом еще, еще... Сразу в нескольких местах вспыхнули пожары. Свист падающих с самолетов бомб, рев моторов, тревожные гудки пожарных сирен и оглушительные, леденящие душу взрывы, истошные крики женщин, плач детей — все слилось в один протяжный, непрекращающийся гул.
— Что это, Терентий? — едва сдерживая слезы, снова спросила Фаня, схватив меня за руку. Ее глаза наполнились ужасом, пальцы нервно вздрагивали. Лица ребят стали вдруг суровыми, как бы окаменели.
3
Просторный, переполненный зал возбужденно гудел. На трибуну поднялся один из руководителей института. Сразу наступила тишина. Лишь где-то за окном глухо постукивали зенитки. Даже здесь, в зале, остро ощущался чадный запах.
— Товарищи!.. Сегодня, двадцать второго июня, гитлеровская Германия без объявления войны вероломно напала на Советский Союз... Фашистская армия вторглась на нашу землю...
Затем выступал Гриша Гапончук. Наш «старый» подпольщик говорил, как всегда, горячо и убедительно. Он умел зажигать сердца. Но наверное, еще более убедительными, чем слова, были клубившиеся за окнами тучи дыма.
Я не мог отвести взгляда от широких окон. Они казались мне страшным киноэкраном. Слова Гапончука доносились до меня словно издалека. Перед глазами все время маячил дом, расколотый бомбой, оседавшая на мостовую стена.
— Терентий, иди! — толкнул меня плечом Николай Абрамчук. — Слышишь, тебе дают слово.
Из глубины зала на меня смотрели десятки горящих глаз. Знакомые юные лица. Скромные пиджаки, ситцевые блузки, вышитые простенькие рубашки...
Не прошло и двух лет с тех пор, как эти волынские юноши и девушки вздохнули полной грудью. Новую жизнь принесли им родные и близкие люди, одетые в зеленые гимнастерки с пятиконечными звездочками на пилотках, с мозолистыми руками тружеников. Они смели с порабощенной украинской земли панов василевских, графов Потоцких и других хищников.
Никогда не забыть дней, когда со слезами радости, с букетами цветов встречало население Волыни своих освободителей. Под звуки «Интернационала» люди выходили навстречу советским танкам, подносили хлеб и соль запыленным, уставшим красным командирам, обнимали бойцов и плакали слезами радости.
Вчерашние батраки, безработные, сыны и дочери бедняков, мы пришли в вузы и школы; перед нами открывалась дорога в новый, сказочный мир, где сбываются самые заветные желания.
И вот война... Она уже рядом, за стенами института. Какой путь выберет каждый из нас в этот суровый час новых испытаний? Я вижу в глазах студентов непоколебимую решимость. Да, наше место в строю, рядом с теми, кто грудью встал на защиту родной отчизны.
Иначе не может быть! Отцы наши ходили с Буденным в кавалерийские атаки, ровесники бились с фашизмом в интернациональных бригадах далекой Испании. Мы, сыны красной Волыни, тоже выполним свой священный долг!
4
Я никогда не был военным и поэтому весьма туманно представлял, как, например, оборудовать индивидуальный окоп, как пользоваться компасом, ходить по азимуту; мало смыслил в тактике, не умел по-солдатски сделать из шинели скатку.
Конечно, не боги горшки обжигают. Все это могло прийти после необходимой подготовки. Но война нагрянула внезапно, а я считал, что должен действовать немедленно.
Я не принадлежал к тем горячим головам, которые, начитавшись приключенческих книг, мечтали о тайном проникновении во вражеские генеральные штабы, о взломанных сейфах и выкраденных оперативных планах противника. Однако партийное подполье во времена панской Польши многому меня научило. Я был знаком с неписаными правилами конспирации, умел, когда требовалось, обвести вокруг пальца шпиков, платных агентов дефензивы[3], знал, где и как оборудовать подпольную типографию, имел опыт распространения листовок, владел секретами связи с соседями по тюремной камере, привык месяцами находиться на нелегальном положении. Мне было хорошо известно, что работа во вражеском тылу — дело сложное, рискованное, сопряженное с ежедневной, ежеминутной опасностью.
Наверное, потому и возникло решение проситься на подпольную работу в фашистский тыл. Что придется там делать, чем конкретно заниматься, я еще как следует не представлял. Возможно, разведка, диверсии, сбор необходимых данных. Но район своей будущей деятельности я уже имел на примете. Я хорошо владел польским языком, немало старых друзей по партии встретилось бы мне и в Варшаве, и в Кракове, и в Люблине. Оккупированная гитлеровцами Польша стала для нас вражеским тылом. Вот где можно было бы попробовать свои силы, опираясь на известный опыт, знание быта, на давние связи и знакомства.
В Польше остались товарищи, с которыми я сидел в казематах люблинской тюрьмы-крепости. Где-то там был мой первый учитель и наставник по подполью коммунист Станислав, рабочий шорной мастерской пана Василевского...
В приемной первого секретаря обкома партии Василия Андреевича Бегмы толпились десятки людей. Тревожно звонили телефоны. Хлопали двери. Многочисленные посетители — гражданские и военные, знакомые и незнакомые — сидели на стульях, подоконниках, ждали в коридоре, курили, перебрасывались короткими фразами, и каждый доказывал, что именно ему нужно немедленно попасть в кабинет Бегмы, что его дело самое важное, неотложное.
Секретарша с усталым бледным лицом еле успевала отвечать на телефонные звонки и одновременно регулировать поток посетителей, которых с каждой минутой становилось все больше.
На просьбу доложить обо мне Василию Андреевичу она, не поднимая головы, коротко бросила:
— У товарища Бегмы работники военкомата.
— А после них?
— Заведующий облфинотделом. За ним товарищи из управления милиции. Потом директор детдома...
Я попробовал было намекнуть, что пришел к первому секретарю обкома партии с весьма важным, государственного значения делом, но на меня отовсюду замахали руками и тут же оттерли от стола.
— Все с государственными делами!
— А у меня двести человек студентов, — первое, что пришло в голову, выпалил я.
— Милый мой, ты-то мне и нужен! — кинулся ко мне усатый грузный человек в кителе железнодорожника. — У меня сорок вагонов готовы под погрузку. Давай своих ребят. Двести человек — это же сила! Да они мигом, за два часа... Ты директор какого техникума?
Пришлось быстро удирать от него в заполненный людьми коридор.
Встретив там члена бюро обкома Белецкого, я отозвал его в сторонку и коротко изложил свою просьбу. Он пристально посмотрел на меня:
— Ты хорошо все обдумал?
— Конечно.
— Видишь, такое дело необходимо согласовать с Центральным Комитетом, с Киевом. Не знаю, успеем ли. А впрочем, садись, пиши заявление. Будешь нужен, мы тебя вызовем.
— А почему «успеем ли»?
— Понимаешь, обстановка на фронте сложная. Жмет немец... Тяжело, товарищ Новак.
...В общежитии я застал Абрамчука и Киселя. По комнатам гулял ветер. Под ногами хрустело стекло. Одна из бомб взорвалась неподалеку в сквере. Воздушной волной выбило все стекла. На столе в беспорядке валялись учебники, конспекты. Пол был усеян обрывками бумаги.
Николай, перевязывая шпагатом свои нехитрые студенческие пожитки, грустно, с горечью сказал:
— Вот и дождались каникул, вот и поехал я на экскурсию...
— Ничего, Коля, не печалься... Ты еще побываешь и в Москве и в Ленинграде. Дай только разделаться с фашистами... Вместе поедем. По всему Союзу. Обязательно!.. А где наши ребята?
— Кое-кто пошел в военкомат, а сельские почти все разъехались по домам... Знаешь, почему не были на митинге те двое? — В глазах Николая вспыхнули злобные огоньки.
— Ты о ком?
— О Жовтуцком и Огибовском. Быстро показали свое нутро... Огибовского видели где-то за городом. Говорят, стоял и злорадствовал: «Конец большевикам!» Так и сказал, проклятый националист. Маскировался, сволочь, не раскусили.
Я молча ходил по комнате.
Да, не раскусили... И не только Огибовского. Сынки торговцев и чиновников Жовтуцкий, Вротновский, Костенкий учились вместе с нами, но всегда оставались чужаками. Их считали пассивными. Нам говорили: они еще молоды, не избавились от чуждого влияния, перевоспитывайте их! Мы, как могли, пытались привлечь их на свою сторону, но, видно, безуспешно. Николай рассказал, что вся эта четверка во главе с Огибовским во время студенческого митинга участвовала в тайном совещании в какой-то квартире на «Кавказе»[4]. Зашевелились, как гадюки, желтоблакитники. Огибовский радуется. Видно, уже трезубец[5] на шапку приспосабливает...
— Тебя вызывали в горком партии, — прервал мои невеселые мысли Абрамчук. — Час тому назад.
— Почему сразу не сказал? — с упреком посмотрел я на Николая, схватил фуражку и пошел к двери. У порога оглянулся, обвел взглядом комнату, кивнул на прощание ребятам и быстро выбежал на улицу.
Город горел. Дым висел сплошной пеленой. Слабый ветер не успевал разгонять его. Померкшее солнце тускло светило сквозь серую муть. В конце улицы фонтаном била вода из поврежденной трубы водопровода. Потоки ее сбегали на мостовую, образуя большие лужи. В одной из них лежала вверх колесами полуторка. Темными провалами зияли витрины магазинов.
На площади у репродуктора собралась толпа. По радио выступал нарком иностранных дел. Притихшие люди жадно ловили каждое слово.
Я протиснулся в середину. Кто-то дотронулся до моей руки. Рядом стояла Фаня. Лицо ее было мокрым от слез.
— Что делать, Терентий?
Пронзительно завыли сирены.
— Воздушная тревога! Воздушная тревога!
Люди бросились в разные стороны. Площадь вмиг опустела. Прямо из-за крыш домов вынырнули самолеты с крестами на крыльях. Открыли огонь зенитки. Самолеты взмыли вверх и, на ходу перестроившись, один за другим, словно коршуны, стали пикировать.
Мы с Фаней стояли в подъезде большого дома, прижимаясь к холодной стене. Взрывы гремели в стороне, в районе железнодорожной станции.
— Что делать, Терентий, скажи? Неужели сюда придут немцы? Мне страшно. Они убивают евреев, я знаю, а отец не верит, не хочет уезжать. Он упрямый, ничего не желает слушать, — в отчаянии шептала Фаня. — Чего же ты молчишь? Хоть посоветуй что-нибудь!
Как за один день изменилась Фаня! Рядом со мной стояла сейчас уже не прежняя беззаботная хохотушка, какую я знал по институту, а убитая горем, надломленная внезапностью случившегося женщина с мучительной тревогой в черных больших глазах.
— Какой я могу дать совет? Ты, кажется, закончила курсы медицинских сестер. Иди туда, куда идут теперь все: в армию, на фронт.
— Не знаю. Я думала... Это не так просто... Мама, семья... Ты спешишь?
— Да, мне пора.
— Все спешат, у каждого дела, а у меня все не как у людей. Ну, прощай. Бомбежка кончилась...
Фаня быстро скрылась за углом дома.
По улице двигались танки. Они шли в колонне по одному. От мощного рева моторов все вокруг дрожало. Танкисты вели свои бронированные машины на западную окраину города, навстречу не утихавшей с самого утра артиллерийской канонаде.
От дома на улице Словацкого, где помещался горком комсомола, только что отъехали два грузовика. В них, тесно прижавшись друг к другу, сидели молодые вооруженные парни. В кузове передней машины я увидел нескольких студентов института. Один из них, наклонившись через борт, что-то крикнул мне, но слов я не расслышал.
Проводив взглядом друзей, свернул на улицу Мицкевича. Десятка два милиционеров, окружив небольшой сквер, сдерживали людей. Бурлящая толпа женщин нажимала на редкую милицейскую цепь. По узкому коридору от сквера к стоявшим в стороне санитарным машинам молча сновали люди в белых халатах с носилками, накрытыми простынями.
Ноги словно приросли к земле, одеревенели, я невольно остановился. Зрелище было ужасным: развороченная тяжелой фугаской земля, вырванные с корнями деревья и рядом... маленькие скрюченные фигурки окровавленных детей. Молодая женщина с непокрытой головой, в порванной блузке вырвалась из толпы, бросилась к скверу, быстро подняла с земли и прижала к груди девчушку лет пяти. Головка девочки бессильно запрокинулась. Ее льняные волосы шевелил ветер. Женщина не плакала, а безмолвно гладила головку дочери и смотрела безумным взглядом куда-то вдаль, поверх стоявших вокруг людей...
Не помню, как дошел я до горкома партии. Там уже было не меньше двухсот ровенских коммунистов — партийных и советских работников, учителей, служащих, рабочих с «Металлиста», кирпичного завода, мебельной фабрики, милиционеров и железнодорожников. Они получали оружие, тут же формировались боевые группы. Все делалось молча.
Потом секретарь горкома провел короткий инструктаж. Боевое задание — ликвидировать фашистский парашютный десант, сброшенный в лесу, километрах в сорока от Ровно.
Мы выступили ночью.
Улицы города были пустынными. Ни одного случайного прохожего. Только военные патрули — в касках, с противогазами через плечо, с примкнутыми к винтовкам штыками. Не переставая работала радиостанция. Громкоговорители передавали то тревожные новости, то мелодии военных песен и маршей.
Наши машины мчались в темноту, не включая фар. Город остался позади. Над ним стояло зарево пожаров.
Остаюсь в Ровно
1
Линия фронта подкатилась к Ровно. Вражеская артиллерия обстреливала город. Снаряды рвались на улицах, долбили стены зданий, обчесывали вишневые сады, падали в огородах.
По двое, по трое, поддерживая друг друга, шли с передовой запыленные бойцы в пропотевших гимнастерках, перевязанные окровавленными бинтами...
Наши части отбивали атаки гитлеровских танков и пехоты на подступах к городской окраине. Противотанковые пушки-»сорокапятки» вели огонь из дворов, из-за кирпичных оград. Не затихая, стучали пулеметы. Трещали автоматные очереди.
Тянулись обозы. По дорогам, ведущим на восток, брели усталые старики, дети, женщины. Несли на руках младенцев, толкали впереди себя тачки с домашним скарбом. Сельские дядьки в соломенных шляпах и девушки-колхозницы, вооруженные винтовками и кнутами, гнали гурты скота. Ревели недоеные коровы, жалобно блеяли овцы. Задыхались и падали от жары телята. Над степью стояли тучи пыли...
Торопливо оставляли родные углы ровенчане. Из города эвакуировались госпитали, учреждения. Отдельные коммунисты, выполнявшие задания по отправке в тыл государственного имущества, уходили последними, вместе с армейским арьергардом. Останавливая на перекрестках машины, они прыгали на подножки, присаживались на орудийные лафеты, втискивались в переполненные зеленые фургоны.
При выезде из города поток машин, подвод, людей, подчиняясь взмахам флажков армейских и милицейских регулировщиков с красными повязками на рукавах, равномерно, без паники и толкотни, серыми от пыли ручьями растекался по шоссе и полевым трактам.
Потрепанный газик, в который я сел в центре города, объехал полем скопление скота на дороге, выполз на автостраду Львов — Киев и быстро помчал по асфальту.
В кузове кроме меня примостились на тюках еще два молодых человека. Обоих, кажется, мне приходилось встречать раньше, то ли на сессиях городского Совета, то ли в облисполкоме, но их фамилий я не мог вспомнить. Они тоже, видно, знали меня, потому что пустили в машину без пререканий.
Бьет в лицо упругий ветер. В голове роятся тысячи разноречивых мыслей.
По обеим сторонам дороги стеной стоят буйные хлеба. Богатый должен быть урожай. Неужели все это останется врагу? И хлеба, и синеющие вдали села, и зеленые островки лесов? Вон там, совсем рядом, моя родная Гоща. Там прошло мое детство... Как-то будут жить теперь батька, мать, младшие братья и сестры? Где сейчас старшие — Тихон и Мария? Они, как и я, коммунисты. Успеют ли выехать из села?
Если бы было можно хоть на полчаса завернуть в Гощу, узнать обо всем!..
Но газик мчит и мчит, поскрипывая расшатанным кузовом, обгоняя пешеходов, велосипедистов, оставляя за собой подводы, которые тянутся в пыльной завесе по обочине шоссе.
Не останавливаясь, не снижая скорости, проезжаем улицами местечка Корец. Тут, совсем рядом, проходила бывшая польско-советская граница. Скоро должен быть Новоград-Волынский.
Машет флажком милиционер-регулировщик. Короткая остановка. Проверка документов. Поворачиваем вправо. Подскакивая на выбоинах, машина катит теперь полевой дорогой. Из-под колес с шумом выпархивают перепела. Зеленый подорожник стелется перед радиатором мягким изумрудным ковром. На горизонте висят дрожащие струи марева.
Еще четверть часа пути, и мы въезжаем в небольшое село. Под хатами, в тени деревьев, прикрытые ветками, стоят грузовики, во дворах и садах — брички, фургоны. Распряженные кони жуют свежескошенную пахучую траву; возле коновязей нетерпеливо переступают с ноги на ногу оседланные рысаки. Всюду группы людей. Одни расположились в холодке, на траве, под возами и деревьями, другие, сняв запыленную одежду, умываются холодной водой. Скрипят колодезные журавли. Лают встревоженные собаки. Потрескивают костры, над которыми совсем по-мирному, словно в полдень на полевом стане, висят казанки с кипящим супом. Женщины нарезают хлеб, расстилают на траве газеты. С интересом глазеют на приезжих вездесущие босоногие деревенские мальчишки и девчонки.
За невысоким плетнем, под яблоней, вижу своих ровенчан: председателя горсовета Белецкого с депутатским значком на груди, председателя областного совета профсоюзов Чередника и других знакомых.
— Новак, ты откуда? Из города?
— Ну как там? Какие новости?
— Присаживайся к нам, будем обедать.
Белецкий подает мне краюху хлеба с салом и луком. Только теперь чувствую, что проголодался как волк.
Рассказываю товарищам обо всем, что видел несколько часов назад в Ровно. Они выехали из города раньше, и теперь им не терпелось узнать, что там и как. Может, поспешили с эвакуацией? Может, гитлеровцев отбросили и угроза миновала? У многих еще теплилась какая-то надежда, что все изменится к лучшему. Но ничего утешительного я сообщить не мог.
— Думаю, что немецкие автоматчики уже заняли западные кварталы.
Все смолкли. Кто-то тяжело вздохнул. Высокий незнакомый человек в сером брезентовом плаще снял фуражку с суконным козырьком. Вытирая вспотевшую, запаренную лысину, отдуваясь, раздраженно сказал:
— Удираем, значит? А далеко ли удерем? Мыслимо ли, менее чем за две недели немец проглотил Ровно... Так и до Москвы скоро очередь дойдет. С трехлинейками на танки не попрешь. Фанерными самолетами хотели воевать? Нет, техника есть техника. Против нее не рыпайся, обожжешься...
— Ты не то что обожжешься, живьем сваришься. Три костюма на себя напялил, все новенькие как с иголочки. Перестань ныть! — резко обернулся к нему Чередник. — Вчера тут воздух портил и сегодня ту же волынку тянешь. Таких пророков вон туда, за сарай, и к стенке, чтобы не воняли. Кто ты, собственно, такой? А ну, Петренко, проверь у него документы!
— У меня? Документы? — тонким голосом взвизгнул лысый. — Вы знаете, что я...
— Тихо! — поднялся с земли бородатый Петренко. — Не визжи. Марш вперед, посмотрим, что ты за птица. Иди, иди, не оглядывайся!
Чередник, проводив хмурым взглядом обладателя серого плаща, сквозь зубы выругался, стал свертывать цигарку.
— Паникер, сволочь! — сердито произнес мой сосед слева, немолодой связист с пустым левым рукавом, засунутым за пояс. — Шкурник... Не успело загреметь, а такие уже заболтались под ногами, забыли про совесть. Вон там, в саду, видите, грузовики? Тоже тип приехал, вроде этого. Из Гощанского района. Я его немного знаю. Колесил по селам, разглагольствовал о патриотизме, бил себя кулаком в грудь, других поучал, а как услышал «Война!», в первый же день нагрузил две машины узлами и горшками — только его и видели в Гоще. Говорят, откуда-то аж из-под Житомира завернули его назад. Теперь от машин не отходит, стережет свое барахло, как наседка цыплят. «У меня здесь секретные документы», — кричит, а под брезентом поросята повизгивают... Жаль, нет времени тряхануть таких. Не до них сейчас.
— Найдем время и теперь, не беспокойся, Иван Прохорович! — густым басом проговорил кто-то сзади.
Все оглянулись. К нам подошел второй секретарь обкома. Грубоватое лицо его осунулось, поблекло, под глазами лежали темные круги. Посидев несколько минут у погасшего костра, он вроде случайно толкнул меня локтем, показывая взглядом в сторону: «Есть разговор».
Я догнал его на улице. Он взял меня под руку и сердито спросил:
— Ты где все эти дни странствовал, пропавшая грамота? Хотя бы предупредил: буду там-то. Оставил бы записку, что ли. А то как в воду канул.
— Выезжал на операцию. Гонялись в лесах за десантниками. А сейчас из города.
— Знаю, доложили. Потому и разыскал тебя. Тоже мне нашли вояку! Что, не могли обойтись без тебя в истребительном отряде? «Иль самому пострелять захотелось?..
— Значит, решено? — спросил я, не обращая внимания на сердитые упреки своего спутника.
Он утвердительно кивнул. Да, мое заявление рассмотрено на бюро обкома. С Центральным Комитетом партии Украины все согласовано. Теперь первый секретарь обкома Василий Андреевич Бегма хочет поговорить со мной лично.
— У него получишь все указания, — продолжает негромко басить мой спутник. Пристально взглянув на меня, он спрашивает: — А скажи откровенно, Терентий Федорович, не боишься? Дело трудное. Очутиться сейчас в фашистском тылу — не мед, сам понимаешь.
Я молча пожал плечами. Для боязни, собственно, пока нет оснований. Но все же где-то внутри прополз колючий холодок. Страшно? Нет, не то. Тревожит неизвестность, невозможность заглянуть вперед, узнать, что тебя ждет, с чем встретишься, какие возникнут неожиданности...
Подошли к колодцу, возле которого стояла обкомовская «эмка». Расположились на заднем сиденье. Шофер включил мотор. Машина помчалась по улице и, набирая скорость, вырвалась из села в степь.
2
Небольшой деревянный дом на окраине Новоград-Волынского. Похожий на десятки других, он не привлекал бы к себе внимания, если бы не царившее возле него и во дворе оживление. Непрерывно хлопала входная дверь. У забора торопливо спешивались конные. Время от времени подъезжали машины. Откуда-то из степи к дому тянулись тоненькие нитки полевого телефона.
Наш шофер уверенно крутнул баранку. «Эмка» остановилась возле высокого крыльца.
— Приехали, — сказал мой спутник. — Здесь теперь обкомовская штаб-квартира. Василий Андреевич у себя? — спросил он у вышедшего на крыльцо худощавого военного со шпалами на малиновых петлицах.
— Здесь. Ждет.
— Знакомься, товарищ Лосев. Это — Терентий Федорович Новак.
Военный крепко пожал мне руку, испытующе взглянул из-под черных бровей.
Втроем мы зашли в полутемный коридор.
С первым секретарем Ровенского обкома партии Василием Андреевичем Бегмой в последние месяцы я встречался нечасто. Занятый учебой и отнимавшей много времени профсоюзной работой в институте, я лишь изредка наведывался в обком, в основном для того, чтобы получить командировочное удостоверение и направиться с каким-либо поручением в село, в только что организованный колхоз, в МТС. Иногда виделись на заседаниях городского Совета. Был я как-то у Василия Андреевича перед поездкой в Киев по вызову ЦК. Последний раз мне довелось беседовать с Бегмой за несколько дней до начала войны в институте после студенческого собрания, на котором Василий Андреевич выступал с докладом о международном положении.
Бегму знали в области как человека простого, общительного и сердечного. Он не любил засиживаться в обкоме — много ездил, был всегда среди людей, умел при случае и пошутить, и пожурить за какой-либо промах, а когда требовалось, поддержать, ободрить добрым словом. Если кто приходил к нему по делу, Василий Андреевич вел разговор без спешки, основательно, вникал в детали, подробно обо всем расспрашивал.
В этот раз рассчитывать на длительную беседу не приходилось. Я думал, что наша встреча будет короткой, и потому заранее подготовился к ней, еще по дороге в машине наметил самое главное, о чем следовало посоветоваться...
Лосев открыл дверь, ведущую в небольшую комнату. Мы вошли. Василий Андреевич встал из-за стола. В зеленой гимнастерке и синих галифе, подтянутый, стройный, он казался более высоким, чем всегда. Округлое лицо было спокойным, прищуренные, чуть припухшие от недосыпания глаза смотрели устало.
— Рад тебя видеть, Терентий. Садись, — сказал он, пододвигая мне дубовую табуретку; сам сел напротив. — Значит, говоришь, все продумал, все взвесил? Ну что ж, так и должно быть. Твое заявление мы рассмотрели. Уже знаешь? Тем лучше. Хочу добавить, чтобы ты еще раз уяснил всю важность дела, на которое идешь. Твоя кандидатура согласована с ЦК КП (б)У. Понимаешь, какая на тебя ложится ответственность?
— Понимаю, Василий Андреевич, — ответил я, волнуясь.
— В таком случае перейдем сразу к делу.
— Я слушаю.
— Прежде всего о месте твоей работы во вражеском тылу. Польша отпадает. Ты не удивлен?
— Не удивлен, но... там для меня были бы самые благоприятные условия. Я это имел в виду, когда писал заявление.
— Правильно. Знаешь язык, знаком со старыми подпольщиками. Все верно. Но ты не разведчик, да и не в разведке дело. Речь идет о создании в тылу врага партийного подполья, боевого, крепкого, хорошо организованного и тщательно законспирированного. У тебя есть опыт подпольной работы. Это очень важно. Обком поручает тебе создать такое подполье и руководить им. Не догадываешься где? — Руки Бегмы мягко легли на мои плечи. Он внимательно посмотрел мне в глаза и негромко произнес: — В Ровно. Да, да, именно в Ровно! Если обстоятельства не позволят обосноваться в городе, постарайся пока устроиться в каком-нибудь ближайшем селе и оттуда направлять действия подпольной организации. Ведь ты хорошо знаешь окрестности Ровно.
Со временем вернешься в город. Теперь еще раз подумай. Задание ответственное, опасное. На такие дела идут добровольно, по велению совести. Взвесь все и решай. Можно день-другой подождать...
— Все решено, Василий Андреевич, не надо об этом... Знаю, куда и зачем иду. Значит, Ровно?.. Ну что ж, я согласен. Откровенно говоря, у меня самого возникала такая мысль, да только...
— ...Не верилось, что придется оставить город? Это хотел сказать? — Бегма прошелся по комнате, стал у окна. — Все мы не думали, что так выйдет. А вот случилось. Что ж теперь — слезы друг другу платочком вытирать? Не привыкли!.. Будем выправлять положение, биться насмерть... Выстоим! Иначе не мыслю. А отступать тяжело, что и говорить... Так вот, Лосев, — повернулся он к пришедшему со мной военному, — переброской Новака за линию фронта займешься ты со своими людьми. Подготовь все, что нужно для этого, немедленно, сегодня же. Оружие у тебя есть, Терентий Федорович?
Я показал свой пистолет, верно служивший мне еще в годы подполья, не очень решительно произнес:
— Хорошо бы одну-две гранаты на всякий случай.
— Лосев обеспечит. Документами тоже. Между прочим, следует ли тебе менять фамилию?
В ответ я молча пожал плечами и тут же подумал: «Секретарь обкома, пожалуй, прав. Паспорт на чужое имя или фальшивые справки вряд ли станут для меня надежным способом маскировки в родных краях, где меня знают с детства. Наоборот, фиктивные бумаги могут вызвать излишнее подозрение даже у знакомых и близких людей». По собственному опыту я знал, что использование всякой детективной атрибутики для «перевоплощения» не всегда лучший метод конспирации. Чем проще и естественнее, тем лучше, надежнее. Наконец, никакие фиктивные документы не заменят подпольщику его главного оружия — силы воли, выдержки, трезвого ума.
— Правильно, Василий Андреевич. Лучше всего оставаться самим собой. Ну а уж если потребуется, фальшивые документы можно достать и там, на месте, — сказал я и выложил на стол все, что было в карманах: удостоверение депутата Ровенского городского Совета, военный билет, студенческую зачетку. Подал Бегме партийный билет.
Василий Андреевич осторожно раскрыл небольшую красную книжечку, перелистал страницы.
— Твой партийный документ, товарищ Новак, будет храниться в Центральном Комитете. Получишь его снова, когда закончишь работу в тылу врага. Возвращайся живым и здоровым. Я верю, что будет именно так.
— Благодарю.
— А теперь поговорим обо всем, что касается организации подполья. Подвигайся ближе. Впрочем, сначала поужинаем, разговор будет долгий... Ты пока займись своими делами, товарищ Лосев, — кивнул он военному.
Спать мы легли далеко за полночь. Переговорено было много. На столе мигала керосиновая лампа. Дребезжали стекла завешенных одеялами окон. Несколько раз мы выходили на крыльцо, прислушивались к грохоту канонады и снова возвращались в комнату, к мигающей лампе, чтобы продолжить прерванный разговор.
Мои соображения и планы о том, с чего начинать, как строить будущую подпольную организацию, на кого опираться вначале, с кем налаживать связи в дальнейшем, чем заниматься в первую очередь, какими путями вовлекать советских людей в активную борьбу с врагом, Василий Андреевич в основном одобрил. Вместе с тем он внес немало поправок, уточнил множество на первый взгляд незначительных деталей, которые, как показало время, сыграли затем не последнюю роль в моей жизни и в деятельности ровенского подполья. Позже, очутившись в городе, ставшем резиденцией гитлеровского гаулейтера Эриха Коха, я не раз с благодарностью вспоминал наш ночной разговор с секретарем обкома в деревянном доме на окраине Новоград-Волынского.
3
Проснулся на рассвете. Возле крыльца стояла легковая машина. Из дома мы вышли вместе с Лосевым. Познакомив меня с молодым чубатым лейтенантом, сидевшим за рулем, он сказал, что тот отвезет меня к линии фронта.
Подошел Василий Андреевич. Мы обнялись на прощание. Я молча сел в машину.
Опять впереди стелется асфальтированная автострада. Едут и идут беженцы. Ревет скот. Сигналят, обгоняют пешеходов нагруженные доверху машины. Ползут обозы. В отличие от вчерашнего, теперь живой пестрый поток плывет нам навстречу. Изредка мелькают знакомые лица. Увидев меня в машине, мчащейся в противоположную сторону, на запад, люди удивленно поворачивают головы и в тот же миг исчезают где-то далеко позади в густой пыли.
На асфальте и придорожных полях темнеют воронки. По сторонам, сдвинутые в кювет, валяются разбитые телеги, обгорелые остовы автомашин, израненные, покрытые черной копотью тракторы. Чуть дальше возвышаются свеженасыпанные бугорки земли — безвестные могилы погибших. Вчера вражеские бомбардировщики весь день забрасывали бомбами и поливали пулями автостраду, злыми коршунами носились над степью...
Сейчас пока тихо, в небе не слышно гула моторов. Пользуясь затишьем, подводы и толпы беженцев бесконечной лентой тянутся на восток, спешат подальше уйти от яростной канонады, укрыться от неизбежных новых бомбежек в синеющем где-то у самого горизонта лесу.
Сразу за местечком Корец лейтенант круто сворачивает с шоссе в поле. Немцы обстреливают Корец из орудий. Снаряды рвутся на улицах местечка через равные промежутки времени. На окраине и в центре горят дома.
— Вот вам и линия фронта. Сам черт не разберет, где она, — ворчит неразговорчивый лейтенант. — Скорее бы добраться до места...
Едем в направлении районного центра Межиричи. На открытой местности нашу машину видно как на ладони. Свинцовая струя ударила спереди, сбив пыль на дороге.
Лейтенант закусил губу, дал полный газ. Позади будто сыпанули горохом. Пулеметная очередь прошла выше колес, прошила багажник.
Минуту спустя машина нырнула в низину.
— Если и в Межиричах нас встретят так, как под Корцом, то будет история. — Постучав сапогом по задним колесам и убедившись, что с баллонами все в порядке, лейтенант вытащил из-под сиденья автомат, протянул его мне: — Держите наготове. Дьявол его знает, кого встретим по дороге!..
Однако автомат не понадобился. Петляя степью, объезжая овраги и балки, мы к вечеру добрались до села Межиричи, из которого, как сообщил мне Лосев, наша войсковая часть должна была отходить ночью. Мне предстояло ожидать здесь, пока линия фронта отодвинется на восток, а потом уж на свой страх и риск пробираться дальше, в Ровно.
Где-то за Межиричами раздавались одиночные выстрелы. Изредка взлетали вверх ракеты. А в селе было тихо, безлюдно, оно казалось покинутым. Окна плотно закрыты ставнями. На улицах и во дворах тихо — ни души.
Пожав лейтенанту руку, я постоял минуту, посмотрел вслед помчавшейся назад машине и неторопливо пошел узеньким переулком, чтобы как можно меньше мозолить глаза местным жителям. В Межиричах жил мой хороший знакомый, у которого я намеревался пересидеть день-другой, пока линия фронта отодвинется на восток.
Три красноармейца неожиданно вынырнули из-за угла сарая, будто заранее подстерегали меня. Три штыка одновременно коснулись моей груди.
— Руки вверх, гражданин! Не шевелиться! Удирать поздно.
Сзади подскочил четвертый, низенький сержант, черный и горбоносый, колючий, как еж. Резко, с акцентом спросил:
— Ты кто? Пачему па селу шатаешься?
Я улыбнулся с явным намерением опустить руки и начать мирные переговоры, еще не понимая всей трагичности своего положения.
Утомленные, сердитые, в порванной одежде, красноармейцы по-своему расценили мое движение. Угрожающе щелкнул затвор.
— Не шевелись!
Четыре пары глаз ощупывали меня с головы до ног настороженно, враждебно. Мое коричневое кожаное пальто, краги на ногах, новенький портфель под мышкой и клетчатая фуражка, вероятно, не понравились ребятам в пропотевших зеленых гимнастерках. Здесь, в селе, такое не совсем обычное одеяние вызвало у них подозрение. Молоденький, лет девятнадцати, боец с повязкой на голове хмуро бросил:
— Чего с ним возиться, Григорян? Ну-ка выверни ему карманы. Что там у него?
Не успел я опомниться, как цепкие пальцы сержанта нащупали мой пистолет и врученные мне Лосевым гранаты-лимонки. Лицо сержанта вытянулось. У меня по спине поползли мурашки. Дело принимало серьезный оборот.
— А, фашистская сабака... Переоделся, думал, не узнаем? Ребята, глядите, что у него в карманах! — повернулся к красноармейцам горбоносый сержант.
— Попался, гад!
— Бей его, подлюку, на месте!
— Не сметь!..
Властный окрик вмиг охладил возбужденных бойцов. Высокий сутулый капитан-пехотинец рывком выхватил винтовку из рук сержанта, строго спросил:
— В чем дело?
— Немецкого парашютиста поймали, товарищ капитан! Точно! Только что обезоружили. Вот, держал при себе.
— Давай сюда.
Капитан подбросил на ладони мой пистолет, протяжно свистнул:
— «Вальтер». И гранаты? Ясно, таких птичек мы уже видели... Давно в наши края пожаловали? Где приземлились? Когда? С кем?
— Оставьте, капитан, — волнуясь, проговорил я. — Пистолет действительно немецкого образца, но я не тот, за кого вы меня принимаете. Прошу немедленно доставить меня в штаб. Дело неотложное, понимаете?
В глазах капитана блеснули злые огоньки.
— Ты мне зубы не заговаривай! Без тебя знаем, куда доставлять вашего брата. Григорян, ведите задержанного и смотрите, чтобы не ускользнул.
— Капитан, послушайте. Нельзя мне уходить из села. Поверьте, случилось недоразумение. Я должен остаться здесь...
— А я так и думал. Спасибо за откровенность. Ну, хватит... Шагом марш! Григорян, попытается бежать, стреляйте без предупреждения.
— Слушаюсь!
Дорога, которой я час тому назад въехал в Межиричи, быстро заполнилась пехотинцами в касках. На санитарных повозках везли раненых. Пулеметные расчеты катили тупоносые «максимы». Медленно полз поклеванный пулями зеленый бронеавтомобиль. Наши подразделения оставляли село.
Окруженный красноармейцами, я, словно белая ворона, в своем кожаном пальто и крагах брел, обливаясь потом, проклиная себя за неосмотрительность, и лихорадочно обдумывал, как выпутаться из этой истории, которая смешала, расстроила все мои планы. Бежать? Нет, такой вариант, безусловно, ненадежен. Ждать, пока все выяснится само собой? Но так можно оказаться черт знает где. Попробуй потом пробраться в Ровно. «Вот влип так влип!..»
Увидев невысокого седого военного с красной звездой на рукаве, я пытался уговорить своих конвоиров позвать на минутку политработника или разрешить мне обратиться к нему, но те подталкивали меня прикладами, не очень любезно приговаривая:
— Не поможет. Таким, как ты, и Верховный Совет помилования не дает.
Двигались ускоренным маршем, без передышки. Быстро темнело. Посматривая вокруг, я угадывал местность. Мы с лейтенантом ехали той же дорогой, только в другую сторону. Значит, часть направляется в Корец. Я не утерпел, сказал своим конвоирам:
— Куда же идем? В Корце немцы.
— Тебе что, Гитлер докладывал? «Немцы!..» А сам-то ты кто, не фриц?
— Какой там фриц? — пренебрежительно сказал пожилой усатый боец с винтовкой-полуавтоматом за плечом. — Обыкновенный петлюряга, вот он кто... В Берлине, видать, подкормили, а теперь перебросили сюда, к нам, чтобы вредил. Был у нас на Полтавщине такой Чекалюк, известный мироед на всю округу. До революции сто двадцать десятин имел, а жадный был — страсть, зимой снега не выпросишь. В восемнадцатом из таких, как сам, бандитов карательный отряд организовал. Под Золотоношей все хутора перепорол нагайками и шомполами. Потом ему Петлюра дал чин сотника. Ну а как прогнали наши Петлюру, то и Чекалюк драпанул. Когда удирал, весь выводок за собой потянул — и братьев, и сыновей, и племянников. Люди говорили, что богунцы убили сотника то ли в Киеве, то ли в Шепетовке. Одним словом, мы уже забыли не только самого Чекалюка, но и то место, где его усадьба стояла. И вот, представьте, в тридцатом году приходит в наш сельсовет письмо. Я тогда секретарем работал. Весь конверт обклеен иностранными марками, украшен штемпелями. Разорвал я конверт и сам себе не поверил: Чекалюк пишет, тварюга, из Берлина. Ему, видите ли, метрика, свидетельство о рождении, понадобилась, жениться, что ли, там задумал. Так письмо и подписал: германский подданный Саврадим Чекалюк... Так вот я смотрю и думаю, — красноармеец приблизил ко мне широкое, с прокуренными отвисшими усами лицо и сквозь зубы закончил: — Ты, случаем, не из чекалюков будешь?
— Я же говорю, стукнуть змею, и дело с концом! — махнул рукой сержант. — Возимся с ним...
— Не сметь! — резко прозвучал из темноты голос капитана.
Шли всю ночь. Утром добрались до Корца. К моему удивлению, местечко все еще оставалось в наших руках. Фашисты, приблизившись вплотную, обстреливали его из минометов, однако не решались атаковать в лоб.
В просторном дворе, обнесенном решетчатой металлической оградой, стоял штабной автобус. Возле колеса над развернутой картой склонились командиры.
Капитан, на которого я больше всего надеялся, куда-то исчез. Командирам, стоявшим возле автобуса, доложил обо мне чернявый сержант.
— Где парашютист? Где он, мерзавец? Покажите его, посмотрю, — не отрываясь от карты, думая о чем-то своем, проговорил полковник в очках.
— Товарищ полковник, выслушайте... — начал я.
Он удивленно поднял голову, взглянул на меня, на сержанта. Видно было, что ему в эти минуты не до задержанного парашютиста в клетчатой фуражке.
Чья-то рука протянула из окна автобуса телефонную трубку. Полковник схватил ее и, уже совершенно забыв обо мне, закричал:
— Какого черта!.. Алло! Да не ваши оправдания, а снаряды, снаряды мне нужны, слышите! Через пятнадцать минут... Что? Трибунал? Да я расстреляю вас без трибунала!..
Сержант, потоптавшись на месте, козырнул спине полковника и, не обращая внимания на протесты, вытолкал меня за ворота.
Молодой боец с повязкой на голове вопросительно посмотрел на сержанта.
— Пайдем! — коротко бросил тот.
Они сняли винтовки. Подвели меня к кирпичной ограде, окружавшей еврейское кладбище.
— Становись, фашистская собака!
Я окинул взглядом улицу, пепелища сгоревших хат. «Вот и конец, — молнией пронеслось в мозгу. — И так глупо погибнуть не от вражеской пули, а от рук своих людей... Эх, знали б вы, хлопцы, кого расстреливаете!.. Неужели всему конец?..»
Темные точки стволов смотрели прямо в глаза холодно и неумолимо.
«Раз, два, — начал я считать про себя, стараясь унять разлившуюся по телу дрожь, — три, четыре... Вот и все. Сейчас они нажмут на курки. Первым обязательно выстрелит сержант. Пять, шесть, семь...»
— Па-па-па-пап!.. Па-па-пап!.. — Автомобильный сигнал, протяжный, требовательный, прозвучал неожиданно, заставив бойцов повернуть головы.
С кургузого пикапа, остановившегося у ограды, соскочили на землю двое. Петлицы обрамлены малиновым кантом, на рукавах красные гербы в скрещенных мечах.
— Стой, отставить! — крикнул один из них.
Красноармейцы медленно опустили оружие.
— За что вы его? По чьему приказу?
— Шпион, — хмуро пояснил сержант. — В Межиричах поймали с гранатами и пистолетом. Немецкий парашютист.
— Кто допрашивал? Кто выносил приговор?
Бойцы переглянулись.
— Я вас спрашиваю! — сведя брови, повысил голос один из моих спасителей. Глянул на грязную, в пятнах засохшей крови повязку на голове молодого солдата, на измученное, черное, как земля, лицо сержанта, махнул рукой: — Ладно. Вы свободны. Парашютиста мы забираем с собой. Не бойтесь, мы не переодетые немцы, — сказал он, подойдя к сержанту. — Я лейтенант государственной безопасности, вот мое удостоверение. Ясно? Арестованного в машину, быстро!
Все произошло в течение нескольких секунд.
Уже сидя в пикапе, я оглянулся на быстро удалявшихся красноармейцев, дрожащей рукой снял фуражку и смахнул ею холодный пот со лба.
4
Начальник Житомирского управления НКВД, с темным, словно дубленым, лицом, смущенно разводя руками, поднялся мне навстречу, как только я переступил порог его кабинета.
— Дорогой мой, не сердитесь. Справки наведены. Все, что вы рассказали вчера, не вызывает никаких сомнений. — Он с укором покачал головой. — Ах, Лосев, Лосев... Бить тебя мало! Так неумело организовать дело! Подумать только, человек, считай, одной ногой в могилу ступил... Остается попросить у вас извинения, товарищ Новак, за все и...
— ...и наконец накормить, — добавил я. — Спасибо Василию Андреевичу — угостил напоследок ужином, а то, наверно, я ноги протянул бы за эти дни.
Хозяин кабинета торопливо нажал кнопку звонка.
Конвоир, который только что ввел меня сюда, растерянно заморгал, увидев, как его начальник и «немецкий шпион» мирно беседуют, сидя рядом на мягком диване.
— Принесите консервы, колбасу, сыр, масло, чай... Все, что там есть, — приказал начальник управления.
Через минуту половина письменного стола была заставлена вкусными вещами. Гостеприимно пододвинув мне тарелку, начальник НКВД спросил:
— Какие же у вас теперь планы? Что думаете делать?
— План остается без изменений. Любой ценой пробраться в Ровно.
Он с минуту подумал и решительно сказал:
— В таком случае мы считаем своей обязанностью взять на себя всю необходимую подготовку... Пока устроим вас здесь, в Житомире, а завтра решим, где вам удобнее перебраться на ту сторону фронта.
К вечеру я переселился из здания управления НКВД на улицу Николаевскую, в квартиру девяностолетнего деда Охрима. Его родственница, тетка Мария, тоже немолодая, молчаливая женщина, работала в управлении уборщицей и взяла на себя все хозяйственные заботы о неожиданном квартиранте.
Отоспавшись после приключений, я привел в порядок одежду, побрился и теперь ежеминутно прислушивался, не раздадутся ли шаги в коридоре: с нетерпением ждал посыльного из управления. Однако никто не появлялся.
Не пришел посыльный ни на второй, ни на третий день...
Шагая из угла в угол по комнате, нервничая, я уже готов был заподозрить, что житомирские товарищи просто забыли обо мне. Время тревожное — мало ли что могло случиться!..
Немецкие самолеты ежедневно бомбили город, сбрасывали на него тысячи зажигалок. Из окна мне было видно: горели жилые дома, школы, всюду полыхали пожары. По улицам то и дело проносились, завывая сиренами, красные автомобили, облепленные людьми в брезентовых куртках и касках.
Тяжелые удары фугасок, заставлявшие вздрагивать старый дом деда Охрима, чередовались с трескотней зениток и татаканьем счетверенных пулеметов, которые вели огонь по фашистским бомбардировщикам с площадок автомашин, замаскированных в густой зелени садов.
На третий день моего «заточения» улицы вдруг запрудили грузовики, заваленные тюками одежды, обуви, каким-то оборудованием. Из двухэтажного дома, видневшегося вдали, два человека выносили бумаги, бросали в костер, пылавший прямо у входа, в палисаднике.
«Неужели эвакуация? Неужели и Житомир?..»
Часа в три ночи настойчиво постучали в окно. Дед Охрим, кряхтя, проковылял к двери.
«За мной?.. Наконец-то!»
Я быстро стал обуваться.
Поздний гость — работник областного управления НКВД, юноша с фигурой спортсмена, с маузером в деревянной кобуре — жестом остановил меня, сказав, что идти никуда не придется. Будет лучше, если я подожду здесь, в надежном месте, пока откатится линия фронта.
— Значит, и Житомир... оставляем? — волнуясь, тихо спросил я.
— К сожалению, и Житомир. Немцы будут здесь не сегодня-завтра. Из города уже вывезено почти все, что можно было вывезти. Остаются лишь части прикрытия. Держаться нет возможности. — Он протянул мне пакет и сумку от противогаза. — В пакете паспорт и военный билет, как вы просили, на ваше имя. В военный билет внесены некоторые поправки, вы знаете... А вот деньги и оружие. Пистолет все же советую спрятать. В случае необходимости возьмете с собой, а нет — закопайте, пусть остается.
Представитель управления НКВД еще раз напомнил, что на хозяина квартиры можно во всем положиться, посоветовал из дома пока не выходить и распрощался.
До утра я не мог заснуть. Когда рассвело, не утерпел, вышел на улицу.
Ни людей, ни машин... На каждом шагу кучи камня, битый кирпич, скрюченные листы жести, сорванной с крыш. Целые кварталы города превратились в развалины. С шелестом проносились над головой снаряды, во дворах и переулках звонко лопались немецкие мины. В нескольких местах бушевало пламя пожаров, но никто их уже не тушил. От этих страшных костров веяло нестерпимым жаром.
Житомир словно вымер, притаился в ожидании чего-то неизвестного и неминуемого.
В полдень на Николаевскую улицу медленно вполз грязного цвета танк. Взрывая гусеницами мостовую, развернулся вправо, сыпанул свинцом по стенам, окнам и заборам, дважды ударил из пушки по дому, возле которого вчера жгли бумаги, и, окутавшись синим дымом, прогромыхал дальше, сбивая на ходу телеграфные столбы и молодые клены. За танком, ощетинившись пулеметами, закачались мотоциклисты в стальных приплюснутых шлемах.
Дед Охрим отшатнулся от окна, прошептал старческими губами:
— Они, иродовы души, они... Видел я их в восемнадцатом. Будут бить людей. Ох, будут бить!..
Город наполнялся ревом моторов, треском автоматных очередей. По улицам шли оккупанты.
Четыре ряда колючей проволоки
1
Сторожевые вышки. Пулеметы и серые силуэты часовых. В центре три низких барака. Двухэтажные нары. Перепревшая солома. Тучи зеленых мух. Пропахшие кровью и гноем бинты. Наполненный человеческими испарениями воздух кажется густым и тягучим. Между бараками вытоптанная сотнями ног, раскисшая от дождей земля.
Стоны больных и раненых... Бред умирающих... Резкие, словно удары кнута, команды эсэсовцев... Овчарки... Выстрелы...
Лагерь для военнопленных обнесен четырьмя рядами колючей проволоки.
За оградой — западная окраина Житомира. До города каких-нибудь полтора-два километра. Там вопреки всему зеленеют сады. Чуть ближе — манящий изумруд травы. А тут, за колючей проволокой, черная, как колесная мазь, липкая земля. Ни травинки, ни корешка, ни листочка. Все, что можно было разжевать и съесть, давно съедено.
По другую сторону бесконечной лентой тянется автострада Львов — Киев. По ней неторопливо ползут танки, бронетранспортеры, проносятся «оппели» и «мерседесы». Обгоняя танки, движутся похожие на железнодорожные вагоны грузовики с солдатами. Солдаты бросают безразличные взгляды на заключенных, смеются, что-то кричат, но их голоса теряются в шуме моторов и грохоте танковых гусениц.
Лагерь не без умысла разбит именно здесь, у автострады Львов — Киев. Для проезжающих мимо немецких солдат он является как бы олицетворением силы и непобедимости третьего рейха и слабости Красной Армии. То, что гитлеровцы видят за рядами колючей проволоки, должно вдохновлять их и поднимать боевой дух: еще немного усилий, и Красная Армия будет полностью разгромлена!
За автострадой зеленеет полоска леса. Там гремят приглушенные расстоянием автоматные очереди. Изредка доносятся душераздирающие крики.
Взоры тех, кто находится в лагере, прикованы к опушке леса. Все напряженно ждут, когда оттуда появится группа эсэсовцев. Попыхивая сигаретами, громко переговариваясь, будто ничего не случилось, палачи возвратятся в лагерь, отберут очередную партию обреченных, дадут им в руки лопаты и погонят через автостраду и поле в лес. Спустя полчаса снова послышатся автоматные очереди...
Кто на этот раз окажется в числе смертников? На кого падет выбор долговязого офицера, спокойно помахивающего стеком?
До сих пор расстреливали лишь тех, что лежали за небольшим деревянным сараем, «санпропускником», как называли его пленные, — тяжелораненых, больных, обессилевших от побоев.
Сейчас за сараем уже никого нет. Всех вывезли в лес, расстреляли. Теперь наступила очередь готовиться к смерти тем, кто еще хоть чуть-чуть держится на ногах, ходит, разговаривает, толпится в очереди за пшенной баландой.
Кого ткнет долговязый офицер с эмблемой черепа на фуражке своим острым стеком?
Мы с Давыдом, моим знакомым, которого я случайно встретил в лагере, сидим в бараке возле окна, покрытого грязными потеками. Давыд уговаривает, чтобы я реже выходил из помещения. Боится, что меня может опознать какой-нибудь предатель. Для коммунистов в лагере «привилегия»: их расстреливают не в лесу, а отвозят на машинах дальше, в яр.
Я очень ослаб за последние дни. Перед глазами плывут красные круги. А силы нужно беречь. Нужно выжить до вечера, во что бы то ни стало выжить, не попасться на глаза офицеру-эсэсовцу.
Сегодня ночью мы решили бежать, любой ценой выбраться из этого ада. Бежать нужно именно сегодня, иначе будет поздно. Я чувствую, еще день-два и стану совсем беспомощным, потому что силы тают с каждым часом. Спасибо Давыду, он поддерживает меня, как может. Просто ума не приложу: где и как удается ему доставать крохи сьестного? То принесет кусочек капустного листа, то стебелек картофельной ботвы, а вчера раздобыл даже корочку хлеба.
Веснушчатый шахтер из Горловки Курченко лежит на нарах рядом с татарином Галимовым. Они о чем-то тихо разговаривают. Внизу, на земляном полу, обхватив острые колени, в рваной гимнастерке сидит белобровый волжанин Сергей. У него перевязаны пальцы правой руки, лицо от виска до подбородка пересекает едва затянувшийся глубокий шрам. В бараке еще один наш надежный товарищ, лейтенант-пограничник Николай, днепропетровский тракторист двухметрового роста. Его не видно, вероятно, где-то дремлет среди разбросанных на трухлявой соломе тел.
Чтобы не вызвать подозрения, мы стараемся не держаться группой. Вместе соберемся, как условились, когда стемнеет, за вторым бараком. А пока каждый ждет.
Медленно, нестерпимо медленно тянется время.
От спертого барачного воздуха болит голова. На дворе легче, но мы остерегаемся выходить, терпим. Давыд прав. Рисковать не следует, особенно теперь, когда до вечера остались считанные часы.
Я сижу с закрытыми глазами, прижавшись спиной к деревянной стене. Не хочется расслаблять волю воспоминаниями, но мысли сами собой переносятся за колючую проволоку...
Словно в тумане проплывает спокойное, доброе лицо тети Марии: «Будь счастлив, сынок... Береги себя!»
...Велосипед легко катит по асфальту. Как хорошо, что житомирские товарищи догадались оставить его для меня в клетушке деда Охрима. Велосипед новый, с тугими, нестертыми шинами. На руле — мешок, в нем мое кожаное пальто, рубашка. Стоит жара. Я нажимаю на педали, спешу. До Ровно еще далеко. Позади только что остался Житомир, разбитый, с обгоревшими коробками домов, облепленный немецкими приказами, плакатами с портретом фюрера, увешанный флагами с черной свастикой, переполненный гитлеровцами.
После прихода фашистов я прожил у деда Охрима пять дней, не осмеливаясь выглянуть на улицу. Тетя Мария приносила страшные вести. Из городской больницы пьяные солдаты выбрасывали больных в окна... У кинотеатра расстреляли двух юношей и девушку... Возле кондитерского магазина люди видели несколько детских трупов... На одной из улиц расстреляна группа евреев...
На стенах и заборах белели листки бумаги с одноглавым плоскокрылым орлом и свастикой. Населению предлагалось зарегистрироваться на бирже труда и немедленно приступить к работе. Приезжим предписывалось в двадцать четыре часа оставить город. В одной из листовок, сброшенных гитлеровцами над городом и его окрестностями с самолета, говорилось, что гражданское население может беспрепятственно возвращаться в родные дома, предъявив листовку в качестве пропуска.
Такой пропуск лежит и в моем кармане. Что ж, я не намерен игнорировать распоряжения «властей»: возвращаюсь в родной город, откуда меня, студента, большевики хотели силой вывезти на восток, но не успели... Такое объяснение полностью удовлетворило двух немцев в касках, которые патрулировали дорогу при выезде из Житомира. Толстый ефрейтор, не вылезая из коляски мотоцикла, прочитал протянутый ему пропуск и важно закивал головой: «О, я, я!». Швырнув в меня огрызок огурца, он довольно рассмеялся и махнул рукой: «Фарен!»
Навстречу мчат машины с солдатами. Тарахтят танкетки с открытыми люками. Толстоногие битюги тянут пушки. Проносятся запыленные мотоциклисты. Немцы не обращают внимания ни на велосипедиста в желтых крагах, ни на других людей, устало бредущих по обочине.
До Новоград-Волынского все шло хорошо, а дальше...
Подъезжая к городу, я увидел разношерстную толпу, окруженную немецкими автоматчиками. На обочине дороги стояло несколько грузовиков. Немцы что-то кричали. От их выкриков испуганно жались друг к другу под дулами автоматов десятка три мужчин в свитках, вышитых сорочках, полинявших гимнастерках.
Надо было мчаться что есть духу, не оглядываться. Я нажал на педали — в тот же миг с задней шестерни слетела цепь. Соскочив с велосипеда, я лихорадочно начал прилаживать ее. Но цепь застряла под осью и не поддавалась.
Меня сразу заметили. Не поднимая головы, я услышал, что рядом трещит мотоцикл.
— Эй, русс!
Широко расставив ноги в коротких сапогах, за моей спиной стоял автоматчик, устремивший жадный взгляд на мои часы, поблескивавшие на левой руке. Мгновение — и пухлые пальцы солдата ловко расстегнули браслет. «Трофей» тут же перекочевал в карман серо-зеленых брюк гитлеровца. Потом он стал потрошить мой мешок. Не найдя в нем ничего заслуживающего внимания, бросил мешок мне под ноги и требовательно кивнул в сторону стоявших у обочины грузовиков.
— Ком, ком, русс!
Возле одной из машин на раскладном стуле сидел офицер. На петлице его черного мундира белели буквы «СС».
— Коммунист?
Я отрицательно замотал головой.
— Зольдат?
— Нет.
Кто-то сзади сорвал с моей головы фуражку.
— Чего врешь? Ведь стриженый! — заорал тип в синем пиджаке и немецкой пилотке, видно, переводчик. Повернувшись к офицеру, он угодливо произнес: — Яволь, герр штурмфюрер! Зольдат!
Я вынул паспорт, военный билет, листовку-пропуск.
— А, студент, — разочарованно протянул переводчик. — В армии не служил? Едешь домой? — Он снова быстро заговорил по-немецки, обращаясь к офицеру.
Эсэсовец, не слушая, махнул рукой:
— Кригсфангенлагер!
Через минуту меня втолкнули в переполненный грузовик. Из головы не выходила назойливая мысль: «В какую сторону нас повезут?»
Грузовики, сопровождаемые мотоциклистами, один за другим выехали на шоссе. К моему ужасу, машины повернули в сторону Житомира. У телеграфного столба одиноко стоял мой велосипед.
2
Над головой темный купол неба. Дождь льет как из ведра. На какое-то мгновение ослепительный свет молнии вырывает из мрака низкие помещения, стоящую слева вышку, ряды колючей проволоки, скорченных, лежащих прямо на мокрой земле людей, которым не удалось втиснуться на ночь под крышу. Бараки рассчитаны всего на триста — четыреста человек, а в лагере свыше трех тысяч.
На плацу — ни клочка сухой земли, все превратилось в сплошное месиво. Земля уже не впитывает влагу, и вода подступает к дверям бараков. Ходить ночью по лагерю запрещено. Можно только лежать или сидеть. Стоит подняться, как сразу ударит со сторожевой вышки огненная трасса — часовые стреляют без предупреждения.
В небе раскатисто гремит гром. Но кажется, даже ему не заглушить биения моего сердца, так бешено оно стучит. Нам пока везет. Погода самая подходящая.
Мы осторожно ползем под стеной барака, прислушиваемся, припадаем к земле и опять метр за метром двигаемся дальше, скользя грудью по грязи. Рядом со мной шахтер Курченко, позади — еще четверо. А дождь все усиливается.
— Только бы там не заметили, возле проволоки, — шепчет Курченко.
Очередная вспышка молнии заставляет нас плотно прижаться к земле. Втягиваем головы в плечи. Ждем. Шумит ветер. Льет дождь. Все идет пока хорошо.
Несколько десятков метров, отделяющих барак от колючей проволоки, ползем почти час. Зубы выбивают мелкую дробь. По лицу стекает вода. Мокрая одежда прилипает к телу холодным компрессом. К горлу подступает противная тошнота. От голода кружится голова. Кажется, что липучей грязи, по которой мы ползем, никогда не будет конца.
Наконец деревянный столб. Под рукой острые металлические колючки. Внизу, у самой земли, все опутано проволокой. У нас с собой ничего нет, кроме куска оцинкованной жести. Я лихорадочно начинаю копать. Курченко помогает, отгребает ладонями мокрую землю. Острые края жестянки впиваются в пальцы, рвут кожу, но я не чувствую боли. «Быстрее, быстрее, лишь бы успеть, лишь бы не заметили с вышки!..»
Ко мне подползает лейтенант Николай, отбирает жестянку. Он копает сразу обеими руками, подгребая под себя кучи глины, и тяжело дышит. Отверстие под первым рядом проволоки быстро расширяется. Еще немного — и можно пролезть. Но это лишь начало.
Сзади кто-то дергает меня за ногу. Я придерживаю руку лейтенанта. Словно струна, напружинился всем телом Курченко. Послышалось размеренное чавканье грязи. Мы лежим прижавшись друг к Другу. Придерживая на груди автомат, вдоль внешней стороны ограждения медленно проходит часовой, шурша мокрой плащ-палаткой. Через минуту он исчезает в темноте.
Все мы облегченно вздыхаем. «Пронесло...» Но откуда взялся здесь часовой? Вчера охрана была только на вышке. Наше счастье, что солдат без собаки.
— Надо подождать, пока он вернется назад, — чуть слышно шепчет Курченко.
Курченко прав: солдат обязательно должен вернуться назад. Нужно действовать еще осторожнее, не прозевать... Когда этот проклятый фриц возвратится?
Остается прорыть лаз под внутренними рядами ограждения. Жестянка переходит к Курченко. Он осторожно втискивается в вырытую нору. «Пролезет или нет?»
У самого моего лица — облепленные глиной подошвы босых ног Курченко. Они скользят по грязи. Нажимая на жестянку, Курченко упирается пальцами ног в мокрую землю. Потом его опять сменяю я. Под двумя рядами проволоки проход готов, но надо одолеть еще столько же. Эх, были бы сейчас ножницы!.. Жестянка в руках гнется, копать становится все тяжелее. Уже нет сил. Делаю передышку.
Николай помогает мне выбраться из-под ограждения. За рукав его гимнастерки цепляется металлическая колючка. Рывок — проволока завибрировала, глухо, протяжно загудела. В тот же миг из темноты ударили выстрелы. Короткие автоматные очереди прозвучали с той стороны, куда недавно прошел часовой. Над головой, словно комары, запищали пули.
Значит, все сорвалось... Какая обида! А свобода была так близка!..
Пригнувшись, мы во весь дух мчимся назад, к бараку. Кажется, все живы. Охранник, видно, стрелял наугад. Но вот треск автоматов доносится уже с противоположного конца лагеря. Над вышками взлетают ракеты. В трескотню автоматов вплетается отрывистое татаканье пулеметов. Сыплются выбитые стекла. Эсэсовцы ведут огонь по баракам, поливают свинцом всю территорию лагеря. Стоны раненых, лай овчарок, гортанные крики немцев, удары грома — все смешивается в дикой вакханалии.
Лагерная охрана поднята по тревоге. Бараки вмиг опустели. Всех пленных выгнали на плац, построили. Напротив них в шеренгу развернулись охранники.
Лицо офицера в высокой фуражке в темноте плохо видно. Он не кричит. Он хрипит, захлебывается словами. Толстый, как бочка, переводчик-фольксдейче еле успевает повторять за ним:
— Русские свиньи, отвечайте! Кто делал подкоп? Отвечайте! Повторяю еще раз: кто делал подкоп?
Лагерь молчит.
Пленные словно окаменели. Слышно, как стучат, падая на плащи эсэсовцев, капли дождя.
— Молчите? Коммунистов прячете? Если не выдадите преступников, всех немедленно расстреляем тут же, в лагере, сейчас. Слышите? Кто организатор побега? Кто зачинщик? Отвечайте же, черт вас возьми!
Взбешенный офицер истерично топает ногами, из-под сапог во все стороны летят брызги.
Лагерь молчит.
Тонким, писклявым голосом снова кричит переводчик:
— Господин помощник коменданта приказывает в последний раз! Назовите виновников! Их будет судить военный суд. Остальных простят. Каждый, кто сообщит имена зачинщиков побега, будет отпущен на волю. В противном случае всех ждет смерть. Господин помощник коменданта дает вам на размышления десять минут!
Лагерь молчит.
— Ахтунг!
Эсэсовцы берут автоматы на прицел.
Медленно тянутся секунды. Не переставая, льет дождь. Черный плащ офицера маячит перед шеренгой охранников. По-собачьи жмется к нему толстый переводчик.
Слева от меня стоит Курченко, справа — Давыд. Курченко переступает босыми ногами, он продрог, а мне душно. От мокрой одежды идет пар. Давыд, вытянув шею, смотрит поверх голов куда-то в сторону. Я догадываюсь, кого он ищет взглядом. Неподалеку от нас стоит высокий беззубый мужчина, по кличке Хорт. Никто не знает, откуда он родом, каким образом попал в лагерь. Если он видел, как мы вечером по одному выходили из барака, обязательно скажет охранникам. «Скажет или не скажет? Выдаст или промолчит?»
Курченко думает о том же. Наклоняется ко мне, не очень уверенно, с тревожными нотками в голосе успокаивает:
— По-моему, Хорт будет молчать. Не осмелится, гад, донести. После того, что случилось с его дружками, побоится...
Подозрительных субъектов вроде Хорта в лагере порядочно. Они с первых дней стали выслуживаться и заискивать перед эсэсовцами-охранниками. Хорт сначала старался больше других. Когда пленных рассортировывали по национальным сотням — украинцев в одну сотню, белорусов — в другую, азербайджанцев — в третью, а русских — в особую группу, он бегал по баракам, истошно кричал:
— Украинцы, не бойтесь, немцы нас не тронут. Все скоро пойдем до родных хат. Москали останутся в лагере, а мы — до дому. Есть приказ господина коменданта украинцев отпустить. Покарай меня господь, если вру...
Он уже входил в роль сотника. Угодливо ловя одобрительные взгляды гитлеровцев, визгливо орал на военнопленных, с кого-то успел стянуть хромовые сапоги и гордо щеголял в них. Но холую не повезло. После церемонии распределения по сотням к нему подошел низенький, толстый эсэсовец с черной повязкой на глазу, молча показал дулом автомата на его сапоги. Хорт испуганно открыл рот, видно хотел что-то объяснить, но эсэсовец не стал слушать — ловко, снизу вверх стукнул незадачливого «сотника» по зубам. Тот присел и, сплевывая кровь, начал быстро разуваться.
Выискались провокаторы и в других сотнях. Против них поднялся весь лагерь. Одного из доносчиков два дня спустя нашли мертвым в дальнем углу лагеря с куском проволоки на шее. Двух других ночью задушили в бараке. Калмыки своего сотника ткнули головой в лужу и держали так до тех пор, пока он перестал шевелиться. Остальные фашистские прихвостни сразу притихли, затаились.
Хорт, после того как эсэсовец выбил ему зубы, целыми днями валялся на нарах, по ночам в ужасе вскакивал от малейшего шума и уже не вспоминал ни о сотне, ни о распоряжениях господина коменданта. В бараке с него не спускали глаз. И все же от такого можно было ожидать любой подлости.
...Прошло пять минут, десять, полчаса... Может, так кажется? Может, в этот миг стрелка часов только приближается к той черте, за которой последует команда: «Огонь!»?
Нет, не кажется. Прошло не меньше получаса. А мы все еще живы. Ноги подгибаются, тело словно одеревенело. А мы живы. Мы стоим. Лицо сечет холодный дождь. Ветер жалобно посвистывает в проволочном ограждении. А мы живы!
Долговязый офицер куда-то ушел. Охранники, нарушив строй, сбились в кучу и, защищаясь от ветра, щелкают зажигалками. Потом разошлись и они. Осталось лишь несколько эсэсовцев с овчарками.
На горизонте засерела узкая полоска рассвета.
А мы стоим...
3
Давыд все время рядом со мной. Хороший он человек, чудесный товарищ. Знаю я его давно, хотя до встречи в лагере мы не были друзьями. Родом он из села Терентьев, что недалеко от Гощи. Простой крестьянин-хлебороб. Жил скромно, работал, как и все, ничем не выделялся. От общественных дел стоял в стороне, больше отмалчивался. «Нелюдимый какой-то, — говорили о нем в селе, — ничего его не интересует. Кто знает, что у него на уме?»
Давыду известно, что я коммунист, что за революционную деятельность не раз сидел в тюрьме, что в панской Польше меня постоянно преследовала полиция.
В лагере он увидел меня первый. Подбежал, молча взял за руку и повел в барак, до отказа заполненный пленными. С кем-то пошептался, кого-то потеснил, принес перетертой, как полова, соломы, бросил на пол, просто сказал:
— Ложись, земляк, отдыхай!
На мне был новый светло-зеленый костюм. Через несколько дней Давыд раздобыл где-то поношенную свитку:
— Натяни-ка, браток, ее на себя, а то очень уж ты приметный. И знаешь что, без особой нужды из барака не выходи. Видел я тут одного... Не надо бы тебе с ним встречаться. Пить захочешь — я принесу. И баланду принесу. Так будет лучше.
Кого приметил, Давыд так и не сказал. На мои настойчивые вопросы только отмахивался: «Есть тут один. Из наших краев, а душа не наша. Знает тебя как облупленного».
От голода у меня все чаще кружилась голова, опухли ноги, ходить стало трудно. Словом, было от чего впасть в отчаяние. А мысль непрестанно работала в одном направлении: «Бежать, бежать, бежать...»
Планов побега рождалось много, но не так-то легко их осуществить. После памятной ночи, когда мы простояли на плацу до рассвета, гитлеровцы составили списки пленных, присвоили каждому порядковый номер, ввели кроме вечерних утренние проверки. В течение ночи эсэсовцы с овчарками на поводках по нескольку раз обходили лагерь. На вышках были установлены прожекторы.
И все же мысль о побеге ни на минуту не оставляла меня. Только бы сохранить остаток сил, не свалиться!
Дни тянулись медленно и однообразно, долгие, как годы.
Наша группа поредела. Погиб Галимов. Он был убит выстрелом с вышки. Не стало волжанина Сергея. После неудачной попытки побега он тяжело заболел: открылась рана на голове, посинело, распухло лицо. К вечеру он ослеп, а на следующее утро скончался. Занемог и великан Николай. Лейтенанта подкосило как-то сразу: крепкий организм сдал, и он увял, как былинка, не в силах подняться с соломенной подстилки... По просьбе Давыда к нам в барак приполз молоденький военфельдшер, тяжело волоча за собой раненую ногу. Приложил ухо к широкой груди лейтенанта, пощупал пульс, беспомощно оглянулся на нас и заплакал. Николай и военфельдшер служили вместе, в одном пограничном отряде.
Настал двадцатый день моего пребывания в лагере.
Давыд только что пришел с миской баланды в барак. По его лицу можно догадаться, что есть новости. Присев на корточки рядом со мной, тихо говорит:
— Собирайся, земляк, вывозить будут...
Я испуганно привстал, поднял на него глаза:
— Куда вывозить? В лес?
— Да нет, там сейчас, — он кивнул головой на дверь, — приехал какой-то немец в гражданском. Ходит по плацу, высматривает. А толстопузый, что переводит, сказал: «Будете работать на великую Германию. Нечего вам тут отлеживаться...» Слухи такие, будто в Польшу, в город Холм, отправят всех.
Не успел Давыд закончить, как за стеной послышался приглушенный шум моторов.
— Машины... Заворачивают в лагерь, — сообщили те, что сидели и лежали ближе к окнам.
С пола, с нар стали подниматься истощенные люди. Барак заволновался:
— Куда это нас?
— На станцию, наверно, а оттуда — в Германию.
— Не может быть!
— Скорее, на мыловарню свезут... Вот увидите!
— Перестань, не каркай!..
— А может, это не за нами?
Николай зашевелился, прислушался, едва слышно прошептал:
— Ребята... Не бросайте меня... Пропаду я без вас...
От его слов у всех нас першит в горле. Курченко вздыхает, отводит в сторону глаза. Чем мы можем утешить больного, что посоветовать ему, если сами не знаем, что произойдет с нами в следующую минуту.
— Плесни воды из котелка, — зашептал мне Давыд. — У меня есть бритва, я побрею тебя. Дорога — это дорога. Там проволоки не будет. Свитку выбросишь, костюм у тебя приличный, может, удастся вырваться. Подставляй бороду, терпи, бритва тупая...
Полчаса спустя мы уже толпились на плацу, тревожно поглядывая на серую колонну тяжелых с прицепами грузовиков. Эсэсовцы, ругаясь, избивая пленных палками и прикладами автоматов, отделяли группы по пятьдесят — шестьдесят человек и, едва сдерживая разъяренных овчарок, гнали узников к машинам.
Курченко где-то затерялся в толпе, его оттерли. Мы с Давыдом крепко держимся за руки, без слов понимая друг друга. Хотелось во что бы то ни стало попасть на последний грузовик. В сердце теплилась надежда: «На подъеме или крутом повороте спрыгнем и... может, посчастливится?..»
Вот наконец и последняя машина. Мы протискиваемся к прицепу. Первым за борт хватается Давыд, подтягивается, переваливается в кузов, подает руку мне. Прицеп заполнен до отказа. Давыд уступает мне место у заднего борта, а сам с трудом протискивается в середину.
Бросаю последний взгляд на лагерный плац, на бараки. Там остался лейтенант Николай — немцы не разрешили взять больного.
Нас везут на запад. Знакомая дорога, знакомые леса. Новоград-Волынский проскочили на большой скорости. Женщины и дети, сбившиеся у заборов, скорбно смотрят нам вслед.
Жарко. Во рту пересохло. Губы потрескались, кровоточат. На зубах скрипит пыль. «Пить!.. Пить!..» — стонет кто-то рядом.
О побеге нечего и думать. За нами неотступно мчатся мотоциклисты. «Когда будет остановка? Может, ночью?»
— Не надейся, не удерешь! — проскрипел над моим ухом злобный смешок. Поворачиваю голову — Хорт! — Я за тебя помирать не намерен, — с угрозой цедит он. — Скажи спасибо, что там, в лагере, молчал. Думаешь, не видел, как вы ночью выбирались из барака? Прочь от борта, большевистская собака!..
— Молчи, гад! — чьи-то пальцы хватают Хорта за шиворот. — Иначе вылетишь из машины и не пикнешь. Понял?
— Хватай его за ноги, сержант!
— Дай ему в морду!
— Пустите, — хрипит беззубый. — Я же пошутил...
— Тихо, товарищи! Оставьте его. — Седой человек в суконной пилотке, в гимнастерке с оторванным рукавом склоняется ко мне и, указывая на мотоциклы, тихо говорит: — Прыгать не нужно. Это самоубийство. Так кончить — штука нехитрая. Ты вот выжить попробуй. Это, брат, в нашем положении труднее.
Прошло часов пять после того, как мы выехали. Позади остались изуродованные снарядами дома Корца. Снова проплыли перед глазами, больно кольнув сердце, воспоминания о родной Гоще и ее садах. Внизу, под обрывом, блеснула лента тихой Горыни...
Солнце клонилось к горизонту.
Колонна машин приближалась к Ровно. Так вот каким путем довелось мне попасть в этот город! Шел с заданием партии, мечтал бороться с врагом, а въезжаю пленником, под конвоем эсэсовцев!..
Миновав пригород, грузовики свернули у парка имени Шевченко в сторону Здолбунова и... остановились у высокого забора.
Ряды колючей проволоки... Черные мундиры... На вышках серые фигуры часовых в касках. Концлагерь! В самом городе? До войны за этим забором была спортивная площадка. По вечерам на ней играли в волейбол и баскетбол. Было шумно, людно, весело. А теперь — концлагерь!..
— Вы-ле-зай! Бы-стро! — раздается команда.
У забора мы выстраиваемся в несколько рядов лицом к противоположной стороне улицы. Там, на тротуаре, небольшая толпа ровенчан. Главным образом женщины. Они жадно всматриваются в наши лица. Может, среди измученных, шатающихся от голода и жажды людей стоит родной отец, сын, муж? Может, промелькнет до неузнаваемости изменившееся почерневшее лицо соседа, знакомого?
Весть о том, что привезли военнопленных, молниеносно облетела ближайшие кварталы. Толпа по ту сторону улицы быстро растет. Через головы эсэсовцев к нам летят куски хлеба, картофелины, сухари. Дрожащие руки пленных подхватывают эти драгоценные подарки на лету.
Охранники ругаются, грозят женщинам оружием, но напрасно. Тротуар глухо волнуется. Оттуда доносятся проклятия в адрес гитлеровцев, слышится детский плач...
От ровенчан нас отделяет лишь узкая мощеная улица. По мостовой, словно по коридору, держа наготове автоматы, ходят взад-вперед эсэсовцы.
Я осматриваюсь. Давыда не видно. Нет поблизости и Хорта. Только мой сосед по грузовику, седой в суконной пилотке, стоит тут же, прислонившись к забору. Мы в заднем ряду. Впереди нас еще несколько рядов гимнастерок, шинелей, ватников.
Я решаюсь. Быстро сбрасываю с себя рваную свитку, вынимаю из мешка кожаное пальто (немцы почему-то так и не отобрали его у меня). Добротный костюм, фуражка, пальто — на мне нет ничего военного. Машинально провожу ладонью по щекам. Спасибо тебе, Давыд, что успел перед отъездом побрить! Может, в этом мое спасение?
Седой в суконной пилотке смотрит на меня широко открытыми глазами. Лицо его бледнеет, становится озабоченным. Он все понял. Слегка наклоняет голову, молча кивает: «Попробуй!»
Протискиваюсь сквозь ряды пленных вперед. Жду. Будь что будет!.. Раздвигаю плечами переднюю шеренгу, быстро выхожу на мостовую. Шаг, два, три — и я на середине улицы. Позади легкое замешательство, какое-то движение, затем — мертвая тишина. Чувствую, в меня впились десятки глаз и тех, кто стоит у забора, и тех, кто на тротуаре.
Теперь — спокойствие. Главное — спокойствие!
Не спеша иду навстречу эсэсовцу.
— Господин солдат! Вот мои документы... Там, среди пленных, мой брат... Вот его документы... Папир. Брудер. Господин солдат, отпустите его...
Немец ошалело смотрит на меня из-под каски, недовольно хмурится. Вся его фигура будто говорит: «Что нужно этому русскому? О чем он просит?»
— Папир. Брудер.
Показываю на шеренги пленных, сую ему паспорт и говорю, говорю...
Эсэсовец понял наконец, чего от него хотят, отталкивает мою руку с документами и отрицательно машет головой.
— Найн, найн... Вег! — показывает автоматом в сторону тротуара, отворачивается, бормочет что-то себе под нос и идет дальше.
Я отхожу к тротуару. Толпа женщин расступается и сразу поглощает меня.
— Беги скорей, беги, милый! — шепчут со всех сторон.
Не помню, как очутился в соседнем квартале. Постоял за углом дома. Прислушался. Погони вроде нет. Не раздумывая, свернул в ближайший переулок. С трудом сдерживаю себя, чтобы не сорваться, не помчаться во весь дух прочь от улицы с высоким забором и колючей проволокой. Нужно идти спокойно, не торопясь. Главное сейчас — выдержка и спокойствие!
Поединок
1
Возле села Рясники берег Горыни густо зарос лозняком, в котором нетрудно спрятаться от лишних глаз. Вечереет. Я осторожно раздвигаю кусты, всматриваюсь. Поодаль в сумерках белеют хаты. В селе не слышно ни голосов, ни скрипа телег, ни мычания скота. Только громкое кваканье лягушек нарушает настороженную тишину да шуршит под ногами сухая трава.
От речки к селу змейкой вьется тропинка. Я знаю, она ведет к хате Прокопа Кульбенко, моего давнего товарища по подпольной работе в Западной Украине. Лет шесть-семь назад я тоже вот так, крадучись, пробирался к хате друга — приходилось остерегаться засады польских жандармов.
И вот я опять иду по знакомой тропинке. Мозг назойливо сверлит мысль: «Застану ли Прокопа дома?»
В армию его не взяли из-за болезни желудка, это я знал точно. Тяжелое желудочное заболевание было результатом длительных голодовок и карцерных пайков в тюрьмах панской Польши, где Прокопу довелось отсидеть немалый срок за революционную деятельность.
Теперь, возможно, он успел эвакуироваться? А может, и нет? Я шел к нему наугад. В одном лишь не сомневался: если Кульбенко дома, то не сидит сложа руки — не такой у него характер. Помнится, в Коммунистическую партию Западной Украины он вступил еще в тридцатом году и длительное время находился на нелегальном положении, пока не выследили и не схватили его шпики дефензивы. Восемь лет одиночного заключения — таким был приговор. Из мрачной камеры-одиночки Прокоп вышел в тот день, когда на землю Ровенщины вступили части Красной Армии.
...Легонько стучу в окно, прислушиваюсь. Тихо в хате, ни звука. Но вот скрипнула дверь. Слышу тревожный женский голос:
— Кто там?
Это — жена Прокопа. Я сразу узнал ее по голосу. Негромко, но отчетливо отвечаю:
— Ятель!
Небольшая пауза, и снова вопрос, в котором одновременно волнение и удивление:
— Кто-кто, вы сказали?
— Ятель!..
...В комсомол меня принимали на берегу пруда. Это было летом двадцать девятого года в селе Басов Кут. Привел меня туда из Ровно поляк Станислав, с которым мы вместе работали в шорной мастерской. На траве, сбившись в кружок, сидели молодые ребята. Тут же, под ольхой, лежала развернутая книга, со страниц которой глядел на нас, задумчиво улыбаясь, Ленин. Меня спросили: «Ты не испугаешься ареста, тюрьмы? Готов ли отдать жизнь за дело мирового коммунизма?» — «Да!» — ответил я. Секретарь подпольной ячейки Тарас пожал мне руку и спросил: «А теперь скажи, товарищ Новак, какую хочешь иметь подпольную кличку?»
Это не было романтикой юности. Этого требовала жизнь. Коммунисты и комсомольцы Западной Украины в то суровое время, находясь на нелегальном положении, вынуждены были менять фамилии.
Я на минуту задумался, прислушиваясь к дробному постукиванию дятла, что примостился на сухом суку ольхи, потом решительно сказал: «Беру кличку Ятель»[6]. — «Чем тебе нравится эта кличка?» — спросил Тарас. «Ятель клюет... Вот, слышите? Всю жизнь клюет, уничтожает всяких паразитов. Я тоже хочу клевать паразитов. Всю жизнь».
Эта кличка осталась за мной и позже, когда я вступил в партию. Под таким именем знали меня и друзья и враги. Слышала это имя и жена Кульбенко. Не забыла ли?
— Ятель! — негромко сказал я снова.
Женщина открыла дверь, тихо вскрикнула и исчезла в сенях. Навстречу мне вышел Прокоп Кульбенко. Мы молча обнялись. Он взял меня за руку, повел в огород. Забрались в заросли вьющейся фасоли.
— В хату не приглашаю. Опасно. Ко мне в любую минуту могут зайти непрошеные гости. Все проверяют: не удрал ли!
— Немцы?
— Нет. Помощники у них тут объявились... Ну откуда же ты, Терентий? Каким ветром за несло тебя сюда? Рассказывай.
— Вчера вечером сбежал из лагеря. Но об этом потом... Сначала расскажи ты: как тут дела, какова обстановка?
Прокоп задумался, вздохнул.
— Не знаю, с чего и начать, — тихо проговорил он. — В первые дни фашисты чувствовали себя на нашей земле как слепые котята. Куда ни ткнутся, ни черта не могут узнать. Народ молчит, рта не раскрывает. Потом вылезли из своих щелей националисты, стали угодливо помогать немцам. Эта нечисть, как и фашисты, держит ставку на кулаков. Вот теперь создают в селах полицию, вербуют в нее всякую сволочь. Полицаи выдают гестаповцам наших людей, охотятся за коммунистами и советскими активистами, терроризируют население... Помнишь Лукьяна? Ну того, что в гражданскую в полку Олеко Дундича служил. Замучили его, гады, до смерти... В Ровно националисты создали свой окружной провод. Верховодят там известные тебе братья Бусел — Яков и Александр, а также Заборовец и сын попа Волошин. Еще какой-то Роботницкий, привезенный из Германии. Он командует всей полицией... Обстановка, как видишь, собачья. Хуже некуда. Я живу как на пороховой бочке. Недавно узнал, какая-то особая комиссия ОУН готовит мне приговор «за измену» украинской нации. Жаль, что проклятая болезнь не дает дохнуть, согнула в три погибели, а то бы моей ноги в Рясниках не было.
— Да... Обстановка действительно сложная. Националисты и гестаповцы, конечно, снюхались, действуют сообща. Другого нельзя было и ожидать... Слушай, Прокоп, я думаю, тебе все же не следует оставаться в селе. Ведь оуновцы могут в любой момент с тобой расправиться.
— Оно так, — согласился Прокоп. — Уже пугали. Но видят, что я еле ноги тяну, не сегодня-завтра и без их помощи богу душу отдам, потому и не спешат. Полицаи частенько наведываются. Убедятся, что я дома, на этом и успокаиваются.
— Оружие у тебя есть?
— Пистолет.
— Ну смотри, будь наготове и прикидывай, на кого в Рясниках можно положиться. Надо, Прокоп, приступать к делу. Полагаю, у тебя здесь есть на примете надежные люди?
Кульбенко придвинулся ближе, горячо зашептал:
— Значит, ты, Терентий, не случайно зашел? А насчет людей не сомневайся, найдутся. Да еще какие люди!.. Растерялись поначалу. Все уж очень неожиданно случилось. Теперь многие опомнились. Но организатор нужен. Уйдем в подполье, будем бороться, все сделаем. Не для того мы по тюрьмам сидели, чтобы теперь немцы и какие-то поповские сынки верховодили. На меня рассчитывай во всем, не смотри, что я больной. Черта лысого я помру! Назло им буду жить. У меня еще сил хватит, ты меня знаешь...
— Потому и зашел, что знаю. Но долго задерживаться у тебя не могу. Надо уходить. Думаю еще кое-кого из старых друзей повидать. Жди от меня вестей. А пока начинай подбирать людей, только осторожно. О дальнейшей работе поговорим в следующий раз.
Прокоп зашел в хату, вынес хлеб и кусок сала.
— Ты и дальше в таком виде путешествовать собираешься? — спросил он, кивнув на мою кожанку. — Ну как есть уполномоченный райисполкома. В таком одеянии долго не находишь. Подожди, я вынесу тебе старый плащ, наденешь сверху. А как у тебя с оружием? Видать, ничего нет?
— К сожалению...
— Тогда возьми мой пистолет.
— Не нужно, он и тебе понадобится. Знаешь что, дай мне косу. Буду пробираться по полям с косой, меньше обратят внимания.
— И то верно. Подожди-ка минутку...
Распрощавшись с Кульбенко, я направился огородами в поле и по протоптанной в хлебах тропинке поднялся на пригорок.
Внизу молча лежало село. Ночь была теплая, лунная. С высоты Горынь казалась залитой серебром. В ее неторопливом течении отражались мириады звезд. Трещали сверчки. Шуршали, потрескивая, колосья. Над степью стояла настороженная тишина.
Положив косу на плечо, я двинулся дальше. В голове уже созрел план: сначала заверну в Ровно, выясню, кто из товарищей остался в городе, а потом попытаюсь пробраться в Клеванский и Дубновский районы.
2
В стороне осталось село Горинград. Где-то впереди должно быть шоссе, что ведет в Ровно. «Не сбиться бы с пути», — с тревогой подумал я.
Небо затянуло тучами. Сгустилась темнота. Стали острее чувствоваться пьянящие запахи степи.
На хуторах, захлебываясь, лают собаки.
В кожанке и плаще идти тяжело, душно. От соленого сала, которым угостил Прокоп, хочется пить. Зайти в Горинград я не отважился, но, проходя мимо одного из хуторов села Дубрава, не удержался, решил: «Попрошу кружку воды и пойду дальше. Хутор глухой, всего две хаты, чего там бояться...» Оставил косу в придорожной канаве и решительно зашагал к первой хате, окруженной густыми зарослями вишни. «Где тут у них калитка?»
И вдруг... Узкий луч электрического фонаря больно бьет в глаза и на какое-то мгновение ослепляет. Инстинктивно пригибаю голову, хочу броситься в сторону, но рядом вырастают две темные фигуры. Меня крепко хватают за руки. Снова вспыхивает луч света, скользит по лицу, одежде.
— Кто такой? Что здесь делаешь?
Не дождавшись ответа, один из незнакомцев снимает с плеча винтовку. Тишину разрывает выстрел. Из хаты выскакивают еще трое, клацают затворами. Ругаясь, вталкивают меня в хату.
Небольшая комната слабо освещена керосиновой лампой. Окна снаружи плотно закрыты ставнями. На столе большая чугунная сковорода с остатками яичницы, пустые бутылки из-под самогона. Густо пахнет сивухой. В комнате грязно, неуютно. На заляпанной темными пятнами стене два портрета — Адольфа Гитлера и Степана Бандеры. Догадываюсь — полицейский участок! Но почему здесь, на отшибе, а не в селе? Впрочем, это не меняет дела. Влип, и так глупо.
Черноволосый носатый полицай в шапке-мазепинке с трезубцем ткнул меня кулаком в подбородок, сузил глаза:
— Отвечай, кто такой?
Я промолчал.
Другой бандеровец, что стрелял у ограды, наклонился к лампе, раскрыл мой паспорт.
— Постой, постой... Новак, Терентий Новак... Из Гощи. Ты что, не узнаешь его, Иван? — повернулся он к черноволосому. — А помнишь, в тридцать седьмом тайную сходку в Горинграде? Там выступал агитатор, уговаривал вступать в комсомол. Мне кажется, это он и есть, тот самый агитатор, большевик из Гощи. А ну-ка, давай его сюда, ближе к свету!..
Но у Ивана память, видно, была похуже. Поднеся лампу к моему лицу, он пожал плечами. Полицай, забравший мои документы, быстро вышел из комнаты.
Меня толкнули на лавку. Откуда-то послышался тихий стон. Я скосил глаза на полуоткрытую дверь в соседнюю комнату. Там лежали на полу двое мужчин, лицом вниз, со связанными за спиной руками. Крайний шевелился, силился подняться. С его губ струйкой стекала кровь.
Так вот в чем дело. Выходит, я попал в тайный застенок, где бандиты с желто-блакитными повязками на рукавах и трезубцами на шапках с особым пристрастием допрашивают арестованных. Не обходится, видно, и без пыток. По спине пробежал неприятный холодок.
«Кто бы мог подумать? Глухой хутор. Специально избрали, гады, такое место, подальше от людей, чтобы не было слышно криков и стонов».
Опознавший меня полицай быстро возвратился. Открыв дверь, пропустил вперед низкого, узкоплечего мужчину с болезненно-желтым, нервным лицом.
— Слава Украине! — хрипло выдохнул плюгавый и поднял вверх руку ладонью вперед.
По тому, как быстро вскочили, вытянувшись словно по команде полицаи, нетрудно было догадаться, что узкоплечий с пистолетом — старший всей этой своры.
— Вот он. Поймали у самого двора. — Полицай в шапке-мазепинке небрежно кивнул в мою сторону.
Я медленно поднялся, заложил руки за спину, чтобы не видно было, как дрожат пальцы, и спокойно, почти весело сказал:
— Вы поймали? Меня поймали?.. Вот это здорово!.. Похвально, очень похвально. Непременно получите благодарность...
В комнате наступила тишина. Полицаи словно завороженные уставились на меня полупьяными глазами.
— Выходит, вы меня арестовали? Интересно! — продолжал я, обращаясь теперь главным образом к старшему полицаю. — Скажите, уважаемый, с каких это пор люди досточтимого пана Роботницкого стали действовать наперекор людям пана Якова Бусел? Разве наши руководители разошлись во мнениях? У них уже не общая цель? Пана Бусел удивит эта новость! Украинская полиция вместо того, чтобы стоять на страже интересов нашей организации, поднимает руку на ее представителей. Очень интересно! — Согнав с лица улыбку, я холодно, резко спросил вожака: — С кем имею честь?
Он оглянулся на притихших полицаев, захлопал глазами, сбитый с толку моим тоном. Судорожно глотнув слюну, что-то неразборчиво промычал. На желтом его лице появилась гримаса удивления и... беспокойства.
Надо было немедленно воспользоваться возникшим замешательством, наступать, идти напролом, не дать вожаку опомниться. Фамилии националистов-верховодов, засевших в Ровно, были мне известны. Я еще до войны знал некоторые детали биографий братьев Бусел, а о шефе полиции Роботницком кое-что успел рассказать мне Прокоп Кульбенко. Вряд ли полицаи глухого хутора были осведомлены о них лучше, чем я. Стало быть, надо играть роль до конца. Только такой маневр мог если не спасти меня, то, по крайней мере, хотя бы на некоторое время отвести непосредственную угрозу.
Я сделал еще один выпад. Обведя полицаев презрительным взглядом, сквозь зубы процедил:
— Старшего прошу остаться. Остальные вон отсюда!
Вожак вконец растерялся. Угодливо кивнул мне, приказал всем выйти из хаты. Полицаи подхватили винтовки и, испуганно озираясь, один за другим выскользнули в сени.
Мы остались вдвоем.
— Теперь, уважаемый, слушайте внимательно. Можете сесть, — входя в роль, разрешил я вожаку, но мысленно одернул себя: «Не переиграй, знай меру!» — Так вот. Вам, конечно, доложили, что я — Новак, коммунист и тому подобное. Верно?
— Да, доложили.
— Вам сообщили, что я сам шел сюда? Сам, понимаете? А ваши олухи набросились на меня как бешеные, почти у самого порога хаты. Сказали об этом? Чудесно! Какой же вы сделали вывод?..
Плюгавый открыл рот, но я не дал ему заговорить и, стукнув кулаком по столу, продолжал:
— Так какого же черта!.. Вы что, думаете, большевик сам, как теленок, по доброй воле припрется в полицейский участок ночью и сдастся на милость ваших сопляков?! Кто вдолбил вам в голову такую чушь? Господи, как прав был пан Роботницкий, когда еще в Кракове говорил мне: «Полицию мы создадим, но боюсь, ей не будет доставать культуры в работе». Вы одичали здесь от безделья, вы... — Заметив, что главарь начинает ерзать на стуле, я понизил голос и примирительно, с укором покачал головой: — Нельзя же, уважаемый, мыслить так упрощенно. В жизни все намного сложнее, чем иногда кажется. Особенно в наши дни. Представьте себе: человек идет с особыми полномочиями к окружному проводу ОУН, несет сообщение, которого ждут наши... — Я сделал вид, что сболтнул лишнее и нахмурился: — Имейте в виду, о том, что слышали, никому ни слова, иначе я не ручаюсь... Извините, я не расслышал вашей фамилии.
— Верковский. Но поймите и меня. Я вынужден, пане...
— Моя кличка Хмара, — подсказал я.
— Не имею права сомневаться, — с усилием подбирая слова, продолжал плюгавый. — Вы понимаете мое положение, пане Хмара?.. Я обязан проверить... Мой долг... Свяжусь с Ровно.
— Пожалуйста, — безразлично сказал я, снимая кожанку. — Только имейте в виду, ждать мне некогда. Я зашел сюда для того, чтобы узнать, не собирается ли кто из ваших ехать в город. Могли бы меня подвезти. Я очень устал. И потом, было бы безопаснее...
— Не волнуйтесь. Это не займет много времени. Сейчас я свяжусь по телефону.
«По телефону? Здесь есть телефон! Как же я не заметил? Черт... Что ж теперь? Ударить его стулом по голове, вырвать пистолет — и в окно...»
Но какой-то внутренний голос сдерживал, подсказывал: «Подожди, не горячись, больше выдержки».
Верковский прошел в темный угол комнаты, стал крутить ручку телефона. Мне было видно, как дергался локоть его правой руки. Затем он снял трубку, несколько раз подул в нее.
— Алё! Ровно? Станция? Мне полицию... Але! Я прошу полицию. Что? Хорошо, подожду...
Наступила долгая пауза. Я сидел как на иголках. Наконец опять послышался раздраженный голос Верковского:
— Как это не отвечают? Вызовите еще раз!
Спустя несколько минут где-то там, на другом конце провода, ответили. Но время было позднее, давно перевалило за полночь, и трубку, вероятно, взял полусонный дежурный. Верковский начал было объяснять, что у него неотложное дело, просил позвать к телефону кого-нибудь из начальства. В ответ услышал скорее всего что-то не очень приятное, потому что вдруг сердито сплюнул, чертыхнулся и повесил трубку.
Остаток ночи прошел в тревоге. Примостившись на лавке, я делал вид, что дремлю, а тем временем чутко ко всему прислушивался. После неудавшегося телефонного разговора Верковский ушел, заверив, что утром будет подвода и я смогу спокойно уехать в Ровно.
Он был подчеркнуто вежлив, смотрел на меня с опаской. С его воскового туповатого лица не сходило выражение растерянности. Ему явно не хотелось портить отношения с «уполномоченным оуновской верхушки». Однако сомнения насчет моей персоны, видимо, не оставляли старшего полицая. Уходя, он отдал какое-то распоряжение своим подчиненным. Три человека осторожно вошли в комнату, сели у самого порога, не выпуская из рук винтовок, тихо о чем-то разговаривали. Под окнами слышались шаги часового. За мной следили. Чтобы не возбуждать подозрения, я не пытался выйти на улицу, сидел, завернувшись в кожанку, с видом человека, которому нечего бояться.
Полицаи дымили самосадом. Из соседней комнаты слышался глухой стон. Где-то в углу выводил свою нескончаемую песню неугомонный сверчок.
Решив, что я заснул, полицай в шапке-мазепинке негромко сказал:
— Свой он или не свой, попробуй тут разберись... Сам черт теперь не сообразит, все перепуталось. Ты что-нибудь понимаешь, Ярослав?
— Поживешь подольше на свете, может, поймешь, — не открывая глаз, сказал я. — А пока сиди себе и не лезь не в свое дело.
У порога надолго притихли.
С первыми петухами возле хаты зацокали копыта, послышались голоса. Вошел рослый полицай.
— Собирайтесь, поедем, — сказал он мне.
Сначала вывели из хаты двух мужчин, лежавших на полу. Одному на вид было лет пятьдесят. Полотняная окровавленная рубаха висела на нем клочьями. Шаркая по полу босыми ногами, он шел, пошатываясь, склонив на грудь голову. Второй — худенький юноша — непрерывно стонал. Лицо его напоминало сплошную рану, волосы слиплись в темные засохшие сгустки.
Я вышел следом за ними. На подводе уже сидели двое полицаев. Третий стоял возле коней, прижимая локтем приклад карабина.
— Заложите руки за спину, — хмуро бросил мне черноволосый, выходя из хаты последним.
— Что такое? Может, вы еще вздумаете связывать и меня?
— Таков приказ, — буркнул он, медленно разматывая длинный кожаный ремешок.
Я заставил себя улыбнуться.
— Да, Верковский предусмотрителен... Сам удрал, зная, что нам еще придется встретиться, а на тебе, дураке, хочет выехать. Не промахнись, парень! Чего доброго, за этот ремешок потом еще и головой поплатишься. И такое случается.
Полицай заколебался. Постоял, подумал. Потом махнул рукой и серьезно сказал:
— Не я здесь старший, сами знаете. Делаю то, что приказано. А головой когда-нибудь расплачиваться придется, так или иначе. Это точно. Повернитесь, пан...
Кисти моих рук, сведенных за спиной, стянул тугой узел. Мне помогли сесть на телегу, усадили рядом с двумя другими арестованными. Полицай дернул вожжи.
3
Прогромыхав коваными колесами по мощеным улицам Ровно, подвода остановилась у здания полиции.
Два полупьяных типа перекинулись несколькими словами с конвоирами и повели меня по темному коридору. Заскрипел тяжелый засов. Я оказался в тюремной камере.
Сквозь небольшое зарешеченное окно под потолком сюда скупо проникал дневной свет. На цементном полу лежали заключенные. Постепенно мои глаза свыкались с полутьмой. Два человека, лежавшие у стены, подняли головы, разглядывая и изучая новичка.
— Терентий, это ты? — кто-то тихо позвал меня слабым, надломленным голосом.
Переступая через распростертые тела, я осторожно пробрался в глубь камеры, присел на корточки и ужаснулся тому, что увидел. На грязном, скользком от испражнений полу лежал член КПЗУ Мовчанец из села Грушвица. Рядом с ним — Сметанюк, комсомолец из того же села. Я помнил их здоровыми, жизнерадостными, полными сил. Теперь их трудно было узнать. На плечах — не одежда, а какое-то грязное тряпье. Щеки и лоб Сметанюка прорезали темные рубцы, из разорванного уха сочилась кровь. Когда Мовчанец протянул мне руку, я увидел, что она черная, словно обугленная. На распухших пальцах не было ногтей.
— Друзья, что они с вами сделали? Что здесь творится?
— Бьют, ежедневно издеваются, проклятые, — хрипло проговорил Мовчанец. — Руки мои видишь какие стали... Позавчера жгли каленым железом, рвали щипцами ногти... Все равно, гады, расстреляют, а не спешат. Держат нас здесь, чтоб помучить, помордовать. И тебя, значит, Терентий, сюда... Не миновал этой доли...
Сметанюк, не поднимаясь, слегка пожал мне руку и тихо, одними губами зашептал:
— Терентий, неужели все... погибло? Скажи... ты же... ты, — он закашлялся, схватился за грудь. — Жжет внутри, что-то отбили, сволочи. А жить хочется!.. Все ведь было так... хорошо... Знаешь, что страшно? — Сметанюк поднялся, опираясь на мое плечо. — Страшно в таком мешке умирать. Если бы на воле, с оружием в руках, если бы в бою... другой разговор... А так...
В коридоре раздался душераздирающий крик. Открылась дверь. В камеру швырнули окровавленного светловолосого юношу. Его тело тяжело рухнуло на пол.
— Вот, видишь, главные палачи! — Мовчанец глазами показал на дверь, в проеме которой, ухмыляясь, стояли Огибовский, Жовтуцкий и Костецкий. Да, это были они, вчерашние студенты нашего института, ставшие предателями и палачами! За поясом у Огибовского торчал немецкий парабеллум. У всех троих, как у мясников, по локоть засучены рукава, лица перекошены слепой злобой. Взлохмаченная голова Огибовского покачивалась, глаза тупо смотрели на жертву. Наклонившись, он приподнял поникшую голову юноши, потянул его к стене.
Я не шевелился. Еще секунда, и я встречусь взглядом с одним из этих бандитов. Тогда... Что может произойти, представить было нетрудно. Меня узнают сразу.
Но в этот раз они меня не заметили. Не дотащив избитого, полумертвого юношу до стены, Огибовский бросил его, вслед за Жовтуцким и Костецким выскочил в коридор.
Так вот кто распоряжается судьбой людей в этой душегубке! Ублюдки, которых мы распознали слишком поздно!..
В течение дня дверь камеры с ржавым скрипом то открывалась, то закрывалась не меньше двадцати раз. Одних заключенных куда-то уводили, поднимая с пола ударами сапог, вместо них вталкивали других, избитых, искалеченных. Среди заключенных почти не слышно было разговоров. Все молчали, подавленные картинами дикой жестокости, и безмолвно ожидали своей очереди. За стеной не прекращались вопли истязуемых. Допросы, пытки продолжались и ночью.
На рассвете один из заключенных, сивобородый старик, оторвал от своих ботинок резиновые подметки, бережно положил их в угол, прикрыл ладонями и забубнил:
— Иуды, христопродавцы... Святой крест зашили под каблуки... Хотят, чтобы мы топтали его... Грех... Большой грех топтать святой крест... Не хочу! Не буду!..
На него подозрительно поглядывали со всех сторон. Но старик не притворялся. Он на самом деле сошел с ума.
Кошмарной ночи, казалось, не будет конца. По углам стонали люди. Бородатый то молился, отбивая поклоны, то рвал на себе одежду, кричал, извивался в конвульсиях.
Я неподвижно сидел возле Мовчанца и Сметанюка, проклиная себя за то, что не бросился со стулом на главаря полицаев на хуторе. То ли сон, то ли тяжелое забытье наконец сковали мое сознание, и я задремал.
Кто-то совсем рядом громко засмеялся. Я открыл глаза. В камере было светло. На меня смотрел Костецкий, ехидно посмеиваясь.
— Какая неожиданная встреча! — с сарказмом произнес он. — Кто бы мог подумать, что у нас такой гость! Не знали мы, честное слово, а то по старому знакомству предоставили бы тебе лучший ночлег. Верно, Вротновский?
«И этот здесь...»
Повернув голову, я увидел еще одного из группы националистов, которые тайно собирались на «Кавказе» в первый день войны, — Вротновского.
— Ничего, потерпи. Скоро и тут будет просторно. Ночью, товарищ Терентий, — с подчеркнутым пренебрежением выговаривая слово «товарищ», продолжал Костецкий, — мы разгрузим твою квартиру. — Кивком головы он указал на группу заключенных евреев, жавшихся в глубине камеры. — А о тебе немедленно доложим начальству.
Когда они ушли, Мовчанец и Сметанюк удивленно переглянулись, в их взглядах появилась неприкрытая отчужденность. Они не знали, что я учился с этими подонками в одном институте, жил в одном общежитии.
— Не думайте обо мне плохо, друзья. Совесть моя чиста, — сказал я негромко, но так, чтобы слышали находившиеся рядом заключенные. — Меня, вероятно, ждет такая же участь, как и вас. А тому, что эти выродки называют меня по имени, не удивляйтесь. Они, к сожалению, знают меня — вместе учились.
За Мовчанцом и Сметанюком пришли под вечер два полицая и пьяный, едва державшийся на ногах Огибовский. Не обращая внимания на меня, он наступил Сметанюку на перебитую ногу и заорал:
— Сейчас, Мовчанец, ты умолкнешь навсегда, а из тебя, Сметанюк, мы выжмем сметану. — Довольный своим леденящим душу «остроумием», он вдруг дико, словно сумасшедший, захохотал, вытаращив красные, как у кролика, глаза. Лицо его выглядело помятым, в уголках рта запеклась пена. Он громко икал, дергаясь всем телом, и сыпал грязной бранью.
«И из этой твари хотели сделать педагога! Какими же мы были доверчивыми, что не разглядели под боком таких гадюк!» — думал я, бессильно сжимая кулаки.
Полицаи по приказанию Огибовского стали выталкивать Мовчанца и Сметанюка в коридор. Мовчанец споткнулся и ухватился за косяк двери. Огибовский со всей силой ударил его пистолетом по руке. Из пальцев Мовчанца брызнула кровь. Глухо застонав, он повернулся и пнул Огибовского ногой в живот. Тот перегнулся пополам, по-звериному взвыл и упал возле порога. В камеру ворвались еще несколько полицаев. Они, как коршуны, накинулись на двух обессилевших заключенных, повалили их, поволокли за дверь. Из коридора долго доносились глухие удары, ругань, топот ног, крик... Потом все стихло. Сметанюк и Мовчанец в камеру не вернулись.
Через несколько дней пришли за мной.
Еще накануне камера наполовину опустела: многих ее обитателей, вероятно, расстреляли. Во всяком случае, они, так же как Мовчанец со Сметанюком, не вернулись после допросов. Теперь арестованных поступало гораздо меньше, чем в первые дни моего пребывания в ровенском застенке. В течение пяти суток никто из известной мне четверки в камере не появлялся. Меня ни разу не вызывали на допрос. Почему оуновцы, знавшие о моем пребывании в тюрьме, надолго оставили меня в покое, я не мог понять. Однако это было подозрительно и не сулило ничего хорошего.
И вот вспомнили. Ввели в небольшую комнату в конце коридора полицейского управления.
Полицай с густо подолбленным оспой лицом (вероятно, старший, так как стоявшие по бокам конвоиры подобострастно тянулись перед ним) уже ждал меня. Он молча поднялся, осторожно постучал в дверь с табличкой «Комендант полиции города Ровно», прислушался.
За дверью что-то ответили. Рябой боком протиснулся в кабинет. Минуту спустя вышел.
— Заходи, — сказал он и, заметив, что у меня связаны за спиной руки, зашипел на конвоиров: — Остолопы, сто чертей на вашу голову, кто вас просил? Ну! Развяжите его, быстрее!
Полицаи энергично принялись выполнять приказание.
— Где он там? Почему не ведете? — послышался из кабинета коменданта басовитый голос.
Дверь с табличкой распахнулась. Рябой отскочил в сторону. На пороге стоял высокий немолодой человек в сером гражданском костюме. Большой синеватый нос, коротко постриженные ежиком седые волосы, густые лохматые брови...
Я взглянул на него и застыл, не веря глазам. Я узнал его.
* * *
...В 1933 году в Гоще строились военные казармы для батальона пограничной охраны. Рабочих, занятых на строительстве, пилсудчики расквартировали в частных домах.
К тому времени пан Василевский закрыл свою мастерскую, и я, оставшись без работы, вынужден был вернуться в родное село. В отцовской хате застал постояльца, высокого мускулистого человека в потрепанной брезентовой куртке. Звали его Крупа. Австриец по национальности, Франц Крупа, как потом я узнал, долго блуждал по Польше и Волыни, ведя бродячую жизнь. В наших местах у него не было ни семьи, ни друзей. Лишь хозяева придорожных кабачков всегда радовались его приходу. Знали, пан Крупа не оставит кабак, пока не опорожнит содержимое своих карманов до последнего гроша. Таким его знали и на строительстве казарм.
Спал он у нас в пристройке, на сеновале. Я иногда тоже забирался на сеновал: выносил из хаты одеяло, расстилал на пахучей траве по соседству с Крупой. И тогда постоялец вступал со мной в продолжительные беседы. Говорил, правда, больше он, а я молча слушал. Он, казалось, ненавидел всех и вся. С ненавистью говорил о польских офицерах, присматривавших за строительством казарм, о жандармах, рыскавших по пограничным селам; крыл на чем свет стоит Пилсудского и установленные им порядки; материл австрийское правительство, особенно австрийских социал-демократов, уверяя, что хорошо их знает, так как раньше был связан с ними «на идейной почве». Но больше всего от него доставалось Гитлеру, только что пришедшему тогда к власти в Германии. Крупа сыпал на его голову тысячи проклятий. Размахивая в темноте газетой, мрачно цедил сквозь зубы, что «паршивый Шикльгрубер»[7] в конце концов проглотит Австрию, заграбастает Чехословакию и Польшу.
— Немецкие промышленные и финансовые тузы не настолько глупы, чтобы позволить фюреру управлять страной, не убедившись вначале в том, какие выгоды принесет им нацизм, — убеждал он меня. — Лишь отпетые дураки, вроде австрийских социал-демократов, которые только и делают, что митингуют, не хотят понять, чем все это кончится для Австрии...
Сбиваясь, перескакивая с события на событие, Крупа рассказывал мне о каких-то политических кружках в Вене, а иногда с пьяным упорством учил меня петь по-немецки «Интернационал». Не раз вспоминал он старых знакомых, земляков, с которыми будто бы состоял в одной социал-демократической группе в Эйзенштадте.
Кто он на самом деле? Каково его прошлое? Почему он очутился в Польше? Сколько я ни старался, найти ответ на эти вопросы не мог. Трудно было, понять, когда он говорил правду, а когда беззастенчиво врал. Правда и ложь постоянно соседствовали в его размягченном от водки мозгу.
Крупа жил у нас месяцев восемь, потом поругался с десятником, бросил работу и куда-то исчез.
Через несколько лет я попал в ровенскую тюрьму. Там сидели еще несколько коммунистов. Отгороженные от мира толстыми каменными стенами, мы поддерживали между собой связь. Перестукивались, тайком передавали друг другу новости, договаривались, как вести себя на допросах, предупреждали о подосланных в камеру шпиках и провокаторах. Если менялось тюремное начальство, мы узнавали об этом раньше, чем новый полицейский чиновник прибывал к месту назначения. Появлялась новая партия арестованных, «тюремный телеграф» тотчас же извещал: что за люди, откуда, за что арестованы. Когда кого-нибудь из политических тайком бросали в карцер, коммунисты, условившись, в один день и час заявляли тюремному начальству протест, объявляли голодовку.
Одни события, нарушавшие монотонность тюремных будней, радовали, другие — омрачали. Многое тут же забывалось, многое надолго оставалось в памяти.
Однажды на рассвете, когда тюрьма еще спала, во дворе внезапно прогремели выстрелы. По коридору забегала охрана.
Мы стали выяснять, что произошло. Несколько дней подряд, почти не переставая, работал наш «тюремный телеграф». Постепенно выяснилось: из тюрьмы удрал агент немецкой разведки, арестованный «двуйкой» за сбор сведений о дислокации польских дивизий.
Вначале мы отнеслись к этой истории равнодушно. В конце концов ничего необычного не случилось: фашистская Германия опутывала сетью своей тайной агентуры всю Восточную Европу, и Польша не была исключением. Удивляло другое — самый факт удачного побега. Мы знали, бежать из ровенской тюрьмы не так-то просто.
Впоследствии и эта загадка была разгадана. Оказалось, что побег немецкого агента был инсценирован. Узнали мы и о том, что агент абвера был схвачен на Варшавском аэродроме во время передачи секретных сведений пилоту немецкого рейсового самолета, курсировавшего на трассе Берлин — Варшава.
Арестованный поляками немецкий шпион не отпирался. На допросе он выдал двух гитлеровских разведчиков, в том числе немку, преподавательницу гимназии в небольшом местечке вблизи Кракова. Для меня самым неожиданным во всей этой истории оказалось то, что шпиона звали... Францем Крупой.
4
Давние события всплыли в мозгу во всех подробностях, как только я увидел австрийца в роли коменданта украинской полиции города Ровно. Он долго смотрел на меня выцветшими водянистыми глазами, и на его лице появилось что-то похожее на улыбку сочувствия.
Почти подсознательно я воспринял эту осторожную, скрытую улыбку как зацепку к спасению. Стал лихорадочно сопоставлять факты, события, происшедшие восемь лет назад, восстанавливать в памяти каждый известный мне поступок австрийца, весь комплекс его странного, противоречивого поведения в Гоще. Должно быть, вовсе не случайно этот пьяница и развратник очутился тогда, в тридцать третьем году, на строительстве польских военных казарм. Болтал о политике, паясничал, юродствовал. Могут ли быть у такого, как Крупа, идейные убеждения? Вряд ли!.. И как бы сама собой возникла мысль: «Попробую воспользоваться единственной возможностью. Другого пути уже нет».
— Мне только сегодня доложили, что ты здесь, — сказал Крупа и с наигранным возмущением повернулся к рябому: — Когда я, наконец, приучу тебя немедленно докладывать о каждом арестованном, как только он попадает к нам?!.
Тот виновато заморгал. Вротновский и Жовтуцкий стояли тут же, в кабинете Крупы, готовые мигом, по первому сигналу хозяина, как выдрессированные псы, накинуться на жертву. Видя, что комендант полиции спокойно разговаривает со мной, даже улыбается, оба они смущенно топтались у двери, бросая на меня удивленные взгляды.
Крупа небрежно полистал бумаги в лежавшей на столе папке, брезгливо скривил губы:
— Молодость играет в политику!.. Ветер в голове и дурость, а за это приходится расплачиваться. Не так ли? Вы свободны, можете идти, — кивнул он полицаям.
Когда те, переглянувшись, исчезли за дверью, Крупа пригласил меня сесть, вполголоса спросил:
— Немцы перехватили или сам остался, не захотел с большевиками уезжать?
— Сам остался. В Гощу шел, домой.
— В Гощу?.. Да, да, помню, ты ведь родом из Гощи. Я там работал на строительстве казарм, подносил кирпич, пилил доски, жил в доме твоих родителей. Подожди, когда это было?..
— В тридцать третьем, — подсказал я. — Как раз в том году, когда в Германии власть захватили фашисты. Помнится, в то время один мой знакомый не очень любезно отзывался о Гитлере и его окружении. Не так ли? Но потом, вероятно, перестроился, оказался более предусмотрительным?..
Крупа пристально посмотрел мне в глаза, поднял вверх палец, словно хотел погрозить, и засмеялся:
— Вот оно что!.. Не забыл, значит! И думаешь, Крупа боится, как бы немцы не разузнали о моей тогдашней болтовне? Ха-ха!.. А знаешь ли ты, что стоит мне шевельнуть пальцем, как ты превратишься в тлен, в пепел, и никто даже твоей могилы не отыщет, майн либер? — Он положил покрытую рыжими волосами пятерню на картонную папку. — Тут материал о твоей партийной деятельности. Его любезно предоставили мне твои соотечественники, украинские националисты. Сам я не особенно верю, чтобы нормальный человек мог сейчас думать о борьбе с силами рейха. Но для того чтобы признать тебя виновным и расстрелять, достаточно одной лишь бумажки из этой папки...
— Что ж, всадить пулю мне в голову ты можешь и сейчас. Или даже проще — кликни тех троих, которые только что вышли, они охотно переломают мне ребра. Но давай сначала поговорим откровенно, Крупа, не горячась, с глазу на глаз, — сказал я. — Восемь лет назад в Гоще ты неплохо прикидывался вольнодумцем, сыпал проклятия на голову Гитлера, вспоминал о каких-то тайных кружках в городе Эйзенштадте. Я знаю, этим тебя не запугаешь. У тебя нет особой необходимости скрывать от немцев, даже от гестапо, свои прежние взгляды, потому что они не больше как пьяная болтовня, как миф. Так мне, по крайней мере, кажется. Иное дело аэродром под Варшавой. Арестованный там агент немецкой разведки ценой жизни своих коллег выторговал себе прощение и с тех пор, наплевав на немцев, активно работал на поляков, на «двуйку»... Вот об этих фактах из твоей биографии немцы, наверное, ничего не знают? И вдруг им станет что-то известно...
Нас разделял письменный стол. Через него мы в упор смотрели друг на друга. Глаза Крупы застыли, налились кровью. Его лицо вдруг посерело, губы покрылись синим налетом, как у мертвеца. Несколько минут он смотрел на меня молча. Потом заговорил — зло, раздраженно, почти истерично:
— На хуторе близ Дубравы ты выдавал себя за связного оуновцев... Теперь ты... ты хочешь взять меня на пушку? Кто ты такой? К чему все это вранье?..
— Нет, Крупа, это не вранье, — ответил я спокойно. — Могу назвать день и час, когда «двуйка» устроила тебе «побег» из тюрьмы. Могу напомнить о судьбе немки, преподавательницы гимназии из-под Кракова. Поляки расстреляли ее...
Дрожащей рукой Крупа потянулся к ящику стола. Я следил за каждым его движением.
— Хочешь с помощью пистолета спрятать концы в воду? — насмешливо, и в то же время едва сдерживая себя, продолжал я. — А что, если гестапо все-таки узнает об измене бывшего агента немецкой разведки Франца Крупы?..
— Чтобы попасть в гестапо, надо сначала выйти из этого кабинета, — с нескрываемой угрозой проворчал Крупа и медленно встал из-за стола.
Я тоже поднялся и, опершись одной рукой о стол, с вызовом произнес:
— Не спеши, господин комендант. Я еще не ответил на твои вопросы. Ты спрашиваешь, кто я такой? Раскрой папку, там, вероятно, сказано, что за революционную деятельность я осужден в общей сложности на тридцать один год заключения. Это о чем-нибудь говорит? Я знаю то, чего не знают твои теперешние хозяева. Да, когда-то я был коммунистом. Теперь я — человек, который не желает умирать. Меня сейчас не интересует ни политика, ни немцы, ни националисты, ни господь бог, ни дьявол. Я махнул на все рукой, однако о старом помню хорошо. И буду защищаться, буду драться за свою жизнь. Идти в гестапо мне нет необходимости. У меня есть старые друзья. Им известно, что я попал в ваши руки. И они так же, как и я, кое-что знают о прошлом бывшего агента немецкой разведки Франца Крупы. Пусть я не выйду живым из этого кабинета, но это не спасет тебя. Теперь ты понял, кто я такой, господин комендант?
Крупа с минуту помолчал, потом снова сел за стол, отложил в сторону папку с бумагами, примирительно сказал:
— Та-ак... Выходит, обменялись комплиментами. Ну допустим, я открою перед тобой дверь — убирайся, мол, на все четыре стороны. А дальше?
Я пожал плечами:
— Буду молчать, вот и все. И мои друзья тоже. Что было, то прошло. В конце концов мне абсолютно безразлично, изменял ли Крупа немцам, выдавал ли их агентов полякам. Меня это нисколько не волнует. Я напомнил тебе о прошлом только потому, что не вижу иного выхода выпутаться из этой истории. Каждый борется за жизнь, как может. У меня лишь одно желание: чтобы никто меня не трогал.
— Оказывается, ты большой проныра. Даже не верится, что это ты. — Крупа криво ухмыльнулся. — Что ж, давай разойдемся каждый своим путем. Но берегись. Если националисты прихлопнут тебя выстрелом из-за угла, за это, извини, я не отвечаю.
— Прихлопнут или не прихлопнут, это будет видно. Но скажу откровенно: если погибну я от чьей бы то ни было пули — немецкой или оуновской, — легче тебе не станет. Моя смерть — и твой конец. Прошу иметь это в виду.
Австриец засопел, достал из-под стола бутылку спирта, налил почти полный стакан, выпил, понюхал хлебную корку, подвинул бутылку ко мне:
— Выпей, отведи душу... Провались оно все на свете!
— Не хочу.
— Как знаешь, — он опять потянулся к стакану. — А что касается оуновцев, то я не шучу. Они настаивают, чтобы мы занялись тобой всерьез... Взбрело им, идиотам, в голову, что они здесь хозяева. — Крупа подморгнул мне водянистым глазом. — Но стоит мне сказать слово, и любой из них окажется на виселице. Я тут хозяин — и бог и судья. Немцы верят мне, а не им... Тут, в папке, есть документы: при Советах ты был коммунистом... А я плевать хотел и на папку и на то, кто ты есть на самом деле. — Крупа заметно пьянел, лицо его все сильнее наливалось кровью. — Я хочу пожить в свое удовольствие, чтобы была водка, были женщины... А голодранцы из ОУН — сволота. Они готовы мне руки целовать... Они хотят тебя прикончить, а я выпущу. И никто из них не пикнет. Пусть только попробуют, заткну глотку! — И Крупа как сумасшедший забарабанил кулаком по столу.
На пороге появился Вротновский. Написав что-то на листке бумаги, комендант вручил листок полицаю. Тот щелкнул каблуками и вмиг скрылся за дверью.
— Устройся где-нибудь... Здесь, в Ровно... Я должен знать, что ты будешь делать, — снова обращаясь ко мне, пьяно бормотал Крупа. — Пока я буду сидеть в этом кресле, тебя не тронут... С Крупой, если по-хорошему, с умом, то не пропадешь... Будь уверен...
Он еще долго и бессвязно продолжал говорить, но я уже не слушал. Желание как можно скорее вырваться из тюрьмы, полной грудью вдохнуть свежий воздух, увидеть небо, людей, обрести свободу настолько вдруг захватило меня, что вопреки здравому смыслу я, казалось, готов был сейчас же стремглав броситься за дверь. Неимоверно трудно было сохранить спокойствие, сидеть с каменным выражением лица и нечеловеческим напряжением воли сдерживать дрожь в теле. «Скорее, что он тянет?.. Почему не скажет: ты свободен? Ведь только что подписал пропуск».
Крупа, конечно, не подозревал, что привело меня в оккупированный город. В его глазах я был лишь человеком, которому каким-то образом удалось узнать о его измене немцам в прошлом, что сам он старательно скрывал годами. Я напомнил ему о сокровенной тайне, использовал ее в своих интересах.
Что ж, против этого Крупа не возражал. Он привык мерить поступки других на свой аршин и считал закономерным, если кто-нибудь проявлял ловкость, оказывался сильнее, прижимал его к стене, требовал от него выкуп. Все зависело от размера выкупа. В данном случае он был таким, что, собственно, ничего не стоил Крупе и в то же время ограждал его от возможных неприятностей. Так я представлял себе ход мыслей коменданта ровенской полиции. И думаю, что не ошибался.
На столе зазвонил телефон. Комендант снял трубку. Послушал, хищно повел сизым носом.
— Ну, ну... Какой еще поп?.. Хорошо, разберусь без вас... Что? Идите-ка вы со своими советами знаете куда...
Трубка с треском упала на рычаг. Но я увидел, что этот короткий разговор встревожил Крупу. Австриец растерялся.
— Да-а, черт возьми, дела, — протянул он. — Звонили из окружного провода ОУН. Они хотят судить тебя за измену нации. Говорят, что в сороковом году ты арестовал в селе Синев какого-то попа, а тот поп был районным верховодом ОУН, да к тому же оказался родственником одного из нынешних деятелей...
Я покачал головой:
— Впервые слышу об этом.
— Правду говоришь?.. Тем лучше... — Крупа минуту что-то обдумывал, морща лоб. — Но все равно они не успокоятся. Настрочат немцам донос, те начнут копать...
Давай договоримся: потерпи тут еще день-два, а я тем временем кое-что подготовлю, переговорю с кем следует, и ты отправишься домой... Это для того, чтобы потом на тебя не вешали собак... А насчет случая на Варшавском аэродроме — молчок, иначе... — Он выразительно кивнул на ящик стола, где, как я догадывался, лежал пистолет.
* * *
И вот опять тюремная камера.
На следующий день меня снова привели к Крупе. Мы остались в кабинете вдвоем. Он сообщил, что история с попом выяснилась. Действительно, за год до войны в селе Синев был раскрыт террорист-националист, маскировавшийся поповской рясой. Во время обыска в его погребе нашли несколько винтовок, ящик с патронами, радиопередатчик и пачку фальшивых денег. Но, стремясь пополнить мое досье новыми материалами, националисты перестарались. К аресту попа я не имел никакого отношения. Он был арестован работником НКВД, моим однофамильцем.
— Теперь все в порядке, — сказал Крупа, — пусть они...
В этот момент в кабинет постучали. В приоткрывшуюся дверь заглянул дежурный полицай и испуганно доложил:
— Пан комендант, машина у подъезда. Вас вызывает пан майор!
Крупа быстро выскочил из-за стола, на ходу сказал, чтобы я ждал его в кабинете, и выбежал в коридор. Оставшись один, я рассеянно оглядывал грязную, прокуренную комнату, не понимая, что вынудило Крупу так поспешно покинуть кабинет.
Прошло больше часа. Австриец не возвращался. Длительное отсутствие коменданта сбивало с толку не только меня. Дежурный полицай несколько раз приоткрывал дверь, нерешительно чесал затылок и, убедившись, что я спокойно продолжаю сидеть на стуле, удалялся. Только с наступлением темноты полицай наконец решился выпроводить меня из кабинета своего шефа. Впервые я мысленно усмехнулся, заметив его растерянность.
Однако из тюрьмы я не вышел ни на второй, ни на третий день. Крупа не давал о себе знать, будто провалился сквозь землю.
За мной пришли лишь неделю спустя. Поздно вечером в камеру ввалился Костецкий в сопровождении нескольких полицаев. Меня вывели за тюремные ворота. Полицаи взяли винтовки наперевес. Высоко в вечернем небе мрачно перемигивались тысячи звезд.
5
Владимир Роботницкий появился на Ровенщине в первые дни фашистской оккупации. Прибыв сюда с обозом тылового батальона гитлеровцев, он первым делом заглянул в отцовское имение под Клеванью, постоял у ворот, демонстративно вытер слезу на землистом лице и в сопровождении десятка вооруженных до зубов телохранителей помчался в Ровно.
Главарь банд ОУН Степан Бандера наделил его «особыми полномочиями», и Роботницкий немедленно приступил к делу. В Ровно и окружающих селах ревностными усилиями «особого уполномоченного ОУН» были созданы кровавые застенки. Бесследно исчезали сотни людей.
Но Роботницкому, ставшему шефом так называемой «украинской полиции» на Волыни, поначалу не повезло. То ли с перепоя, то ли по какой другой причине он заболел. И все же, прикованный к постели, продолжал выполнять директивы центрального провода ОУН через своих дружков из СБ («служба безопасности»). Одна из таких директив предусматривала полное очищение Волыни от «врагов украинской нации». Русских, поляков, евреев расстреливали в ярах, лесах и возле наспех вырытых могил на берегах тихой Горыни. Подозрительными украинцами занимались специальные суды, образованные из бывших кулаков и петлюровцев, прибывших с обозами вражеских войск из Германии.
Такие суды заседали днем и ночью, в спешном порядке рассматривая сотни дел по обвинению в измене нации. Приговоры были почти всегда одинаковыми — смерть. Рекой лилась кровь патриотов. В каменных подвалах украинской полиции и в других застенках непрерывно гремели выстрелы...
Когда Костецкий и возглавляемая им банда полицаев-националистов вывели меня поздно вечером за ворота тюрьмы, я еще не знал, что предстану перед бандеровским судом. Долго пришлось шагать по тихим, словно вымершим улицам города. Резиденция заправил окружного провода ОУН, куда меня вели, помещалась в здании немецкой комендатуры, рядом с православным собором, почти в противоположном от тюрьмы конце Ровно.
Меня втолкнули в просторную комнату, полы которой были застланы коврами. У большого стола, развалившись в мягких креслах и дымя сигарами, сидели «судьи». Их было не меньше десятка. У некоторых на лацканах пиджаков из грубошерстного сукна тускло поблескивали значки-трезубцы. Дым сигар будто туманом обволакивал хрусталь дорогой люстры.
Вся эта свора до моего прихода, видно, вела оживленный разговор, но, когда я вошел, в комнате вдруг наступила тишина. Стало слышно, как тикали часы. Все сидевшие у стола словно по команде повернули головы в мою сторону. Братьев Александра и Якова Бусел я узнал сразу. С этими клеванскими «вождями» националистов мне не раз приходилось сталкиваться еще до тридцать девятого года. Других, кроме Огибовского и вошедшего вслед за мной Костецкого, прежде видеть не доводилось. Но по накрахмаленным манишкам, костюмам немецкого покроя, темно-серым галстукам из эрзац-шелка нетрудно было догадаться, из каких краев слетелись в Ровно эти молодчики.
Мне указали на стул, стоящий в центре комнаты. В дверях, положив руки на кобуры пистолетов, встали Огибовский и Костецкий. Младший Бусел, Яков, сжал бесцветные тонкие губы, медленно поднялся, раскрыл папку, которую я уже видел в кабинете Крупы.
— Панове! — Бусел в театральном жесте поднял руку. — Панове! — повторил он. — Мне не хватает слов, чтобы высказать все, что я думаю о человеке, который сидит здесь, перед вами... Это не москаль, не поляк, не иудей. Он родился в селе Гоща, ему двадцать девять лет, родители его крестьяне-украинцы. Род от деда-прадеда врастал корнями в нашу родную землю. Как же служил этой земле, нашему народу Терентий Новак? Продавшись московской коммунии, он связался с большевиками, обратил в коммунистическую веру немало нашей молодежи. Его многолетняя преступная деятельность на Волыни нанесла большой вред нашим светлым национальным идеям. Панове! В этих документах отражен весь коварный путь предателя украинской нации. Они, эти документы, являются обвинительным актом, который выносится на рассмотрение многоуважаемого суда. Прошу слушать внимательно.
Он стал читать одну бумагу за другой.
Не знаю, сколько времени потребовалось им на сбор этих бумаг, но моя биография была изложена в них довольно обстоятельно. Упоминалось там о многом: и о моем участии в работе комсомольских ячеек на Волыни в тридцатых годах, и о партийной работе в городах и селах, и о том, что в тридцать девятом году я был избран депутатом Народного Собрания Западной Украины во Львове, проголосовавшего за воссоединение Западной Украины с Украиной Советской, и о том, чем занимался я перед войной...
Верховоды оуновского провода знали обо мне многое, однако далеко не все. Были обстоятельства, в которых они не могли толком разобраться.
Судя по материалам досье, они считали, что последние годы я находился вне партии. Убедила их в этом такая деталь: оформляя мне документы накануне ухода во вражеский тыл, житомирские товарищи написали в соответствующей графе моего военного билета «беспартийный».
«Но теперь-то это, пожалуй, не имеет значения, — с грустью подумал я. — Приговор у них, вероятно, приготовлен заранее».
Бусел отложил в сторону бумаги, уперся ладонями в стол.
— Как видите, панове, подсудимый Новак заслуживает самой суровой кары. Таково мое мнение. Думаю, меня поддержат все присутствующие, — закончил он и спросил, посмотрев на меня исподлобья:
— Вы, подсудимый, желаете что-либо сказать в последнем слове?
«Что говорить, зачем?.. Какая польза от моих слов, если о них никто не узнает за стенами этой комнаты?»
Но нельзя и молчать. Эта свора бандитов может расценить молчание как страх перед ними, как покорное безразличие обреченного, морально раздавленного человека. Нет, я, коммунист, не мог доставить им такого удовольствия. В груди поднималось, закипало неудержимое желание бросить в лицо самозваным «судьям» все, что я о них думал, высказать всю свою ненависть и презрение к ним.
— Да, скажу, — устало кивнул я.
— Говорите, только правду, как на исповеди.
Я встал, окинул взглядом присутствовавших. Оуновцы застыли в напряженном ожидании.
В этот момент сбоку скрипнула дверь, и в комнату вошел... Крупа. Он молча сел на свободное кресло, уставившись тяжелым взглядом на Якова Бусел.
Появись австриец на несколько минут позже, спасения уже не было бы. Я готов был заговорить, и это были бы последние в моей жизни слова. С приходом Крупы ход мыслей мигом изменился. Неполная осведомленность оуновцев, запись в военном билете, сведения о прошлом Крупы — все вдруг приобрело иной смысл, стало весомым.
Как поступить? Умирая, плюнуть в глаза врагам, — это тоже честная смерть. Но плевок — не выстрел, не взрыв гранаты. Такую смерть нельзя оправдать, если есть надежда, пусть самая небольшая, на то, чтобы продолжать борьбу. Моя жизнь принадлежит не только мне. Там, за линией фронта, надеялись, что их посланец в тылу врага выполнит задание партии, оправдает ее высокое доверие, сделает в городе все, чтобы поднять советских людей на беспощадную борьбу с оккупантами. «Ты вот попробуй выжить. Это, брат, в нашем положении намного труднее», — неожиданно вспомнил я слова седоголового пленного.
На какой-то миг все тело сковала смертельная усталость. Но только на миг. Секунда, другая, третья, и я чувствую вспышку ясных, как никогда, мыслей. Изображаю на лице удивление, поворачиваюсь к Якову Бусел.
— Вы объявили, господин Бусел, что судите меня за измену своей нации, своему народу. Я не понимаю, что послужило мотивом для такого тяжелого обвинения? Я, как вам известно, беспартийный, от политических дел давно отошел. Не буду объяснять, как и почему это случилось. Вы все знаете сами, располагаете достаточными сведениями о моей жизни. Не собираюсь оправдываться, не таю, что во времена, когда мою землю топтали польские богатеи, я был членом Коммунистической партии, боролся против польских угнетателей. Вступил в партию сознательно, по собственному убеждению, поскольку коммунисты в Западной Украине отстаивали интересы таких бедняков, как я, как мой отец, как другие простые люди. Не встречал я в своих краях другой политической партии, которая бы звала народ на борьбу против чужеземного гнета и выдвигала лозунг национального и социального освобождения Украины..
Сделав небольшую паузу, я продолжал:
— Вы, господа, обвиняете меня в преступлениях против своего народа. Какие же это преступления? На руках моих нет крови, я не призывал украинскую молодежь ни грабить, ни чинить разбой, ни убивать из-за угла. Для вас не секрет, господа, что коммунисты не терпят в своей среде индивидуального террора, анархии, своеволия... Я готов хоть сейчас за все ответить перед своим народом, мне нечего бояться его. Я всегда делил с ним горе и радость. В трудные времена народ прятал меня, давал мне пристанище, и я никогда не слышал от простых людей ни одного слова осуждения в свой адрес.
Вы удивлены, что сейчас, когда идет война, я оказался в Ровно. Так скажите, где же мне иначе быть? Вдумайтесь, господа, в то, о чем говорил здесь пан Бусел. Из зачитанных им документов видно, что я никогда не покидал родного края, где родился и вырос. Всю свою жизнь я прожил среди тех, с кем прошли мое детство, моя юность, и прятаться мне не от кого.
Вы предъявляете мне в качестве обвинения мое участие в работе Народного Собрания во Львове! А разве это преступление? Меня избрали в Народное Собрание ровенчане, мои земляки. Они, как и я, радовались тому, что Западная Украина слилась с великой Украиной и стала наконец неотъемлемой частью единой Украинской державы. Вам всем известно, что украинский народ, каждый патриот-украинец с удовлетворением воспринял весть об объединении родных земель. Да, признаюсь, я голосовал за воссоединение. Вы все время твердите о соборной Украине, но у вас...
— Идея соборной Украины не имеет ничего общего с большевистскими Советами. Позор! Он или не понимает самого простого, или издевается над нами! — вскочив с места, в ярости затряс кулаками над головой седой, сгорбленный бандеровец, до того молча сидевший рядом с Александром Бусел.
— Он все понимает, будьте уверены! — крикнул кто-то в ответ.
— Его одурманили коммунисты!
— Вы наивны, пане Александр, я удивляюсь...
В комнате поднялся невообразимый шум.
Яков Бусел, насупившись, постучал карандашом по графину и строго сказал:
— Господин Волошин, господин Заборовец! Сохраняйте спокойствие! Подсудимый, — обратился он ко мне, — вы уклоняетесь... Объясните свое поведение в прошлом более четко.
Опять наступила тишина.
— Я не могу понять, господин Бусел, в чем вы усматриваете порочность моего поведения в прошлом, — медленно продолжал я. — Здесь присутствует ваш старший брат Александр Бусел. Надеюсь, он помнит те дни, когда мы в одно и то же время были брошены польской полицией в ровенскую тюрьму. Мне, правда, неизвестно, за что попал за решетку Александр Бусел. Меня же полиция заточила в тюрьму за агитацию против правительства Пилсудского, которое издало приказ о проведении в украинских селах массовых экзекуций. Если вы считаете, что такая агитация шла во вред украинскому народу, в таком случае мы по-разному понимаем политическую деятельность. Мне хочется напомнить Александру Бусел и о другом, пусть он не воспримет это как обиду. Итак, коммунист очутился в одной тюрьме с националистом. Я, кого вы называете врагом украинской нации, в знак протеста демонстративно отказался отвечать на вопросы, задаваемые следователем на польском языке. Во время суда тоже игнорировал приказ говорить только по-польски. За это меня избирали, лишили передач, свиданий с родными, посадили на хлеб и воду. Однажды мы оказались вместе с националистом господином Александром Бусел в кабинете начальника тюрьмы Хмелевца. Меня привели туда на очередной допрос. Помните этот случай, господин Бусел-старший? При вас Хмелевец бил меня резиновой палкой и орал, что заставит навсегда забыть «хлопскую мову». Я плюнул Хмелевцу в лицо и заявил, что он оккупант и никто не звал его на украинскую землю. За эти слова меня бросили в карцер, приковали цепью к стене и жгли огнем ступни ног. А вы, Александр Бусел, будем откровенны, вели себя более чем странно. Разговаривали только по-польски, боялись разгневать Хмелевца. Вас тюремщики ставили в пример всем политическим заключенным. Было такое или нет?
Наступила пауза. Сидевший в углу Крупа, оскалившись в улыбке, переспросил:
— Так было такое или нет, господин... как вас?..
Бусел-старший поднялся с кресла и снова сел, растерянно бормоча:
— Что касается польского языка, подсудимый кое-что преувеличивает, но... не возражаю... уровень моей культуры позволял... Я не видел ничего плохого... Что же касается подсудимого, господа, хочу быть объективным. Человек проглотил немалую дозу большевистской отравы, однако наша обязанность... мы должны не только карать. Наша обязанность — обращать братьев по нации на путь праведных идей... Украинский национализм раскроет ему глаза, он поймет свою ошибку и еще послужит матери-Украине...
Яков Бусел со злостью посмотрел на брата, потом, повернувшись ко мне, спросил:
— В случае прощения готовы ли вы, пане Новак, смыть измену добросовестным сотрудничеством с ОУН?
Я отрицательно покачал головой:
— Буду последовательным, панове, до конца. Мне надоела политика, я разочаровался в ней, устал духовно и физически, мечтаю лишь о покое. С меня хватит.
По комнате пронесся угрожающий гул. Крупа встал.
— Закругляйтесь, господа, — сказал он. — Пора кончать. У меня нет времени слушать вашу болтовню.
— Господин Крупа! — вскочил Яков Бусел. — Идет суд ОУН, и я осмелюсь напомнить, что ваша нетактичность вынудит нас...
— А мне ваш суд вот до этого места! — Австриец выразительно похлопал себя ниже спины. Глаза его округлились, потемнели. — Если будет надо, мы расстреляем его и без вашего суда, а нет — вас спрашивать тоже не станем. Ясно? И запомните — плевал я на ваши угрозы.
Пошатываясь, Крупа тяжелой походкой шел между креслами, расталкивая коленями побледневших оуновцев. Его рука медленно опускалась на кобуру пистолета.
* * *
В кабинете Крупы, куда меня под конвоем привели из суда, нестерпимо воняло самогонным перегаром. Обрюзгшее лицо коменданта полиции, казалось, вот-вот брызнет кровью. Он был пьян, но слова выговаривал четко, связно, натужно морща после каждой фразы лоб.
— Теперь они затанцуют. Там им подкинут жару под хвост. — Крупа махнул куда-то в сторону окна, жадно глотнул воды из графина. — Я не спешил с твоим освобождением. Надо было переждать. А ты видел, как напустили в штаны господа националисты? — И он пьяно захохотал. — Говорил же я тебе, с Крупой, если по-хорошему, не пропадешь. Как видишь, я своему слову хозяин. Надеюсь, ты тоже не будешь распускать язык?
Я смотрел на Крупу, как смотрят на безумцев. Меньше всего меня волновали взаимоотношения коменданта полиции с проводом ОУН. Главное — удастся ли вырваться из тюрьмы прежде, чем в гестапо станет известно, что пьяный австриец оскорбил «судей»-националистов? Заметив, что я с тревогой поглядываю на дверь, Крупа вытащил из кармана какую-то бумажку.
— На, читай, — сунул он ее мне. — По-немецки понимаешь? — Это распоряжение начальника ровенского гестапо. Кое-кто из тех, что судили тебя, арестованы. Не ломай напрасно голову. Здесь большой политикой и не пахнет. Все ясно как божий день. Бандеровцы вырезали десятка три еврейских семей, на выбор — бывших хозяев лавок и ювелирных магазинов. Ну а ценности — золото, часы, браслеты, кольца — забрали себе. У немцев так не заведено, чтобы кто-то, кроме них самих, снимал пенки. Гестапо дозналось об украденных ценностях. Вот их и вытянут теперь у бандеровцев вместе с жилами, будь уверен! Гестапо в таких случаях не церемонится. Оуновцам сейчас не до тебя. А этим бывшим студентам я сам заткну глотки.
— Откровенно говоря, я полагал, что цена оуновцам на немецком рынке несколько выше.
— Ну-ну, ты не очень... Расфилософствовался. — Крупа взглянул в сторону двери, насупил брови.
— Хорошо, молчу, — сказал я.
Крупа отвернулся. Потом нетвердо прошелся по комнате, через плечо бросил:
— Вот что, Новак... Убирайся ты отсюда ко всем чертям и избавь меня от лишних забот! Уходи, устраивайся и держи язык за зубами.
Глядя куда-то в сторону, он протянул мне пропуск.
Через несколько минут я уже стоял на улице. По тротуарам прохаживались гитлеровские солдаты и офицеры. Группа полицаев, выйдя строем из ворот тюрьмы, надрывно горланила песню, слова которой в переводе на русский язык звучали примерно так:
Уничтожим кроваво
Москву и Варшаву,
Гей!..
На заборах и стенах пестрели плакаты с портретами Гитлера. Вдали, над крышей уцелевшего особняка, трепыхался фашистский флаг со свастикой.
Впереди меня ждала неизвестность.
Домик на окраине
1
Мой старый знакомый Василь Ворон жил до войны на Школьной улице. Встретить его самого в оккупированном городе я не надеялся: он в первый же день войны ушел на фронт. А вот его бабушка Ксения Петровна, сухонькая, живая старушка, лет шестидесяти пяти, наверно, дома.
Я хорошо знал Ксению Петровну. В свое время мы, друзья Василя, охотно и часто посещали тихую квартиру на Школьной улице, наполненную запахом матиол, цветущих прямо под окнами.
Бабушка Ксения, повязанная белым платком, в чистом ситцевом переднике, всегда приветливо встречала приятелей внука, угощала огурцами со своего небольшого огорода, сладкими душистыми наливками, изготовленными по какому-то ей одной известному «херсонскому» способу. Летними тихими вечерами, когда мы коротали время в палисаднике, она иногда выносила из дома низенький стульчик, садилась рядом с нами и удивительно приятным голосом запевала: «Ой, не ходы, Грыцю, та й на вечорныци...» Потом рассказывала о прошлом, вспоминала молодые годы. А вспомнить и рассказать ей было о чем. В годы гражданской войны в переполненной иностранными солдатами Одессе она распространяла большевистские листовки. На Пересыпи прятала ревкомовцев. Знала Жанну Лябурб. Встречалась с Григорием Ивановичем Котовским...
Покружив с час по городу, я свернул на Школьную улицу и вскоре был уже возле знакомого дома с палисадником.
Бабушка Ксения, увидев меня, прижала руку к сердцу, что-то быстро-быстро зашептала старческими губами, суетливо забегала по комнате. Ни о чем не расспрашивая, достала из сундука чистое полотенце, нагрела воды, поставила на стол миску с горячим картофелем.
Пока я умывался, она, вытирая передником слезы, горестно приговаривала:
— Ой, сынку, сынку! Как ты исхудал, сердешный. Боже ж мой, только кожа да кости... Может, и мой Василь где-то так же вот...
В комнате мало что изменилось с тех пор, как был я здесь последний раз незадолго до войны. По-прежнему пестрела разноцветными корешками книг простенькая, сплетенная из тонкой лозы этажерка. «Анна Каренина» Толстого, «Поднятая целина» Шолохова, томик стихов Сосюры... На стене в рамке — позолоченный квадрат школьной похвальной грамоты Василя, на вешалке — его серый пиджак со значком ГТО на лацкане, рядом — аккуратно приколотая к стене, уже выцветшая под солнцем газета «Правда» с портретом шахтера в брезентовой куртке на первой странице... Все напоминало о наших прежних встречах и бывших светлых радостях, а в голосе бабушки Ксении было столько горя и печали...
— Дома-то довелось побывать, сынку? — спросила Ксения Петровна.
— Нет, бабушка, еще не был.
— А ты зайди, сынку, обязательно зайди, успокой родителей, пусть узнают, увидят, что жив...
Я пытался завести разговор о прежних друзьях Василя, выяснить, не остался ли кто из них в городе, но Ксения Петровна ничего не знала. Только, провожая меня, сказала:
— Ты, сынку, не стесняйся, заходи ко мне, может, узнаю что.
* * *
Спустя несколько дней мне довелось побывать в Гоще. В село пришел я под вечер, осторожно, огородами пробрался к своей хате. Дома меня ждала тяжелая весть: неделю назад гитлеровцы расстреляли в Корце Елену, жену моего брата Тихона, любимицу всей нашей семьи.
Родом из Варшавы, Елена была женщиной красивой, смелой, решительной, умной. Еще в первые дни войны, когда над Гощей стали появляться вражеские самолеты и пронесся слух, что где-то поблизости немцы выбросили парашютный десант, Елена сразу вступила в истребительный отряд. Вооружившись наганом, она вместе с группой односельчан принимала участие в прочесывании хлебов и глухих степных балок. Однажды привела в село двух переодетых парашютистов-диверсантов.
Эвакуироваться она не успела. Пришлось прятаться от гитлеровцев в селе. Односельчане всячески помогали ей, и все же полицаи выследили Елену, схватили, выдали гестапо...
Тихон был на фронте и не знал, что нет уже в живых его красавицы Елены.
Моя младшая сестра Мария выехала на Восток. Во времена панской Польши за участие в комсомольском подполье она была осуждена на семь лет заключения. Вышла из тюрьмы в тридцать девятом году, в день освобождения Волыни Красной Армией. Зная неуравновешенный, вспыльчивый характер сестры, я в душе был рад, что она успела эвакуироваться.
С отцом и матерью в Гоще остались четверо самых младших: Устина, Иван, Василий и Алексей.
С приходом оккупантов старики жили в постоянной тревоге. Оуновцы угрожали вырезать семьи коммунистов. Немцы тоже не скупились на обещания расправиться с такими семьями. Поэтому, когда в Гощу заезжали гитлеровцы, отец старался не показываться им на глаза, уходил далеко в степь, отсиживался в тайнике, иногда по нескольку дней не возвращался домой.
Торопливо рассказывая мне все это, мать горько плакала. Она заметно постарела, исхудала, казалась беспомощной. Ни на минуту не отходила от меня, будто чувствовала, что я исчезну так же внезапно, как появился.
При встрече с отцом я заметил на его обветренном лице холодную отчужденность. К чему бы это? Невольно вспомнились дни, когда я неожиданно появлялся дома после отсидки в тюрьмах пилсудчиков. С какой радостью встречал меня тогда отец! Мое участие в партийном подполье приносило ему много неприятностей: обыски, налеты полиции, вызовы на допросы, оскорбления, а временами и побои. В старой Польше опасность подстерегала семьи коммунистов на каждом шагу. Однако я ни разу не слышал от отца ни жалоб, ни упреков. Он по-своему гордился детьми, избравшими себе трудный, но правильный путь. Теперь же отец отчужденно проговорил:
— Не ждал, тебя, Терентий... Думал, ты там, где все. В Гоще только старые да малые остались. Молодых мало, пошли на фронт. Оно, конечно, бывает по-всякому... Только уж очень быстро ты навоевался, хотя и говоришь, что удрал из плена. В каком костюме ходил раньше, такой на тебе вижу и теперь. Не пойму я что-то, Терентий...
— Фронт сейчас, отец, не только в окопах.
— Так-то оно так, только непонятно мне. Тихон на фронте. Мария выехала. Еленку нашу расстреляли. А о тебе слухи ходят, будто с фашистами в согласии живешь. Вот в городе остался, националисты из тюрьмы выпустили...
— Откуда такие слухи?
— Вчера Ольга Солимчук из Ровно вернулась, она и рассказала.
— Ольга Солимчук? Пташка? Неужели правда?
Отец подозрительно посмотрел на меня. А я готов был расцеловать его за такую весть. Мне даже в голову не пришло расспрашивать о том, что Ольга делает в Гоще, как относится к оккупантам. Для меня это было ясно без расспросов.
На Волыни я знал много участников революционной борьбы, беззаветно преданных идеям коммунизма. Были среди них люди, убеленные сединами, ветераны, на руках которых, как татуировка, на всю жизнь остались следы кандалов. Были и совсем юные бойцы, в их числе Ольга, девушка с нежной партийной кличкой Пташка.
Услышав знакомое имя, я закрыл глаза, и передо мной, словно в кинематографе, промелькнули события двухлетней давности.
...В те дни каштаны на улицах и площадях древнего Львова золотились осенней листвой. Ветер играл кумачом флагов, разносил по городу песни. Возле оперного театра собрались тысячи горожан в праздничных костюмах — целое море счастливых, улыбающихся лиц. Радостный гул голосов и музыка доносились с площади в театральный зал и сливались с громом аплодисментов.
В зрительном зале театра, где проходило первое заседание Народного Собрания Западной Украины, рядом со мной сидела невысокая, хрупкая девушка со светлой копной волос, затейливо собранных над высоким лбом. Подавшись вперед, она прижимала к груди свой депутатский мандат. На ее щеках блестели росинки радостных слез, совсем по-детски вздрагивали яркие губы. Депутату Народного Собрания Оле Солимчук едва исполнилось тогда девятнадцать, а за плечами была уже большая, кристально чистая жизнь революционерки-подпольщицы.
В семнадцать лет, в пору беззаботной юности, когда особенно хочется жить, дышать полной грудью, учиться, мечтать, Пташка была секретарем Гощанского подпольного райкома Коммунистического Союза Молодежи Западной Украины, находилась на нелегальном положении, пряталась от жандармов, организовывала комсомольские ячейки. В польской политической полиции на нее было заведено дело. Платным агентам дефензивы за поимку юной коммунистки начальство обещало не одну тысячу злотых.
Однажды Пташку схватили жандармы, бросили за тюремную решетку. Допросы, пытки, приговор. Все пережила юная патриотка, прекрасно понимая, что, может быть, в сырой тюремной камере придется провести долгие годы.
Такой была Ольга Петровна Солимчук — девушка из волынского села Синев, моя давняя знакомая, верный товарищ по борьбе и подпольной деятельности.
«Неужели и Ольга могла поверить, что я переметнулся во вражеский лагерь?» — с горечью подумал я.
Отец продолжал смотреть на меня по-прежнему подозрительно. Он ждал ответа. Я взял его за руку, тихо сказал:
— Ты меня знаешь, тату. Я остался таким же, каким был. Вот все, что могу тебе сказать. Прекратим пока этот разговор, будущее покажет...
Той же ночью я встретился с Ольгой Солимчук и гощанским комсомольцем Поликарпом Белоусом. Товарищи приняли меня настороженно. В нашем разговоре, который продолжался всего несколько минут, не было ни прежней откровенности, ни дружеской доверчивости, сближавших нас в прошлые годы. Подтвердилось то, чего я так боялся.
И все же я был рад встрече, рад тому, что рядом есть верные друзья и что они такие же, какими были всегда, непримиримые к врагам, готовые бороться не щадя жизни. Я был уверен: лед недоверия растает, мы найдем общий язык, будем снова вместе. Требуется лишь время...
* * *
Возвратившись из Гощи в Ровно, я временно поселился у бабушки Ксении.
По соседству с ее домиком стоял небольшой особняк с мансардой, принадлежавший пожилому поляку, профессору-латинисту. Гестаповцы еще в первые дни войны увезли профессора ночью вместе с семьей. Жители Школьной шепотом сообщали друг другу, что латинист и его сын тайком слушали московские и лондонские передачи.
В особняке с мансардой поселились новые квартиранты, два шпика. Один из них, медлительный, краснорожий толстяк в белом полотняном костюме, целыми днями маячил на крыльце, бросая ленивые взгляды на домик бабушки Ксении. Второй, невзрачный мужчина в поношенной тирольской шляпе на маленькой, как кулак, голове, каждый раз, как только я выходил на улицу, бочком выныривал из калитки и тенью брел следом, повсюду сопровождая меня.
Шпики следили за мной грубо, неумело. Я решил проэкзаменовать своего «опекуна» в тирольской шляпе и не без удивления убедился, что он не знает даже азов «профессии», за которую взялся.
Идя как-то вдоль забора по безлюдному переулку и заметив сзади шпика, я быстро нагнулся, делая вид, что зашнуровываю ботинок. Мой «опекун» тоже остановился. Резко выпрямившись, я пошел прямо на него, засунув правую руку в карман брюк. Шпик попятился, в его глазах промелькнул испуг. Но и после этого он не отстал: пропустил меня, снова пристроился сзади и, не прячась, поплелся следом.
Избавиться от такого хвоста было совсем нетрудно. За него даже в дефензиве не дали бы ломаного гроша. Не верилось, что он агент гестаповской школы. Тут было что-то другое. Тем не менее появление шпиков не предвещало ничего хорошего. Надо было немедленно менять квартиру, на время исчезнуть.
Однако надежного пристанища у меня пока не было. Первые осторожные поиски нужных людей, которых я рассчитывал встретить в Ровно, с появлением в профессорском особняке столь подозрительных обитателей пришлось прекратить. Ни явок, ни связей, ни места, где можно остановиться хотя бы на несколько дней!..
Из головы не выходили слова Василия Андреевича Бегмы о том, что, если уж обстоятельства не позволят закрепиться в Ровно, надо устроиться где-нибудь поблизости, в селе. Может, в самом деле податься из города в район?
«Снова спешишь! — мысленно одернул я себя. — Больше выдержки, Терентий! Ты должен остаться в городе, только в городе, и найти выход из трудного положения!..»
* * *
Стены домов, заборы, афишные тумбы сплошь оклеены серыми бумажками с приказами гитлеровцев. Все обязаны строго соблюдать «новый порядок». Запрещено появляться на улицах после девяти часов вечера и собираться по нескольку человек в квартирах. Запрещено прятать военнопленных, давать им убежище. Запрещено резать домашнюю птицу, свиней, коз, употреблять в пищу молоко, яйца, масло. Запрещено торговать овощами, зерном, печеным хлебом, крупой. Запрещено перерабатывать подсолнухи на масло. Любые продукты являлись теперь собственностью рейха, подлежали немедленной сдаче на специальные приемные пункты для «доблестной армии фюрера». Над городом навис призрак голода.
Бабушка Ксения часто уходила из дому. Мыла полы в квартирах оккупационных чиновников, стирала бельё, присматривала за детьми, получая за это кусок хлеба, несколько картофелин или горсть пшена. Возвращаясь, она рассказывала, что по поводу моего освобождения из тюрьмы идут разные кривотолки. Одни утверждали, что я продался националистам, другие говорили, что давно тайно служу немцам.
От таких вестей я скрипел зубами. Но, раз избрав для себя роль, я должен был играть ее до конца. Пусть будут новые испытания, пусть даже вначале товарищи отвернутся от меня, надо стерпеть все. Иначе нельзя.
— Ксения Петровна, придется мне устраиваться на работу, — сказал я однажды утром своей хозяйке, втайне наблюдая, какое впечатление произведут мои слова на старушку.
— Не знаю, что и посоветовать тебе, сынку, — вздохнула бабушка Ксения. — И работать на этих идолов грех, и без работы долго не протянешь. Говорят, в городе открылись разные мастерские, может, там что-нибудь подходящее найдется?
День выдался жаркий, солнечный. Из руин несло тошнотворным смрадом: развалины домов стали могилой для многих жителей, трупы никто не откапывал, они разлагались.
Я не спеша шел по городу. Намеренно не глядя на часового, прошагал мимо комендатуры. И вдруг увидел Крупу. Он стоял возле собора. Рядом с ним переминался с ноги на ногу длинный как жердь мужчина с неестественно большими оттопыренными ушами. Я хотел укрыться в соседней подворотне, чтобы не встретиться с Крупой, но австриец уже кивал мне:
— О, кого я вижу! Как поживаешь, майн либер?
Крупа, как всегда, был пьян. Он что-то быстро сказал своему собеседнику, тот поспешно распрощался. Когда лопоухий скрылся за углом соседнего дома, я показал Крупе на тирольскую шляпу, маячившую на противоположной стороне улицы, возле разбитой витрины.
— Твои кадры? Убери этих остолопов, чтобы я их больше не видел.
Австриец насупился:
— Это ты брось. Они у тебя кушать не просят. Я их на всякий случай приставил. Не понимаешь, что ли? Делаю как лучше, для твоей же пользы.
Видно, он побаивался меня, опасаясь, что я все же могу пойти в гестапо с доносом, напомню немцам о двойной игре их агента в прошлом. А может, его принудила к этому моя угроза, что «моя смерть — и твой конец»?
— Обойдусь без охранников, — повторил я.
— Смотри, как бы не пришлось пожалеть об этом, — недовольно буркнул Крупа. — Куда направляешься?
— Ищу работу. Не помирать же с голоду.
— Работу? — переспросил Крупа. — Это можно организовать мигом. Пойдем со мной!
Я стал отказываться, думая, что австриец хочет устроить меня в своем ведомстве. Но он крепко держал меня за руку и почти силой потянул за собой. Мы подошли к дому с вывеской: «Центросоюз Ровенской области». Что это за союз? Каковы его функции в условиях оккупации? Об этом я не имел ни малейшего представления.
Ударом ноги Крупа открыл дверь. Плотный пожилой мужчина быстро вскочил из-за стола и угодливо поклонился Крупе.
Австриец без предисловия бросил, указав на меня:
— Ему нужна хорошая работа. Ясно?
— Будет исполнено! — Толстяк закивал головой, покрытой редкими прилизанными волосами. Он сделал было шаг к Крупе, но тот повернулся к нему спиной, проворчал:
— Плохо принимаешь гостей, пан Мороз. Может, не рад?
— Что вы, пан Крупа!.. Что вы! Для меня это такая честь... Прошу, прошу! Есть ваша любимая... Первый сорт...
Директор «Центросоюза» вынул из шкафа графин и круг колбасы. Не садясь, Крупа выпил два стакана подряд, покровительственно буркнул что-то, засунул колбасу в карман и направился к двери. Я пошел за ним.
На улице он пьяно выругался, погрозил кулаком в сторону «Центросоюза»:
— Сволочь, этот Мороз. Тоже мне директор!.. Офицериком был у Петлюры, а корчит из себя министра. Думает, что если я пью... А ты знаешь, почему я пью? Ну скажи, знаешь? — он громко икнул, пошатнулся, уцепился за мой локоть. — Заливаю горло потому, что все осточертело. От немцев не открутишься, они мастера загребать жар чужими руками. Задают столько работы, что только успевай делать. А будет еще больше... Вон, видишь того, что с желтой тряпкой на спине? — Крупа показал в сторону комендатуры, откуда два полицая выволокли седобородого еврея, толкая его в спину прикладами винтовок. — Их скоро будут того, пускать в расход... Всех! Есть приказ... Только молчи, слышишь! Об этом никому... — Крупа внезапно умолк, пристально посмотрел на меня, махнул рукой и ушел, стуча по мостовой подковами сапог.
Я остался на тротуаре, пораженный сообщением австрийца. Будто в тумане проплыли перед глазами кварталы еврейского гетто на восточной окраине города.
«Он сказал: всех! Значит, и женщин и детей!..»
Только теперь до моего сознания дошел страшный смысл слов, брошенных обезумевшим от водки комендантом полиции.
2
Пан Максимчук, шеф небольшого предприятия, носившего громкое название «Фабрика кофе», как видно, уже ждал меня. Я подал ему направление из «Центросоюза», но он даже не взглянул на него.
— Вас рекомендует сам Крупа, и этого достаточно. Сейчас нелегко встретить порядочного человека, да еще в городе, где почти два года были большевики. Я, знаете ли, жил в Германии. Сюда прибыл из Кракова. Там, известно, другие люди... Да что взять с простых обывателей, если даже наши идейные вожди не всегда ладят друг с другом! Что вы думаете, коллега, о событиях в Житомире? Мать моя, казнить таких верных сынов Украины как Сциборский и Сеник! Просто ужас... И кто казнил их? Сторонники пана Бандеры!..
Максимчук говорил без умолку, одновременно ощупывая меня с ног до головы маленькими маслянистыми глазами, ежеминутно вытирая платком потный подбородок и шею.
О том, что в Житомире пристрелили двух верховодов из националистического отребья, я уже слышал. Оуновцы что-то не поделили между собой, и приспешники Бандеры убили подручных другого кандидата в «украинские фюреры» — Мельника. С первых же слов Максимчука я понял, что он националист мельниковского направления. Зная, что Крупа презрительно относится к местным руководителям ОУН, сторонникам Бандеры, директор фабрики кофе, видимо, пришел к выводу, что человек, рекомендованный комендантом полиции, тоже должен принадлежать к мельниковскому крылу.
Я молча выслушал тираду «пана директора», потом сказал:
— Разделяю вашу тревогу. Что и говорить, нет единства в лагере украинских националистов, нет...
— Пан Новак! — засуетился Максимчук. — Я умею разбираться в людях. Надеюсь и уверен, мы с вами поладим. Что касается работы, пусть это вас не тревожит. Ваши обязанности не сложны. Будете вести учет готовой продукции и записывать, куда и сколько отправлено кофе... Свободного времени у вас будет достаточно. Я же понимаю, что у вас есть и другие дела... Молчите, молчите! — он замахал руками с видом заговорщика. — Если вам нужно будет... Одним словом...
— Приятно разговаривать с догадливым собеседником, — улыбнулся я. — Вы правы. Иногда мне придется уходить в часы работы.
— Пожалуйста... А теперь, пан Новак, пойдемте, я покажу вам нашу фабрику.
3
От знакомства с хозяйством пана Максимчука у меня осталось гнетущее впечатление. Возвратившись домой, я молча ходил по комнате, вспоминая увиденное...
На фабрике кофе работали евреи из гетто. По утрам их пригоняли туда под конвоем полицаи. Полураздетые, голодные люди, главным образом женщины и подростки, с желтыми нашивками на спинах, дотемна молча возились у пышущих жаром больших плит, словно тени двигались в густом чаду от пережженного ячменя. Казалось, они оставались равнодушными ко всему происходящему вокруг. Даже злые окрики охранников-полицаев не выводили их из состояния безразличного равнодушия. Вечером, едва волоча от усталости ноги, они также под конвоем возвращались в отведенные им кварталы.
Тяжело шагая из угла в угол комнаты, я с горечью думал о том, что ожидает этих людей в недалеком будущем. За окном сгущались сумерки. Мои невеселые мысли прервал стук в дверь. Бабушка Ксения пошла открывать. Я насторожился.
В комнату вошел худощавый мужчина небольшого роста. Во всем его облике чувствовалась интеллигентность, которая никак не гармонировала с грубой замасленной курткой и измятой клетчатой фуражкой. Из-под козырька виднелись темные очки. Деревянный ящик, который он держал под мышкой, был явно предназначен для клещей, ключей, обрезков труб.
«Наверное, слесарь-водопроводчик», — подумал я.
На секунду задержавшись у порога, человек подошел ко мне вплотную, осторожно поставил на скамейку ящик с инструментом.
Я посмотрел на его руки и... не смог оторвать взгляда от тонких, худых пальцев с узкими ногтями, покрапленными белыми пятнышками.
Если бы меня спросили, видел ли я когда-нибудь этого человека раньше, знаком ли с ним, я, не колеблясь, ответил бы: нет, не знаком. Но эти руки... Они запомнились на всю жизнь.
...Три года назад, очутившись в люблинской крепости, в мрачном каменном каземате, переполненном заключенными, я впервые увидел худощавого, хилого на первый взгляд человека. Примостившись у стены под пятачком света, проникавшего сквозь зарешеченное окно-бойницу, он сидел неподвижно в кругу товарищей, которые зорко следили за дверью, готовые в любой момент предупредить об опасности.
Перед заключенным в серой тюремной одежде, мешком свисавшей с его острых плеч, лежало несколько листков бумаги. Склонив высокий лоб, щуря глаза, он держал между пальцами огрызок карандаша и что-то писал. Руки его казались прозрачными: падавший на них луч солнца просвечивал каждую жилку. На ногтях выделялось множество белых пятнышек, которые, как говорят в народе, приносят счастье.
Помню, я невольно тогда улыбнулся, глядя на пальцы незнакомца. Счастье и люблинская тюрьма — понятия слишком далекие...
Через несколько дней товарищи по камере дали мне почитать рукописную газету «Заключенный-антифашист», боевой орган люблинских политзаключенных.
Иван Иванович Луць, так звали худощавого мужчину, был редактором и оформителем подпольной тюремной газеты. Простым карандашом он выписывал крохотные буквы с таким мастерством, что маленькие странички папиросной бумаги казались отпечатанными на удивительной полиграфической машине.
Вскоре мы подружились с Иваном Луцем, и я узнал, сколько поистине титанического труда приходилось затрачивать ему на то, чтобы подготовить каждый экземпляр «Заключенного-антифашиста», тайком передаваемого из каземата в каземат.
Луць прекрасно рисовал. Возможно, что золотые руки принесли бы этому одаренному человеку славу большого художника, тонкого мастера гравюры и его талантом восхищались бы посетители художественных выставок. Но жизнь уготовила иную судьбу парню с Холмщины.
Родители Ивана умерли во время эпидемии тифа, тысячами косившего бедноту польских и украинских сел в годы первой мировой войны. Пятилетний мальчик вынужден был просить милостыню. Когда подрос, стал свинопасом у сельского богатея.
Ивана никто не учил рисовать. Да что там рисовать, грамоте он тоже никогда не учился!
И тем не менее всех подпольщиков, заключенных в крепости, поражали его светлый ум, культура, широта познаний, начитанность и образованность. Никогда не переступавший порога школы, он отлично владел несколькими языками!
Луць почти не расставался с книгой даже в тюрьме, хотя не раз тяжело расплачивался за это. В часы, когда в каземате разгорались споры, когда скрещивались мысли и взгляды, когда анализировались причины наших успехов и промахов, когда шла речь о теории и практике революционной борьбы, слово Луця нередко было решающим. С ним трудно было спорить. Железная логика мышления и сила его убежденности разоружали, вынуждали сдаваться самых ярых противников. К марксистской литературе он пристрастился еще в юности, и его политическому багажу могли позавидовать многие из нас.
Идеи коммунизма и пролетарской революции привели батрака Ивана Луця в ряды борцов за новую жизнь. И он отдался этой борьбе весь, без сомнений и колебаний. Комсомол, а потом подпольная Коммунистическая партия Польши стали для него и семьей, и школой, где он рос, учился, мужал, воспитывался, поднимаясь до уровня профессионального революционера, борца за счастье угнетенного народа.
Как-то ночью избитого, окровавленного Луця привели с допроса. Я присел рядом. До рассвета мы шепотом разговаривали. Рассказав о себе, он приподнялся, сел и твердо сказал:
— Без партии, без борьбы не представляю своей жизни! Без этого цена ей — нуль!..
Наш разговор с Иваном состоялся летом 1939 года, накануне освобождения Западной Украины. Луцю было тогда 29 лет. А в крепость он попал в 1932 году, осужденный на длительный срок военным трибуналом профашистского правительства маршала Пилсудского за политическую агитацию среди солдат польской армии. Однако семь долгих лет, проведенных в полутемном, вонючем каземате, на «особом режиме», не сломили коммуниста-подпольщика, не поколебали его веры в победу справедливого дела.
В сентябре 1939 года до Люблина донесся грохот немецких орудий. Мы узнали, что на город наступают гитлеровские войска. И Луць был одним из тех, кто поднял в тюрьме бунт, требуя немедленного освобождения. Потом мы вместе спешили на Восток, навстречу советским танкам.
Последний раз я виделся с Иваном Ивановичем за полгода до начала войны. Он работал в Ровенском областном совете профсоюзов.
И вот теперь опять передо мной эти знакомые руки...
Я стоял посреди комнаты и не решался заговорить первым. Мужчина в замасленной куртке не спеша снял темные очки, за которыми были спрятаны умные, зеленоватые глаза.
— Иван Иванович, друг! — кинулся я ему навстречу. Мы обнялись.
Ксения Петровна поняла, что к ее квартиранту пришел хороший человек. Ни о чем не спрашивая, поспешила на кухню ставить самовар.
Но Луць не собирался чаевать. Он задержался в хате ровно столько, сколько мог оставаться слесарь-водопроводчик, который в поисках заработка забрел сюда спросить, не нужны ли его услуги, и, не найдя работы, покинул дом.
Дважды повторив свой адрес, Луць спросил:
— Когда тебя ждать?
— В воскресенье, в семь вечера, — быстро ответил я.
— Поздно. В девять наступает комендантский час, а я живу не близко, на окраине. Не успеем как следует поговорить.
— Хорошо. Буду ровно в шесть.
Подхватив ящик, Иван Иванович поклонился удивленной Ксении Петровне, выглянувшей из кухни, и быстро вышел.
А в воскресенье ко мне неожиданно нагрянул из села Прокоп Кульбенко. Я решил идти к Луцю вместе с Прокопом, не догадываясь, что в доме Ивана Ивановича нас ждет еще одна радостная встреча...
Улицы города остались позади. Потянулись сады, огороды, глинобитные хаты, просторные, как в селах, дворы. Но на белевших под крышами домов табличках мы уже больше часа не могли обнаружить название нужного нам переулка. Спрашивать адрес у случайных прохожих не хотелось. Зачем лишний раз возбуждать интерес у незнакомых людей?
Прокоп Кульбенко устало остановился. Перед тем он пешком добрался из Рясников в Ровно и, не отдохнув, сразу же отправился со мной на окраину города.
— Давай-ка перевалим через тот вон пригорок, — предложил я. — Кажется, там тоже есть какие-то строения.
Узенькая тропинка, заросшая лопухом и бурьяном, вывела нас на пригорок. По другую его сторону, внизу, почти в поле, стоял небольшой кособокий домишко. Стены по самые подоконники вросли в землю. Лучи вечернего солнца отсвечивали в подслеповатых окнах.
— Хижина дяди Тома, — улыбнулся Прокоп, — и, кажется, та, что нам нужна...
Во дворе громко залаяла собака.
— Замолчи, Гитлер! — послышался властный голос, и из-за копны прошлогодней соломы появился хозяин, Иван Иванович Луць.
— Зачем тварь обижаешь? — приветствуя его, улыбнулся Прокоп. — Как не говори, собака — полезное животное, а ты...
— Вреднющий пес и хитрый, как иезуит, — ответил Луць, пожимая нам руки. — Молчит, молчит, а потом как выскочит и за ногу — цап. Скрытный, что б его черти побрали... Заходите, товарищи... Осторожнее, не стукнитесь головой.
Комната была маленькая, но уютная, чистая. Земляной пол застлан свежей травой. На столе белела аккуратно выглаженная скатерть. В узкогорлом кувшине красовался букет степных маков.
Из кухни вышла стройная черноволосая женщина. Она приветливо улыбалась. Пораженный, я схватил Прокопа за руку:
— Гляди-ка, Настка! Ей-богу, она. Чего ж ты сразу не сказал, Иван? — обратился я к Луцю.
Хозяин хаты сдержанно улыбнулся, пригласил нас садиться.
— Вот и встретились старые бойцы. Не полк, правда, даже не рота, но и четверо для начала тоже неплохо, — сказал он, принимая из рук жены большой зеленый чайник.
В каких-нибудь двух километрах отсюда зверствовали гестаповцы, в застенках националистов умирали люди, за колючей проволокой в муках гибли военнопленные, из развалин тянуло трупным смрадом... Через полтора-два часа мне опять придется возвращаться в тот ад, снова видеть перед собой упитанную тушу Максимчука, смотреть в помертвевшие глаза полусвихнувшегося Крупы, прислушиваться к каждому шагу за дверью моей временной квартиры, жить в постоянном напряжении, не имея покоя ни днем, ни ночью. Но все это меня теперь уже не пугало. Мое одиночество кончилось, я сидел в кругу друзей. Казалось, никогда мне еще не было так хорошо, как здесь, в маленькой комнате покосившейся хатки на окраине Ровно...
Хозяйка налила каждому из нас по маленькой чашечке ячменного кофе, села рядом с мужем, красивая, смуглая, с озорными, улыбающимися глазами.
Впервые я познакомился с ней незадолго до войны, но много слышал о ней раньше, во времена панской Польши, восхищался ее мужеством.
Имя Анастасии Васильевны Кудеши, или просто Настки, как называли ее товарищи, было хорошо известно среди коммунистов и комсомольцев-подпольщиков Западной Украины. Известно оно было и польской жандармерии.
Сначала Настка работала в нелегальной комсомольской организации Володовского повета. Ее, как и Луця, арестовали в 1932 году. Отправили в город Холм. В тюрьме допрашивали жандармские офицеры. Ставили на всю ночь лицом к стене с поднятыми над головой руками, били жгутами электропровода, вырывали волосы, обливали ледяной водой и снова били...
Кудеша стойко перенесла муки. Выйдя из тюрьмы, она опять с головой ушла в подпольную работу. Мужество молодой коммунистки во время первого ареста было лучшим доказательством ее политической зрелости. Кудеше поручали наиболее ответственные партийные задания.
С Иваном Ивановичем Луцем у них еще в юные годы зародилась хорошая, чистая дружба. Общие интересы, общая борьба сблизили этих двух, казалось, таких несхожих людей.
В оккупированный Ровно Иван Луць вернулся раненый. Фашистская пуля свалила его где-то под Тернополем, когда часть, в которой он служил, с боями вырывалась из окружения.
Иван и Настка встретились вновь, встретились, чтобы уже не разлучаться до самой смерти...
Чайник давно остыл. О кофе совсем забыли.
Говорили по очереди. Разговор шел откровенный. Нам не было нужды играть в прятки, что-то скрывать друг от друга. Передо мной сидели товарищи по борьбе, испытанные друзья-единомышленники, я знал их, как самого себя. Это о таких людях говорил мне секретарь обкома, когда советовал, на кого в первую очередь следует опираться, создавая ровенское подполье. Кому же, как не им, моим лучшим, испытанным друзьям, стать ядром будущей организации, призванной сплотить вокруг себя советских патриотов в захваченном врагом городе, поднять их на беспощадную борьбу с оккупантами?
Не колеблясь, я рассказал товарищам, как оказался в Ровно, какое задание получил от секретаря обкома партии.
— Я верил, я знал... Мы не раз говорили с Насткой, — голос Ивана Ивановича сорвался, он закашлялся, — что борьба только начинается, что мы будем нужны. Оставил ли обком кого-либо в подполье, нам не было известно, но когда услышали, что ты здесь... Одним словом, не ошиблись. Я целую неделю ходил вокруг твоей нынешней квартиры, выбирал удобный момент, чтобы встретиться.
Узнав подробности о моих первых неудачах: концлагере в Житомире, суде националистов, о роли Крупы в истории с моим освобождением из тюрьмы, — Кульбенко стал было настаивать на том, чтобы я немедленно покинул Ровно, два-три месяца перебился где-нибудь в селе, а потом нелегально вернулся в город. Но Луць и Кудеша, взвесив все доводы «за» и «против», высказали противоположное мнение, вернее, согласились с моими соображениями: уходить не следует, лучше жить в городе легально, попытаться заслужить у оккупантов доверие и тайно вести против них борьбу.
Рассказал я друзьям и о посещении Гощи, о свидании с Ольгой Солимчук. Поняв, что меня беспокоит, Луць сказал:
— Ольга — горячая душа. Говоришь, встретила с холодком? Не удивляйся. Мы постараемся удержать ее от неосмотрительных шагов. Ну а когда начнем действовать, ее недоверие рассеется. Пока же, Терентий, кое с чем тебе придется мириться. Не одна Ольга искоса посмотрит на тебя. Молодежь привыкла к прямым путям.
Новые варианты борьбы иногда кажутся ей если не изменой, то, во всяком случае, компромиссом. А нам, старикам, — Луць произнес слово «старикам» вполне серьезно, будто и в самом деле ему перевалило за пятьдесят, — надо пересмотреть привычные методы подпольной работы. Прошло время, когда за нами по пятам ходили шпики, а мы ускользали от них, выступали на митингах и гордились своей неуловимостью... Классовая суть борьбы не изменилась. Но гитлеровцы не пилсудчики, и сейчас не тридцать пятый год. Вот тебе удалось устроиться на фабрику кофе. Это, я считаю, очень хорошо. В условиях оккупации легальное положение, если им умело пользоваться, создает наиболее благоприятные возможности для подпольной борьбы с оккупантами. На первый взгляд это может показаться парадоксом, но это так...
Иван Иванович говорил просто, без нажима, и вместе с тем железная логика его рассуждений убеждала: чем больше будет наших людей в учреждениях, на предприятиях, на железной дороге, даже в ведомствах и организациях, которые непосредственно входят в состав оккупационной администрации, чем глубже мы пустим всюду корни, тем легче будет нашим людям бороться с врагами.
— Чтобы наносить по врагу наиболее чувствительные удары, — сказал в заключение Луць, — нужно знать его планы и намерения. А для этого необходимо, чтобы подпольная организация всюду имела свои глаза, свои уши.
С приходом гитлеровцев Ровно превратился в остров, отрезанный от всего мира. Жители города не имели даже приблизительного представления о действительном положении на фронтах. Фашистская пропаганда ежедневно обрушивала на них мутные потоки своей информации, оглушала сенсационными сообщениями о «небывалых победах доблестных рыцарей рейха на Востоке», предсказывала полный разгром Красной Армии. Геббельсовские «информаторы», а также усердно помогавшие им бандеровцы и мельниковцы с утра до ночи горланили о том, что «Москва и Ленинград стерты с лица земли», что «Советской власти приходит конец». Привезенный из Германии диктор, часто путая украинские слова с немецкими, гнусавым голосом по нескольку раз в день читал по радио «последние новости», от которых бросало в дрожь. То он сообщал о якобы вспыхнувшем на Урале и в Поволжье антисоветском восстании, возглавляемом казачьим полковником, то передавал «свидетельства очевидцев» о повальном дезертирстве из Красной Армии, то комментировал «сообщения иностранных агентств» о том, будто все московские комиссары выехали в Монголию. «Достоверные» небылицы следовали одна за другой. В городе фашистские пропагандисты и их добровольные помощники из местных националистов распространяли листовки с «подлинными» фотографиями «разрушенного» Кремля, а также с портретами советских маршалов и наркомов, якобы порвавших с Советами и перешедших на сторону доблестных германских войск.
Каждый из нас понимал, какой большой моральной поддержкой для оставшегося на временно оккупированной территории населения могли быть в этих условиях слова правды о действительном положении на фронтах, о жизни и борьбе тружеников советского тыла. И эту правду должны были сказать людям мы, подпольщики. Но как лучше это сделать? С чего начинать?
Прощаясь со мной под Новоград-Волынским, секретарь обкома партии сообщил адрес одного из ровенских ателье по ремонту одежды, размещавшегося в небольшом одноэтажном доме по Здолбуновскому шоссе. На чердаке ателье среди старого хлама и поломанной мебели для меня был оставлен радиоприемник с комплектом батарей. Я дважды побывал возле этого дома и убедился, что он цел, но ателье там уже не было: помещение заняли под жилье семьи, переселившиеся с разрушенной соседней улицы. Надо было во что бы то ни стало выяснить: что за люди переселенцы и сохранился ли приемник? Мы решили в ближайшие дни вместе с Луцем отправиться в бывшее ателье; если радиоприемник цел, перенести его в более безопасное место, наладить запись сводок Советского информбюро, размножать их и расклеивать в людных местах.
В городе к тому времени распространился слух, что оккупанты хотят провозгласить Ровно столицей Украины. Во имя чего был задуман такой трюк, мы разгадать не могли. Оставалось только строить предположения.
— Киева им не взять, — сказал Кульбенко, — вот и решили фашисты создать бутафорную столицу, чтобы погладить по шерсти оуновцев. Ведь те без конца болтают про самостийность...
— А мне не верится, чтобы немцы хотели ублажить самолюбие националистов, — возразил Луць, скептически сдвинув брови. — Тут пахнет другим... В Ровно полно гестаповцев и жандармов, недавно прибыли службы СД и СА! Не слишком ли много «чести» для небольшого города? В центре спешно освобождают от жильцов лучшие дома. В особняки свозят дорогую мебель... Вряд ли немецкие квартирьеры станут проявлять столь трогательную заботу об оуновцах. Впрочем, поживем — увидим. Пока что нужно иметь в виду, город наводнен гестаповцами и жандармами, поэтому наша работа потребует особой осторожности. Надо использовать все, что можно, из прошлого опыта. Конспирация, друзья, и еще раз конспирация...
Кульбенко коротко рассказал о делах в Рясниках. В селе уже существовала небольшая подпольная группа. В нее вошли несколько проверенных, надежных людей.
Мы забросали Прокопа вопросами. Знают ли товарищи друг друга? Где встречаются? Как думают расширять группу? Что уже удалось сделать?
Кульбенко, изредка покашливая, неторопливо и обстоятельно отвечал. Вывод напрашивался сам собой: на первых порах не следует гнаться за большими масштабами организации, людей надо отбирать тщательно, без спешки, всесторонне изучая каждого. Возможно, в некоторых случаях придется ограничиться подбором подпольщиков-одиночек. Впоследствии они объединятся в тройки или пятерки, которые будут действовать самостоятельно, поддерживая постоянный контакт с подпольным центром через опытных связных.
Местом основной явки решили установить пока квартиру Луця и Настки. Иван Иванович обещал подготовить в ближайшее время еще одну явку, резервную, в домике знакомого старика Чиберака на окраине города, возле самого леса. Заверив, что Чиберак свой человек, Луць все переговоры с ним взял на себя.
Хотелось беседовать еще о многом, побыть среди друзей. Но уже вступил в свои права августовский вечер, напоминавший о комендантском часе и о патрулях, обшаривавших улицы Ровно с наступлением сумерек.
Прокоп остался ночевать у Луця. Я распрощался с друзьями и пошел уже знакомой тропой назад, в город, к домику бабушки Ксении.
«Столица» Украины
1
Во второй половине октября 1941 года в газете «Волынь» было опубликовано воззвание к украинскому населению, подписанное окружным комиссаром доктором Беером. До сведения населения доводилось, что согласно распоряжению фюрера он, Беер, приступил к исполнению возложенных на него обязанностей окружного комиссара Ровенской области и что отныне вся верховная власть, как законодательная, так и исполнительная, переходит в его руки. Воззвание заканчивалось угрозой смертной казни тем, кто проявит неповиновение и осмелится действовать вопреки его, Беера, приказам. После опубликования воззвания окружного комиссара гестаповцы арестовали ночью десятки ровенчан, вывезли их на западную окраину города в закрытых машинах и на рассвете расстреляли.
Хотя Беер начал свою «деятельность» в оккупированном городе довольно энергично, все же вовсе не он являлся той личностью, ради которой были приведены в движение многочисленные службы оккупантов: не для него и его подчиненных освобождались от жителей лучшие в городе квартиры; не для служащих комиссариата предназначались коттеджи и особняки, куда свозили дорогую мебель, ковры, посуду; не ради безопасности Беера наводнили Ровно офицеры и солдаты гестапо, СД, военной контрразведки, жандармерии. Окружной комиссар Беер был мелкой сошкой по сравнению с гораздо более одиозной фигурой среди фашистской чиновничьей иерархии Эрихом Кохом, имперским комиссаром и гаулейтером Украины. Кох не афишировал себя в газетах. День его приезда держался в строгой тайне.
И все же кое-какие слухи о новоявленном правителе Украины до нас доходили. Стало известно, например, что своим постоянным местом пребывания гаулейтер избрал Ровно. После этого нетрудно было догадаться, почему почти в течение всего октября по улицам города сновали бронеавтомобили и усиленные конные патрули, а наряды офицеров в полной боевой готовности сутками топтались на центральных площадях и улицах, оцепленных войсками; почему, наконец, въезд в город и выезд из него был фактически запрещен.
Как раз в эти дни фашисты ожидали приезда Коха. Вероятно, они и сами толком не знали, когда он соизволит прибыть.
Гаулейтер прилетел на специальном самолете. Ночью кавалькада легковых автомобилей, в одном из которых находился Эрих Кох, в сопровождении роты мотоциклистов-эсэсовцев и двух танкеток на большой скорости промчалась по притихшим улицам города, держа курс от аэродрома, наспех сооруженного военно-строительной фирмой «Лео Тредер», к резиденции имперского комиссара.
С приездом Коха небольшой город Ровно неожиданно был провозглашен не больше не меньше как столицей всей Украины. По соседству с резиденцией Коха разместились службы и управления гестапо, СД, СА, жандармерии, всевозможные оккупационные учреждения, военные, административные, полицейские, хозяйственные и торговые ведомства. На многих домах появились предостерегающие таблички: «Предъяви пропуск!», «Гражданским вход воспрещен», «Только для немцев». У подъездов днем и ночью маячили часовые. Резкими окриками они заставляли жителей города останавливаться и потом быстро перебегать на противоположную сторону улицы или площади.
Гаулейтер, вероятно, остался недоволен внешним видом «столицы» — разрушенной, опустошенной, наполовину сожженной. Городские улицы и площади начали спешно очищать от мусора и щебня. На этой работе гитлеровцы использовали главным образом советских военнопленных, томившихся за колючей проволокой в лагере, примыкавшем к Здолбуновскому шоссе.
Каждое утро эсэсовцы гнали пленных к центру города. Начались первые осенние дожди, холодные, пронизывающие, с ветром. Военнопленные в изодранных, мокрых гимнастерках, босоногие, истощенные, обессиленные, с почерневшими, заросшими лицами словно привидения бродили меж развалин, то и дело понукаемые охранниками. Завалы из битого кирпича и искореженного взрывами бетона разбирали голыми руками, срывая ногти, сбивая в кровь пальцы. Шатаясь под непосильной тяжестью, измученные голодом и побоями военнопленные переносили на плечах рельсы, обгорелые бревна, арматуру.
Надежда увидеть среди пленных знакомых по лагерю часто приводила меня к местам, где они работали. Близко подходить я не решался. Вооруженные автоматами охранники отгоняли мужчин. Случалось и так: солдаты без разговора хватали слишком любопытных и, толкая прикладами, с хохотом швыряли в толпу пленных. Тут не помогали ни объяснения, ни протесты: человек попадал, как в мышеловку, в запрещенную зону, а оттуда — в лагерь, за колючую проволоку.
Лишь на женщин и детей эсэсовцы, казалось, не обращали внимания. И многие ровенчанки, несмотря на дождь, холод, часами простаивали с узелками в руках на улицах, по которым эсэсовцы гоняли пленных на работу и с работы, бросая заключенным небольшие куски хлеба или вареные картофелины. Тот, кто прошел сквозь муки ровенского лагеря смерти, до конца дней своих будет помнить этих молчаливых и сострадательных женщин.
Моя хозяйка бабушка Ксения тоже ежедневно ходила встречать и провожать военнопленных. Жители Школьной улицы заранее снаряжали старушку в эти походы. С вечера приносили в ее домик кто что мог: несколько сухарей, ячменные оладьи, печеную свеклу. Сложив все это в плетеную кошелку, Ксения Петровна отправлялась на рассвете в один из переулков вблизи лагеря. Как только распахивались оплетенные колючей проволокой ворота и пленных выводили на улицу, бабушка Ксения быстро выкладывала весь запас продуктов на мостовую. Пленные с благодарностью смотрели на маленькую, сухонькую женщину. Многие узнавали ее издали, приветствовали взмахом руки, улыбались ей как матери, которая жалеет своих сыновей, попавших в беду, и делает все возможное, чтобы облегчить их страдания.
Домой Ксения Петровна возвращалась в слезах. Садилась в углу и долго беззвучно плакала, вытирая слезы кончиком платка. Я не пытался ее успокаивать, знал, что на такие слезы нет слов утешения. Наплакавшись вдоволь, старушка начинала рассказывать:
— Идут они, сердешные, аж шатаются. Многие изранены, искалечены... Глянешь, сердце кровью обливается... А они, бедные, грустно-грустно так улыбаются в ответ... Есть там среди них парень один, Николаем его кличут. Остались от него кожа да кости, а глаза еще блестят. Совсем больной, видно, а может, от голода... Вчера крикнул мне: «Спасибо, мама, до старости не забудем вас!» А какое уж там до старости, еле ноги волочит... И другие тоже...
Мы с Луцем не раз задумывались над тем, как связаться с лагерем военнопленных, с томящимися в нем командирами и солдатами Красной Армии. Там, несомненно, имелись и коммунисты. Контакт с ними был бы немаловажным звеном в деятельности партийного подполья. Обсудили добрый десяток вариантов установления такой связи, но все они были не очень приемлемы, грозили серьезными последствиями, может, даже провалом всей нашей, только еще рождавшейся, подпольной организации.
Мы уж решили было: некоторое время переждем, свяжемся попозже. И вдруг этот рассказ бабушки Ксении. Оказывается, ей удается иной раз перекинуться с пленными двумя-тремя словами. Значит, связь возможна! Только стоит ли впутывать в это опасное дело Ксению Петровну? Посилен ли старой женщине тот груз, который придется принять ей на свои слабые плечи? Ведь она и без того многим рискует, что держит в доме подпольщика. И связь с лагерем очень нужна. Что же делать?
Не решаясь прямо обратиться к Ксении Петровне со столь важной просьбой, я начал издалека, стараясь прощупать, что об этом думает сама бабушка Ксения. Она быстро разгадала мои намеки, по-молодому сверкнув добрыми глазами, сказала:
— Я все сделаю, сынку, только скажи, что нужно...
За меня не бойся — старая, но хитрая. Не забыла, как в гражданскую в Одессе вокруг пальца обводила врагов... Если записку в лагерь кому надо написать, пиши, сынку, передам. С Николаем передам, парень он, видать, смелый и сообразительный. Дождусь, когда немец охранник отойдет или в сторону засмотрится, тут и передам...
Еще раз посоветовавшись с Иваном Ивановичем, я подготовил текст небольшого письма, обращенного к военнопленным. Написал, в частности, чтобы товарищи в лагере не теряли надежды и что в городе есть люди, готовые помочь заключенным вырваться на волю.
2
На одном из угловых домов улицы появилась табличка. Подхожу ближе, читаю «Гитлерштрассе». Вон оно что! Вероятно, оккупанты полагают обосноваться здесь всерьез и надолго.
Впереди сквозь сетку дождя неясно проступают силуэты зданий с пустыми квадратами окон. Всюду часовые. Пленных не видно — они работают дальше, в глубине квартала, в развалинах.
Постояв с минуту на тротуаре, я свернул за угол, чтобы подойти к запретной зоне с противоположной стороны. Мы условились с Ксенией Петровной, что я буду ждать ее возле тумбы для объявлений.
Внезапно раздается тяжелый, раскатистый грохот. Над домами сквозь пелену дождя поднимается столб пыли. Слышатся крики эсэсовцев и короткие очереди автоматов.
Не поняв сразу, что случилось, поворачиваю голову направо, вижу вдоль улицы, пригибаясь, бегут старики, женщины, подростки. Вместе со всеми бежит и бабушка Ксения, спотыкается, падает.
— Ксения Петровна, сюда! — бросаюсь ей навстречу. — Что случилось?
Тяжело дыша, старушка повисает на моей руке, тянет меня в глубь переулка, подальше от этого проклятого места, что-то шепчет побелевшими губами.
— Что случилось? — почти кричу я.
— Ох, подожди... Дай отдышусь. Память отшибло, сынку... Звери проклятые, что они вытворяют... Слышал, как громыхнуло, аж земля застонала. То стены обвалились прямо на людей... Господи, что ж это делается?
Оказывается, рухнул остаток стены трехэтажного дома, придавив нескольких пленных. Остальные бросились было разбирать завал, но старший эсэсовской охраны, офицер в зеленом плаще, разрядил в толпу пленных обойму своего пистолета и захохотал. Шутка офицера пришлась по вкусу солдатам — они тоже послали в беззащитных людей несколько очередей из автоматов.
Ксении Петровне удалось-таки передать записку Николаю, но теперь трудно было сказать, успел ли он ее прочитать. Может, фашистская пуля свалила парня раньше, чем он ознакомился с содержанием нашего послания.
Расстроенные случившимся, мы медленно побрели домой. Под ногами хлюпали лужи. Над городом висело пасмурное небо. Дома, заборы, голые деревья — все вокруг было мокрым от холодного осеннего дождя. Струйки воды сбегали по разбитым стеклам окон, по стенам, решетчатым металлическим оградам, и казалось, что вся земля плачет, убивается в тяжелом горе.
На второй день я вернулся с фабрики раньше обычного. Ксения Петровна, видно, ждала меня, встретила у порога своего дома. Глаза ее сияли. Она протянула мне коричневатую бумажку, обертку от пачки табака, сплошь испещренную неровными мелкими строчками, написанными химическим карандашом:
«Дорогие друзья! Родные товарищи!
Нет предела страданиям, которые приходится сносить нам в фашистском плену. Многие из нас умирают от голода, ран и болезней. У нас отобрали почти всю одежду и обувь. Из лагеря ежедневно вывозят и закапывают по нескольку десятков человек, закапывают и тех, что еще не успели помереть, но уже не могут двигаться. Многих пленных отвозят на какую-то улицу Белую. Там во рвах — сотни трупов.
Вчера из Острога пригнали в лагерь новую партию военнопленных. Конвоиры — эсэсовцы из гитлерюгенд — по дороге тренировались в стрельбе. Кто попадал с первого выстрела в голову самого высокого пленного, получал от офицера сигарету. Было в колонне свыше тысячи человек, а дошло в Ровно меньше двухсот...»
Автор письма просил рассказать о зверствах фашистов советским людям, если можно, сообщить за линию фронта, просил помочь вырваться из лагеря. В конце стояла подпись «Николай Поцелуев».
Вместе с Луцем мы написали и размножили от руки листовку, обращенную к узникам лагеря. В ней говорилось:
«Родные, многострадальные наши друзья, товарищи!
Германский фашизм лелеет надежду превратить нашу страну в свою колонию, а советских людей — в рабов. Но этому никогда не бывать! Не верьте гитлеровцам, что они захватили Москву, что их войска подходят к Уралу. Все это ложь. Красная Армия ведет кровопролитные бои с врагом. Наша страна набирает силы для решительного удара по фашистским захватчикам. Временные неудачи на фронте не сломили духа и стойкости советских людей. На временно оккупированной фашистами территории создаются партизанские отряды, подпольные группы. Весь народ поднимается на священную борьбу. Наше дело правое, мы победим!
Помогайте друг другу, не теряйте надежды, будьте бдительны и осторожны. Не поддавайтесь на уговоры провокаторов. Ровенская подпольная организация сделает все возможное, чтобы вырвать вас из лагеря и привлечь к всенародной борьбе.
Ровенский подпольный комитет народных мстителей».
3
На следующий день Ксения Петровна отправилась к воротам лагеря, чтобы передать несколько экземпляров листовки Николаю Поцелуеву. Близился вечер, а ее все не было. Я не находил себе места: ежеминутно смотрел в окно, прислушивался, не заскрипят ли деревянные ступеньки крыльца.
Моя тревога передалась и пришедшему ко мне Луцю. За последнее время он ближе узнал хозяйку моей квартиры, относился к ней с глубоким уважением. И Ксения Петровна, чуткая ко всему хорошему, доброму, отвечала Ивану Ивановичу тем же: была с ним ласкова, приветлива, называла, как и меня, сыном. А после того как узнала, что до войны Луць работал с ее внуком Василем в областном совете профсоюзов, стала считать его и в самом деле самым близким, самым родным.
Обычно Луць задерживался у меня недолго. Несколько минут разговора — и он уходил, держа под мышкой ящик со слесарным инструментом. В этот раз, узнав от меня о случившемся, он изменил своему правилу. Час, другой, третий мы сидим с ним в маленькой комнатушке, с тревогой и нетерпением ожидаем нашу старенькую связную.
Разговор не клеится. Лишь изредка перекидываемся несколькими словами и снова молчим. Мысль работает в одном направлении: что могло случиться с бабушкой Ксенией?
Луць застегивает куртку, натягивает на лоб фуражку.
— Пройдемся немного, надо посмотреть.
Я молча иду за ним. Перед нами почти безлюдная улица. Редко промелькнет одинокий прохожий и мигом исчезнет в переулке или подъезде дома. Даже не взглянув на нас, прошел мимо под руку с раскрашенной девицей пожилой немецкий офицер. На углу, опираясь на костыли, торопливо складывал в ящик свое нехитрое хозяйство безногий чистильщик обуви. Стуча сапогами, нас обогнали два жандарма.
Тяжелые капли дождя сначала падают на землю словно нехотя, но вскоре на город обрушивается настоящий ливень. Позади осталось несколько кварталов. Я тешу себя надеждой, что мы с бабушкой разминулись, и она уже хлопочет на кухне.
Не сговариваясь, поворачиваем на соседнюю улицу. И сразу же натыкаемся на Ксению Петровну. Она лежит, скорчившись, на каменных ступеньках подъезда небольшого дома. Из-под платка выбились мокрые седые волосы. Глаза закрыты. Руки прижимают к груди знакомую плетеную кошелку. Когда я стал поднимать старушку, она тихо застонала.
Неподалеку жил врач, в квартире которого Луць как-то ремонтировал водопроводные краны. Иван Иванович побежал к нему, а я понес Ксению Петровну домой, на Школьную улицу.
Вскоре вернулся Луць. Вслед за ним появился врач, высокий, смуглолицый, с кудрявой цыганской бородой. Бросив мне на руки мокрое пальто, шляпу, прошел в спальню к больной, сердито попросив на ходу дать полотенце и нагреть воды. Минут пятнадцать осматривал и выслушивал бабушку Ксению, потом, виновато покашляв, объяснил: больная потеряла сознание от сильного удара в спину; состояние тяжелое, очевидно, поврежден позвоночник, в результате частичный паралич.
— Ничем, друзья, помочь не могу, — сказал в заключение доктор. — Если бы больную в клинику, под присмотр специалистов... Но сами понимаете, это теперь не для нас. Главное, не давайте ей двигаться, необходим полный покой. А надежды, что выживет, скажу откровенно, очень мало...
К полуночи Ксении Петровне немного полегчало. Она попробовала шевельнуться, но тяжело застонала от боли. Увидев рядом меня, прошептала:
— Возьми... В кошелке, под мешочком...
Луць вынул из кошелки смятую записку, разгладил на руке, прочитал вслух:
«Вчера нас гоняли за город. В поле возле Сосенок заставили копать огромные рвы. Подозреваем, что готовятся массовые расстрелы. Попытайтесь узнать, в чем дело, и сообщите. Возможно, мы рыли могилы самим себе. В лагере по этому поводу сильное волнение.
С приветом Н. П.».
— Записку успел передать Николай, — после нескольких глотков чаю слабым и каким-то чужим голосом проговорила Ксения Петровна. — Я тоже отдала ему все, что вы понаписали. Подбежал немец, наверно, подумал, хлеб передаю, начал кричать. Замахнулся винтовкой, ударил прикладом по спине... Я упала... Полдня домой ползла, сил не хватило... Дальше не помню, что со мной было... Ох, сыночки... Укройте меня потеплее, холодно, рук поднять не могу...
— Сейчас, бабуся, и укроем, и укутаем, и грелку к ногам положим. Недавно был врач, сказал все пройдет. Завтра лекарств достанем, у меня есть в аптеке знакомые, — утешал ее Луць. Но Ксения Петровна уже не слышала его. Голова ее бессильно упала на подушку...
Умерла Ксения Петровна на рассвете, когда в небе засерел новый день. Перед смертью на несколько секунд открыла глаза, без слов обвела угасающим взглядом меня и Луця, вздохнула и медленно смежила веки. Навсегда.
Молча стояли мы над телом нашей верной связной. Склонив голову, Луць печально сказал:
— Первая жертва в нашей организации...
4
Передавая через Ксению Петровну короткую записку с просьбой выяснить, для кого готовились могилы в Сосенках, политрук Красной Армии Николай Михайлович Поцелуев, попавший раненым в плен, разумеется, не мог предполагать, что задал нам очень трудную, почти невыполнимую задачу. Чтобы решить ее, нужно было знать изуверские планы нацистского руководства третьего рейха. А тогда, дождливой осенью сорок первого года, очень многое нам не было еще известно. Ни политрук Поцелуев, ни я, ни Луць не могли знать того, что еще весной, незадолго до нападения фашистской Германии на Советский Союз, в центральном управлении гестапо был создан специальный отдел, скрытый под шифром Б-4, и что этому отделу, который возглавил тезка фюрера Адольф Эйхман, офицер СС в чине подполковника, поручена самая человеконенавистническая в истории акция — массовое, поголовное истребление людей еврейской национальности.
Тем не менее записка Поцелуева и фраза, брошенная в приступе пьяной откровенности комендантом полиции Крупой о тех, что с «желтыми тряпками на спинах», заставили насторожиться. По всем признакам, над еврейским гетто нависла страшная опасность. Пока это было только наше предположение, точно мы ничего не знали.
В Ровно издавна проживали тысячи еврейских семей. В 1939 году число их значительно увеличилось за счет беженцев из Варшавы, Кракова, Лодзи, Жешува. Теперь все они были согнаны в гетто. Тысячи людей, в том числе женщины, дети, старики... Неужели фашисты решили всех их расстрелять, всех, даже детей?..
Надо было немедленно действовать, что-то предпринимать. Но что и как?
Если бы у нас за пределами города была партизанская база! Хотя бы небольшая вооруженная группа, не связанная по рукам и ногам условиями конспирации, подполья!.. Но такой базы, куда бы в случае необходимости можно было переправить людей, укрыть их от зверской расправы, у нас тогда еще не было. Что же делать? Единственное, что могли мы в ту пору, — предупредить жителей гетто о нависшей над ними смертельной опасности. И только.
Сам я не рискнул пойти в гетто. Меня там могли не понять. Все же, как ни говори, секретарь-учетчик, правая рука пана Максимчука, доверенное лицо новой власти. Вряд ли кто из евреев отнесется всерьез к моему предупреждению...
В гетто пошел Иван Иванович Луць. Я назвал ему знакомых по институту студентов Либермана и Мальву Гольберг, зная, что они вместе с родителями остались в городе, не успев эвакуироваться. Через них, казалось мне, легко будет предупредить всех остальных. Мы были убеждены, что достаточно малейшего толчка — и тысячи людей, узнав страшную весть, не станут покорно ждать смерти. Пусть даже гитлеровцам удастся перекрыть дорогу, все равно основная масса обитателей гетто вырвется из города, растечется по лесам, будет бороться за жизнь.
Обойдя ночью полицейские и жандармские патрули, Иван Иванович удачно добрался до кварталов, где располагалось гетто. Больше часа безуспешно стучал в окна и двери домов. Никто не отзывался. Наконец старый портной, с которым Луць был знаком еще до войны, впустил ночного гостя в квартиру. Сын портного знал дом, в котором жила семья Гольбергов, и через несколько минут привел испуганную Мальву.
Луць рассказал семье портного и Мальве обо всем, что предполагал, не скрывая ужасной правды. Девушка побледнела. Старый портной замахал руками, затряс седой бородой:
— Идите своей дорогой, уважаемый. Зачем вселять страх в сердца несчастных. Наш народ прогневал господа бога, и он послал Гитлера за грехи наши как кару. Нехорошо противиться воле всевышнего. Надо терпеть, молча сносить все муки, какими бы тяжкими они ни были...
Убедившись, что говорить с портным пустая трата времени, Луць вышел с Мальвой во двор. Девушка заверила его: о принесенной им страшной вести сегодня же ночью узнают все обитатели гетто. Они договорились встретиться следующим вечером в небольшом скверике, примыкавшем к гетто.
На эту встречу вместе с Иваном Ивановичем пошел и я.
Увидев меня, Мальва расплакалась. Потом, несколько успокоившись, рассказала, что все обитатели гетто, с которыми ей удалось переговорить, отказались что-либо предпринять для предотвращения опасности: одни ссылались на бога, другие просто не поверили девушке.
Возможно, те, с кем она беседовала, оказались слабовольными, сломленными людьми, не способными повлиять на других. Я, однако, считал, что еще не все потеряно. Оставался Либерман. Надо встретиться с ним. Молодой, энергичный парень найдет понятные всем слова, разъяснит, как в действительности обстоит дело.
— Либерман не поможет, — покачала головой Мальва. — Я с ним говорила. Он отругал меня, стал доказывать, что еще не было такого случая, чтобы в наш век уничтожали тысячи мирных, ни в чем неповинных людей. Он уверен, что даже нацисты, при всей их жестокости, не дошли до такого варварства.
Мальва попросила нас встретиться со своим соседом-адвокатом, который слышал о ночном визите к портному.
Луць вопросительно посмотрел на меня: следует ли втягивать в переговоры незнакомых? Я утвердительно кивнул.
— Позови адвоката, мы подождем здесь, — сказал я Мальве.
Вскоре, недоверчиво озираясь, к нам подошел адвокат. Тень настороженности и растерянности лежала на его помятом, давно не бритом лице. Коснувшись пальцами черной шляпы, адвокат спросил:
— Кто вы, господа, и откуда у вас такие... гм... зловещие новости?
— Мы советские люди. Вам этого достаточно?
— Нет, недостаточно. Вовсе не-е-достаточно. Почему мы должны вам верить? На каком основании? Ваше сообщение — провокация. Да, провокация. Вы хотите вызвать в гетто волнения, толкаете людей в пропасть... Не знаю, кто вы, господа, но я не боюсь вас и говорю прямо: ваши сведения рассчитаны на то, чтобы карательные органы новой власти согласно законам военного времени применили к населению гетто санкции. Мы не позволим... Мы не поддадимся. Мы будем...
Опасаясь, что его истошное «мы» услышит кто-нибудь из гитлеровцев или полицаев, я перебил адвоката:
— Кто это «мы», разрешите спросить?
— Все, все, кто проживает тут, в этих домах! — нервно дернувшись, он махнул рукой в сторону кварталов гетто.
— А вы бы за всех не расписывались! — На щеках Луця заиграли желваки, он еле сдерживал себя. — Неужели вы не понимаете, что сейчас не время разводить философию. Людей надо спасать! Ваших родных, знакомых, друзей, вашу семью, ваших детей, наконец, вас лично фашисты хотят уничтожить...
Адвокат отступил, предостерегающе поднял руку:
— Господа, если вы не уйдете отсюда, я... я позову полицию.
Мальва кусала губы. Она с ненавистью смотрела на адвоката. Она верила не ему, а Луцю, мне, но такие, как вот этот, в черной шляпе, видно, сделали все, чтобы в гетто не поверили ни нам, ни ей.
5
Прошло несколько дней. В городе было тихо. У нас даже появилось сомнение в правдивости оброненных Крупой слов. Но к сожалению, вскоре пришлось убедиться, что он не лгал и что не случайно тревожился Поцелуев.
В первую субботу ноября после обеда в городе был расклеен приказ о том, что все лица еврейской национальности, независимо от пола, возраста, места работы, обязаны в воскресенье утром явиться на городскую площадь, имея при себе ценности, двухдневный запас продовольствия, а также самые необходимые вещи, общим весом не более пяти килограммов.
Мы решили сделать последнюю попытку раскрыть глаза обреченным. Поздним вечером Луць, Настка и я отправились в район гетто. Двигались медленно, то и дело прячась от встречных патрулей в подъездах домов и подворотнях. Вдруг впереди, где начинались еврейские кварталы, вспыхнул ослепительный свет. Мы притаились за углом дома. Пошарив по небу, голубоватые лучи света опустились к земле, стало все видно как днем: и дома, и заборы, и стволы голых деревьев.
— Что это? — тихо спросила Настка.
— Прожекторы. — Луць попятился, отталкивая нас в переулок. — Они осветили всю территорию гетто. Назад!..
Как только вспыхнули огни прожекторов, окрестные улицы сразу будто ожили. Замелькали серые фигуры солдат в стальных касках, послышались отрывистые слова команд. Район гетто был окружен плотным кольцом жандармов, полиции, подразделений СД.
...На рассвете поднялась стрельба у железной дороги. Лай собак, звон разбитых стекол, крики немцев смешались с плачем женщин, детей. Потом постепенно все стихло. А через час городская площадь стала быстро заполняться людьми. Жандармы и полицаи гнали сюда все новых и новых обитателей гетто. Многих, видно, подняли прямо с постелей, испуганных, полураздетых. Матери безуспешно пытались согревать своим дыханием малюток. Молодые вели под руки стариков. Шли молча, втягивая голову в плечи, и так же молча вливались в многотысячную толпу, глухо волновавшуюся на площади. От тротуаров и домов площадь отгораживали плотные шеренги солдат, полицаев в черных шинелях, жандармов. Злобно скаля зубы, рвались с поводков овчарки.
Казалось, площадь уже никого больше не вместит. А живой, трепещущий в страшном своем безмолвии людской поток не прекращался. Отовсюду слышалось: «Шнель, шнель, юден!» Офицеры, развлекаясь, били палками по ногам отстающих. Солдаты, подражая им, пускали в ход приклады автоматов, кованые сапоги, ножны тесаков. Люди падали, вскакивали, с проклятиями сплевывали кровь, с ужасом бросались в гущу толпы, спасаясь от ударов. Приглушенный многоголосый стон стоял над разбуженным, встревоженным городом.
«...Нехорошо противиться воле всевышнего... Надо терпеть, молча сносить все муки...» Неужели среди этих людей не найдется решительных, смелых? Неужели невыразимая тяжесть горя раздавила их раньше, чем пули оборвут жизнь? Хотелось крикнуть: «Бегите! Сомните своих палачей! Вас же тысячи!..»
Когда площадь заполнилась до отказа, на подножку автомашины поднялся офицер в мундире СС.
— Ахтунг! Ахтунг! Внимание! — гортанно прокричал он. — Инженерам, врачам, ветеринарам, шоферам, работникам типографий, квалифицированным рабочим остаться на месте. Все остальные — марш вперед! Шнель, шнель!
Солдаты расступились, открыли проход в одну из боковых улиц и направили по ней толпу, ударами прикладов выстраивая несчастных в колонну. Забегали туда-сюда полицаи, рванулись вперед овчарки. Где-то в густой толпе мелькнула взлохмаченная шевелюра Либермана. Может, это не он? Нет, он. Знакомое продолговатое лицо. Юноша пытается протиснуться к сгорбленной, ослабевшей женщине, которая, опираясь на плечо девочки в зеленом платке, еле волочит ноги. Старуха протягивает к парню руки, но толпа подхватывает ее, оттирает в сторону, и Либерману остается лишь беспомощно барахтаться в людском водовороте. Немец в гражданском вприпрыжку бежит по тротуару, щелкает «лейкой», что-то возбужденно выкрикивает жандармам, те смеются.
Из квартиры Луцей (они недавно перебрались в центр города, на улицу Тарновского) мы наблюдаем за движущейся громадной колонной. «Куда она свернет? Куда?»
Проходит несколько томительных минут. Колонна сворачивает в район Грабников. Рядом со мной у окна стоит Иван Иванович. Я замечаю, как лицо его покрывается землистой бледностью: из Грабников дорога ведет в Сосенки.
В тот день за городом до самого вечера ни на минуту не стихал треск автоматов и глухое рокотание пулеметов. Люди, жившие на окраине Ровно на пути к Сосенкам, оставляли свои дома, бежали к центру, прятались у знакомых.
И город словно вымер. Прекратилась работа. Наглухо закрылись все двери.
Убийцы не рассчитали: могил не хватило. Последняя колонна в несколько тысяч человек была расстреляна прямо в степи. Солдаты и офицеры СД, рыская среди распростертых на мокрой земле тел, пистолетными выстрелами и штыками добивали раненых. Страшное поле смерти кропил дождь, уныло посыпал мокрый снег. Розовые ручейки воды, смешанные с человеческой кровью, сбегали вниз, на дорогу...
* * *
Свет настольной лампы падает на красивое утомленное лицо Настки Кудеши, на ее большие, темные глаза. Ее пальцы проворно бегают по клавиатуре пишущей машинки. Настка почти сутки не встает из-за стола. Мы с Луцем диктуем, она печатает. На столе растет стопка листов, заполненных машинописным текстом:
«...Массовыми убийствами, террором фашистские палачи надеются запугать наш народ, посеять среди нас неверие в свои силы. Но советские люди не склонили и не склонят головы. Красная Армия ведет упорные бои с оккупантами на фронтах, народные мстители поднимаются на беспощадную борьбу в тылу врага. Час расплаты придет. Проклятые захватчики еще почувствуют на собственной шкуре силу нашего оружия, испепеляющий огонь нашей ненависти...»
Проходит час, другой, третий... Настка продолжает печатать:
«Товарищи ровенчане! Вспомним славную историю нашего края! На его просторах тысячи бойцов Красной Армии самоотверженно сражались за дело Ленина, за Советскую власть, за свободу и счастье народа. Будем же достойны героев! Не дадим гитлеровским бандитам хозяйничать в нашем родном доме. Готовьте оружие!
Наносите фашистам урон на каждом шагу. Усиливайте отпор врагу! Уничтожайте вражескую технику, имущество, снаряжение!
Смерть фашистским оккупантам! Да здравствует Советская Украина!»
Утром, выйдя на улицу, ровенчане увидели на столбах и заборах небольшие листки, наклеенные поверх немецких приказов. Люди, оглядываясь, жадно прочитывали каждое слово, и на глазах у многих выступали слезы...
Это было осенью жестокого 1941 года.
Борьба только начиналась.
Часть вторая
Фабрика валенок, гребешков и щеток
1
Резвые вороные, цокая подковами, высекали искры из камней мостовой. Бричка катилась по улицам города мимо домов с выбитыми окнами, мимо по-осеннему оголившихся садов, мимо кирпичных и деревянных заборов. Прохожие бросали хмурые взгляды на немецкого офицера, развалившегося на застланном дорогим ковром сиденье брички, и на человека с безразличным, будто сонным, лицом. Он сидел рядом с немцем, кутаясь в серый плащ.
Я примостился спереди возле кучера. По спине полз противный холодок. Я всеми нервами ощущал дыхание тех двоих: офицера с неподвижными оловянными глазами и человека в сером измятом плаще. Страшно было оглянуться. Слабенькой искрой где-то в мозгу еще теплилась надежда на спасение, а оглянувшись, я мог увидеть нацеленное на меня дуло офицерского пистолета.
Несколько раз я готов был схватиться за вожжи, швырнуть кучера назад, на офицера, и броситься в первый попавшийся двор или переулок. Но каждый раз сдерживал себя. Одна мысль мешала сделать этот последний шаг: «Ты же ничего не знаешь... Неизвестно, куда тебя везут, где остановится бричка... Может, ошибка, случайность?»
Я был уверен, что арестован, хотя, когда подходил к бричке, успел заметить: погоны на мундире офицера интендантские. Это в какой-то мере поддерживало надежду на благополучный исход. Но может быть и другое: офицер просто маскируется, специально напялил на себя интендантский мундир, приехал за мной один, без солдат, чтобы не поднимать лишнего шуму, чтобы не дать повода для тревоги тем, кто связан со мной. А зачем с немцем приехал тот, в плаще? Ведь я его знаю... Может, он тоже агент гестапо?..
В голове вихрем проносились разные мысли.
Все случилось неожиданно, четверть часа назад.
Меня вызвал к себе Максимчук. Шеф фабрики ерзал в кресле, вздыхал и отводил глаза, листая страницы книги учета готовой продукции. Листы были почти чистыми. Максимчук нервничал. Дела на производстве шли плохо. Предприятие большей частью простаивало. Не хватало рабочих. После расстрела обитателей еврейского гетто фабрика несколько дней вообще не работала. Максимчук спешно начал набирать новых людей, украинцев, подчеркнуто игнорируя русских и поляков. При этом пану шефу пришлось поступиться некоторыми своими привычками. Раньше за спиной полицаев, присматривавших за рабочими-евреями, он чувствовал себя богом, издевался над беззащитными стариками, женщинами и детьми, как хотел. Коротконогий толстяк часто набрасывался на невольников с кулаками, избивал их ногами, швырял в них куски металла, ржавые болты...
Теперь полицаев в цехах не было. Да и рабочие не те, что прежде, не бессловесные невольники. Сначала новички отвечали на брань и угрозы пана шефа молчанием. Когда же Максимчук попробовал, как раньше, пустить в ход кулаки, рабочие обступили его тесным кольцом, прижали к стенке. Высокий чернобородый дед с гаечным ключом в руке, подступив к пану шефу вплотную, не повышая голоса, сказал:
— Вы, пан директор, не вертитесь в цеху, а то, не приведи господь, на вас случайно упадет раскаленная сковородка или другое что случится... Люди мы неученые, на фабрике впервые... Так вы уж, будьте добры, сидите себе в своем кабинете, а мы будем работать. Поняли, пан, или повторить еще раз?
Максимчук, прочитав во взгляде старика что-то недоброе, испуганно попятился и едва не свалился в корыто с мазутом. Рабочие громко, на весь цех захохотали. Дед поддержал шефа под руку, да так неумело, что уронил гаечный ключ, который с силой шлепнулся на пол у самых ног Максимчука.
Жаловаться пан директор не побежал. Видно, крепко перепугался, притаился, как мышь. После этого случая начал даже заигрывать с рабочими, стал подчеркнуто вежливым и добросовестно выполнял совет чернобородого деда — не вертеться в цеху.
А тут еще начальство!.. Оно чуть ли не ежедневно устно и письменно выражало недовольство плохой работой фабрики. Несколько раз в «Центросоюзе» Максимчуку задавали трепку за неспособность наладить производство. Пан шеф окончательно скис и, хватаясь за голову, то и дело повторял:
— Что делать, пан Новак? Что делать?
Я пожимал плечами. Пан директор — человек бывалый, жил за границей, много видел, имеет опыт. Ему виднее. Что я могу посоветовать?
Максимчуку не хотелось без особой нужды попадаться на глаза Морозу, верховодившему в «Центросоюзе». Если требовалось за чем-нибудь идти в союз, директор почти умоляюще смотрел на меня и бормотал:
— Сходите вы, пан Новак. Мне что-то сегодня нездоровится, в пояснице колет, ноги опухли... Это все из-за сердца. Подводит, проклятое... А там понервничаешь, разволнуешься, еще хуже будет. Сходите, пан Новак, вы, сделайте одолжение.
Я не отказывался, хотя Мороза не очень радовали встречи со мной. Помня о моем первом визите вместе с Крупой, председатель «Центросоюза» считал, что лучше не иметь со мной дела, и быстренько спроваживал меня в промышленный отдел к инженеру Дзыге. Тот встречал неизменным вопросом:
— У пана Максимчука опять желудок? Или на сердце жалуется? Хотя это все равно. Из него директор, как из навоза пуля. Другие, правда, тоже не лучше... Ну садитесь, рассказывайте. Только предупреждаю: ничего не просите. Не дам. Нет ни сырья, ни оборудования. Ничего у меня нет. Ни на копейку. Помочь наладить производство тоже не могу. Я не специалист по изготовлению кофе. А вообще, рассказывайте...
Я все пристальнее присматривался к Дзыге. До войны он работал тут же, в Ровно, инженером на мебельной фабрике. И работал, как мне было известно, неплохо. Теперь, устроившись в промышленный отдел «Центросоюза», он больше имел дело с бумагами. Положение на предприятиях мало интересовало его. Лицо Дзыги всегда оставалось равнодушным. Он выслушивал сетования шефов мастерских и небольших заводиков с видом человека, которого допекает зубная боль. Знал я и о том, что националисты уже не раз недвусмысленно намекали ему: если не сблизится с их организацией, распрощается с должностью. Дзыга отмалчивался.
...И вот этот самый Дзыга вместе с офицером-интендантом неожиданно вошел в кабинет Максимчука. Не успел я опомниться, немец скользнул взглядом по толстой фигуре директора фабрики кофе и уставился на меня выпученными неподвижными глазами, Спросил инженера по-русски:
— Это он?
Дзыга утвердительно кивнул.
— Поедемте с нами, молодой человек, — сказал немец. — Собирайтесь. У меня мало времени.
Сердце тревожно екнуло в груди. Когда и в чем допущена оплошность? Неужели Крупа?.. Вот проклятый австриец, все-таки донес... А может, Максимчук? Но ему ничего не известно. Так что же случилось? Что?..
Во дворе стояла бричка. Офицер указал мне место возле кучера. Сам с инженером сел сзади. Лошади взяли с места бодрой рысью.
...Мы миновали железнодорожную колею, пополам разделявшую город. За переездом кучер дернул вожжи, вороные повернули влево. Бричка покатила зеленым лугом, низиной, выскочила в начале улицы Хмельной и остановилась. Перед нами были ворота фабрики валенок. Надпись на облупленной двери гласила: «Директор». Мы попали в небольшую захламленную комнату. За столом сидел пожилой мужчина. Его небритое, словно присыпанное пылью лицо испуганно передернулось, когда на пороге появился офицер.
— Вы есть директор? — Немец удивленно вскинул брови, разглядывая мужчину, его лоснящийся пиджак, измятую, неопрятную рубаху, всклокоченную седую шевелюру.
— Так точно, ваше благородие! — Директор быстро вскочил со стула, подтянул брюки и замер, полуоткрыв рот.
Офицер не спеша обошел вокруг стола. Не спуская глаз с побледневшего директора, он брезгливо скривился и выразительно взмахнул перчаткой.
— Убирайтесь вон. Вы уже не директор. С сегодняшнего дня. Дела передайте ему. — Кожаная перчатка ткнула в мою сторону.
Я опешил. Мне принимать фабрику?! Они хотят назначить меня руководителем предприятия в оккупированном городе, назначить директором! По дороге многое приходило мне в голову. Но такого не ожидал... Вот так сюрприз! Надо что-то говорить, как-то мотивировать отказ. И немедленно...
Но офицер не дал мне сказать ни слова:
— Выполняйте приказ! Дела должны быть приняты через два часа. Пан инженер проследит. Хайль Гитлер!
Шаги немца стихли в коридоре. Загромыхали колеса брички. Бывший директор вынул из ящика печать, какие-то бумажки и размашисто трижды перекрестился.
— Наконец-то дождался! Провались она сквозь землю, эта фабрика. Что я здесь имею? Ровным счетом ничего. Одни неприятности. Теперь мои дела пойдут на лад! Пойдут! — Он повернулся ко мне: — Как вы думаете, что выгоднее — продуктовая лавка или комиссионный магазин? Помещение уже есть. Мне бы для начала хорошего компаньона. Деньжат, правду говоря, немного имеется, но...
Я обернулся к Дзыге:
— Ничего не понимаю.
— Понимать тут нечего, — ворчливо проговорил инженер. — Вы теперь директор фабрики валенок. Вот и все. Забирайте у Косача печать и — желаю удачи... руководите.
— Руководите, руководите, — злорадно проскрипел Косач. — Еще не раз заплачете горькими слезами! Сырья нет ни черта, денег на зарплату не дают, машины разбиты, люди в цехах сидят злые как волки... Запросто перегрызут горло любому. Хлебнете, пан, лиха, не завидую я вам!
Дзыга неожиданно вскипел:
— Хватит кудахтать, Косач. Сказано собирай монатки, так и проваливай, не болтай. Без тебя разберемся!
Я уже твердо решил в эту минуту: к черту фабрику валенок, «Центросоюз», всех этих максимчуков, морозов, косачей... Пока не поздно, надо исчезнуть, перейти на нелегальное положение.
2
Под вечер я зашел к Луцям. Взглянув на меня, Иван Иванович встревожился:
— Что случилось? По лицу вижу, у тебя неприятности.
Я обессиленно опустился на стул:
— Беда.
— Гестапо? — спросил Луць.
— Нет. Но все равно беда: меня только что назначили директором фабрики валенок.
Иван Иванович нахмурился, прошелся взад-вперед по комнате.
— Так-так... Значит, директором фабрики? На улице Хмельной? Знаю. Настка! — позвал он жену, и в его глазах забегали веселые чертики. — Настка, иди-ка сюда, есть новость!
Услышав о моем назначении, Настка всплеснула руками:
— Ой, нехорошо получилось, Терентий! Подумать только: директор немецкой фабрики! Что скажут люди? Просто ужас!
Прищуренными глазами Луць насмешливо посмотрел на меня, потом на Настку, покачал головой:
— Вы что, в самом деле недовольны? Эх вы, головы садовые. Недотепы, паникеры. Да вы хоть понимаете, что произошло? Ничего вы не понимаете, а еще старая гвардия... Во-первых, с каких это пор ровенская фабрика стала немецкой? Что-то я не замечал здесь немецких фабрик. Во-вторых, только легкомысленный человек может втемяшить себе в голову, что директорский пост заставит подпольщика перейти на нелегальное положение. Наоборот! Когда еще подвернется такой случай? Может, будете возражать, а? Директор фабрики!.. Да это же чудесно, блестяще! Лучше и не придумаешь!
— Ничего блестящего не вижу. Пойми, может немцы рассчитывают моим назначением сбить с толку других? Смотрите, мол, люди, будьте такими лояльными, как Новак, и вы заслужите наше расположение, благосклонность и еще черт знает что...
Луць отмахнулся:
— Чепуха в квадрате! Зачем усложнять ситуацию? Я с каждым днем все больше убеждаюсь: мы переоцениваем психологию врага. Грубое солдафонство, расчет на силу — вот их психология. Все иное — плод нашей собственной фантазии, порожденной неудачами на фронте. Тебе кажется, что враг, сажая кого-нибудь из нас в директорское кресло, ведет какую-то хитроумную игру с дальним прицелом, с коварными замыслами. А какая здесь может быть политическая игра? Директор небольшой фабричонки. Это что, министерский портфель, кресло губернатора? Обычное дело: подхалимы из «Центросоюза», тот же самый Мороз или еще кто-нибудь, из кожи лезут, чтобы лишний раз выслужиться перед Крупой. Вот тебя и назначили на директорский пост. Узнает, дескать, оценит старание, а когда будет бить по морде, то, может, вспомнит услужливость и отлупит не так больно... Допускаю и другое, более простое объяснение: ты подвернулся под руку Дзыге, понравился чем-то ему, вот тебя и назначили. Тоже не исключено. — Луць перестал улыбаться, серьезно добавил: — От директорства не думай отказываться. Фабрика нам пригодится. Там такие дела закрутить можно, только держись! Конечно, тебя ошеломила неожиданность, ведь ты не предполагал такого. Понимаю. Но взгляни на вещи трезво.
— Тебе хорошо говорить. Интересно, что бы ты сам запел, если бы тебе вдруг объявили...
— Гаулейтера Коха долой, садись, Луць, на его место, — вставил Иван Иванович. — Если взбрело бы Гитлеру дать мне этот пост, ей-богу, не отказался. Хоть неделю, а продержался бы, и запомнили бы они меня на всю жизнь. Такую б кашу заварил!.. Поскольку же фюрер пока не вспомнил о моей персоне, согласен и на меньшее. Например, на место главбуха твоей фабрики. Как, директор? Возьмешь? Будет нас на предприятии двое. К тому же Настка сможет в любое время приходить к нам. Жене главбуха вход свободный. И никаких подозрений, все очень естественно... Вот тебе первые конкретные выгоды от твоей новой должности. Для начала. Потом пойдем дальше, присмотримся к рабочим, кое-кого, может, привлечем к делу, нужных нам людей будем устраивать к себе. Теперь сообразил, что не ругать, а благодарить надо того интенданта?
Трудно было что-нибудь возразить Луцю. Я молчал. А он с жаром продолжал рисовать перспективы, которые откроются для нас в будущем. Можно перенести на фабрику и радиоприемник (мы разыскали его на чердаке бывшего ателье), можно попытаться наладить выпуск листовок, воззваний. И наконец, главное — под видом командировок по делам производства можно будет беспрепятственно выезжать в районы для установления связей с другими подпольными группами. Легче будет работать нашим связным. На них никто не обратит внимания: ведь на фабрике ежедневно бывают десятки людей...
Слушая Ивана Ивановича, я заколебался. Перспектива директорства начала вырисовываться в другом свете. Но волновала, неотступно преследовала мысль: как отнесутся ко мне земляки-ровенчане, честные советские люди? Ведь в их глазах я стану прислужником оккупантов, в лучшем случае приспособленцем, который, потеряв совесть, угождает врагу ради теплого местечка.
Рука Луця легла на мое плечо.
— Сердце зажми в кулак, — сказал он. — Борьба есть борьба. И пойми, мы бойцы. Только наше оружие — не пушки, не пулеметы, у нас иное... Настанет день, люди узнают, что был на фабрике директором советский парень и что совесть у него чиста. Узнают обязательно... Даже если нас уже не будет в живых. Крепись, друг! Ты не один. Рядом будем мы. Нас будет много... Коль мы не доживем до лучших дней, до победы, то доживут другие. Правда не умрет. Да и объяснять не придется. Люди сами во всем разберутся, если только выполним то, ради чего тебя послала сюда партия. Главное — выполнить! После войны каждого будут оценивать по его делам. И нас тоже. В одном я с тобой согласен — с ношей, которую ты берешь на себя, нельзя шутить. И не дай нам бог спасовать, спрятать голову под крыло. Люди справедливо скажут: не борцы они, а шкурники, шкуру свою спасали. Тогда уж пулю в лоб, и точка! Да, ноша нелегкая. Но если чувствуешь в себе силу — берись. Это нужно для нашего общего дела. Очень нужно, Терентий!
* * *
Я вышел во двор. Где-то за вокзалом кричали паровозы. Гитлеровцы гнали эшелоны на восток, на фронт. По улице на большой скорости пронеслись несколько автомашин и две танкетки. Гусеницы танкеток зловеще лязгали по мостовой. Приглушенные расстоянием, откуда-то донеслись автоматные выстрелы. Потом пронзительные, душераздирающие крики, и снова треск автоматов... Холодный осенний ветер бился в неосвещенные окна, стонал, высвистывая свою печальную песню в голых деревьях.
Где вы сейчас, Василий Андреевич? Как далеко отсюда до вас! Вам, секретарю обкома, которого уважаю, как родного отца, я рассказал бы все-все, чтобы услышать в ответ слова доброго совета, ободрения. Рассказал бы, как еще два месяца назад задыхался в этом мраке, окутавшем наш город, чувствовал себя совсем одиноким, ежеминутно ждал смерти. Нет, я бы не жаловался на свою судьбу, не сетовал на трудности, не сожалел о том, что по вашему заданию остался в городе своей юности, где сейчас лютует враг. Не в жалобах дело. Я не терял и не теряю веры в нашу победу. Теперь я не одинок, со мной друзья, и нас уже не четверо, как там, в домике на окраине. Рядом с нами многие. Их становится с каждым днем все больше.
В Гоще начал действовать отчаяннейший комсомольский вожак — мой старый знакомый Иван Кутковец.
Я встречался с ним в своем родном селе. Разговор был откровенным, без каких-либо подозрений, так же, как с Кульбенко, Луцем, с Насткой Кудешей. Гощанцы достают и прячут оружие, распространяют в окрестных селах листовки, ведут суровую борьбу с фашистами и их приспешниками — националистами.
В Рясниках член подпольного центра Прокоп Кульбенко. С ним надежные люди: Иван Оверчук, Дмитро Кожан, Роман Замогильный, Михайло Геращенко.
Пташка, Оля Солимчук, по нашему заданию работает в селе Синев. После моего посещения Гощи она разыскала меня в Ровно. Мы поняли друг друга. Оля возвратилась в село, подбирает там боевых ребят. Но ее придется перебросить в другой район. В Синеве девушку все знают, оставаться там ей опасно.
Немало успел уже сделать и Николай Поцелуев в лагере военнопленных. После смерти Ксении Петровны связь с ним поддерживаем через Настку Кудешу. На днях Поцелуев сообщил, что в лагере создана группа бойцов и командиров, готовая выполнять указания городского партийного подполья.
Перекинули мы недавно мостик в Грушвицу. Там находится бывший делегат Народного Собрания секретарь Ровенского горкома комсомола Федор Кравчук. О нем узнал Кульбенко. С Кравчуком виделся Луць. По его словам, Федор не сидит сложа руки. Он скоро сам приедет в Ровно, чтобы доложить о деятельности грушвицких товарищей.
Мы осторожны. Действуем пока на ощупь, но уже кое-что сделали.
Да, вы были правы, Василий Андреевич: заранее все предусмотреть и учесть невозможно. Я понимал это и тогда, когда мы почти всю ночь вели разговор о подпольной работе, понимаю и теперь. Но вот только сейчас по-настоящему почувствовал всю серьезность вашего предостережения. Проклятая фабрика валенок!.. Как мне быть с директорством? Я думаю, ломаю голову, не семь, а сто раз примеряю, прежде чем отрезать, чтобы не ошибиться, не споткнуться. Нерешительность? Нет, не то. Может, я слишком осторожен, много рассуждаю, а действовать следует смелее, не оглядываясь?
Как мне не хватает сейчас вас, если бы вы только знали, Василий Андреевич!
...Настка готовила ужин. Луць сидел у стола и чистил ржавый польский пистолет «вис». Я толкнул Ивана Ивановича в бок:
— Придется-таки брать тебя главным бухгалтером. Пиши заявление! Только число проставь не сегодняшнее, а так, будто ты недели две назад обратился с этой просьбой к Косачу. Пусть за твою «бухгалтерскую» деятельность отвечает бывший директор Косач, с него теперь взятки гладки.
Луць внимательно посмотрел на меня, улыбнулся:
— Можешь считать, что бухгалтер у тебя есть. Тебе повезло!
Иван Иванович перед моим приходом только что вернулся из села Городок. Там виделся с Иосифом Чибераком. Домик Чиберака стоит в густой чащобе, километрах в четырех от Ровно. Луць считал, что лучшей резервной конспиративной квартиры не подберешь. Если же осуществятся наши планы о создании партизанского отряда, дом Чиберака может служить отличной явкой для встреч с партизанскими связными.
— А человек он надежный, не подведет? — спросил я.
Суровый взгляд Ивана Ивановича потеплел.
— Побольше бы таких, как Иосиф Адамович. Посидел я у него часа два, и веришь, даже легче стало на сердце. Знаешь, кто он такой? Бывший красногвардеец, дрался за Советскую власть еще в гражданскую, потом служил в специальных частях по борьбе с контрреволюцией в тылу, а позже не давал спокойно жить и пану Пилсудскому. Я знаю Чиберака давно. В двадцать восьмом он вступил в Компартию Польши. Занимался распространением нелегальной литературы, листовок. Лет шесть за решеткой отсидел. Короче говоря, пойдет старик с нами и в огонь и в воду. Живет он с женой в лесу. О его прошлом в Городке мало кто знает: сам он с Холмщины. Как услышал, с чем я к нему пришел, даже заплакал. Давайте, говорит, любое поручение, выполню, хоть к черту в зубы пошлите, пойду, если нужно, за пулемет лягу, винтовку возьму... Словом, Чиберак себя и свой дом отдает в наше полное распоряжение. Я оставил ему пароль: «Продайте семнадцать яиц, заплачу ботинками». В случае чего туда можно смело идти. Кульбенко об этой квартире тоже знает.
Через полчаса я стал прощаться. Настка не пускала, предлагала заночевать у них, я отказался. До комендантского часа оставалось минут сорок. На улице было холодно, неприветливо. Накрапывал дождь, время от времени срывались мокрые снежинки. Я торопливо шагал по улице. Из ресторана «Гоф» доносились пьяные песни немецких офицеров. Сквозь ярко освещенное окно видны были столы, заставленные бутылками и закусками. В папиросном дыму мелькали мышиного цвета мундиры. Между столиками сновали официанты. На двери ресторана белела табличка: «Только для немцев». У входа топтались несколько итальянцев. Размахивая руками, они требовали от швейцара, чтобы тот открыл дверь, но старик монотонно повторял: «Нельзя, господа, нельзя. Ресторан только для немцев».
Возле железнодорожного переезда я на миг остановился, посмотрел в сторону злосчастной фабрики валенок. В проходной будке мерцал слабый огонек. Мне не хотелось идти домой, в пустую, холодную квартиру. Подумав с минуту, я повернул к фабрике. У проходной меня встретил сторож. Узнал. Растерялся.
— Добрый вечер, пан директор, добрый вечер! — С этими словами он бросился было открывать дверь, ведущую на фабричный двор.
Я остановил его, кивнув на будку:
— Погреться пустите?
Сторожа, поляка по национальности, звали Михал. Вначале он смотрел на меня настороженно, вероятно пытаясь отгадать, зачем это нелегкая принесла пана директора так поздно на фабрику. Но потом настороженность прошла, особенно когда я заговорил с Михалом на его родном языке. Он, видно, был добрым человеком. Вздыхая, стал жаловаться на свою судьбу. Никого не ругал, никого не хвалил. Просто рассказывал о том, что гнетет его, что не дает покоя. У него восьмеро детей. Всех надо одеть, накормить. А как и чем? Даже рабочие в цехах получают очень мало: ведь фабрика, считай, стоит с тех пор, как пришли немцы. А что уж говорить о нем, стороже. Правда, цеховые рабочие кое-как выкручиваются. Достают где-то шерсть, сделанные из нее валенки меняют на хлеб, на картошку. Только пусть не гневается пан директор, люди делают это не от хорошей жизни, да и рискуют немало. Валенки-то менять запрещено. Немцы узнают — посадят в тюрьму, а то и расстреляют. Об этом не раз напоминал пан Косач. Но и жить как-то надо, не помирать же с голоду! На фабрике работают хорошие люди. Большинство украинцы, есть поляки. Держатся дружно. Бедные всегда живут в согласии. Он, Михал, сторожевал здесь и до войны. Тогда, конечно, было иначе. Выпускали валенок тысячи пар, хорошо зарабатывали. Врать он не приучен, говорит только правду. Так было. Теперь все изменилось к худшему. Во всем виновата проклятая война...
В будке топилась печка, в ней весело потрескивали сосновые чурки. На столе мигала плошка. Было уютно, спокойно. Мы с Михалом сидели возле огня и, обжигая пальцы, чистили вареную картошку. Разговаривали, как давние знакомые.
Быстро летело время. Пробило двенадцать. Михал взял кожух, постелил на топчане, сказал:
— Ложитесь, пан директор. На рассвете разбужу, чтобы рабочие не видели вас здесь. А то неудобно будет: сторож и директор в одной будке ночуют.
— Михал, а вы не боитесь так откровенно говорить со мной? Теперь ведь всякое бывает, — сказал я, устраиваясь на топчане.
Лицо сторожа расплылось в улыбке:
— Чего там, пан директор! Неужели я так постарел? Вы, видно, не припоминаете меня? А я узнал вас сразу. Вы же шорником работали у пана Василевского! Помните конюха того усатого генерала, что всегда торговался и бранился с Василевским из-за каждого гроша? Так тот конюх я и есть. Когда вчера вас привезли сюда и народ загудел: «Новый директор!», я подумал про себя: «Если директором стал шорник, то еще поживем, не пропадем...»
3
Рабочие и служащие фабрики встретили меня выжидательным молчанием: что, дескать, за птица новое начальство?
По моей просьбе все собрались в большом цехе. Рабочих было человек тридцать. Сосенковская акция задела и фабрику валенок — более ста рабочих из гетто полегло под пулями фашистов.
Неприветливые, настороженные люди молча разглядывали меня. В глазах у каждого плохо скрытое презрение: по фабрике уже разнеслась весть, что новый директор ничего не смыслит в производстве вообще, а в технологии изготовления валенок тем более.
— Как же думаете на хлеб зарабатывать, люди добрые? — спросил я, оглядывая присутствующих. Народ передо мной стоял разношерстный. Были тут и пожилые, и подростки. На вопрос никто не ответил. Наступила длительная пауза. Мужчина в рваной шляпе поднял голову и за всех сказал:
— Заработаешь здесь черта с два!.. Плюнуть бы на все, только деться некуда. Что заработаешь, если работы нет? Из тряпья валенки не собьешь!
— Работа будет, даже сегодня, — объявил я. — Оглянитесь вокруг: всюду грязь по колено, во дворе лужи, под ногами кирпич, палки, битое стекло. Не фабрика, а плохой свинарник. Нужно прибрать, расчистить, привести все в порядок. Вам же тут трудиться.
Вперед протолкалась молодая круглолицая женщина.
— А платить кто будет? — с вызовом спросила она.
Толпа загудела:
— Правильно говорит Мария. Кто будет платить?
— Работать за спасибо? Дураков нет!
— Косач обещаниями кормил, а теперь вы...
— Даром работать не будем, пальцем не шевельнем!
— Кому не нравится грязь, пусть тот и наводит лоск...
Рядом со мной стоял сторож Михал. Наклонившись к нему, я указал глазами на круглолицую женщину, тихо спросил:
— Кто это?
— То, проще пана, Мария Жарская, белоруска. Ей пальца в рот не клади, — шепотом ответил сторож и тепло улыбнулся.
Я поднял руку:
— Криком, люди добрые, делу не поможешь. А платить фабрика будет, — я подтолкнул вперед Луця. — Вот наш бухгалтер пан Луць. Зарплату будем выдавать в две недели раз, как положено. Это я вам обещаю. Но не сегодня и даже не завтра. Касса пока что пуста. Денег нет. Как выйти из этого положения, давайте вместе подумаем.
— Вы директор, вы и думайте, — выкрикнули из толпы.
— Директор-то действительно я, только не все от меня зависит. А вас хочу спросить: как полагаете, есть на Ровенщине сырье для фабрики или нет? Овцеводством у нас занимаются?
Мужчина в рваной шляпе насмешливо хмыкнул:
— Какое тут овцеводство! Ну держит кое-кто по две-три овцы, вот и все.
— Это верно, — согласился я. — Овец на Ровенщине немного. Но все же они есть. А что, если попробовать принимать заказы от тех, у кого есть сырье? Как думаете, заказчики найдутся?
— Найдутся!
— Людям обувка нужна!
— Шерсть будет.
— Значит, так и решим. Начнем выпускать валенки из сырья заказчиков. Но временно, только для того, чтобы обернуться с зарплатой, а потом... Впрочем, не станем забегать вперед. Все будет хорошо...
Рабочие оживились. Такое начало разговора, как видно, понравилось, но вместе с тем и удивило их. С приходом оккупантов люди отвыкли, чтобы с ними кто-то советовался, прислушивался к их голосу. Разумеется, они поверили далеко не всему, что я сказал, и, возможно, опасались обмана, какого-нибудь подвоха.
Ко мне обратился бледный, худощавый парень:
— Разрешите, пан директор. Работать на сырье заказчиков, может, дело неплохое, и какой-нибудь заработок нам перепадет. Но это еще вилами на воде писано. Пока крестьяне узнают о приемке заказов, пока начнут приезжать, к тому времени с голоду подохнем...
— Что же вы предлагаете?
Он замялся, словно обдумывая, стоит ли продолжать, потом не очень решительно сказал:
— Если, к примеру, я или кто-нибудь из нас достанет шерсть, вы разрешите катать валенки для себя?
Мне припомнился ночной разговор со сторожем. Нетрудно было понять, о чем шла речь. Сдерживая улыбку, я обернулся к Луцю:
— Как вы считаете, пан бухгалтер, можно дать такое разрешение?
— Если человеку нужны валенки и он купил шерсть, почему бы не разрешить, — деловито проговорил Иван Иванович. — Шерсть — личная собственность, а теперь собственность — самое главное. Конечно, надо будет удерживать незначительную сумму за амортизацию оборудования. А может, обойдемся и без этого...
— Коли так, то начнем уборку в цехах, — предложил я.
— Начнем! — послышались голоса.
— В чистоте оно приятнее даже голодному...
— И сор вынесем, и дорожки песком посыплем.
— Немцы, известно, порядок любят...
Оживленно переговариваясь, рабочие разбрелись по цехам.
Только вернувшись в кабинет, я напряженно улыбнулся. Засмеялся и Луць.
— Ох, пан директор! — сказал он, весело, по-мальчишески подмигивая. — Чует мое сердце: вылетим мы с тобой в трубу, докатимся до банкротства!.. Песочек на дорожках не поможет. И вообще, ты хоть немного представляешь, в чем состоят твои директорские обязанности?
— Как тебе сказать? Чтобы очень хорошо, то нет, а чтобы вовсе нет, то...
— Понятно! Я тоже: чтобы хорошо, то нет, а чтобы не очень хорошо, то тоже нет. Вот так и будем руководить, хотя, откровенно говоря, руководить-то особенно некем. Три десятка рабочих. Гм! Я думал, в самом деле крупное предприятие, даже побаивался...
Открылась дверь. Секретарша Нина, молоденькая смуглая девушка, заглянула в кабинет и вполголоса доложила:
— К вам немцы идут, пан директор!
Я вскочил.
— Сколько их?
— Двое, только что вышли из машины.
Голова секретарши исчезла. Луць бросил на стол какие-то бумаги, папку, замахал на меня.
— В кресло, в кресло садись! Чтобы все выглядело солидно. Я рядом стану, как и положено бухгалтеру. Думаю, приехали интенданты.
— А если гестапо?
— Тогда остается вот это, — он отвернул полу пиджака, показал пистолет «вис». — Я буду стрелять, а ты удирай. Что бы ни случилось, удирай... Внимание! Они уже в коридоре. Слышу шаги...
В дверь постучали.
— Прошу, — крикнул я.
Откормленный, похожий на гладкого борова, немец в военном быстро вошел в кабинет. Отдышавшись, вытер платком вспотевший лоб и двойной подбородок, снял фуражку, любезно улыбаясь, отрекомендовался:
— Хирш! Моя фамилия Хирш, пан директор. А это лейтенант Вебер, мой помощник, — он указал на вошедшего следом молодого офицера с перебитым носом. — Приятно видеть, что в вашем городе, несмотря на военное время, действует такое предприятие, — продолжал он тараторить, проглатывая слова. — Похвально, очень похвально! Оберштурмбаннфюрер Беер, гебитскомиссар, человек настойчивый и имеет твердую руку... Я знаю Беера, он мой земляк... Но кто бы мог подумать, что в каком-то захолустном Ровно есть фабрика валенок. Приятная неожиданность. Ага, вы заняты делами, пан директор. Вижу, вижу. Работа и еще раз работа! Очень хорошо. Не буду мешать. Изложу свою просьбу и пойду... Вебер, вы опять курите? Это вредит здоровью... Так вот, пан директор! Мне нужно пять тысяч пар хорошей, добротной русской обуви, пять тысяч пар валенок. Только пять тысяч. Не больше. Как видите, цифра скромная. Когда можно присылать машины? Сколько необходимо времени, чтобы изготовить всю партию? Два-три дня или неделю?
Он выхватил из кармана блокнот, приготовился записывать. На волосатых пальцах немца блестели перстни.
Я вздохнул и отрицательно покачал головой:
— К сожалению, господин Хирш, должен вас огорчить.
— Почему? Вы отказываете мне, майору Хиршу? А, понимаю. Меня опередил этот проныра гауптман Туссен. Он разместил у вас свой заказ? Ведь я угадал? Не так ли, пан директор?
— Нет, господин майор. Гаутпман не удостоил еще меня своим визитом. Вы первый заказчик. Прискорбно, но фабрика не в состоянии дать вам ни одной пары валенок по другой причине.
— А именно?
— У нас нет сырья, химикатов. Мало рабочих.
— Вот так история... Тогда я вынужден обратиться в гебитскомиссариат. Пусть найдут сырье. Пусть стригут шерсть хоть с собак, а обувь для армии на зиму должна быть... Нет, мы получим валенки, обязательно!
— Обращайтесь, пожалуйста, может, вам и помогут. Будем благодарны.
Майор зашагал по кабинету. Лейтенант сидел в стороне, не вмешиваясь в разговор, пуская изо рта кольца дыма. Хирш надел фуражку, одернул шинель.
— Прощайте, пан директор. Нет, до свиданья! Как только получите сырье, не забудьте: майор Хирш — первый заказчик. Пять тысяч пар валенок. Запишите. Я наведаюсь к вам.
Майор и его помощник исчезли так же поспешно, как и появились. Только приторный дым эрзац-сигареты и грязные следы сапог напоминали о их визите.
Луць, все время неподвижно стоявший возле моего стола, медленно опустился на стул. Напряженно глядя на дверь, он залпом осушил два стакана воды.
Мне хотелось и ругаться и смеяться. В окно было видно, как немцы сели в машину и забрызганный грязью «хорх» быстро выехал с фабричного двора. Иван Иванович был немного бледнее обычного. На висках его блестели капельки пота.
— Не постучи они, я бы выстрелил. Майор так поспешно сюда влетел, что рука дернулась к пистолету сама собой.
— Я видел. Ну черт с ними! Хорошо, что так обошлось. Знаешь, Иван, о чем я сейчас думаю? Они готовят зимнюю обувь и одежду для армии. З-и-м-н-ю-ю, слышал? Значит, поняли, что придется воевать и зимой. О блицкриге кричат, а подавай им валенки. Что ж, неплохо, если так. Не вытанцовываются их планы на фронте. Видно, наши успели уже подтянуть резервы. Может, скоро и назад вернутся? Как думаешь, Иван?
— Не знаю, об этом трудно пока судить. Но о фабрике немцы вспомнили неспроста. Из этого можно сделать некоторые выводы. Орут, что захватили Москву, Красную Армию разгромили, а валеночки, значит, требуются. Заврались, сволочи, по самые уши. Только рано нам размагничиваться, Терентий. Что будем делать, если вдруг Хирш и в самом деле добудет сырье через гебитскомиссариат?
— Вряд ли. Где им взять столько шерсти? Ну а если у майора все же что-то выгорит, мы тоже пораскинем мозгами. Все равно валенок они от нас не получат. Подожжем фабрику, и конец.
— Поджечь легче всего.
В дверях снова показалась секретарша.
— Пан директор, к вам...
— Опять немцы?
— Нет, какой-то человек...
Это был инженер Дзыга. На фабрику он заскочил, видно, мимоходом. Увидел, что рабочие возятся во дворе и цехах: выгребают мусор, моют окна, засыпают битым кирпичом лужи — и заехал. Не без удивления посмотрел на меня, но ничего не сказал. Я сообщил ему о визите майора Хирша. Инженер только махнул рукой.
— У меня эти интенданты уже в печенках сидят. Каждый день голову морочат. Подай им то, подай это! Привыкайте к таким визитам и не очень переживайте. Нет продукции, вот и весь сказ.
Дзыга сообщил, что в «Центросоюзе» решили присоединить к фабрике валенок кустарные мастерские, изготовляющие щетки и гребешки. С четверть часа бродил по цехам и, попрощавшись, ушел.
— Так ты, Терентий, до директора синдиката дойдешь, — пошутил Луць. — «Фабрика валенок, гребешков и щеток». Звучит? Напоминает мне все это артель «Рога и копыта» из одной веселой книжки, которую я читал еще перед войной... Кстати, что за человек этот Дзыга?
— Пока что сам не раскусил его. Но кажется, он не из тех, что из кожи лезут вон, чтобы выслужиться перед немцами. Поживем — увидим.
4
Прокоп Кульбенко приехал на фабрику под вечер. Высокий, худой, в грубом суконном пальто, подпоясанном широким ремнем, с кнутом в руке, он зашел в комнату, где размещалась бухгалтерия Луця и спросил с порога басом:
— Валенки у вас заказать можно?
— Минуточку, уважаемый. Сейчас все оформим, если имеете шерсть.
Выпроводив из комнаты других посетителей, Иван Иванович усадил Кульбенко на стул.
Прокоп вынул из кармана газету, ткнул пальцем в последнюю страницу, растерянно пробасил:
— Хоть убей, ничего не понимаю! Разворачиваю дома эту вонючую самчуковскую «Волынь», вижу объявление: «Фабрика валенок приглашает заказчиков». А я как раз собрался к вам ехать. Дай, думаю, попутно закажу валенки. Заехал сначала к тебе на новую квартиру, а Настка смеется: иди, говорит, на фабрику, спроси бухгалтера или директора, знакомых встретишь! В коридоре только что с Терентием столкнулся. Конечно, виду не подал, что знакомы. Спрашиваю у секретарши: где бухгалтерия? Она на эту дверь указала. Открываю, ты сидишь. Что за чертовщина?
Луць похлопал его по плечу.
— Все узнаешь, дружище! А вообще, мы с тобой не знакомы, ты меня видишь впервые, я тебя тоже. Для посторонних. А Терентий здесь директором.
— Директором... фабрики?..
— Вот именно!
Глаза у Кульбенко округлились. Он смотрел на Луця так, словно и в самом деле видел его впервые.
Следом за Прокопом пришла на фабрику Настка. В проходной спросила: на работе ли ее муж? Сторож Михал успокоил пани Луцеву: да, пан бухгалтер еще на фабрике. Директор и бухгалтер часто засиживаются допоздна. Видно, у них много работы, за день не успевают все переделать.
Вскоре на улице стало совсем темно. Рабочие разошлись по домам. Цеха опустели. Лишь над будкой сторожа, как всегда, курился дымок.
Настка, Луць и Кульбенко вместе вошли ко мне в кабинет. Прокоп был явно обескуражен, растерянно крутил в руках кнут, усиленно моргал и молчал. Мы быстро рассказали ему обо всем, что произошло в течение месяца. Брови Кульбенко поползли вверх. На его хмуром лице появилась улыбка.
— Ну и история, — пробасил он. — Не знай я вас, хлопцы, не поверил бы... А что это за базар у вас под стенами фабрики? Подводы, тьма народу, что-то исподтишка меняют.
Мы посвятили Прокопа в «производственные» дела.
Затея с объявлением в газете удалась на славу. Приближалась зима. Весть о том, что фабрика за небольшую плату берется изготовлять из сырья заказчиков валенки, быстро облетела окрестные села. Появились первые клиенты. Заказы выполнялись быстро и добротно. Это создало фабрике хорошую рекламу. Число посетителей росло. Рабочие стали получать зарплату, а кроме того, довольно успешно обменивали сделанные для себя валенки на продукты.
На меня уже косо не смотрели и не бросали вслед колких реплик. Наоборот, всячески старались ввести меня в курс дела, знакомили с особенностями производства. Теперь уже надо было думать о том, чтобы такое панибратство между рабочими и директором не слишком бросалось в глаза.
— Ходи по цехам важно, почаще покрикивай, меня, к примеру, поругивай, — советовал Луць.
Так я и поступал.
— Чтобы ты не думал, будто мы занимаемся только валенками, сейчас кое-что покажем тебе, — сказал я Прокопу. — Настка, выйди-ка в коридор и постой там на всякий случай.
Мы с Луцем пригласили Кульбенко в просторную кладовую, заваленную досками, тарой и шерстью. Отсюда был ход в подвал. Зажгли свечу. В нос ударил запах плесени. Сдвинув полуистлевшие листы фанеры, Луць показал на деревянную колоду. На ней стояла пишущая машинка «Ундервуд». Рядом, под обрезками войлока, лежал небольшой ротатор. Прокоп удовлетворенно крякнул.
— Это все Настка, — пояснил я. — И машинку, и ротатор она раздобыла. Нашла среди хлама в разбитом доме. Иван Иванович три дня ковырялся, пока наладил ротатор. Он у нас на все руки мастер.
— И печатаете уже?
— Пока только на машинке. Настка нащелкала сотни полторы экземпляров сводки Совинформбюро. Дадим десятка два тебе. Отвезешь в село.
— Откуда же вы взяли сводку?
— Не спеши, — улыбнулся Луць. — Пойдем наверх.
Мы возвратились в кабинет. Я отпер тяжелый металлический сейф. В нижнем отделении сейфа стоял радиоприемник. Луць размотал провод, воткнул его конец в гнездо у окна, куда была подведена антенна. До войны в этой комнате помещался кабинет директора конфетной фабрики, с того времени и осталась на крыше эта антенна. На свисавший с окна обрывок провода никто не обращал внимания.
Иван Иванович осторожно повернул рычаг настройки. В приемнике зажегся зеленый глазок, послышалось негромкое потрескивание. Кульбенко замер, прилип взглядом к сейфу, весь подался вперед. Треск внезапно прекратился. В комнате зазвучал четкий, спокойный и такой знакомый голос:
— Товарищи радиослушатели! Мы передавали музыку Штрауса. Через минуту слушайте «Последние известия».
Прокоп вскочил на ноги, крепко сжал мою руку и выдохнул с дрожью в голосе:
— Москва?!
— Москва, это она, она говорит... И будет говорить! Мелко плавает фашистская сволочь, чтобы помешать этому. Говорила и будет говорить! Слушай, Прокоп, слушай! Понимаешь, что это значит — Москва! Вот она, здесь, рядом с нами! — восторженно произнес Луць.
Его лицо сияло, глаза возбужденно блестели. Он приглушил звук. Не удержалась и Настка — открыла двери, слушала из коридора. В моей груди поднялась и росла теплая волна. Перехватывало дыхание. Перед приходом Кульбенко мы уже дважды включали приемник. И каждый раз меня словно подхватывали крылья, поднимали куда-то ввысь, к ослепительно яркому солнцу и голубому небу. Мне виделся в те минуты далекий мир, лежавший по ту сторону фронта. Такое же чувство охватывало меня и много лет назад, когда жадными глазами смотрел на советские пограничные столбы, на землю, что лежала за ними. До той заветной земли было тогда ближе, чем сейчас до Москвы. Но мысли о ней всегда несказанно волновали сердце.
Прошла минута. Из приемника снова послышался знакомый с довоенных лет голос. Напряженно ловили мы каждое слово. Голос Москвы звучал как волшебная музыка.
Кульбенко сидел возле меня и беззвучно плакал.
Связные из лагеря
1
Полицай был старый и сгорбленный. Он продрог и, стараясь согреть руки, усиленно дышал на ладони. За спиной у него болталась винтовка. Сморкнувшись на пол, полицай потер под носом рукавом шинели, объявил:
— Пан Смияк дали приказание, чтобы вы и ваш помочник в четыре часа прибыли до них.
Про пана Смияка я слышал впервые, однако не стал расспрашивать посыльного. Поинтересовался только, куда надо явиться.
— В дом на улице того... Симона Петлюры и того, как его, хай оно треснет...
Полицай снял фуражку, вытащил из-за околыша смятый листок. Наморщив лоб, долго беззвучно шевелил губами. Луць взял у него бумажку и прочитал:
— Угол улицы Симона Петлюры и Гитлерштрассе.
Продолжая топтаться у порога, полицай просительно смотрел на Луця слезящимися глазами:
— Закурить не дадите, пан?
— Некурящий.
— Ну тогда прощевайте. Мне еще на две фабрики поспеть надо. А чего-нибудь, ну, из того... что вырабатываете, не дадите?
Луць сказал, что на фабрике вырабатывают газы. Полицай почесал затылок, недоверчиво помотал головой и вышел, стукнув о порог прикладом старой трехлинейки.
Итак, меня и Луця, который как главбух фактически заменял «помочника», вызывал к себе какой-то Смияк. Кто он? Новый деятель «Центросоюза»? В таком случае почему иной адрес?
— Подожди, подожди! Тут что-то не то, — настороженно произнес Иван Иванович. — Угол улицы Ленина... Знаешь, кажется, там размещается одна из канцелярий гебитскомиссариата. Вот тебе и пан Смияк, черт бы его побрал! Только и не хватало нам гебитскомиссариата...
— А чего бы это ни с того ни с сего в гебитскомиссариат? Думаешь, Бееру приспичило с нами советоваться? Ты, видно, путаешь, Иван.
— Кому там приспичило не знаю, но я не путаю. Помню, как-то проходил мимо того дома, а немец часовой турнул меня на противоположную сторону улицы. Фашистское учреждение там, точно.
Странный вызов заставил нас призадуматься. Успокаивало лишь то, что распоряжение касалось не только нас с Луцем. Из слов посыльного мы поняли, что вызывают также руководителей других предприятий. И все же в голову лезли всякие тревожные мысли.
В половине четвертого мы подходили к дому по указанному адресу. Иван Иванович не ошибся. Возле двухэтажного здания прохаживались два вооруженных солдата и офицер в жандармском мундире. Неподалеку стоял грузовик, над кабиной которого на треноге был установлен пулемет.
Офицер внимательно наблюдал за входом. Там, у двери, топтался глава «Центросоюза» Мороз. Всматриваясь в лица, он молча пропускал в помещение вызванных шефов предприятий.
Окинув взглядом машину с пулеметом, жандарма, часовых, Луць многозначительно толкнул меня в бок. Промелькнула приземистая фигура Максимчука. Он энергично, обеими руками потряс руку Морозу, поклонился офицеру и бочком прошмыгнул в дверь. За ним прошли еще двое — заведующий мастерскими «Металлист» и, кажется, директор фабрики, изготовлявшей свечи. Потом проковылял, опираясь на палку, усатый старик с сердитым, насупленным лицом. Его я видел впервые. Важно проплыл Шарапановский, бывший петлюровский офицер, ведавший в «Центросоюзе» кадрами.
Мороз кивнул мне и молча, вопросительно взглянул на Луця. Я поспешил пояснить:
— Мой помощник и главный бухгалтер.
— Проходите!
В полутемном коридоре уже собралось человек пятнадцать. Они вполголоса перекидывались словами, боясь нарушить зловещую тишину.
— Господа, кто знает, зачем нас вызвали?
— Как думаете, господин Собецкий, здесь можно курить?
— Тише, уважаемый, не топайте своими сапожищами. Тут вам не мебельная фабрика!
— Господа, не знаю, как у вас, а мои рабочие чертом смотрят, распаскудились при большевиках.
— А вы бейте. Как только что, так и бейте, топчите, беспощадно выбивайте из них красную заразу.
— И вам не стыдно? Мы же украинская интеллигенция!
— Слышали, из Германии прибывает сто вагонов с сырьем?..
— Неужели?
— Я же говорил: немцы дадут нам все, что нужно... Я же говорил...
— Не понимаю, к чему машина с пулеметом. И солдаты. Мы же не какие-то там советские партизаны.
— Перестаньте, Панове. Им виднее. Значит, так нужно...
— А все же, зачем нас пригласили?
Ко мне подошел Дзыга, отвел в сторону. Указывая глазами на трех незнакомцев, стоявших в стороне, шепотом сказал:
— Тот молодой, с темной шевелюрой — Смияк. Сволочь страшная. Помощник Бота, заместителя гебитскомиссара. Другие двое — братья Дзиваки, переводчики. Как и Смияк, недавно прибыли из Германии.
— Что им нужно от нас?
— Не знаю. Созвать вас приказал Бот.
— Он тоже здесь будет?
— Наверное. Мороз по секрету передавал...
Но Дзыга не успел сообщить, что передавал Мороз. Открыв тяжелые дубовые двери, Смияк сделал широкий жест рукой:
— Прошу, господа!
Дверь вела в большую комнату, заставленную громоздкой мебелью. За столом, похожим на биллиардный, сидел человек в коричневой фашистской униформе. На груди его поблескивал значок со свастикой. Человек окинул холодным взглядом «панов шефов», а те, ежась под его взглядом, наступали друг другу на ноги, и каждый старался примоститься как можно дальше от стола, от немца в коричневой униформе.
Дзыга тихо проронил:
— Бот...
Высокий Смияк вытянулся сбоку, возле немца. Не дождавшись, пока все усядутся, Бот быстро заговорил. Смияк переводил:
— Господин Бот, заместитель гебитскомиссара, доводит до вашего сведения, что отныне вся промышленность, находящаяся на территории области, подчиняется непосредственно гебитскомиссариату. «Центросоюз» не оправдал надежд немецкой администрации. Для координации деятельности предприятий создан специальный отдел — «Центральное бюро при гебитскомиссариате по вопросам промышленного производства». Руководить им будет лично господин Бот. Заместитель гебитскомиссара предупреждает: все руководители заводов и фабрик обязаны безупречно, четко и добросовестно выполнять приказы и распоряжения гебитскомиссариата. Тех, кто не будет выполнять приказов, ждет суровое наказание. Господин Бот говорит: все вы пока остаетесь на прежних местах, но должны всегда помнить о высоком доверии, оказанном вам немецкой властью. Это доверие надо оправдать. Лидеры украинских организаций заверили представителей германского военного командования и правительственной администрации в полной поддержке любых мероприятий, которые вводятся фюрером и будут вводиться в будущем. Так вот, господин Бот обращается к вам...
Смияк внезапно осекся и быстро взглянул на Бота. Распахнулись двери. В комнату вошел невысокий смуглый человек лет сорока в штатском костюме. Его редкие волосы блестели от бриллиантина. Все повернулись в сторону вошедшего. Бота подбросило как на пружинах.
— Встать! Хайль Гитлер! — хрипло рявкнул он.
Человек в штатском, не останавливаясь, выбросил вперед руку:
— Хайль!
Не спеша разглядывая присутствующих, он прошел к столу и сел в освобожденное Ботом кресло. Плечи его еле виднелись из-за массивного чернильного прибора, пресс-папье и бронзовой статуэтки.
Лицо Смияка словно окаменело. Откинув голову, он заученно выкрикнул:
— Доктор Вернер Беер, оберштурмбаннфюрер СА, гебитскомиссар Ровенщины! — Выдержав паузу, Смияк выдохнул: — Можете садиться, господа!
Беер галантно раскланялся. На губах его играла вежливая улыбка. Под густыми прямыми бровями на темном выхоленном лице светились белки глаз. Накрахмаленный тугой воротник рубашки подпирал короткую шею, словно отсекал круглую голову от туловища.
Так вот он какой, оберштурмбаннфюрер СА, наделенный всеми верховными правами и всей исполнительной властью в области, таинственная личность, прячущаяся за короткой подписью «Д-р Беер, краевой комиссар». Подпись эта была хорошо всем знакома по многочисленным приказам, которые ежедневно расклеивались по городу.
Перед нами сидел человек со сверкающей улыбкой, с подчеркнуто изысканными манерами, в элегантном костюме. Он продолжал сохранять на лице гримасу добродушной учтивости, но его голова с высоким выпуклым лбом и светящимися белками глаз казалась эмблемой смерти, призрачно поднимавшейся над десятками тысяч трупов во рвах Сосенок, на Уланской площади, в тюремных камерах, за колючей проволокой концлагеря, на берегах Горыни. Глаза оберштурмбаннфюрера Беера бегали, внимательно ощупывая каждого из присутствующих. Еще раз поклонившись, он удобнее уселся в кресле. Ни к кому не обращаясь, начал задавать вопросы. Что вырабатывают фабрики и заводы города? Как идут дела? Сколько продукции выпускается еженедельно? Какие предприятия еще не работают? Почему?
Глаза Беера продолжали шарить по лицам, словно искали, на ком бы остановиться. Шефы предприятий ежились, втягивали головы в плечи. Многие из них верой и правдой служили оккупантам. Но в этой комнате все они чувствовали себя неуютно.
Взгляд Беера задержался на фигуре старика с усами. Тот вскочил со стула и уронил палку, которая громко стукнулась о пол. Смияк услужливо перевел вопрос Беера:
— Господин гебитскомиссар спрашивает, какое предприятие вы возглавляете?
Старик начал что-то неразборчиво бормотать, язык у него с перепугу заплетался. Беер удовлетворенно улыбнулся, снисходительно махнул рукой и перевел взгляд на Максимчука.
Губы у директора фабрики кофе дрожали, он стоял ни живой ни мертвый, кажется, вот-вот потеряет сознание. Если бы немец накричал на него или хотя бы повысил голос, моего бывшего «шефа» наверняка пришлось бы отливать водой. Но Беер спокойно спросил:
— Что ваша фабрика изготовляет для германской армии?
— Кофе, господин гебитскомиссар. Наша продукция — кофе...
— О, это хорошо, что Ровно имеет такое предприятие. Наши солдаты любят кофе. Мне тоже нравится. Чудесный напиток. Не откажусь попробовать кофе местного производства.
— Господин гебитскомиссар, господин... — Максимчук икнул, зашатался и впился пальцами в плечо соседа. От охватившего его приступа раболепия он еле держался на ногах. — Куда прикажете доставить? Я сегодня для вас... Это радость для всей фабрики... Как перед Христом богом присягаю, для солдат великой Германии мы с дорогой душой, всем сердцем, хотя и испытываем большие трудности... Рабочей силы не хватает, просто задыхаемся... Просим уважить и помочь...
— Гм, удивительно. Вы просите рабочих? А каково положение с рабочими на других предприятиях? Например, у вас?.. У вас?.. У вас?..
Оставив Максимчука, Беер по очереди поднимал шефов, слушал их доклады и становился все мрачнее. Директор мебельной фабрики, заведующий металлообрабатывающими мастерскими, представители фабрики чурок, пивзавода, лесного склада, цементного завода и другие, будто сговорившись, твердили одно и то же: нет сырья, материалов, не хватает рабочих.
Узнав, что в Ровно есть пивзавод и фабрика чурок, Беер наклонился к Боту и что-то сказал. Тот схватил блокнот, карандаш, сделал какие-то пометки. Повышенный интерес гебитскомиссара к пиву можно было понять. Но чем привлекло его внимание жалкое предприятие, где нарезали чурки, я просто не мог себе представить. Однако размышлять над этим долго не пришлось. Гебитскомиссар, не мигая, уставился на меня.
— Предприятие?
— Фабрика валенок, гребешков и щеток.
— Что такое гребешки? Ага, понятно... Гребешки нам ни к чему. Щетки нужны. Ну а валенок давайте как можно больше. Вам ясно? Кстати, на вашем предприятии отказались выполнить заказ интендантской службы. Чем это объяснить?
Майор Хирш не бросал слов на ветер, он-таки добрался до гебитскомиссара. Но у меня были все основания повторить то, что уже сказали другие. Я ответил, что фабрика на улице Хмельной тоже пребывает в очень тяжелом положении. Не говоря уже о специалистах, которых и днем с огнем не сыщешь, даже рабочих в цехах крайне мало. Я высказал надежду, что шерсть, химикаты и другие дефицитные материалы нам пришлют из Германии. Но где взять рабочих?
На лице Беера промелькнула ироническая гримаса. Выдержав паузу, он сказал с заметным раздражением:
— Меня удивляют ваши сообщения, господа. Совсем недавно лидеры украинских националистов заверяли нас, что на Украине, в частности в Ровенской области, рабочей силы больше чем достаточно. Ваши лидеры обещали также помочь нам отправить часть населения для работы в промышленности самой Германии. Теперь же оказывается, что рабочих не хватает даже здесь, на местных предприятиях. Это меня удивляет... Запомните, господа, гебитскомиссариат будет требовать, чтобы заводы, фабрики, мастерские работали на полную мощность для обеспечения нужд немецкой армии. Кто нарушит это требование, того ждет суровая кара... Что вы собираетесь предпринять?
В комнате воцарилась тревожная тишина, несколько минут продолжалась гнетущая пауза. Откинувшись на спинку кресла, Беер прикрыл глаза, ожидая ответа на поставленный вопрос.
— Разрешите сказать, господин гебитскомиссар!
Окрыленный предыдущим разговором с Беером, Максимчук встал и всей своей тушей подался вперед. Его распирало желание еще раз обратить внимание высокого начальства на свою персону. Взгляды всех присутствующих скрестились на неуклюжей фигуре директора фабрики кофе. Мороз недовольно нахмурился. Заерзал Шарапановский. С интересом поглядывал на Максимчука инженер Дзыга. Для меня тоже была неожиданной эта внезапная храбрость трусливого мельниковского прихвостня.
Беер кивнул:
— Говорите.
— Господин гебитскомиссар, вы нарисовали правдивую картину. Печально признаваться, но рабочих, считайте, у нас почти нет. Особенно мужчин. На предприятиях преимущественно старики, женщины и подростки. С вашего позволения осмелюсь предложить... Передать мнение украинской общественности... Но может, что не так скажу, простите...
— Продолжайте.
— В городе собрана не одна тысяча военнопленных разгромленной армии Советов. Они зря переводят немецкий харч. Нужно заставить их работать на великую Германию. Хватит им лодырничать, отлеживаться в бараках. — Голос Максимчука окреп. Директор фабрики кофе как бы вырос в собственных глазах. — Дайте пленных из лагерей нашим предприятиям, и мы получим бесплатную рабочую силу. Пусть москали попотеют. Это им не при большевиках комиссарить!..
В комнате одобрительно загудели. Беер и Бот переглянулись. Гебитскомиссару, вероятно, понравилась тирада директора фабрики кофе.
— Мы подумаем, господин... как вас? — поднимаясь с кресла, бросил Беер.
— Максимчук! — почти закричал осчастливленный шеф. — Максимчук моя фамилия, господин доктор, господин Беер... Я Максимчук!..
— Хорошо, хорошо, господин Максимчук. Ваше предложение будет учтено, — брезгливо ухмыльнувшись, сказал гебитскомиссар.
* * *
— Представь себе, Иван, немцы могут-таки послать военнопленных на предприятия, — сказал я Луцю, когда мы отошли метров на шестьсот от здания с часовыми у входа.
— Что-то не верится.
— Верится не верится, а вполне могут! Промышленностью теперь будет заниматься гебитскомиссариат. Следовательно, Беер заинтересован, чтобы работа наладилась. Это поставят ему в заслугу. Но где им взять рабочих? Самое простое и выгодное — из лагеря.
— Военнопленными распоряжается СС, а там такая шайка, что и гебитскомиссара может послать ко всем чертям, — не согласился со мной Иван Иванович.
— Ворон ворону глаз не выклюет, договорятся.
— Пусть даже так, Терентий. Если немцы рискнут послать пленных на заводы и фабрики, можно будет спасти от голодной смерти сотни людей, да еще каких людей! Им бы только вырваться из-за проволоки, а уж мы встретим товарищей как подобает. И пополнение пришло бы к нам крепкое...
— В таком случае надо предупредить Поцелуева. Пусть товарищи из лагеря соглашаются на любую работу, лишь бы вырваться из-за проволоки. А уж потом многое будет зависеть от нас.
Нас догнал Максимчук.
— Господа, побойтесь бога, не спешите так... У меня же больное сердце, — заговорил он, сопя словно паровоз. — А день, скажу вам, знаменитый сегодня. С самим гебитскомиссаром встречались, беседовали. Это вам не фунт изюму. Доктор Беер, видно, голова... Душа радуется... Вот кто наведет в городе порядок, посмотрите!.. Ну как вам понравилась история с «Центросоюзом»? Ха-ха, будто корова языком слизала... Тю-тю, и нет «Центросоюза». Правильно сделали немцы! Сидели в том «Центросоюзе» заумные невежды и считали себя государственными деятелями. Теперь получили коленкой под зад, будут просить работы, еще и на мою фабрику придут с поклоном, вот увидите! И к вам пожалуют... Слышали, как я самому гебитскомиссару про советских пленных выложил? То-то же! Нет, вы только подумайте: их кормят, а они хоть бы что, будто на курорте. Черта с два! Не дадим отлеживаться москалям! Вот я и подсказал господину Бееру. В самую точку попал... Эх, господа, подождите, мы еще свое возьмем, еще послужим нэньке-Украине!
Позади затарахтела бричка, поравнялась с нами, остановилась. В ней ехал Мороз. Глава оплеванного немцами «Центросоюза» был явно расстроен. Даже не взглянув на нас с Луцем, он перегнулся с сиденья и угодливо предложил:
— Сделайте милость, пан Максимчук, садитесь, подвезу.
Максимчук не устоял. Пробормотав что-то относительно своего сердца, тут же полез в бричку. Акции директора фабрики кофе пошли в гору.
2
Томительно и уныло тянулись холодные дни поздней осени.
Как-то под вечер на улицах города появилась серая колонна пленных. Она двигалась со стороны Здолбуновского шоссе. В порванных шинелях и полусгнивших гимнастерках, в большинстве своем босые, пленные двигались медленно, скользя по мостовой и поддерживая друг друга. Пронизывающий ветер швырял в посиневшие от холода лица хлопья мокрого снега...
Солдаты-эсэсовцы и полицаи прикладами винтовок и пинками торопили пленных. Прохожие молча провожали взглядами людей, окруженных конвоем, не решаясь приблизиться к мрачной процессии.
Миновав несколько кварталов, колонна остановилась и разделилась на группы, которые в сопровождении охранников разошлись в разные стороны. Оставшихся погнали через железнодорожное полотно по направлению к улице Хмельной.
— Пленных ведут!
Взволнованный Луць вбежал ко мне в кабинет.
— Куда?
— Сюда, на фабрику, — лицо Ивана Ивановича побледнело, глаза возбужденно заблестели. Он бросился к окну: — Вот, гляди!
Из цехов вышли рабочие и столпились возле ворот у проходной. Все взгляды были прикованы к раскисшей грязной дороге, которая тянулась от переезда к нашей фабрике.
Впереди группы широко шагал высокий человек с темной густой бородой, которая старила его еще молодое, но страшно истощенное лицо. С его острых плеч свисали лохмотья гимнастерки, сквозь одежду просвечивало худое тело. Рядом с ним — еще двое, босоногие, с непокрытыми головами, а за ними — десятки таких же, одеревеневших от холода, полураздетых, похожих на тени людей.
В тишине слышалось только чавканье грязи под ногами пленных да громкая ругань унтер-офицера, размахивавшего нагайкой.
Неуклюжий полицай забросил карабин за спину и спросил что-то у сторожа Михала. Тот указал на меня. Полицай взял под козырек.
— Приказано сдать в ваши руки этих вот москалей, — он кивнул в сторону пленных. — Под вашу ответственность, пан директор.
— Разве полицейская охрана не останется на фабрике? — вырвалось у меня.
— Не приказано. Вам, пан, придется лично следить, чтобы ни один не сбежал. Иначе будут большие неприятности.
Я написал расписку о приеме «под свою ответственность» пятидесяти двух человек. Получив бумажку, унтер-офицер засунул нагайку за пояс и закурил, демонстративно отвернувшись от пленных. Он выполнил приказ, доставил столько-то единиц военнопленных по назначению, теперь они уже его не интересовали.
Через несколько минут унтер-офинер, солдаты и полицаи ушли. Сторож закрыл за ними ворота. Военнопленные, сломав строй, сбились в кучу во дворе у забора, удивленно и растерянно оглядывались вокруг. По всему было видно, они не пришли еще в себя: рядом ни немцев, ни черномундирников-полицаев, только люди в штатском, обычные мужчины и женщины, с засученными по-рабочему рукавами. В глазах окружающих сочувствие. Какой-то миг все молчали: уж очень неожиданной, почти невероятной была эта встреча и для нас, и для этих ребят в изодранной военной одежде. Тишину внезапно разорвал истошный крик старой, седой уборщицы, до того молча стоявшей возле двери валяльного цеха и скорбно рассматривавшей пленных. Ее горький плач возвратил всех нас к действительности, словно разбудил ото сна. Стоявшие у забора и те, кто сгрудились посреди двора, бросились навстречу друг другу. Родные серые шинели и гимнастерки смешались с пиджаками, платками, ватниками...
* * *
Рядом с фабрикой валенок, гребешков и щеток высилось большое кирпичное здание. До войны в нем размещался мармеладный цех конфетной фабрики. Теперь помещение пустовало. Мы решили на скорую руку оборудовать в нем общежитие для новых рабочих, недавних узников лагеря военнопленных. Сколотили из досок нары, закрыли фанерой и кусками жести разбитые окна, навесили двери, затопили печи. Застлать нары было нечем: не оказалось ни соломы, ни сена. Полуразрушенные печи немилосердно дымили. В помещении стоял полумрак, пахло плесенью. Но люди, хлебнувшие горя в фашистском лагере, не обращали внимания на неудобства, казавшиеся им по сравнению со всем пережитым несущественной мелочью. Одни с наслаждением растянулись на голых нарах; другие грелись возле чадных печек, сушили свои лохмотья; третьи брились; четвертые до одурения, не переставая, тянули козьи ножки, набитые пахучим самосадом, которым их щедро угощали фабричные.
После работы никто, как прежде, не торопился домой. Мужчины и женщины сновали взад-вперед по территории фабрики, о чем-то шептались, приносили старую одежду, белье, одеяла, обувь, выкладывали из кошелок сухари и картошку. Тут же на фабрике женщины грели воду, что-то стирали, латали и штопали. Постепенно благодаря старательным женским рукам заключенные из лагеря обретали вполне приличный вид. Рабочие-мужчины разыскали кое-что для оборудования общежития. В бывшем цехе конфетной фабрики стоял неумолчный гул, стучали молотки. Каждый хотел что-нибудь сделать для товарищей, чем-нибудь помочь им.
Мы с Луцем делали вид, что ничего не замечаем, а сами сгорали от нетерпения. Есть ли среди прибывших члены действующей в лагере военнопленных подпольной организации? Как опознать их? Как встретиться с ними?
Две недели назад, сразу же после совещания в гебитскомиссариате, мы предупредили Поцелуева, что, возможно, немцы будут отбирать среди пленных квалифицированных рабочих для использования на предприятиях города. Подпольщики должны были провести соответствующую работу с людьми, подготовить кого следует на случай, если наши предположения подтвердятся.
Гитлеровцы пригнали военнопленных не только на фабрику валенок. Доктор Беер, как видно, имел довольно крепкие связи с СС. Он сумел где нужно нажать и получил бесплатную рабочую силу.
Не исключено, что и Поцелуев попал в одну из рабочих команд. Может, он находится на «Металлисте», или на фабрике кофе, или даже здесь, в общежитии, совсем рядом (мы с Луцем не знали его в лицо). Знала Поцелуева только Настка, но она не появлялась на фабрике. Ждать стало просто нестерпимо. Иван Иванович хотел уже послать за женой секретаршу Нину. В этот момент Настка сама открыла дверь моего кабинета. Еще не зная причины нашего волнения, она протянула мне записку от... Поцелуева!
Часа два назад Настка встретила его, как всегда, среди пленных, которые под надзором эсэсовцев расчищали на улицах развалины. С лагерем теперь была налажена надежная связь. Настке не приходилось, как когда-то бабушке Ксении, ждать удобного момента, чтобы тайком от немцев часовых сунуть записку в карман Поцелуеву. Каждый раз, когда жена Луця появлялась вблизи места, где работали пленные, и ставила на мостовую кошелку с продуктами, собранными среди соседей и знакомых, невысокий молодой блондин с сумкой от противогаза через плечо смело отделялся от группы военнопленных, подходил к ней и забирал содержимое кошелки. Солдаты из охраны молча наблюдали за блондином, но Настку не прогоняли. Отношение охранников к пленным за последнее время заметно изменилось. Причина была в том, что молодых солдат-фанатиков из числа членов гитлерюгенда, ревностно выполнявших инструкции начальства и зверевших от одного слова «коммунист», куда-то перевели, а может, отправили на фронт. Вместо них прислали пожилых. Они, видно, быстро сообразили, каким образом и за счет чего можно поживиться. Лагерные «фюреры» не стеснялись в махинациях с продуктами, отпущенными для заключенных. Даже из мизерных норм лагерного рациона они ухитрялись урывать большое количество продуктов для себя. Харч, поступавший к военнопленным от населения, должен был в какой-то мере компенсировать то, что разворовывалось. Поэтому новые охранники смотрели сквозь пальцы и на Настку, и на других ровенчанок, появлявшихся возле пленных с кошелками и узелками в руках.
Почему именно Поцелуеву разрешалось выходить на мостовую и забирать съестное, мы не знали. Очевидно, здесь не обошлось без вмешательства лагерного подполья. Так или иначе, но теперь Поцелуев получал вместе с кусками хлеба и наши коротенькие записки, а, возвращая Настке порожнюю кошелку, оставлял в ней ответы на них. Иногда Настке и Николаю удавалось переброситься несколькими словами.
На этот раз Поцелуев просил передать ему химический карандаш и папиросной бумаги. Еще он писал: «Остаюсь на старом месте. Так нужно. Спросите Виктора Конюхова, не встречал ли он безрукого Степана, вашего двоюродного брата». Больше ничего в записке не было.
— Кто он, этот Степан? Чей двоюродный брат? О каком Конюхове идет речь? — задумавшись, нахмурил лоб Иван Иванович.
— Может, он раньше сообщал о Конюхове, а мы не получили записки?
— Нет, — запротестовала Настка. — Все переданные Поцелуевым записки вы читали, ведь теперь мы обмениваемся ими из рук в руки.
— Значит, отпадает... Очевидно, Конюхов — один из вышедших сегодня из лагеря, — сделал вывод Луць. — А безрукий Степан?.. Тут, кажется, проще. Думаю, что это самый обычный пароль. Иначе зачем понадобился «двоюродный брат». Конюхова нужно искать. Он где-то в городе, на одном из предприятий.
Нельзя было терять ни минуты. Предприятия разбросаны по всему городу, и, чтобы обойти их, понадобится дня три-четыре. На розыски Конюхова решили послать Настку. Ей это удобнее всего. Будет себе ходить молодая женщина от завода к заводу, от фабрики к фабрике, расспрашивать бывших лагерников о ком-нибудь из «своих близких». Это ни у кого не вызовет подозрений. Непременно многие другие женщины, так же как Настка, будут теперь обивать пороги предприятий в тщетной надежде кое-что разузнать об ушедших на фронт мужьях и братьях.
Настка попросила отпустить на несколько дней с работы Марию Жарскую: Мария — женщина сообразительная, находчивая, поможет в розыске Конюхова, на нее можно положиться.
О Марии Жарской мы знали, что она комсомолка, до войны работала в Минске водителем трамвая. Там и познакомилась с находившимся в отпуске лейтенантом-артиллеристом. Сразу после свадьбы Мария распростилась с шумными улицами родного города, с трамвайным парком, с подругами: вместе с мужем уехала на Украину, к границе, где стоял артиллерийский полк, в котором служил лейтенант.
Однако недолго пришлось молодоженам быть вместе. Война вспыхнула неожиданно. В то памятное утро муж наспех поцеловал Марию и поскакал к своей батарее. Больше она его не видела. Вместе с другими шла на Восток мимо пожарищ, разбитых хат, обугленных тополей, под бомбежками и обстрелами. Но всюду, куда бросались беженцы, они натыкались на солдат в мышиного цвета мундирах с засученными рукавами.
Жарская осталась в Ровно. Тут никто не знал, что она жена командира, комсомолка. Мария устроилась на фабрику валенок.
Невысокая, круглолицая, острая на язык белоруска приглянулась Настке Кудеше. А Настка умела разбираться в людях. Женщины быстро поняли друг друга. Жарская стала деятельной помощницей Настки. Вдвоем они отыскали под развалинами какого-то учреждения ротатор. Иван Иванович наладил его, и мы начали печатать первые листовки. Полностью открываться перед Жарской мы не спешили. Пока ей не было известно, что я причастен к делам подполья. Хотя каждый из нас еще приглядывался к Марии, сомнений уже не было, она будет нашим надежным боевым товарищем. Лучшей спутницы для Настки во время поисков неизвестного Виктора Конюхова нельзя было и желать.
Вернувшись в тот вечер с фабрики, я долго не мог заснуть в нетопленой пустой квартире. В щелях окон жалобно пел свою нехитрую песню ветер, крыша протекала, потолок надо мной отсырел, стены дышали холодом. В эти две маленькие, кем-то брошенные комнатки в глинобитном старом домике на улице Тарнавского я перебрался недавно. Отсюда было совсем недалеко до квартиры Ивана Ивановича, всего два квартала.
Мое куцее кожаное пальто плохо заменяло одеяло, не грело. Ворочаясь на твердом ложе, я думал о Поцелуеве. Он единственный в лагере, кто заблаговременно знал об отправке военнопленных на предприятия. Скорее других он мог попасть в какую-нибудь из групп и распрощаться с ненавистными пулеметными вышками, колючей проволокой, овчарками. И все же Поцелуев остался. Не у каждого хватило бы силы воли добровольно продолжить такое существование. Мне и во сне иногда мерещатся бараки, гноящиеся раны, черная, без единой травинки земля под Житомиром. О, я хорошо знал, что такое фашистские лагеря для военнопленных! Многое отдал бы человек, чтобы вырваться из того ада, где почти стерта грань между жизнью и смертью.
«Остаюсь на старом месте. Так нужно». Как же мне хотелось познакомиться с ним, узнать, кто он, откуда родом, этот белобрысый Миколка, как ласково называла его покойная Ксения Петровна.
3
Луць устало потер лоб. Когда он смотрел списки, имена и фамилии расплывались, рябили перед глазами. Иван Иванович обращался к каждому из новичков с двумя-тремя одинаковыми вопросами и аккуратно вносил их ответы в книгу регистрации рабочих. Он добровольно взял на себя функции отдела кадров, хотел поближе познакомиться с людьми, прибывшими из лагеря. С утра перед «бухгалтером» прошли почти пятьдесят военнопленных. Осталась последняя группа пять человек. Они зашли в бухгалтерию все сразу. По виду эта пятерка мало чем отличалась от других. Луць взял карандаш и почти автоматически спросил:
— Ваша фамилия?
Один из пятерых вышел вперед. Через расстегнутый ворот гимнастерки на груди у него виднелся глубокий, еще свежий шрам.
— Курочкин. Игнат Курочкин.
— Вам знакомо наше производство?
— Конечно. Я же сибиряк, а у нас в Сибири все зимой в валенках ходят.
— Что в Сибири носят валенки — это известно. А знаете ли вы, как их делают?
— Я же говорю, знаю. Умею, вот увидите. Могу и токарем и по кузнечному делу.
— Хорошо, пойдете в цех. Следующий!
— Паламарчук я, столяр.
— Будете работать вместе с Курочкиным. Следующий!
Третий, юноша лет девятнадцати, вначале заколебался. Его подтолкнули сзади. На висках у парня белела седина. Он поднял на Луця умные серые глаза и торопливо заговорил:
— Моя фамилия Гаврилюк. Работал электромонтером... На за-заводе в Ха-рькове, два года, — чуть заикнувшись, добавил он. Руки у юноши дрожали. Было ясно, что специальности он не имеет. Луць видел: парень врет, ему нигде еще не приходилось работать. Скорее всего, учился и прямо со студенческой скамьи пошел в огонь, надев солдатскую шинель. А специальность придумал себе только для того, чтобы не отослали назад, за проволоку. Луцю хотелось обнять худенькие плечи, притянуть к груди стриженую, преждевременно поседевшую голову, сказать пареньку что-нибудь теплое, ободряющее. Но вместо этого он деловито бросил:
— Электромонтеры не нужны. В цех, подсобным рабочим!
Юноша облегченно вздохнул. Его место у стола занял высокий мужчина, в пиджаке с короткими рукавами. Это он шел впереди группы, когда пленных гнали по размытой дороге к воротам фабрики. Черную бороду он успел уже сбрить. Ему теперь можно было дать лет двадцать восемь — тридцать, не больше. Луць смотрел на него сбоку. Правильные тонкие черты лица в профиль напоминали какого-то греческого мифического героя.
— Фамилия? — задал стандартный вопрос Иван Иванович.
— Конюхов.
Зажатый в пальцах Луця карандаш застыл над бумагой. Скрывая волнение, Иван Иванович деланно откашлялся, буркнул:
— Ваше имя?
— Звать Виктором. По отчеству Степанович.
— Специальность?
— Инженер! — с легким вызовом ответил человек, которого в этот момент где-то в городе разыскивали Настка Кудеша и Мария Жарская. А он стоял среди комнаты и с высоты своего роста взирал на Луця. Если бы только он знал, что творилось в эту минуту в душе Ивана Ивановича!
— Так. Значит, инженер... Это хорошо. Нам нужны инженеры. Будем решать, куда вас... Сейчас закончу с ними и потом поговорим подробнее.
Записав фамилию последнего, пятого рабочего, Иван Иванович предупредил, чтобы завтра утром все выходили на работу, и отпустил их.
Инженер остался. Посматривая в окно, ждал.
— Скажите, Конюхов, — медленно проговорил Луць, наблюдая за инженером, — где вас захватили в плен?
— Под Киевом, — сухо ответил тот. — Но какое это имеет значение?
— Теперь война, человече. Война бросает людей туда-сюда, словно щепки. Люди сходятся и расходятся. Знакомятся и расстаются. Всякое случается теперь. Вот мне и хочется спросить, не приходилось ли вам встречаться с безруким Степаном, моим двоюродным братом?
Скулы Конюхова напряглись еще больше, на желтых худых щеках вспыхнул румянец. Инженер невольно отпрянул назад, прищурил глаза и сквозь дрожащие веки посмотрел на Луця. Конюхова, видимо, потрясли не столько сами слова, сколько то, что произнес их один из руководителей фабрики.
Луць быстро вышел из-за стола, приблизился к инженеру.
— Теперь можно и поздороваться, Виктор Степанович. Мы уже два дня разыскиваем вас по городу, а вы здесь рядом. Вот как оно бывает... Здравствуйте, товарищ Конюхов!
Инженер еще какую-то долю секунды колебался, словно боролся с самим собой, но на лице уже светилась радость. Он бросился к Луцю, схватил протянутую им руку, крепко сжал ее худыми горячими пальцами.
— Это не Конюхов! — глухо раздалось за спиной Ивана Ивановича.
Луць резко повернулся. На пороге стояла Настка. Большие темные глаза ее смотрели на инженера с ненавистью. Ее красивое лицо было необычно бледным. Она бессильно привалилась спиной к двери, платок сполз на плечи, на лоб спадали мокрые пряди волос. Сапоги и юбка Настки были забрызганы грязью.
— Я все слышала, — быстро сказала она. — Он врет! Конюхов работает на фабрике кофе.
Тело Луця вмиг напружинилось. Обрывая пуговицы, он рванул полу пиджака, выхватил пистолет. Ребристая рукоятка обожгла ладонь. Инженер попятился к окну.
— Стой, сволочь! Руки, ну!.. — сквозь зубы приказал Луць, отступив к столу. — Попытаешься удрать, пристрелю как собаку. Становись в угол!
Инженер пошатнулся, втянул голову в плечи и, медленно поднимая руки, попеременно бросал взгляды то на темноглазую женщину, то на Луця.
Иван Иванович достал из кармана и бросил Настке связку ключей:
— Спокойно! Запри дверь! Позови Терентия, скорее!..
Настка выскользнула из комнаты, дрожащими руками заперла за собой дверь и побежала по опустевшему коридору.
4
С тех пор как гебитскомиссар Беер на совещании сказал Максимчуку несколько ободряющих слов, шеф фабрики кофе стал неузнаваем. Во взгляде его маленьких глаз, во всей нескладной фигуре появилась спесивость. Встречая знакомых, он надувался, как индюк, и горделиво кивал головой. «Центросоюза» над ним теперь уже не было, а господин Бот пока не вмешивался в дела предприятия. Максимчук решил, что беседа с Беером и пакеты с ячменным кофе, которые он еженедельно отправлял гебитскомиссару, не только укрепили его положение, но и застраховали от неприятностей на будущее. Однако меня он встретил, как и раньше, с настороженной вежливостью, с видом заговорщика: видно, все еще не мог забыть, что когда-то направили меня к нему по настоянию коменданта полиции.
Я уже с полчаса сидел в глубоком кресле возле рабочего стола директора фабрики кофе и без всякого интереса слушал его жалобы: на низкую зарплату, на непокорность рабочих, на то, что его обошли — мало прислали военнопленных, этих «дармоедов-москалей».
— А кто подал Бееру мысль о пленных? — тараторил Максимчук. — Я! Это все знают... Так где же справедливость? Другим дали по тридцать лагерников; вам, говорите, больше полсотни подбросили, а ко мне, как в насмешку, прислали всего двадцать. Тоже мне, рабочая сила!.. Скелеты!.. Хочу жаловаться господину Боту. Или не стоит? Как вы думаете, он меня примет? Ведь сам гебитскомиссар сказал, что немецкие солдаты любят кофе. Эх, коллега, тяжело нам приходится, тяжело! Не знаю, как вы, а я кручусь, верчусь с утра до ночи, здоровья не жалею, нервы уже не выдерживают. А благодарность какая? Дали бы мне хоть под старость небольшое именьице, где-нибудь в селе, среди святой нашей украинской природы, чтобы отдохнуть душой и телом. Напоминал, не раз напоминал. Да где там! Забывают заправилы ОУН о преданных людях, забывают. Что мы для них? Им бы только для себя... Немцы, скажу вам, и то более внимательны. Возьмите господина гебитскомиссара. Помните, как он со мной, словно с равным! А он не кто-нибудь, сам доктор Беер, доверенное лицо гаулейтера...
Рука Максимчука с зажатым платком потянулась к вспотевшей шее. Воспользовавшись паузой, я вставил:
— Я к вам, пан Максимчук, как к старому знакомому, с просьбой.
— Рад... Душевно рад. У меня, знаете, тоже была мысль заглянуть к вам на фабрику. Ноги уже сейчас мерзнут. А что будет, когда начнутся морозы? Вот и вспомнил: коллега — шеф предприятия валенок, не постучаться ли к нему в дверь? Может, не забыл он меня еще? Да все стеснялся: удобно ли?
— И не стыдно вам, пан Максимчук! — с деланной обидой в голосе проговорил я. — Чтоб своему бывшему шефу да не организовать две-три пары валенок! Это же пустяк. Заходите. Сделаем, все сделаем...
Максимчук весь зарделся, даже порозовел, После небольшой паузы вкрадчиво спросил:
— Вы пана Шарапановского знаете, пан Новак?
— Конечно.
— Он мой хороший приятель. В «Центросоюзе» был, пожалуй, единственный порядочный человек. Теперь работает в промышленном отделе гебитскомиссариата. От него многое в нашем деле зависит, имейте в виду. Пан Шарапановский тоже собирался как-нибудь навестить вас. Вы уж не откажите ему, пан Новак. При случае он в долгу не останется.
— Понимаю, пан Максимчук.
— Ну и хорошо. А теперь говорите, чем могу быть вам полезен?
Я объяснил, что фабрике валенок крайне нужен квалифицированный механик. Среди прибывших из лагеря такого специалиста не нашлось. Может, имеется механик в числе присланных на фабрику кофе? Я согласен отдать за механика трех рабочих. Без специалиста просто беда, простаивают машины.
— Сейчас проверим по списку, пан Новак. Найдем подходящего, забирайте хоть сегодня. Только обязательно дайте человека взамен, военнопленного, ведь я за этих каналий-москалей отвечаю перед комендантом лагеря. — Максимчук вынул из ящика стола список, пробегая его глазами, забормотал: — Так... Есть два слесаря... Есть токарь... Техник-строитель значится... Еще кондитер, шофер... Имеется даже инженер. А вот на механика не повезло. Какая досада! Посмотрите сами...
Я стал быстро читать фамилии: Бирюков, Волгин... И вдруг в самом конце списка: «В. С. Конюхов, инженер».
Уж не обман ли зрения? Прочел еще раз. Нет, все правильно.
В списке действительно фамилия инженера Конюхова, второго Конюхова! Который же из них настоящий?
...Час назад я собственными ушами слышал фамилию еще одного Конюхова, тоже Виктора Степановича, тоже инженера.
Ко мне в кабинет зашла Настка Кудеша, с радостью сообщила: нашелся наконец Конюхов — он работает на фабрике кофе!
Разыскала его, правда, не Настка. Она два дня ходила с предприятия на предприятие, и все напрасно: никто из военнопленных, с которыми говорила, не знал Конюхова, не слышал такой фамилии в лагере. Разыскала его Мария Жарская. Разговаривала с ним, назвала пароль, они даже условились о новой встрече. Потом Мария встретила на улице Настку, обо всем ей рассказала, а та прямо ко мне, чтобы доложить: задание выполнено!
Услышав эту новость, я попросил Настку пойти в бухгалтерию, сказать Ивану Ивановичу, чтобы, как только освободится, зашел ко мне. Настка вышла, а минуты три спустя вернулась бледная как полотно.
— Я их там... заперла... Вот ключ, — выпалила она дрожащим голосом.
— Кого их?
— Ивана и... другого Конюхова.
— Кого?.. Что ты говоришь?..
Сначала я в самом деле не понял, о чем она говорила, а когда догадался, меня бросило в жар. «Эх, Настка, Настка! Как неосмотрительно ты поступила! Зачем же было сразу разоблачать самозванца? Пусть бы он, ничего не подозревая, вернулся в общежитие, а уж потом... А что потом? Может, он не один. Через такого же самозванца, как сам, успел бы выдать Луця...»
Надо было что-то предпринимать, причем немедленно. Зло выругавшись, я выглянул в коридор. Он был пуст, все уже разошлись: рабочий день закончился с полчаса назад.
— Открой бухгалтерию, Настка, скажи Ивану, чтобы отвел этого «Конюхова» в подвал, — бросил я и, пройдя по коридору, стал у входной двери.
Вскоре в глубине коридора послышались приглушенные шаги, скрипнула дверь, что-то резко крикнул Луць, и все стихло.
— Все в порядке, Терентий! — сказала Настка, торопливо подходя ко мне сзади.
— Хорошо. Стерегите его. Ждите меня. Я скоро вернусь.
Заперев на ключ дверь конторы снаружи, я помчался на фабрику кофе. Успею ли застать Максимчука? Все решали минуты...
— Жаль, что не могу помочь. Как видите, нет среди моих москалей механика, — словно сквозь сон донесся до меня голос Максимчука.
— Так, может, этот инженер? — ткнул я пальцем в конец списка. — Может, он смыслит в машинах?
— К черту советских инженеров! — махнул рукой Максимчук. — Все равно будет у меня стоять возле сковородки и жарить ячмень. Впрочем, если желаете забрать его к себе, будьте добры, отдам. Разумеется, в обмен, — добавил он.
— Хотелось бы сначала посмотреть, что он за птица.
— Пойдемте в цех, — поднялся Максимчук.
Двор был заполнен рабочими. Только что закончилась смена: на фабрике кофе рабочий день был на час больше, чем у нас. Новички из военнопленных заметно выделялись среди рабочих не только одеждой, но и восковыми, истощенными лицами.
Нагловатый молодчик, появившийся возле шефа, услышав, кто ему нужен, угодливо закивал головой в смушковой шапке и исчез в помещении, откуда тянуло горьковатым чадом. Вскоре появился вновь. Вслед за ним из цеха вышел пожилой человек в запачканной сажей гимнастерке с засученными рукавами. Я глянул ему в лицо и от неожиданности чуть не вскрикнул. Этот человек был мне знаком.
...Переполненные пленными грузовые машины стремительно несутся по асфальту. Позади зеленеет, быстро удаляясь, Житомир. В стелющейся за грузовиками пыли тарахтят мотоциклы. Блестят на солнце немецкие каски. К моему лицу склоняется голова в суконной пилотке. Высокий лоб, седина на висках. Потрескавшиеся от жажды губы шепчут: «Прыгать не советую. Самоубийство. Ты выжить попробуй. Это, брат, в нашем положении труднее...»
Помнит ли он меня? Кажется, узнал. Глаза скользят по моему кожаному пальто. Вот как довелось встретиться!
Удивительно, как иногда переплетаются судьбы и жизненные пути людей. На глазах у этого человека я сбежал из колонны пленных, когда нас привезли в Ровно. Тогда он подбадривал меня своим взглядом. Кто же он теперь? Неужели изменник, провокатор, которого фашисты подсунули нам как приманку?
— Конюхов? — спросил Максимчук.
— Да, Конюхов.
— Будешь работать на другом предприятии. Собирайся.
Человек в гимнастерке почему-то встревожился. Секунду поколебавшись, сказал:
— Мне все равно где работать. Но у меня есть просьба. Тут меня разыскала родственница жены. Если придет и спросит, скажите, где я буду.
«Это он про Жарскую. Ну конечно же про нее», — догадался я.
— Какая там еще родственница? — Изо рта Максимчука брызнула слюна. — Бабы здесь косяками шляются, кого-то ищут среди вашей вшивой братии. Каждой докладывать — язык заболит.
— Но поймите же...
— Молчать, подлюка! Скажи спасибо, что за проволокой не сдох! Что я тебе, справочное бюро? Видали такого: еще и требует! Распустились при Советах. Мало вас немцы учили палками!
* * *
На город быстро спускались сумерки, начинало темнеть. Надо было успеть прийти на фабрику валенок до комендантского часа, и мы торопились. Виктор Конюхов — или его двойник, или черт его знает кто он, — ежась от холода, молча шагал рядом. Навстречу попадались гитлеровцы, на углах темнели силуэты полицаев. Однако на нас никто не обращал внимания. Я пытался как можно спокойнее обдумать события этого удивительного дня.
Два Конюховых. Что, если они просто однофамильцы? Нет, не может быть. Одинаковые фамилии, имена, отчества, даже специальность. Слишком уж невероятно такое совпадение. Приходилось поневоле предполагать худшее. Даже допустить, что гитлеровцам удалось пронюхать о намерении Поцелуева снарядить к нам связного с группой рабочих, что фамилия связного, пароль, по которому мы его разыскивали, — все это стало известно в гестапо, значит, вместо подпольщика из лагеря немцы подсунули нам своего человека? Но тогда почему же два Конюховых? Почему? Допустим, один провокатор. А другой? Чем объяснить, что другого, настоящего, о котором сообщил Поцелуев, гитлеровцы не исключили из игры? Если бы в гестапо воспользовались его фамилией, то вряд ли оставили бы его в живых... И все-таки в городе одновременно появились два Конюховых. Что это значит?..
Мои мысли зашли в тупик. Успокаивало лишь то, что мы обнаружили обоих Конюховых, кто б они ни были. «Подождите, — со злостью думал я. — Подождите! Сведем вас вместе, устроим очную ставку, тогда посмотрим, что запоет один из вас».
Я искоса взглянул на своего спутника. Он тихо спросил:
— Куда мы идем?
— Считайте, что уже пришли.
Перед нами лежала притихшая улица Хмельная. На взгорке хмуро серело здание фабрики валенок.
* * *
Настка открыла двери в кладовую. Отступив в сторону, я приказал:
— Идите вперед!
В глубине, в темном провале подвала, слабо мигал желтоватый огонек. Поняв, что придется спускаться вниз, человек в гимнастерке оглянулся через плечо, задержал встревоженный взгляд на Настке, пригнул голову и пошел, придерживаясь раскинутыми руками за холодную кирпичную стену.
Луць сидел на ящике в стороне, в полумраке. Коптящий язычок восковой свечки отбрасывал тени на потолок. Не замечая Ивана Ивановича, мой спутник всматривался в окутанный тьмой угол подвала. Там стоял высокий худой человек. И раньше, чем я успел открыть рот, задержанный Луцем Конюхов с радостным криком бросился к Конюхову с фабрики кофе:
— Дядя Юрко!
— Виталий Семенович!
Луць резко поднялся, отбросил ногой ящик. Мы ничего не понимали. Конюховы похлопывали друг друга по плечу, смеялись, и видно было, что эта встреча принесла обоим облегчение, разрядила нервное напряжение.
— Чертовщина какая-то, — проговорил Луць, медленно засовывая за пояс пистолет.
Меня вдруг охватило нестерпимое желание опуститься прямо на пол — по телу разлилась валившая с ног свинцовая усталость.
5
Вечером того дня, когда Поцелуев вручил Настке записку, в которой назвал фамилию Конюхова, в лагере военнопленных произошло непредвиденное событие.
Утром эсэсовцы вывели за ворота лагеря первую группу пленных для работы на городских предприятиях. В городе к эсэсовцам присоединились полицаи. Немецкие охранники, за исключением нескольких ефрейторов и фельдфебелей, вскоре вернулись в лагерь. Подпольщики из числа военнопленных теперь не сомневались, что их товарищи будут работать на предприятиях Ровно.
В течение последней недели в лагерь несколько раз приезжали офицеры-интенданты и представители гебитскомиссариата, ходили по баракам, выясняли через переводчика гражданские профессии военнопленных. Особенно их интересовали слесари и электрики, токари и электросварщики, столяры и шоферы.
Вначале военнопленные настороженно отмалчивались, список в руках переводчика пополнялся медленно. Потом в настроении пленных произошла резкая перемена. Специалистов оказалось так много, что переводчик еле успевал записывать их номера. Поцелуев уже стал побаиваться: не думают ли немцы отправить военнопленных на работу в Германию. Тогда не миновать беды: в Германии гораздо труднее вырваться на волю.
Однако пока все шло гладко. Гитлеровцы скомплектовали несколько рабочих групп. В той, что покинула лагерь утром, был и седой мужчина, которого привезли в Ровно летом из житомирского лагеря. Друзья называли его дядей Юрко.
Вслед за первой группой с территории лагеря под охраной эсэсовцев вышла рабочая команда, которую ежедневно гитлеровцы гоняли на расчистку улиц. С сумкой от противогаза через плечо Николай Поцелуев шагал в последнем ряду. Увидев на углу знакомую смуглолицую женщину, Николай покинул колонну, подошел к женщине и, как делал это в последнее время почти ежедневно, быстро переложил принесенные ею продукты из кошелки в сумку противогаза, а на дне кошелки оставил заранее приготовленную записку. Теперь все в порядке: городские товарищи будут знать, кто направлен на связь с ними.
В конце дня эсэсовцы начали готовить для отправки в город еще несколько небольших колонн военнопленных. И тогда распространился слух: будто людей, которые попали в первую группу, увели на железнодорожную станцию, загнали в товарные вагоны и куда-то увезли.
Поцелуев только что возвратился с рабочей командой в лагерь. Услышав эту новость, встревожился. «Увезли из Ровно? Значит, городские подпольщики напрасно будут искать человека по фамилии Конюхов. Что же делать?»
Возле бараков горланили эсэсовцы. Заглядывая в бумагу, переводчик выкрикивал порядковые номера пленных. Вызванные спешили на середину обнесенной колючей проволокой площадки. Их становилось все больше. У всех были хмурые лица. С появлением слуха о вывозе из города первой группы каждому мерещилась страшная и долгая дорога в эшелонах. В лагере хорошо знали такие эшелоны, похожие на движущиеся тюрьмы.
«Что делать?»
Поцелуев лихорадочно думал. Мимо него бежали люди. Подгоняя их, кричали солдаты из охраны. Высокий, худощавый, чернобородый мужчина, увидев Поцелуева, схватил его за руку:
— Прощай, Коля. Наверное, и меня ждет эшелон. Мой номер только что назвали!
— Виталий, слушай, — зашептал Поцелуев. — Дядю Юрко, наверно, увезли. Если ваша группа все же останется в городе и ты попадешь на предприятие, назовись там Конюховым. Слышишь? Вместо дяди Юрко Виктором Конюховым станешь ты. Пароль знаешь. Сам никого не ищи. Жди, пока придут и напомнят о безруком. Это будут свои! Познакомишь их с другими нашими товарищами. Понял?
Бородатый кивнул. Как и дядя Юрко, он входил в тройку Поцелуева, руководившую подпольной организацией в лагере. Вместе они инструктировали дядю Юрко, вместе придумали ему фамилию Конюхов, вместе решали, какой пароль указать в записке. Бородатый все понял. Так военный инженер Виталий Семенович Поплавский неожиданно стал связным-дублером Конюховым-два. Ни он, ни Поцелуев не знали, что Конюхов-один, дядя Юрко, в эти минуты уже находился на фабрике кофе. Слух о вывозе пленных из Ровно оказался на этот раз ложным.
Поплавский закончил свой рассказ. Луць усиленно крутил пуговицы на пиджаке. Настка молчала. Я спросил:
— Почему вы сразу не внесли ясность в эту запутанную историю?
— Вы бы мне все равно не поверили, — ответил инженер и посмотрел на Настку. — Как только она сказала: «Это не Конюхов!», я сразу догадался, что дядя Юрко в городе и что вы уже знаете о нем... Сначала, признаюсь, здорово перепугался. Пистолет из-за пояса и «руки вверх» — это, знаете ли, убедительно и... удивительно похоже на гестапо. Но вместе с тем ее появление, — он снова бросил взгляд в сторону Настки, — обнадеживало. Я сразу узнал ее. Это она, как мне было известно, не раз передавала Николаю вместе с продуктами записки от городских подпольщиков... Так что спасибо вам, гражданочка, — улыбнулся он. — Если бы в присвоении чужой фамилии уличил меня кто-то другой, я бы попытался выпрыгнуть в окно. А что бы случилось потом, трудно сказать...
— Ну, а как прикажет теперь называть себя Конюхов номер один? — спросил Луць.
Седой мужчина развел руками, устало улыбнулся:
— Называйте хотя бы дядей Юрко. Я привык к этому имени. А могу остаться и Конюховым.
— Вы заявили на фабрике кофе, что тоже являетесь инженером. Это правда?
— Вообще-то правда. До армии работал инженером... Однако давно это было, в молодости, когда только окончил институт.
Нам оставалось лишь извиниться перед товарищами, особенно перед Поплавским, за негостеприимную встречу. Я сказал, что завтра мы доложим о них руководству подполья, а из головы тем временем не выходила мысль: что делать дальше? Отправить их в общежитие рабочих-военнопленных — значило поверить всему, что они рассказали. А можно ли верить? Вроде бы все выяснилось, но кто знает...
— Может, нам лучше переночевать тут, в подвале? — словно уловил мои сомнения Поплавский. — Вот шерсть, можно отдохнуть. Свеча есть. А что еще нужно казакам? Правда, дядя Юрко?
— О таком можно только мечтать, — не задумываясь, подтвердил тот. — Если еще добрые люди дадут нам по краюхе хлеба, будет совсем хорошо. Вы, товарищи, закройте нас, и нам будет спокойнее.
Луць повеселел. Он ценил умных людей, а эти двое были умны: они будто прочитали наши невысказанные мысли.
И все же в ту ночь Ивану Ивановичу не пришлось спать. Он остался на фабрике и до утра просидел у входа в подвал.
На рассвете Настка поспешила на Здолбуновское шоссе. Развеять наши последние сомнения мог только Поцелуев.
Виталий Поплавский «делает карьеру»
1
Моя секретарша Нина вдруг стала вести себя как-то странно. Несмелая, тихая девушка, всегда боязливо переступавшая порог кабинета шефа, изменилась до неузнаваемости. Резко отвечала на вопросы, бросала в мою сторону откровенно неприязненные взгляды. Вся ее фигурка словно наполнилась дерзостью. Словом, в поведении девушки появилось что-то совсем новое, неожиданное и непонятное.
Однажды я заметил, что Нина перешептывалась с Насткой. Обе смутились, увидев меня. Глаза Нины стали холодными, колючими.
Поведение секретарши не могло не насторожить, и я, когда мы остались вдвоем, спросил Настку:
— Какие у тебя дела с этой девчонкой?
Жена Луця вначале немного растерялась, потом твердо сказала, ошеломив меня:
— Нина печатает со мной в подвале листовки, помогает мне.
— Что?!
— Уже целую неделю печатаем вместе.
Впервые за время нашей дружбы и совместной подпольной работы я в тот вечер накричал на Настку, упрекая ее в вопиющей неосмотрительности. Разве мало того, что она днем наклеила несколько листовок на немецкие плакаты у дома рядом с гебитскомиссариатом? Эта бравада могла привести к очень серьезным последствиям. И вот снова легкомыслие: не посоветовавшись, не предупредив, она посвятила в наши дела неопытную девчонку, открыла ей фактически место пребывания штаба организации.
Теперь я понял, почему секретарша стала смотреть на меня чертенком. А как же иначе! Ей уже не терпится продемонстрировать свое презрение к пану директору. Она знает, что в подвале фабрики находятся ротатор и пишущая машинка, знает о подпольной работе Настки. Из этого нетрудно сделать вывод, что антифашистской деятельностью занимается и Луць, муж Настки, главный бухгалтер фабрики. Вероятно, неизвестно Нине лишь о моем участии в подполье. Она считает меня националистом, бандеровцем, потому и смотрит волчонком.
Да, Настка поступила неосмотрительно, очень неосмотрительно. Подумать только, так сразу, без подготовки посвятить девушку в святая святых подполья, сделать ее своей помощницей!
Однако Настка не собиралась оправдываться. Напротив, она сама перешла в наступление:
— Я вот что скажу тебе, Терентий, — решительно заявила Кудеша. — Нина, конечно, еще девчонка. Это верно. Слабенькая, тихая, незаметная. А ты пытался заглянуть в ее сердце? Почему мы не должны верить ей? Какие имеются основания, чтобы сомневаться в ее честности, стойкости, преданности нашему делу? Ты себя вспомни! Вспомни, сколько тебе было лет, когда выполнял первое партийное поручение? Когда стал коммунистом? Тебе же верили. Или, может, считаешь, что ты исключение? Обидно, но только кое у кого из нас проскальзывает самомнение: мы боролись, мы умели, мы действовали, а нынешняя молодежь!.. Куда ей до нас!.. Так не годится, Терентий. Надо смелее вовлекать людей в борьбу. Ты слишком осторожничаешь. Хочешь обижайся, хочешь нет, а я говорю то, что думаю.
— Значит, я слишком осторожничаю? Возможно, ты права. Но что же тогда получается? Первого встречного ты готова схватить за руку: «Мы против оккупантов кое-что затеваем, если желаете, будьте любезны, присоединяйтесь к нам!» Так, что ли?
Я взглянул на Ивана Ивановича, ожидая поддержки. Но он молчал. Снова заговорила Настка:
— Мы несколько месяцев приглядывались к инженеру Дзыге. По всему видно, человек он честный. А где он сейчас? После ликвидации «Центросоюза» подался куда-то в район. Почему мы не привлекли его к настоящему делу? Из-за слишком большой осторожности. Дзыга не сделал решительного шага, не стал активным борцом-подпольщиком только потому, что никто из нас не поговорил с ним откровенно. Или взять товарищей из лагеря военнопленных, «Конюховых». Поцелуев подтвердил все, что они рассказали о себе. Люди уже несколько дней находятся на фабрике, среди нас. А поручили мы им что-нибудь? Нет, не дали никакого задания. Тоже осторожничаем. Хорошо, хоть в общежитие поместили... Вчера на улице я встретила Александра Гуца. Ты его, наверно, помнишь еще по КПЗУ. Человек пережил трагедию: всю семью расстреляли фашисты, сам еле вырвался из рук палачей. Места себе не находит. Утешала, успокаивала. Да разве это ему нужно? Его бы не утешать, а взять за руку, и сюда, к нам. Гуц готов зубами грызть фашистов. А я о тебе вспомнила, Терентий, и не решилась быть откровенной с Гуцем. Правда, свой адрес я ему на всякий случай назвала. Он насквозь наш, был нашим, таким и остался! И сторож Михал тоже наш, и Поплавский, и секретарша Нина... Таких, как они, сотни, тысячи ходят с нами рядом. Мы должны больше доверять людям, Терентий. Без этого невозможна настоящая борьба с фашистами.
Разговор принял неожиданный оборот. Настку я понимал, она всегда немного горячится. Но Иван Иванович!.. Давно ли он вел речь о самой суровой конспирации, о тщательном отборе людей в подполье, предостерегал от поспешности? Теперь же он своим молчанием, по существу, одобрял поступок Настки, разделял ее взгляды. В чем же дело? Может, на самом деле я кое-что недооцениваю, не учитываю?
Доверие... Без него тяжело жить и невозможно работать. Я знаю это по собственному опыту. Ну а осторожность, трезвый расчет? Они тоже необходимы. Все должно быть в меру. Мне вспомнился давний случай.
...Несколько лет назад, зимней морозной ночью в Гощу пришел незнакомец Илларион Эма, назвался представителем окружкома. Мы, в то время еще молодые коммунисты, радостно встретили товарища сверху, присланного нам в помощь из Ровно.
В Гощу Эма пробирался, как он говорил, от явки к явке, тайным маршрутом, о котором знали немногие. В райкоме назвал пароль. О том, что Эма прибудет в Гощу, нас предупредили заранее. Все было как полагается, согласно заведенному в подполье порядку.
Представитель обкома имел широкие полномочия. Давал указания, посещал партийные собрания, подробно знакомился с деятельностью Гощанской партийной организации, интересовался комсомольскими делами. От него мы ничего не скрывали. Делились мыслями и планами, обращались к нему за советами.
А в 1937 году в нашей организации начались провалы. Полиция арестовала сначала одного, потом другого, третьего, четвертого... Я решил проверить явки, и каждый раз натыкался на засады. Явки были раскрыты. Меня жандармы схватили под утро в стоге сена, где я отсыпался, измученный многодневными переходами.
В дефензиве я все отрицал. Тогда мне устроили очную ставку с предателем, который выдал всех нас польской охранке. Им оказался... Эма.
Мы дорого заплатили за свою доверчивость. Более сотни коммунистов, комсомольцев, членов МОПР были заточены в тюрьму.
Тяжелый урок запомнился мне на всю жизнь. Именно об этом вспомнил я и теперь, когда зашла речь о подборе новых членов в подпольную организацию в оккупированном фашистами городе. Луць, наверно, тоже думал об этом. Не мог не думать. Но его что-то угнетало. Может, потому он и молчал, не вступал в наш с Насткой разговор. Я спросил его:
— Что-то беспокоит тебя, Иван? Ты скажи. Не имеем мы права таиться друг от друга. Даже свои сомнения, даже то, что приносит боль, обязан каждый из нас выкладывать на совместное обсуждение. Так будет легче.
— В этом ты прав, Терентий, — медленно, словно рассуждая с самим собой, произнес Луць. — Теперь цена каждого промаха — жизнь. Тут я с тобой согласен, — повторил он. — Надо быть осторожными. Но пойми, мы не можем и не должны возводить недоверие в принцип. Нашим людям нужно верить. Иначе, какие же мы подпольщики! Обидеть человека легко. Поверить ему, особенно тут, на оккупированной врагом земле, гораздо труднее. И об этом нельзя забывать...
2
Александр Гуц, о встрече с которым как бы случайно упомянула Настка в ходе спора по поводу доверия к людям, был моим старым знакомым, соратником по революционной подпольной работе в панской Польше, одним из членов Волынского подпольного окружного комитета КПЗУ.
Двадцатипятилетним парнем, имея за плечами уже немалый опыт революционной борьбы, он теплой августовской ночью 1935 года перешел границу и впервые ступил на советскую землю, где его ждали друзья. Окружком КПЗУ послал Александра в СССР учиться. И вот он на обетованной советской земле. Об этой минуте Гуц мечтал постоянно, с самого первого дня, как вступил в ряды борцов.
Что видел он до того на родной Волыни, поруганной и порабощенной польскими панами? Безрадостное детство в крестьянской семье, перебивавшейся с хлеба на воду. Потом подпольная революционная деятельность в рядах комсомола, тюрьма, побег, снова подполье, вступление в партию. И опять арест, опять тюрьма, узкая, как гроб, камера-одиночка, куда никогда не проникают солнечные лучи, где никогда не высыхают покрытые плесенью стены.
И вдруг звонкоголосая, шумная жизнь. Улыбающиеся лица людей. Веселая дробь пионерских барабанов.
Стайки студентов на Крещатике. Широкий Днепр. Белые, как чайки, пароходы. Протяжные гудки над водой. А на утопающей в зелени площади, на высоком гранитном постаменте огромная фигура Богдана Хмельницкого... За Днепром бескрайние, переливающиеся, как морские волны, поля пшеницы. Гул тракторов. Огни сельских клубов. Девичьи песни по вечерам... Ну а самое главное — учеба, лекции, семинары и книги. Много книг... Читай сколько хочешь!
Незабываемый 1939 год. Освобождение родной земли от польских панов-угнетателей. Александр Гуц — заместитель председателя Клеванского райисполкома.
Многочасовые беседы с людьми, раздел помещичьих земель, первые колхозы...
В то утро, когда над Клеванью загудели вражеские бомбардировщики, сразу все переменилось. Пришлось взяться за оружие.
Были бои на дорогах Волыни, взрывы мин, дым горящих вражеских танков. Были окопы и атаки, кровавые зарева пожаров, грохот орудийных выстрелов, стук пулеметов и стрекот автоматов. Тяжелые бои, отступление. Были раскаленный осколок снаряда в плече и лагерь военнопленных.
Александр бежал из лагеря. Прятался в селе Деревянное на чердаке тестевой хаты. По ночам встречался с друзьями. Подобрал уже несколько знакомых хлопцев из тех, что не собирались сидеть сложа руки. Решили обзавестись оружием и податься в лес. И тут пришло несчастье...
Подробности о страшной трагедии семьи Гуца мы узнали позднее. Частично от него самого, а многое от очевидцев, оставшихся в живых жителей села Деревянное.
Было это так.
Тихое село Деревянное, разбросавшее свои хаты близ Цуманского леса, однажды на рассвете проснулось от грохота стрельбы, звона разбитых стекол, настойчивого, требовательного стука в двери. Это клеванский кулак-бандеровец, по кличке Сыч, и два его племянника привели в село отряд фашистских разбойников, заранее наметили, кого схватить, с кем свести давние счеты. Люди бросились в лес, но гитлеровцы перекрыли дорогу, окружили село плотным кольцом.
Одним из первых был схвачен Александр Гуц. Ему скрутили руки, привели в сарай.
И вот Александр стоит у стены сарая, босой, без фуражки. С его разбитых губ на белую вышитую рубашку струйкой сбегает кровь. Ветер перебирает мягкие волосы. Гуц уже не чувствует ни холода, ни боли. Только сердце колотится часто-часто, и он прислушивается к его трепетным толчкам. На плече открылась недавняя, еще не успевшая как следует затянуться рана. Рубашка липнет к телу. На продолговатом, почти юношеском лице и высоком лбу зловеще багровеют кровавые следы от ударов плетки.
Гуц видит эту плетку перед собой. Сплетенная из восьми полосок сыромятной кожи, она, извиваясь змеей, свисает к сапогу Сыча, лысоватого, краснорожего бандеровца с налитыми ненавистью глазами. На шапке у Сыча — самодельный трезубец, грубо и неумело вырезанный из жести консервной банки. На его сапогах засохла кровь.
«Моя или не моя?» — машинально думает Гуц, пробуя шевельнуть за спиной непослушными, набухшими пальцами.
Сыч играет плеткой, дышит в лицо Александру луком и перегаром самогона.
— Молчишь, Александр Романович? Отмолчаться хочешь? — куражится он. — А нам твои слова и не нужны. Без них все знаем. Всю историю твоей жизни. С коммунистами якшался? Якшался. Еще и верховодил у них. В тридцать девятом ездил во Львов на Народное Собрание? Ездил. С господами-товарищами кумовство водил? Водил. Помнишь, как, вернувшись из Львова, землю мою, мою земельку, вот этими руками нажитую, нищей голытьбе раздавал? Не забыл небось: «Советская власть вручает вам на вечное пользование...» — Сыч сбивается на хриплый шепот. Его морщинистое лицо, заросшее седой щетиной, перекашивает злоба: — Помнишь?..
Гуц сплевывает сгусток крови, спокойно говорит:
— А чего ж не помнить, помню.
— То-то. Ты, может, думаешь, я помилую тебя, из рук выпущу, не отблагодарю за все? Ну, говори, большевистский выродок.
— Попался бы ты мне несколько месяцев назад, я бы с тобой поговорил...
Свистнула плетка, обожгла плечо. Сыч заскрежетал зубами, отскочил назад, замахнулся еще раз... Долговязый парень в синем пиджаке, перепоясанном немецким ремнем с пряжкой, на которой выдавлено «Гот мит унс»[8], торопливо сорвал с плеча винтовку, неумело дернул затвор, загнусавил:
— Дядя, ну отойдите... Я его тут, на месте решу...
— Погоди! — Сыч оттолкнул парня. — Пусть сначала увидит, как его отродье будет скрести ногтями землю, как все их проклятое семейство красной юшкой умоется.
Из-за леса на какое-то мгновение показался багряный диск солнца и сразу скрылся за тучами. А в селе горланили гитлеровцы, захлебывались от злобного лая собаки. То в одном, то в другом месте слышался треск автоматных очередей. Солдаты в грязно-зеленых шинелях выталкивали из хат людей, прикладами сгоняли их на главную сельскую площадь, к церкви. Тревожно гудел колокол. Как ошалелые носились по улице куры, теряя перья. На окраине Деревянного что-то горело. Дым пожара рвался вверх и, подгоняемый холодным ветром, черными клочьями проносился над соломенными крышами хат.
Мимо сарая немцы прогнали большую группу мужчин, женщин и детей. Полураздетые, только что поднятые с постели, люди испуганно жались друг к другу. Слышался детский плач. В толпе Гуц увидел знакомую свитку отца — старого Романа Гуца, увидел мать, свою молодую жену, брата. Связанные за спиной руки Александра похолодели. Значит, бандеровец угрожал не зря: вся родня Александра была в руках озверевшей своры гитлеровцев.
— Ну что, узнал своих? — с прежней издевкой спросил Сыч. — Вот так-то, уважаемый господин-товарищ заместитель председателя райисполкома. А ну, давай и ты в общую компанию. Немцы умеют расправляться с такими, как ты... Ну живее, живее, не спотыкайся!..
Сыч и его племянник схватили Александра Гуца под руки, поволокли на площадь, поставили рядом с женой.
Гуц огляделся. Площадь была окружена плотным кольцом фашистских солдат. Нацеленные на толпу, чернели на треногах пулеметы. Подъехали две подводы. Солдаты бросили на них несколько избитых до полусмерти односельчан Александра. Засовывая в кобуру парабеллум, жандармский офицер надтреснутым голосом выкрикнул команду «Вперед!». Толпа вздрогнула и словно нехотя тронулась с площади. Заскрипели подводы, послышались стоны избитых. Сыч что-то говорил офицеру, указывая пальцем в сторону леса.
Гуц понял, куда и зачем их гонят. Он шел рядом с женой, смотрел на высокие липы, на знакомые соседские хаты, на колодезные журавли, мысленно прощался с небогатым родным углом, где родился, вырос, где в детстве был пастушонком. Он вспоминал свою жизнь. Тридцать один год, не так уж много. А чего в них было больше — радости или горя? Горя было много, но были и такие дни, которые, не задумываясь, можно назвать самыми счастливыми. Ох как далеки они теперь!..
Александр еще раз глянул вокруг. Спереди, сзади, по сторонам — ненавистные фашистские шинели. Совсем недалеко лес. Сейчас он казался Гуцу темным, страшным, молчаливым. А ведь еще недавно, минувшей весной, было так чудесно в этом лесу! Каждое воскресенье сюда приезжали ровенчане с семьями. От Клевани до Оржева, до берегов Горыни звенели счастливые песни...
Руки скручены за спиной. Слышатся злобные окрики жандармов, автоматные очереди, одиночные выстрелы. Высокие сосны тянут свою извечную песню...
— Что же это будет, Сашок? Что будет? — шепчет жена, прижимаясь к Александру. А он чувствует, как под разорванной блузкой дрожат ее худенькие плечи и из глаз все текут и текут слезы. Отец идет впереди, поддерживает мать, изредка оглядывается. Гуц ловит его взгляд. В глазах отца тоска.
Молчит Александр. Снова слышит шепот:
— Ты беги, Сашок... Они же поубивают нас, не зря ведут в чащу. Беги, родной!
Он отрицательно качает головой.
— Погибнем же все. Может, хоть ты успеешь... Беги! Вот я сейчас, сейчас...
Жена нащупала веревку на его руках, начала распутывать тугой узел. Пальцам стало легче. Александр с благодарностью посмотрел жене в глаза. Мало прожили они вместе, но прожили радостно, дружно. И вот так все кончается; счастье, любовь, мечты.
И опять горячий шепот рядом:
— Вот только свернем в заросли...
— Ты тоже со мной, — твердо говорит он. — Держись за мою руку.
Тишину разорвали неясные голоса. Толпу крестьян неожиданно остановили, начали выстраивать в ряд на поляне. Несчастных было немало: жандармы схватили в Деревянном около шестидесяти мужчин и женщин. Гитлеровцы торопливо устанавливали пулеметы на треногах, разбирали патронные ленты. На уровень груди односельчан Гуца солдаты подняли автоматы. Офицер сделал знак рукой. Стало тихо. Потом сразу лес огласился криками:
— Будьте прокляты, убийцы!
— Палачи!..
— Женщин расстреливаете, мерзавцы!..
— За что убиваете? За что?..
Загремели выстрелы. Послышались стоны раненых. Казалось, небо обрушилось на землю. Гуц видел, как покачнулся и упал отец, как начали падать кругом люди. Не выпуская руку жены, он рванулся в сторону и, пригнувшись, побежал. Жена тоже бежала рядом. В каких-нибудь тридцати метрах желтели кусты. А за спиной рвали воздух пулеметы и автоматы.
Рука жены странно дернулась и выскользнула из его ладони. Гуц обернулся. Ее лицо побелело, глаза закрылись, закинув назад голову, она успела шепнуть:
— Беги!
Блузка на ее груди потемнела от крови. Гуц опустил вдруг отяжелевшее тело любимой у большого дерева. Прямо на него бежали два жандарма. Рядом по земле ударили пули, подняв фонтанчики песка. Песок брызнул в глаза. Ничего не видя, Гуц бросился в кусты. Падал, вскакивал, натыкался на сосны и снова бежал, чувствуя, как ветки рвут одежду и кожу. А позади гремело, стонало, гудело...
Он не помнил, сколько прошло времени. Силы оставили Александра. Припал к земле и долго лежал, уткнувшись лицом в колючую, душистую хвою. Он ждал: вот-вот появятся жандармы, выстрелят в упор, в спину, и все равно не мог подняться.
Но жандармов не было. Выстрелы гремели где-то в стороне. Гуц отдышался, медленно поднялся на ноги и пошел в глубь леса, не думая о том, куда идет, что ждет его впереди...
Вспоминая потом слова Настки о Гуце, о том, что он готов зубами грызть фашистов, я говорил себе: «Да, Настка права. С такими, как Александр Гуц, нет нужды играть в прятки, нельзя не доверять им, а надо смелее и решительнее привлекать к борьбе».
Впоследствии Александр Гуц стал одним из активных деятелей ровенского подполья.
3
Кроме Виталия Поплавского и седого дяди Юрко поздней осенью сорок первого еще десять человек из подпольной группы Николая Поцелуева оказались на ровенских предприятиях, подчиненных гебитскомиссариату. Двое из них, шахтер Иван Талан и курский маляр Михаил Анохин, попали к нам на фабрику и поселились вместе со всеми в общежитии. Остальные работали на «Металлисте», на складе лесоматериалов, на пивзаводе, на фабрике чурок.
Все мы прекрасно понимали, какую неоценимую помощь оказал нам Поцелуев, сумевший направить на предприятия своих людей. Все они, бойцы и командиры Красной Армии, обожженные пламенем первых трагических месяцев войны, выдержали не одно тяжкое испытание, но не согнулись. Очутившись в фашистском плену, израненные, больные, голодные советские люди продолжали бороться с врагом, как могли. Они имели некоторый фронтовой опыт и опыт солдат подполья, действовавшего, в жестоких условиях фашистского лагеря для военнопленных. К нам прибыло закаленное, надежное пополнение. И то, что товарищи работали на разных предприятиях, было выгодно. В сети подпольной организации советских патриотов, которая создавалась в «столице» Украины и вокруг нее, друзья Поцелуева заняли свои боевые посты. Нужно было как можно быстрее установить с ними связи, рассказать им об обстановке. Поплавский, хорошо знавший этих людей по лагерю, заверил, что каждому из них можно смело поручить руководство подпольной группой на предприятии.
Мне не терпелось встретиться и познакомиться с военными ребятами. Но Иван Иванович, Настка и Прокоп Кульбенко, часто наведывавшийся в Ровно, категорически возражали против этого.
— Зачем тебе встречаться с ними самому? Мы и без тебя сумеем установить контакт с товарищами. Тебе же необходимо оставаться в тени. И чем больше будет у нас людей, тем меньшее число из них должно знать, кем на самом деле является директор фабрики валенок, — твердо сказал Луць. — Всему свое время. Связями с людьми Поцелуева займемся мы трое. Привлечем к этому делу и Жарскую. Не возражаешь? Все сделаем как следует, не беспокойся.
Однако совершенно неожиданно случилось так, что основная забота по установлению связей с подпольщиками, работавшими на других предприятиях города, легла на плечи Виталия Поплавского. Он получил неограниченную возможность свободно посещать любой завод или фабрику, не опасаясь, что его появление там может вызвать какие-либо подозрения. Ни гитлеровцы, ни полицаи, ни кто другой теперь не могли помешать ему. Больше того, шефы предприятий заискивающе кланялись ему, предупредительно открывали перед ним двери и млели от счастья, если он пожимал им руки. Все они, как один, попали в подчинение к инженеру Поплавскому и во многом зависели от него. Виталий занял такую должность, о которой мог только мечтать пан Максимчук и его коллеги. Этот молодой, стройный, почти никому не известный в городе красавец стал вдруг большим начальником, и, чтобы заслужить его благосклонность, шефы предприятий всячески угождали ему.
Своей головокружительной «карьерой» в оккупированном Ровно Виталий Семенович Поплавский был обязан визиту на фабрику валенок заместителя шефа «Центральбюро дес гебитскомиссариат фюр виршафт» Бота.
...Приятель Максимчука Шарапановский после ликвидации «Центросоюза» устроился в промышленный отдел гебитскомиссариата и выполнял там обязанности не то инспектора, не то референта по вопросам украинских кадров. Ко мне Шарапановский относился недоверчиво, едва ли не враждебно, будто нюхом чуял в моей персоне что-то опасное и подозрительное. И все же он приехал на фабрику валенок. Продукция фабрики явилась той приманкой, на которую клюнул жадный до наживы старый петлюровец.
Он сидел передо мной, недоверчиво озираясь вокруг и хмуря мохнатые брови. Громко сопел, видно не решаясь открыто сказать, что его привело к нам. Я незаметно кивнул Луцю. Тот проворно вытащил из шкафа две пары новых, завернутых в газету серых валенок, положил их на колени Шарапановскому и вышел из комнаты.
Ощупав пакет, Шарапановский удовлетворенно крякнул, хитровато прищурился. Из его растянутого в улыбке беззубого рта ручьем полились слова. Он оказался хвастливым, этот петлюровский ублюдок. Упомянув о своих знакомствах с гитлеровскими офицерами и чиновниками гебитскомиссариата, Шарапановский начал вздыхать о тех временах, когда водил в бой против «красной голытьбы» сотню «черношлычников» Симона Петлюры. Потом стал вспоминать о домах терпимости в Германии, которые частенько посещал в первые годы эмиграции. В заключение конфиденциально сообщил, что не сегодня-завтра фабрику валенок намерен посетить сам Бот. Он любит приезжать внезапно. Недавно побывал экспромтом на фабрике чурок, обнаружил там беспорядок, рассвирепел, отлупил директора, пригрозил ему тюрьмой.
— Так что учтите, пан Новак. Это я вам тет-а-тет, услуга за услугу. Подготовьтесь надлежащим образом.
— Спасибо за предупреждение. Будем наготове. Заходите почаще.
В окно было видно, как Шарапановский, прижимая к себе пакет, важно прошел к воротам. Возле проходной промелькнула фигура Луця. Теперь оставалось подождать несколько минут: на приманке был крючок, и Шарапановский, сам того не ведая, уже попался на него.
В дверь постучали. Я улыбнулся: «Подсекли».
Рабочий в замасленном ватнике, приоткрыв дверь, сказал, что сторож просит меня немедленно выйти к воротам.
— Что там случилось?
— Не знаю. Михал ругается с каким-то стариком.
Я вышел. Из будки проходной слышались возбужденные голоса. Сторож Михал держал Шарапановского за полу короткого пальто, не выпускал на улицу и настойчиво требовал:
— Покажите, пан, что у вас в руках. Э, нет, не выпущу, пока не развернете пакет... Не дергайтесь, пан, не поможет!
— Отвяжись, нахал! — шипел Шарапановский, тщетно пытаясь вырваться. — Пошел вон, дурак! Знаешь, с кем имеешь дело?
— Мне все равно, кто вы такой, пан. Имею приказ проверять любого. Лучше сами покажите, что там у вас, а не то... — Сторож рванул пакет к себе, валенки упали на землю. Михал отчаянно завопил: — А, пся крев, валенки на фабрике утащил. Ворюга!
— Да как ты смеешь, поганая морда! — задыхаясь, кричал Шарапановский. — Прочь с дороги, босяк!
На крик сбежались рабочие.
— В чем дело? — сурово спросил я, входя в будку.
Михал вытянулся. Не отпуская Шарапановского, он продолжал громко кричать:
— Вот, глядите, пан директор! Две пары! Да ты знаешь, ворюга, что за кражу изделий с предприятия немцы дарят пулю? Зовите полицию, пан директор! Я ему покажу «поганую морду», до самой смерти будет меня помнить, пся крев!.. Украл да еще и ругается, собачий сын!..
Лицо Шарапановского вытянулось, позеленело, челюсть отвисла. Брюзжа что-то непонятное, он продолжал вырываться из цепких рук сторожа.
Я быстро уладил «конфликт». Рабочие разошлись. Михал отпустил полу пальто Шарапановского и, что-то ворча себе под нос, отошел в темный угол будки.
— Ничего, ничего, господин Шарапановский, идите, не волнуйтесь, — успокаивал Луць бывшего петлюровца. — Сторож — хам, вы правы, но мы все уладим. Все будет в порядке, идите спокойно.
Шарапановский запихнул валенки под пальто и, боком протиснувшись в узкую дверь, вышел на улицу.
Возвращаясь в фабричную канцелярию, мы с Луцем обернулись. Из будки, улыбаясь, выглядывал Михал.
Шел снег. Иван Иванович поймал на ладонь несколько снежинок, сжал их в кулак.
— Теперь вот мы его как! Подсунем еще одну-две пары валенок — и господин Шарапановский в узде, сразу прикусит язык.
— А возьмет? Не слишком ли мы напугали его сегодня?
— Возьмет. Ему только давай, будет брать ежедневно. Разве не видишь, жаден до того, что весь дрожит. В случае чего есть свидетели: сторож задержал его с валенками. Мы с тобой знать не знаем, где он их взял. Не иначе как украл. Сговорился с кем-нибудь из рабочих и украл. Ну а тех, кто ворует продукцию, гитлеровцы расстреливают без разговора. Ему это тоже хорошо известно. Видел, как испугался, когда сторож упомянул о немцах? Будет Шарапановский как шелковый. Может, когда и пригодится... А каков наш Михал? Настоящий артист! Не ожидал, что он так сыграет роль... Молодчина!
— Как думаешь, не соврал Шарапановский про Бота?
— Кто его знает. Может, придумал, чтобы набить себе цену. Однако нам не мешает подготовиться. Если Бот надумает и вправду заглянуть на фабрику, надо пустить ему пыль в глаза, да так, чтобы самим не засыпаться.
* * *
Шарапановский не соврал. На следующий день Бот прибыл на фабрику ровно в девять часов утра. Его сопровождали Смияк, два офицера-интенданта и незнакомый круглолицый немец в очках, одетый в штатское.
Вместе со свитой заместитель гебитскомиссара быстро прошел мимо испуганного Михала в открытые ворота, не без интереса, с заметным удивлением огляделся вокруг. То, что он увидел, было для него явной неожиданностью. Фабричный двор очищен от снега и мусора, старательно подметен и прибран. Под сапогами Бота и его свиты поскрипывал желтый песок, которым были посыпаны дорожки, ведущие в цеха. Ничего лишнего, все на своем месте, всюду чистота, порядок, подчеркнутая аккуратность.
Мы встретили шефа промотдела у входа в фабричную контору. Все были одеты как в праздничный день: на каждом белая вышитая рубашка, тщательно отутюженные костюмы, до блеска начищенная обувь.
— Кто такие? — поинтересовался Бот.
— Администрация фабрики, — ответил я.
Бот одобрительно закивал, наклонился к немцу в штатском, что-то тихо сказал ему. Потом повернулся к Смияку, бросил несколько слов, а тот громко, чтобы все слышали, перевел:
— Господин Бот говорит, что порядок и чистота зависят от желания. Есть желание — есть порядок... Господин Бот говорит, что не на всех предприятиях наблюдается такая картина, как здесь. Он подготовит соответствующий приказ... Господин Бот хочет знать, как идут дела в цехах.
Возле одной из дверей внимание немцев привлекла табличка с надписью: «Цех валенок». Ее мастерски нарисовал в две краски Луць. Бот остановился, склонил голову набок, разглядывая красивые ровные буквы, снова одобрительно кивнул.
Войдя в цех, он восхищенно улыбнулся:
— О, колоссаль!
От стен цеха пахло свежей известью. Ровно гудели электромоторы с надраенными до блеска медными деталями. Мерно постукивали машины. Возле них слаженно и проворно трудились рабочие. На их лицах можно было заметить напряженность и озабоченную старательность. И в цехе тоже — нигде ни паутинки, ни соринки.
К Боту приблизился высокий молодой человек. На его тщательно выбритом худощавом лице темнели небольшие усики. Сняв шапку, он остановился в нескольких шагах от «высоких гостей».
— Разрешите, господин Бот, представить нашего главного специалиста, инженера и механика господина Поплавского, — обратился я к заместителю гебитскомиссара. — Он хорошо знает производство. Хотя работает на фабрике недавно, однако, как видите, обязанности свои выполняет добросовестно и успел сделать немало полезного.
Гитлеровец посмотрел на Поплавского долгим внимательным взглядом.
— Это хорошо. Мы будем поощрять тех, кто добросовестно трудится для рейха. Докладывайте, инженер, в каком состоянии находится фабрика. Я слушаю вас.
Поплавский приблизился к Боту и зашагал рядом, давая пояснения: чем заняты рабочие, какое оборудование уже действует, какого не хватает. Смияк переводил. Я хотя и не блестяще владею немецким, но, прислушиваясь к разговору, догадывался, что заместитель гебитскомиссара доволен. Чтобы лучше угодить шефу, Смияк при переводе кое-что добавлял от себя, благодаря чему объяснения Поплавского приобретали еще более благоприятный оттенок. Смияк, очевидно, успел хорошо изучить характер Бота и усердно старался поддержать его хорошее настроение.
А Виталий Семенович спокойно и четко продолжал свои пояснения. Жонглируя техническими терминами, он обращал внимание Бота то на одно, то на другое. Несколько раз просил немцев остановиться, извинялся, вежливо отступал в сторону, пропуская Бота вперед, показывал оборудование и снова что-то объяснял, не теряясь, не сбиваясь с темпа разговора, словно экскурсовод у хорошо изученной экспозиции.
Поплавский прекрасно знал, с какой стороны нам может грозить опасность, и изо всех сил старался заговорить Боту зубы. Моторы были включены, люди расставлены по местам, весь механизм фабрики, казалось, действует безупречно. Но если бы заместитель гебитскомиссара копнулся поглубже, все полетело бы вверх тормашками. Он убедился бы, что виденное им во дворе и в цехах не что иное, как обычная бутафория, подготовленная заранее, с расчетом на внешний эффект, в угоду немецкой педантичности и любви к образцовому порядку.
Фабрика работала на холостом ходу. Готовой продукции в наличии почти не было. Валенки, которые мы понемногу выпускали, сбывались, как правило, «налево»: надо было платить рабочим и чем-то кормить ребят из лагеря, взрослых, преимущественно молодых мужчин, не жаловавшихся на отсутствие аппетита. Правда, перед приходом Бота мы приволокли на склад все, что только попалось под руку. Для пополнения «запасов» готовой продукции многие рабочие принесли валенки даже из дому. Но склад — еще полбеды. Хуже, если Боту захочется просмотреть, хотя бы поверхностно, документы о выпуске и сбыте изделий. Как ни ухитрялся Луць сводить в бухгалтерской книге концы с концами, не требовалось быть опытным ревизором, чтобы понять: фабрика валенок не приносит оккупантам ни копейки дохода. А раз так, жди определенных выводов. Этого мы боялись больше всего.
На наше счастье, ни склад, ни канцелярские бумаги не привлекли внимания Бота. Он ограничился тем, что подержал в руках несколько пар валенок, принесенных ему в качестве образцов, передал их Смияку и этим закончил осмотр предприятия.
Бот заявил, что удовлетворен знакомством с нашим производством, и приказал так же хорошо работать в дальнейшем. Кроме того, предупредил, что в скором времени фабрика получит большую партию высококачественной шерсти. За каждый грамм сырья директор лично будет отчитываться перед ним, Ботом, а возможно, и перед самим гебитскомиссаром Беером. Шерсть предназначена для выполнения специального заказа верхмахта. Только для этого! Чтобы избежать недоразумений, надо немедленно представить промышленному отделу точные расчеты: сколько сырья требуется на одну пару валенок; за какое время фабрика сможет изготовить тысячу пар теплой обуви; какие материалы, кроме шерсти, необходимо завезти на предприятие.
Я слушал Бота и не верил ему. Откуда немцы возьмут такое количество шерсти? С неба она не свалится. Пусть себе болтает. Сырья нет и не будет, а фабрика останется по-прежнему небольшой мастерской, способной лишь вести «деловые отношения» с крестьянами, привозящими на Хмельную жалкие свертки шерсти, тщательно запрятанные в солому.
Выйдя во двор, Бот долго вытирал носовым платком руки, потом оглянулся, ища кого-то взглядом. Поплавский стоял в стороне с видом скромного труженика, хорошо знающего разницу между собой и такой высокой персоной, как заместитель господина гебитскомиссара. Взгляд Бота задержался на инженере.
— Подойдите сюда, — кинул он Поплавскому и повернулся ко мне. — Я забираю вашего инженера. Он мне нужен. На фабрику подыскивайте другого.
— Не могу согласиться, господин Бот... Как же так?
— Не терплю, когда мне возражают, — резко оборвал меня немец. — Приказы отдаю я. Учтите это, господин директор!
Виталий Поплавский вернулся на фабрику лишь поздно вечером. Молча прошел в общежитие, залез на нары, лег, долго курил. Только на следующий день он сказал нам о том, что Бот назначил его главным инженером промышленного отдела гебитскомиссариата.
4
Ветер насвистывает в телеграфных проводах тоскливую песню, завывает, плачет. Над землей, наметая высокие сугробы, кружат хлопья снега. Ежась от мороза, по тротуарам торопливо проходят гитлеровцы в надвинутых на уши пилотках.
Темной лентой тянутся в низине за фабрикой железнодорожные рельсы. Мимо проплывают кажущиеся черными в сумерках вагоны. Металлический перестук колес вплетается в завывание ветра в проводах. Белая мгла вихрит над крышами домов, плутает в верхушках голых деревьев. Холод заползает под одежду.
В такую погоду хорошо сидеть дома, в теплой квартире за чашкой чая или кофе. А я иду по улице, радостно улыбаюсь, мысленно разговариваю с самим собой. Плевать мне на гитлеровцев, спешащих укрыться от русского мороза в теплых квартирах, плевать на их поезда, что лязгают буферами в низине, плевать на полицаев, торчащих у подъездов оккупационных учреждений! Черт с ним, с фашистским флагом, что пока еще раскачивается затвердевшей на морозе тряпкой над соседним домом! Все это ничтожно по сравнению с событиями, которые развернулись за сотни километров на северо-восток от Ровно!
Рука нащупывает в кармане пальто смятые листы бумаги. Ага, газеты! Я с наслаждением рву их на мелкие куски и бросаю под ноги. Ветер на лету подхватывает обрывки и гонит вдоль улицы. Уже несколько дней подряд я регулярно покупаю эту вонючую «Волынь» Уласа Самчука и еще одну фашистскую газетенку на немецком языке в киоске у одноглазого хмурого продавца. Любопытно знать, как геббельсовские пропагандисты будут выкручиваться, рассказывая о последних событиях на фронте. Но обе газеты пока не проронили об этом ни слова, не публикуют ни снимков, ни официальных сообщений. Странно. Выходит, решили играть в молчанку.
Пусть... Нам-то хорошо известно, что советские войска под Москвой ведут успешное контрнаступление, разгромили несколько отборных немецких дивизий, продолжают перемалывать живую силу и боевую технику врага. Там, на заснеженных просторах Подмосковья, метель припорашивает тысячи, десятки тысяч трупов гитлеровских солдат и офицеров, сгоревшие танки, разбитые машины. Вместе с разгромом рвавшихся к советской столице ударных соединений «рыцарей третьего рейха» на полях и в лесах, на берегах скованных льдом рек и речушек развеян миф о непобедимости фашистских полчищ.
Сколько было провозглашено захватчиками тостов по случаю «разгрома» большевистских войск! С какой надменной самоуверенностью ежедневно подсчитывали они километры, оставшиеся до советской столицы! И вдруг словно отнялся язык у фашистских писак и их желто-блакитных подпевал: смолкли как по команде. Лишь иногда между строк проскальзывают жалкие намеки, рассчитанные на простаков: «Генерал мороз мешает выполнению стратегических планов немецкой армии», «Суровая русская зима сдерживает наступление», «Бездорожье тормозит маневренность доблестных германских войск...»
Но правды не скрыть! Уже третьи сутки Настка Кудеша и Нина размножают в подвале на ротаторе и пишущей машинке свежие сводки Совинформбюро, которые приносит радио из-за линии фронта. Подпольщицы почти не отдыхают. Прикорнут на мешках с шерстью, подремлют час-другой, и снова за работу. Обе устали. Днем моя секретарша сидит в конторе за столом, клюет носом, а я делаю вид, что ничего не замечаю, ничего не знаю.
«Продукцию», приготовленную Насткой и Ниной, выносят за ворота фабрики наши новые рабочие Иван Талан и Михаил Анохин. Помогает им Мария Жарская, которая уже хорошо знает город. Листовки появляются в самых различных местах: в зале кинотеатра, на базаре, на вокзале железнодорожной станции. Жители Ровно находят их то под входной дверью, то в почтовом ящике, то в коридоре. О листовках всюду шепчутся, торопливо спрашивают друг друга: «Читали афишку? Наши под Москвой германца турнули... Может, и к нам скоро придут, родные... Господи, скорее бы!»
Весть о крупном поражении гитлеровцев разносится за пределы города, по селам и хуторам.
Оккупанты попритихли. Теперь гораздо реже можно услышать победные марши. Беер издал приказ о конфискации у населения вещей для немецкой армии. Специальные команды «мобилизуют» полушубки, ватные брюки, рукавицы, женские вязаные платки. Прокоп Кульбенко рассказал, крестьяне смеются: «Если уж немец в наших свитках воевать собирается, то дело его плохо!» Чиновники гебитскомиссариата ходят словно пришибленные. Сообщения о разгроме фашистских войск под Москвой также заметно сбили спесь с солдат и офицеров ровенского гарнизона. Но может, так только кажется?
Нет, не кажется. Что-то изменилось. Это заметно и по поведению Бота. Он за последние дни несколько раз приезжал на фабрику валенок. Нервничает. Повторяет одни и те же вопросы: «Когда будете работать на полную мощность? Через сколько дней? Все ли у вас в порядке?»
Обещанная им большая партия шерсти для выполнения специального заказа пока еще не получена. И поступит ли она вообще, неизвестно.
Снова арест
1
Большое украинское село Грушвица, что пестрой лентой тянется вдоль Ровенско-Львовского тракта, в годы хозяйничания на волынской земле польских панов на всю округу славилось своей непокорностью. Польские осадники и панство из соседних фольварков не называли Грушвицу иначе как большевистским гнездом, а жителей села — красными бандитами, вкладывая в эти слова всю свою желчь и ненависть к свободолюбивым землеробам. Тут нечасто отваживались появляться агенты дефензивы, особенно в одиночку. Даже жандармы и те время от времени налетали на село лишь в составе групп и отрядов.
В Грушвице действовала крепкая подпольная ячейка КПЗУ. Среди сельской молодежи было немало комсомольцев. А уж о МОПР и говорить нечего: в рядах этой популярной в то время Международной организации помощи бойцам революции состоял чуть ли не каждый второй грушвичанин.
В годы, предшествовавшие освобождению Красной Армией западных областей Украины от гнета панов-пилсудчиков, жандармы буржуазной Польши бросили в тюрьмы около сорока грушвицких коммунистов и комсомольцев. Но село осталось таким же непокорным, как и прежде: не признавало польско-панской власти, продолжало бороться.
Я много раз бывал в Грушвице по заданию Ровенского подпольного комитета КПЗУ, хорошо знал село и его жителей, в особенности коммунистов и комсомольцев. С некоторыми из них встречался и после сентября 1939 года.
Внезапно разразившаяся война и последовавшая затем оккупация застали Грушвицу, как впрочем и всю Ровенщину, врасплох. Многим из грушвичан, даже активистам — бывшим членам КПЗУ и КСМЗУ — не удалось эвакуироваться на Восток, пришлось остаться в родном селе.
С приходом оккупантов Грушвица будто притаилась. Исчезли с лиц улыбки. По вечерам не стало слышно озорных девичьих припевок. Как только на село опускались сумерки, грушвичане запирали на засовы двери хат, закрывали ставни, изнутри завешивали окна одеялами, зимними шерстяными платками, чтобы ни один лучик света не пробивался наружу, не привлекал внимания разбойников-полицаев. Эти иуды бродят по ночам пьяные, словно лютые звери. Не дай бог если заявятся, не оберешься беды.
Но мы были уверены, что Грушвица не покорилась фашистским оккупантам, не могла покориться. Внешнее затишье было обманчивым. До нас дошли слухи, что в селе образовалась подпольная группа и что возглавил ее бывший секретарь Ровенского горкома комсомола Федор Кравчук, которого мы с Иваном Ивановичем Луцем знали еще задолго до войны. Кажется, году в тридцать восьмом он был арестован польскими жандармами и брошен в одну из камер ровенской дефензивы. Его жестоко пытали, заливали в ноздри ледяную воду, пригибали к затылку ступни ног, добиваясь, чтобы назвал фамилии других подпольщиков, своих товарищей по борьбе. Но Федор молчал, мужественно перенося пытки. Польский буржуазный суд приговорил его к шести годам заключения в одиночной камере без права свидания с родными.
Много с тех пор утекло воды из Горыни. Повзрослел Федор Кравчук. Повзрослели его друзья по прежнему подполью. И когда в село пришли немцы, опять друзья стали думать, как вести борьбу с непрошеными гостями. Вскоре борьба началась. Возглавил ее Федя Кравчук.
В Грушвице побывал Иван Иванович. Он встретился с Кравчуком, долго беседовал с ним и оставил ему один из наших ровенских адресов. Таким образом, связь была установлена. А вскоре и сам Кравчук наведался в Ровно. Разыскал нас, доложил о боевой деятельности грушвицкой подпольной группы. Мне особенно хорошо запомнился его рассказ о последней диверсии, которую он провел со своими комсомольцами.
* * *
...В сорок первом году в наших местах вырос на редкость хороший урожай зерновых. Озимая пшеница вымахала в рост человека. Посевы яровых несколько больше пострадали от нашествия фашистских полчищ, но природа взяла свое — даже помятые хлеба поднялись.
Когда фронт продвинулся на восток, грушвицкие крестьяне приступили к уборке урожая, затем к обмолоту. Каждый намолотил для себя зерна столько, сколько по предварительным подсчетам требовалось до будущего года. Необмолоченную же пшеницу жители Грушвицы сложили в три большие скирды как общественный фонд.
Почти всю зиму скирды простояли нетронутыми.
И вдруг в село нагрянул немецкий продовольственный отряд. Фашистские заготовители ходили от хаты к хате, стучали в двери прикладами винтовок, объявляли приказ: на следующее утро выходить на работу, обмолотить хлеб, что сложен в скирдах, и все до последнего зерна вывезти на станцию, погрузить в вагоны. Хлеб нужен «доблестной армии фюрера».
Крестьяне заволновались — как быть? Пусть она провалится в тартарары, та проклятая армия! Лучше уж своими руками уничтожить общественное добро, только не отдавать гитлеровцам!
Сельские подпольщики (их было пока четверо: Федор Кравчук, бывший секретарь комсомольского комитета средней школы Александр Володько, его однофамилец Андрей Володько и старый комсомолец Лукаш Мовчанец, вместе с которым Федор года три назад сидел в ровенской тюрьме) собрались на тайное совещание. Единодушно приняли решение: ночью скирды сжечь, чтобы не достался хлеб оккупантам.
За околицу села вышли часов в десять вечера, втроем.
Андрея Володько оставили в селе, чтобы наблюдал за зданием полиции: если полицаи кинутся в поле, он должен подать сигнал. У Андрея были ракетница и ракеты.
Когда луна показывалась из-за туч, подпольщики останавливались, прислушивались, повернув головы в сторону села: не выследили бы полицаи. Но пока все было спокойно и тихо. По-весеннему пахло холодной землей, хотя под ногами хрустели прозрачные как стекло льдинки. Снега на полях еще много. По ночам прихватывает крепкий морозец.
Лукаш Мовчанец часто перекидывает с плеча на плечо тяжелый пулемет, шагает широко, размашисто. Александр Володько, то и дело шмыгая носом, едва поспевает за ним. Ботинки Александра давно просят каши, постоянно мокрые, оттого он и простудился. Карманы его старых, много раз латанных брюк оттягивают гранаты. Александр бережно придерживает их.
Но вот и скирды. Не дальше чем в двадцати шагах виднелась первая, за ней вторая, дальше темнела третья.
— Оставайся здесь и следи за дорогой, — приказал Кравчук Мовчанцу.
Тот молча снял с плеча пулемет, раздвинул сошки. Тем временем Федор и Александр обошли вокруг первой скирды. Сунув за пояс пистолет, Федор вытащил спички. Володько, стоя на коленях, выдергивал солому. Добравшись до сухой, сказал Федору:
— Погоди минутку, давай закурим... Слушай, тебе не жалко?.. Вот так... хлеб ведь?..
— Скажешь тоже, не жалко! — отрывисто произнес Кравчук. — Люди столько вложили труда в эту пшеницу... Это ведь только второй урожай, собранный при Советской власти. Понимаешь, второй... Ты лучше помолчи, не растравляй душу...
Володько ничего не ответил. Самокрутка в его руках дрожала.
— Уснули вы там, что ли? — Раздался из темноты негромкий голос Мовчанца. — Время не ждет. Начинайте!
В тот же миг в ладонях у Федора вспыхнула спичка, огонек приблизился к сухим стеблям соломы и колосьям. Затрещало зерно, зашипели мелкие льдинки на стеблях. Пламя поползло вверх. Дыма почти не было. Сначала огонь полизал верхушку скирды, потом проник внутрь, и сразу заревело, завихрило. Скирда превратилась в огромный факел.
Через несколько минут свечой вспыхнула вторая скирда, а за ней третья. Огненные столбы, поднявшиеся над степью, казалось, еще больше сгустили чернильную темноту ночи.
Над Грушвицей взвилась зеленая звездочка. Описав полукруг, медленно упала на землю.
— Андрей сигналит, — крикнул Мовчанец и быстро лег за пулемет. К нему подбежали Федор и Александр.
— Все, хлопцы... Мигом убирайтесь отсюда! — Кравчук вытер шапкой вспотевшее лицо.
— Подождем минут десять, Федор, — сказал Мовчанец. — Если они не появятся, тогда пойдем... Только десять минут, слышишь, Федор?
Ждать пришлось дольше. Когда на окраине села прогремело несколько выстрелов, Кравчук присел на корточки возле Мовчанца. Напрягая зрение, оба всматривались в ночь.
— Вон они, вон! Видишь? Пригнись ниже! — Мовчанец тыкал рукой в темноту.
Перебегая по полю, полицаи палили наобум в сторону пылающих скирд. Впереди вертелся на коне верховой.
— Сейчас мы их шуганем, — деловито проговорил Мовчанец. — А то ишь храбрые какие — палят в белый свет как в копеечку!
— Стреляй скорее, Лукаш, или дай мне, — нетерпеливо пританцовывал рядом ВолоДько. Шальная пуля, взвизгнув, ударила ему под ноги, забрызгала лицо землей и снегом. Замотав головой, Александр упал.
— Ты ранен? — встревожился Кравчук.
— Нет, все в порядке, только глаза немного залепило... Ну, давай, Лукаш, чего ждешь?
Мовчанец еще с минуту смотрел вперед. Темные силуэты на фоне неба вырисовывались теперь отчетливее. Верховой приподнялся на стременах, замахал рукой, что-то закричал. Пулемет вздрогнул, выплюнул огонь, несколько коротких, звучных очередей всколыхнули степь. Верховой мигом повернул коня. Пешие тоже быстро ретировались в село.
— Трусы поганые, фашистские прихвостни! — звонким мальчишеским голосом кричал им вслед Володько.
Еще раз глухо бухнул на окраине Грушвицы выстрел. И все стихло.
Отойдя километра на два от охваченных пламенем скирд, Володько и Мовчанец спрятали в овраге пулемет и, сделав большой крюк, по полю, вошли в село с противоположной стороны. А Кравчук, пожав друзьям руки, зашагал в сторону Ровно, Он спешил к утру, поспеть в город.
2
К нам Кравчук добрался не без происшествий. Если бы он появился на одной из городских улиц несколькими минутами позже, возможно, все бы обошлось благополучно. Но у него не было часов, он сильно продрог, зубы выбивали частую дробь: сидеть в развалинах разрушенного бомбой дома стало невмоготу. К тому же начинало светать. Все это притупило чувство опасности.
Смахнув с брюк и ватника известковую пыль, Федор вышел на тротуар. Тут-то и случилось неожиданное.
Вероятно, это был последний ночной патруль, возвращавшийся в казарму после комендантского часа. Гитлеровцы вынырнули из-за угла соседнего дома позади Федора как раз в тот момент, когда он пытался перейти на противоположную сторону улицы. Его остановило короткое слово «Хальт!», резанувшее слух, как удар кнута.
У Кравчука не было никаких документов. В кармане лежал только пистолет ТТ и запасная обойма к нему. Услышав окрик, Федор на мгновение растерялся. Мысленно выругал себя, что не послушался Луця, хотя Иван Иванович строго предупреждал, что в Ровно надо появляться только днем, когда на улицах много людей...
Кравчук оглянулся. К нему приближались два солдата. У одного на ремне за спиной висела винтовка, второй держал руки на автомате. Лица солдат расплывались в утренней дымке.
Федор оглянулся еще раз. Нет, не дадут добежать до переулка, не дадут... Бежать надо было немедленно, как только его заметили гитлеровцы, а он заколебался, потерял драгоценные секунды.
Кравчук остановился, повернувшись лицом к патрульным.
— Папир! Аусвайс! — приказал высокий солдат и в двух шагах от Кравчука стал прикуривать. Вспыхнул огонек зажигалки, дым сигареты медленно пополз вверх. Второй солдат, тот, что был с винтовкой, не обращая внимания на Кравчука, зачем-то нагнулся.
Федор медленно расстегнул ватник, засунул сухие горячие пальцы во внутренний карман, дотронулся до прохладной стали пистолета и вдруг успокоился. Исчезла внутренняя дрожь, четкими, ясными стали мысли. «Только бы не было осечки!»
Пистолетный выстрел расколол тишину городской улицы. Гитлеровец выронил автомат, обеими руками схватился за грудь и упал к ногам Кравчука. Федор побежал. Сзади прогремел винтовочный выстрел. Пуля ударила в кирпичную стену, Федора осыпало пылью.
Впереди переулок, узкий, извилистый, каких немало в Ровно. Сапоги Кравчука глухо стучат по мостовой.
А за спиной, стреляя вдогонку, бежит немец. Кравчук пожалел, что застрелил только одного. Надо было нажать на спуск вторично, прикончить и того, что с винтовкой. Успел бы...
Слева, вдоль узкой полоски тротуара, Федор увидел трехметровый каменный забор. Справа безмолвно стояли дома, поблескивая мутными стеклами окон. Мостовая внезапно уткнулась в широкие ворота: переулок закончился тупиком.
Федор из всех сил тянул, тряс, дергал металлическую ручку массивной двери. Она не поддавалась. Ударил плечом, навалился на дверь всей тяжестью тела. Напрасно...
Как затравленный, метался он у ворот. Уже слышался топот кованых сапог. К солдату с винтовкой, видно, подоспела помощь. Фашисты с минуты на минуту будут здесь, а он, беспомощный, мечется в тупике. Но нет, не дастся он в руки живым! Федор выхватил из кармана запасную обойму, зажал ее в левой руке. Только бы не просчитаться, оставить последнюю пулю для себя. Рука срослась с пистолетом. Прижавшись спиной к холодной кирпичной стене, Кравчук ждал...
— Эй, парень, сюда давай... Слышишь? Сюда!
Кравчук не видел, кто его зовет. А голос, настойчивый, властный, прозвучал снова, но уже ближе, почти рядом.
— Да скорее, говорят тебе! Оглох, что ли?!
Кравчук замер, не выпуская пистолета. Резко повернул голову. В углу, где каменный забор подступал к дому, со скрипом открылась решетчатая калитка. Выскочивший оттуда человек крепко схватил Федора за рукав и потащил за собой в серый полумрак двора.
— Бежим!.. Держись за меня. Они сейчас будут здесь. Ты не ранен? Тогда прыгай, лезь через забор... Теперь дай мне руку. Эх, черт, разорвал брюки...
Кравчук плохо помнил, как очутился в саду, среди темных голых деревьев. Пригнувшись, он бежал следом за незнакомцем между кустами. Потом увидел сбоку невысокие одноэтажные дома. Пересекли узкую, похожую на тоннель улочку, нырнули в подворотню, затем, пробежав метров двадцать проходным двором, очутились в развалинах. На глыбах покореженного бетона лежал грязный снег, над головой с угрожающим скрежетом качался лист железа.
Секунду передохнув, они опять куда-то бежали, петляли, перелезали через заборы. Крики и топот немцев стихли, заглушенные лабиринтом улиц и переулков.
Добежали до Замковой. Через дыру в заборе пролезли на просторный двор. Кругом высились штабеля досок, темнели кучи старой стружки. Незнакомец впервые внимательно посмотрел на Кравчука, а Федор — на него. Перед Кравчуком стоял молодой, невысокий мужчина. Острый, чуть насмешливый взгляд. Серая шляпа сдвинута на затылок. На лоб свисают взмокшие волосы.
— Вот мы и на месте, — сказал молодой человек, кивнув на пистолет, который Федор все еще держал в руке. — Спрячь. Фашистов тут нет. И вообще тут еще никого нет. Рано. Это склад лесоматериалов.
Зайдя в цех, они присели на верстаке. Пахло смолой и клеем, на полу лежали столярные инструменты.
— Твое счастье, что я оказался там. Иначе бы крышка тебе. Чего это ты шатаешься по городу на рассвете?
— А ты чего шатаешься?
— Ну я — другое дело... Может, у меня пропуск есть, ты же не знаешь. Значит, так, друг... Скоро сюда начнут сходиться рабочие. Не бойся. Я скажу, что привел тебя на лесосклад наниматься на работу. Понятно? Хотя, обожди... Сегодня воскресенье. Черт бы его побрал, даже дни недели стал путать. В таком случае ситуация меняется. Тут никого не будет до завтрашнего утра. Можешь спокойно переспать на складе, если хочешь... И еще, как тебя зовут, если не секрет?
— Федором.
— Смотри ты, тезка, выходит. Я тоже Федор.
— Вот и познакомились, — улыбнулся Кравчук. — Спасибо за помощь. Если бы не ты, то мне каюк, это точно. Невеселые были минуты... А оставаться тут мне, наверно, не стоит. Я пойду, ты за меня не волнуйся. Теперь я долго жить буду...
Молодой человек весело подмигнул Кравчуку:
— И все же, товарищ секретарь горкома комсомола, будь осторожен.
Федора будто ошпарило кипятком.
— Ошибаешься, уважаемый! Ты обознался, — сказал он.
— Брось, друг. Я тебя хорошо помню. Живу в Ровно с тридцать девятого, до войны работал в торговой сети. Шкурко моя фамилия, Федор Шкурко. А ты — Кравчук. Приходилось бывать в горкоме, дело одно мы с тобой решали... Припоминаешь?
— Ошибаешься, — твердо повторил Кравчук. — С кем-то путаешь меня.
На лице у Шкурко появилась лукавая улыбка, но он не стал настаивать на своем, согласился:
— Может, и правда ошибаюсь. Всякое бывает. Только советую не забывать, что в городе не каждая улица сквозная и не каждый двор проходной. Оглянуться не успеешь, как влипнешь. Я тут работаю на лесоскладе. Если нужен буду, приходи. Гора с горой не сходятся, а люди...
— Это верно, — подтвердил Кравчук. — Возможно, загляну как-нибудь. Ты вот о работе. Мне, видно, тоже придется устраиваться. Я сейчас в таком положении... даже не знаю, как и объяснить.
— Не надо ничего объяснять. Приходи, с работой что-нибудь придумаем. Все будет в порядке.
Еще раз поблагодарив своего спасителя, Федор неторопливо вышел за ворота склада.
* * *
Весь день Кравчук, как он потом рассказывал, бродил по городу. Вначале казалось, что на него обращены взгляды всех встречных. Потом это неприятное ощущение исчезло. Люди, озабоченные каждый своим делом, безразлично проходили мимо. Не обращали на Федора внимания ни гитлеровцы в натянутых на уши пилотках, ни полицаи, прохаживавшиеся всюду, где он побывал за день, — на городском базаре, возле собора, на вокзале, у биржи труда.
После того как началась война, Кравчук впервые попал в Ровно. Его поразили угнетенность и серое однообразие поблекшего города, пустота омертвевших площадей, напряженно-испуганные лица прохожих. И город и его жители словно постарели за несколько месяцев войны на сто лет. Оккупация вытравила с лиц людей улыбки, погасила блеск их глаз, тучей закрыла прежнюю цветущую шумную жизнь. Окна многих домов были забиты досками, пустые проемы дверей напоминали оскаленные пасти.
По улицам проносились мотоциклы со злыми, продрогшими на морозе гитлеровцами. У витрины кафе толпились голодные дети. На углу, возле недавно открывшегося комиссионного магазина слонялись, таинственно перешептывались, размахивали руками спекулянты с самодовольными рожами, в пальто с меховыми воротниками. Над собором протяжно гудел колокол.
На вокзале, в холодном вестибюле, немецкие солдаты-артиллеристы в ожидании поезда играли в карты. Ветер лизал заснеженный перрон и тронутые ржавчиной рельсы. На базаре, куда потом завернул Кравчук, бродили пожилые женщины с кошелками, здесь продавали мерзлую картошку, свеклу, кремни для зажигалок, У входа в здание вокзала толпились нищие.
На Скрайнюю улицу Федор пришел под вечер. Тут царило безмолвие. Тесно жались друг к другу маленькие одноэтажные домики с палисадниками. Окна в каждом доме плотно закрыты ставнями. Напрягая зрение, Кравчук присматривался к табличкам на заборах. Не то... Дальше... Еще дальше. Кажется, здесь? Да, точно, тот самый дом.
Адрес явки на Скрайней оставил Кравчуку Иван Иванович Луць, когда приезжал в Грушвицу. Тогда же он сказал Федору, что будет ждать его на следующей неделе, в среду, с наступлением темноты. И вот, как было условлено, он пришел.
Федор давно знал Ивана Луця как человека серьезного, даже несколько сурового. Луць во время разговора в Грушвице намекал, что в городе Кравчук встретится с очень нужными людьми. Ну что ж, если так — неплохо. Грушвица Грушвицей, а связь с городом необходима: в одиночку и даже с такой небольшой группой, как у него, с немцами много не навоюешь...
Кравчук вошел во двор, еще раз оглядел домик — вроде и не жилой совсем. Но стоило ему постучать в дверь, как она сразу же открылась. В темном коридоре кто-то невидимый дружески сжал ему локоть руки, слегка подтолкнул: проходи, дескать, в комнату, не стесняйся.
В небольшой комнате с низким потолком тоже было полутемно. Фитиль стоявшей на столе керосиновой лампы был прикручен так, что Федор не мог рассмотреть лица людей, сидевших за столом. Но того, что открыл ему дверь, он узнал сразу: это был его утренний спаситель Федор Шкурко, тот самый, с которым счастливая судьба свела Кравчука на рассвете в глухом переулке.
Шкурко дружески подмигнул Федору. Сидевшие за столом весело засмеялись.
Кравчук прошел в глубь комнаты. Кто-то выкрутил фитиль лампы. Стало светлее. Федор узнал многих из присутствовавших и чуть не вскрикнул от радости. Вон сидит Прокоп Кульбенко! Да, именно он, Прокоп из Рясников. С ним Кравчук не раз встречался по партийным делам еще до тридцать девятого года, во времена пилсудчины. А это кто рядом с ним? Никак Александр Гуц, заместитель председателя Клеванского райисполкома? Так и есть. Живой Александр, а говорили, будто расстреляли Гуца фашисты, его самого и всю семью расстреляли. Значит, брехня. Вот здорово — жив Александр!
Хорошо знал Кравчук и Настку Кудешу, и меня, и других. Только двое из тех, что сидели в комнате, были ему не знакомы: молодая круглолицая женщина с короткой, почти мальчишеской прической и смуглый, красивый парень с черными усиками.
Радостному удивлению Федора не было границ. Ему казалось, что он никогда еще не испытывал такого счастья, как при этой встрече. Хотелось сжать друзей в объятиях, расцеловать. Он стоял не в силах отвести взгляда от родных, улыбающихся лиц.
Федор Шкурко познакомил его с Марией Жарской и Виталием Поплавским, усадил на стул.
— Ну герой, рассказывай, как учинил стрельбу на рассвете? — с укоризной сказал Луць и тут же добавил: — Впрочем, пока не надо ничего рассказывать. Потом. Остался жив и, как говорится, слава богу.
Кравчук развел руками. Глаза его сияли.
3
Квартира в доме 16 по Скрайней улице, куда пришел Федор Кравчук, была нашей новой явкой. Жили там супруги Чидаевы, тетя Шура и ее пожилой муж.
С тетей Шурой меня познакомила покойная бабушка Ксения. Она говорила, что в случае чего я смогу найти у Чидаевых надежное пристанище: «То наши люди, честные, можешь доверять им, как самому себе».
Чидаевы и в самом деле были хорошими людьми — приветливыми, сердечными, бесхитростными. Сначала я наведывался к ним один, потом стал приходить с друзьями. Тетя Шура и ее молчаливый муж встречали нас как родных. Домик Чидаевых был удобен тем, что в нем имелось два самостоятельных выхода: первый — в небольшой, всегда аккуратно подметенный двор, второй — на огород, со всех сторон защищенный от любопытных взглядов кустами сирени и шиповника. За огородом тянулся узкий переулок, почти всегда безлюдный. Таким образом, в случае опасности от Чидаевых можно было уйти незамеченным.
В тот вечер мы собрались, чтобы посоветоваться о дальнейших действиях и подвести некоторые итоги проделанной работы по созданию партийного подполья и установлению связи между отдельными группами. Во дворе с гранатами в карманах стояли на страже ребята из общежития фабрики валенок Иван Талан и Михаил Анохин.
Минут через пять после того как пришел Федор Кравчук, в комнате установилась тишина. Стало слышно потрескивание фитиля лампы. Первым докладывал Поплавский. Говорил он не спеша, вполголоса. Все присутствовавшие слушали его с большим интересом.
Виталий Семенович подробно рассказал о расстановке людей. За последние три недели он уже немало сделал для того, чтобы иметь подпольные группы по возможности на каждом предприятии гебитскомиссариата. Нелегко было выкраивать время для подпольной работы, приходилось выкручиваться. Бот нагрузил Поплавского бесчисленным количеством самых разнообразных дел. «Оправдывая» доверие, он мотался с завода на завод, с фабрики на фабрику. Шеф промышленного отдела был доволен. Ведь это он, Бот, и никто другой, нашел и назначил на должность главного инженера такого работоспособного и расторопного человека. И Бот был прав. Поплавский действительно работал не покладая рук... в интересах подполья. С молчаливого согласия Шарапановского ему удалось устроить наших людей почти на все предприятия. А господина Шарапановского мы уже окончательно прибрали к рукам. Получив еще несколько пар новых валенок и зная, что главный инженер поддерживает хорошие отношения с администрацией фабрики на улице Хмельной, петлюровец решил делать вид, будто не замечает, как Поплавский всюду устраивает на работу своих знакомых.
Теперь мы имели своих людей и в гебитскомиссариате, и в немецком Красном Кресте, и в типографии, и в созданной гитлеровцами фирме «Бендера», и в ресторане, и в столовой СД, и в офицерском казино «Солдатенгайм», и на аэродроме, и на железнодорожной станции, и на бирже труда...
Пока это были лишь небольшие группки из двух-трех человек. Но, как говорится, лиха беда начало. А оно было обнадеживающим. Подобранные Поплавским люди, преимущественно молодежь, рвались к живому делу, требовали заданий, каждый мечтал о диверсиях, о боевых операциях. Встречаясь с Поплавским, они предлагали различные дерзкие проекты.
— Есть у нас в фирме «Бендера» два шофера из военнопленных, — продолжал рассказывать Поплавский. — Гитлеровцы используют их в качестве водителей грузовых машин. Так вот, эти ребята ведут разговор о захвате гебитскомиссара Беера, предлагают на машине увезти его в лес. Одна из сотрудниц в столовой СД тоже наша. Заявила мне, что достанет яд и бросит в котел с супом. Говорит, уничтожит этих бандитов из СД... На аэродроме работают три товарища из военнопленных. У этих свой план: поднять в воздух фашистский бомбардировщик и перелететь за линию фронта. Просят помочь им подыскать летчика. Я стараюсь охладить пыл прожектеров, советую не пороть горячку. Очень рекомендую изучать окружающих их людей, осторожно отбирать наиболее надежных, вовлекать в группы и помнить, что наша главная задача — кропотливая работа с людьми, оставшимися на временно оккупированной территории, а не партизанские действия. Большинство правильно понимают роль партийного подполья. Однако есть и такие, которых нужно держать в руках, иначе могут сорваться, наломать дров и поплатиться жизнью...
Поплавский сделал небольшую паузу, закурил:
— И последнее у меня, товарищи, вот что. Взял я на прицел одну личность. Скажу откровенно, особа сомнительного поведения. Но не исключено, что от нее мы будем получать сведения о планах и деятельности ровенского гестапо. Не знаю, как пойдут дела дальше, однако имею надежду.
— О ком речь? — быстро спросил Луць.
— Может, не следует сейчас вдаваться в детали? Как только картина прояснится, доложу обо всем подробно.
Это сообщение насторожило меня своей недоговоренностью. Я решил расспросить Поплавского о загадочной личности позже. Совещание продолжалось.
— Хорошо, Виталий Семенович, вернемся к этому потом, — сказал я и, обращаясь уже ко всем присутствующим, добавил:
— Так вот, друзья, о новых связях, о новых людях. Как видите, наша организация значительно расширилась. Новые подпольные группы создаются как в городе, так и в окружающих селах. Вы уже слышали от Прокопа Кульбенко о подпольной группе в Корце. С ней мы поддерживаем связь через оставшегося в окружении армейского политработника, который надежно устроился на должность агронома в бывшем помещичьем имении. Прокоп имеет сведения, что какой-то националист из Тернополя, проезжая через Корец, случайно встретил агронома и узнал его. Агроном будто бы не кто иной, как бывший секретарь Збаражского райкома партии. Надо немедленно предупредить его об опасности. Давайте сообща подумаем, где его лучше пристроить, чтобы и от пули спасти и к делу привлечь... Теперь о лагере военнопленных. Пока Поцелуев находится в рабочей команде, мы держим с ним связь. Но в любой день может случиться, что фашисты не станут выпускать Поцелуева за ворота лагеря. Значит, надо иметь и другие каналы для связи с нашими военными товарищами.
Слова попросил Поплавский.
— Дядя Юрко уже третий раз заводит со мной разговор, советует создать партизанскую группу, которая бы действовала за пределами города и была тесно связана с нами, — неторопливо говорил Виталий Семенович. — Дяде Юрко не дают покоя Волынские леса.
И не только ему. Я тоже думаю, что партизанская группа нам необходима. Понятно, конечно, если разрешить каждому подпольщику стрелять в фашистов — значит, поставить под удар все наше дело. Но нельзя забывать и о том, за счет каких людей растут подпольные группы. Я не ошибусь, если скажу, во многом за счет военных, вчерашних фронтовиков. Разумеется, некоторые из них станут надежной опорой подпольной организации, пойдут одним путем с нами. Но есть немало и таких, которые считают свое пребывание в городе временным, ждут удобного момента, чтобы уйти из Ровно. И конечно, уйдут, как только пригреет солнышко и зазеленеет трава. Или взять военнопленных, работающих сейчас на ровенских предприятиях. Ходят слухи, что гитлеровцы снова собираются загнать всех нас в лагерь. Поэтому каждый из военнопленных готов хоть сегодня податься в лес, в партизанский отряд. Единственное, что многих пока сдерживает, отсутствие оружия. Дядя Юрко достал десятка два гранат, девять винтовок. На каждую винтовку у него уже приходится по три-четыре бойца. Он хочет повести их в район Клевани. И поведет, рано или поздно. Другие тоже поведут за собой людей в леса. Загремит Ровенщина, еще как загремит! Уже и теперь кое-где появляются партизаны, постреливают на глухих дорогах, что поближе к лесу... Мы обязаны учесть это, обязаны помочь товарищам, желающим стать на партизанские тропы. Я так думаю: помощь партизанам, отправка людей в лес, обеспечение их оружием — одна из важных задач подполья.
— Правильно, Виталий Семенович, — поддержал его Александр Гуц. — Было бы странно всех до единого бойцов и командиров, заброшенных войной в Ровно, привлекать только к работе в подполье. Нет в этом необходимости. Наоборот, основной массе таких людей мы обязаны помочь перебраться в лес. Их военные знания пригодятся в партизанских делах. И об оружии следует подумать всерьез. Оружие найдется — и винтовки, и пулеметы. В селах этого добра немало.
Поднялся Федор Кравчук.
— Есть оружие, товарищи, — сказал он, волнуясь. — Если дадите команду, мои грушвицкие хлопцы завтра же доставят куда нужно и ручной пулемет, и десятка два трехлинеек. Патроны тоже имеются...
— И мы у себя в Рясниках кое-что наскребем, — вставил Кульбенко.
Поднялась Настка, окинула взглядом присутствующих, озабоченно произнесла:
— Оружие оружием, а вот мы с Марусей, — она кивнула в сторону Жарской, — над другим голову ломаем. Люди к нам идут, это верно. А где им жить? Это проблема! Нельзя держать всех в общежитии при фабрике валенок. Людям нужны одежда, продукты, белье, лекарства. До сих пор каждый устраивался как мог, а теперь надо решать эти вопросы организованно. Кому-то из нас, вероятно, придется специально заниматься бытовыми нуждами подпольщиков.
Луць, слушая Настку, думал о чем-то своем. Потом он взял Поплавского за руку:
— Ты, Виталий Семенович, только что говорил о том, что некоторые наши товарищи вынашивают планы диверсий. Сказал также, что предупреждаешь их, чтобы не лезли на рожон. А уверен ли ты, что предупреждаешь всех? Вон внизу, за нашей фабрикой все время маневрируют паровозы, день и ночь гонят на восток эшелоны. Найдется среди незнакомых нам парней храбрец, смастерит мину да и ахнет эшелон возле самой фабрики, возле нашей штаб-квартиры. Или выкинет что-нибудь похлеще, ну, скажем, всадит тебе, Виталий Семенович, пулю в затылок. А почему бы и нет? Как-никак ты персона солидная, ответственный пост у фашистов занимаешь, с самим Ботом за руку здороваешься... На мушку, дескать, его, фашистского прихвостня, и точка... Может такое случиться или нет?
Поплавский, улыбнувшись, пожал плечами:
— Гарантии дать не могу.
— Значит, найдутся люди, которые при случае и гитлеровского офицера пристукнут, и предателя, продавшегося немцам, не пощадят, и склад оккупантов взорвут, и гранату швырнут в грузовик? Обязательно найдутся. Будут и взрывы, и выстрелы, и поджоги. Мы и сами, я так полагаю, несмотря на необходимость конспирации, начнем время от времени устраивать диверсии. Без этого не обойдешься. Советское подполье в условиях войны с фашизмом не может ограничиваться только политической пропагандой, распространением листовок и сбором сведений о враге. Вся наша работа, в каких бы формах она ни проводилась, в конечном счете имеет одну цель: уничтожать врага и его технику. Уничтожать! Допустим, мы рассказываем населению о преступлениях фашистов, о расстрелах и издевательствах. Для чего мы это делаем? Ясно, чтобы вызвать в сердцах советских людей еще большую ненависть к оккупантам. Но только от того, что чьи-то сердца наполнятся ненавистью, враг не погибнет. Ненависть полезна тогда, когда претворяется в конкретные боевые дела. Вот тут-то мы и не должны ловить ворон. Чтобы диверсионные акты, которые будут осуществлять советские патриоты в городе, наносили врагу больше вреда, их надо координировать. А для этого о каждой задуманной кем-то из патриотов операции надо знать заранее. Если все разумно подготовлено, спланировано, взвешено, то почему бы даже и самолет не угнать у гитлеровцев с аэродрома или, скажем, не захватить того же Вернера Беера? Предупреждать наших людей против безрассудных действий надо, это верно. Но искусственно сдерживать их боевой порыв ни к чему. Надеюсь, ты это понимаешь, Виталий Семенович?
— Конечно, Иван Иванович. Все, что вы сказали, буду иметь в виду, — согласился Поплавский.
Мысли, высказанные Луцем, еще раз убедили меня, что мы собрались своевременно. Возникали новые группы, расширялись звенья партийного подполья. Работа организации усложнялась. Если полгода назад, когда делались только первые шаги, мы распоряжались лишь своей жизнью, то теперь обязаны были направлять действия и усилия многих людей, которые разными путями шли в подполье.
В тот вечер мы, члены подпольного центра, распределили между собой обязанности. Каждый из нас теперь должен был нести персональную ответственность за определенный участок невидимого фронта борьбы, что протянулся через многие точки «столицы» Украины, и первые бойцы которого уже заняли позиции в домах и заводских цехах, в учреждениях и квартирах, в подвалах и кабинетах. Ивану Луцю было поручено возглавить диверсионно-боевой отдел подпольной организации. Руководство политической пропагандой среди населения возложили на Анастасию Васильевну Кудешу. Мария Парфеновна Жарская стала «главным интендантом».
Ей надлежало заниматься хозяйственными делами — сбором одежды для тех, кто приходил к нам из лагеря, приобретением лекарств, бинтов для раненых и вольных, заготовкой продовольствия. Виталий Поплавский наряду с выполнением своих прежних обязанностей по координации действий подпольных групп на предприятиях отвечал теперь также за создание вооруженного отряда, который должен был начать партизанские действия в ближайших от Ровно лесах.
Подполье не могло обойтись без собственных «глаз» и «ушей», без своих разведчиков, которые следили бы за врагом и одновременно заботились о безопасности организации. С появлением в городе листовок шеф ровенского гестапо майор Йоргенс провел несколько совещаний, издал специальные приказы, требовавшие во что бы то ни стало изловить тех, кто распространял листовки. Зашевелилась тайная агентура гестапо, СД и полиции. Против матерого гитлеровского контрразведчика Йоргенса действовал теперь рабочий с лесосклада, кандидат в члены Партии Федор Шкурко: он возглавил разведку подполья.
* * *
С Федором Шкурко Луць сдружился незадолго до войны, когда работал в областном Совете профсоюзов. Шкурко вместе с семьей приехал в Ровно из Донбасса по путевке Наркомата торговли.
Разлучила их война. Но ненадолго. Стрелковый полк, в котором служил Шкурко, после тяжелых боев оказался в котле. Плена Федор избежал, пытался возвратиться к своим, перейти линию фронта, но не сумел. Вдоволь хлебнув горя в Пинских болотах, вернулся в Ровно. Разыскал жену и сына Генку. Устроился столяром на лесосклад.
С Луцем встретился случайно возле парка имени Шевченко. Свернули в аллею и здесь вдруг наткнулись на полицая. Тот потребовал, чтобы панове предъявили документы.
У Луця было фабричное удостоверение, подписанное самим Ботом. Шкурко небрежно, не выпуская из рук, ткнул черномундирнику какую-то бумажку. У полицая мигом изменилось выражение лица. Он закивал головой, козырнул Федору, стал виновато оправдываться:
— Извиняюсь, господа, не знал, ошибся... Бывайте здоровы! Мое почтение!
Луць выжидательно посмотрел на Шкурко.
— Удостоверение сотрудника СД, — спокойно объяснил Шкурко, словно речь шла о справке из домоуправления.
— Покажи-ка!
— Пожалуйста.
— Сделано не совсем аккуратно. Печать слишком четкая. Однако... знаешь, может и сойти! Неплохая липа, черт возьми! Где достал?
— Сам изготовил.
— А образец? А бланк?
— Образец?.. Долго рассказывать... Хотя ладно, расскажу. Как-то налетел на меня один тип, стал придираться. Словом, не было у меня другого выхода — или он меня, или я его. Пришлось действовать решительно. Ну взял я его пистолет, вынул из кармана документы. Вижу, удостоверение сотрудника СД. Приберег. А потом пришло в голову по готовому образцу еще один такой документ изготовить, только уже на мое имя. И ничего! Пока документик не подводил. Правда, немцам я показываю его в самых крайних случаях. Ну а полицаев мое удостоверение бьет без промаха, валит с ног. Мне даже козыряют, как ты сам убедился... А бланк действительно проблема. Но для чего тогда существует типография? Имея там своего человека, любой бланк набрать и тиснуть пара пустяков. В типографии, знаешь, всякие фокусы показывают. Вот погляди, любопытная штучка?
Федор протянул Луцю небольшую, напечатанную на плотной бумаге листовку. В верхнем левом углу было набрано знакомое «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», а ниже большими буквами — «К населению оккупированной Ровенщины. Обращение красных партизан».
Странная была эта листовка. Луцю еще не доводилось читать такие. В ней говорилось, что немецкая армия заняла значительную часть советской территории и продолжает упорно наступать, хотя Красная Армия и сдерживает вражеское нашествие. Дальше речь шла о том, что население городов и сел, оставшееся в тылу немецких войск, не должно оказывать вооруженного сопротивления оккупантам, поскольку подобные действия вызовут ответные массовые репрессии, расстрелы, аресты... Гражданское население, особенно молодежь, должны избегать стычек с немецкими военными гарнизонами, командами, подразделениями, чтобы не дразнить оккупантов и не нести лишних жертв. Задача состоит в том, чтобы готовить силы для нанесения удара по врагу в решающий момент, когда будет отдан приказ выступать одновременно, во всех районах области. Такой приказ будет, надо его терпеливо ждать, не проявлять вредной поспешности.
Заканчивалась листовка не менее странной подписью: «Командир объединенных партизанских отрядов Шапошников».
— Обрати внимание, Иван, какая бумага, какой шрифт, какая краска! Первый сорт. Как на визитных карточках. — Шкурко зло прищурился. — Эти листовки печатают немцы в нашей городской типографии. Видишь, печать совсем свежая, краска не успела высохнуть, липнет к рукам... Эх, знать бы нам, Иван, тех людей, которые распространяют в Ровно настоящие советские листовки! Подсказать бы им, чтобы написали об этой фашистской фальшивке. Фальшивка, правда, остается фальшивкой, как бы ни пыжились немцы. А предупредить людей все же надо. И само «воззвание» и «Шапошников» — все придумано начальником гестапо Йоргенсом. Листовка составлялась под его диктовку. Это я точно знаю. И еще кое-что знаю. — Федор оглянулся, взял Луця под руку, быстро зашептал: — У тебя должны быть тут друзья, старые знакомые, ты мне о них когда-то рассказывал... Ну, о коммунистах бывшего подполья. Собрать бы надежных ребят еще человек пять-шесть. Двое у меня есть. Да мы с тобой. А с десятком уже можно начинать. И о том, как начинать, имеются соображения. Известно мне, к примеру, несколько агентов тайной полиции, знаю их фамилии, адреса. Следовало бы заняться негодяями. Есть интересные данные о некоторых националистах. Тоже могут пригодиться. А недавно узнал такую штуку. Недалеко от Ровно немцы ведут какие-то подозрительные работы. Специальная команда из военнопленных прокладывает траншею. Работают только по ночам, на день сворачиваются. Охрана никого и близко не подпускает. Неделю потратил я на разгадку этой тайны. Кое-что удалось пронюхать. Немцы тянут бронированный кабель, налаживают прямую телефонную связь с Берлином. А вот далеко ли на восток пойдет кабель, пока что не знаю. Возможно, до Полтавы. Ходят слухи, там будет ставка Гитлера... Так это или нет, боюсь утверждать, а кабель тянут, и, конечно, не для того, чтобы какой-нибудь фельдфебель звонил своей фрау в Берлин, Неплохо было бы испытать фашистский кабель на прочность? Пусть немцы заканчивают работы. А мы пока запомним место, где роют траншею...
Луць чувствовал на щеке горячее дыхание Шкурко. Рука Федора крепко сжимала локоть друга.
— В Ровно находится Эрих Кох, — продолжал Шкурко. — Тебе известно, кто он такой? Наверно, известно, может, только не все. Кох — генерал СА. Принадлежит к фашистской верхушке. Кроме того, он рейхскомиссар оккупированной Украины, гаулейтер Восточной Пруссии. В его подчинение отдана также часть Польши. И это не случайно. Кох — один из приближенных фюрера, фигура в фашистской Германии заметная. Если бы в один чудесный день под Кохом вдруг взорвалась мина? Вот была бы паника среди немцев. Кох иногда ездит на аэродром. Маршрут известен. Детали можно уточнить. Охраняют Коха здорово. С автоматом или винтовкой к нему не подступишься. Остается одно — мина. Подложить ее где-нибудь на пути к аэродрому и ждать удобного момента... Только взяться за это надо по-настоящему. Прежде всего надо заняться личным шофером гаулейтера. Фамилия его Гранау. Замечена такая деталь: в дни, когда Кох вылетает из Ровно, Гранау подъезжает на машине к своей квартире и выносит оттуда небольшой чемодан. Потом едет за Кохом. Через полчаса машина с аэродрома возвращается в гараж, но ведет ее уже другой шофер. Значит, Гранау наверняка сопровождает Коха в его воздушных путешествиях. Если последить за Гранау, нетрудно заранее узнать, когда Кох собирается ехать на аэродром...
Луць пригласил Федора к себе домой. Чуть ли не до первых петухов они продолжали беседовать. А утром Иван Иванович подробно рассказал мне о встрече со своим другом, о содержании разговора.
Так Федор Шкурко пришел в подполье. Пришел не с пустыми руками. Он выложил нам целую кучу интересных данных. Оставалось лишь еще раз пожалеть, что у нас не было связи с советским командованием, с нашими товарищами на той стороне фронта.
* * *
...От Чидаевых расходились поздно, по одному, по двое. Федора Кравчука пригласил к себе ночевать Шкурко. Кульбенко решил вздремнуть часок-другой у Поплавского, который жил теперь на улице Чернышева у одиноких стариков поляков.
Выйдя на улицу, я на минуту отозвал в сторону Виталия Семеновича и спросил, кого он имел в виду, намекая на некую особу, связанную с гестапо.
— Молодая женщина. Зовут Еленой, — шепотом сказал он. — Я случайно познакомился с ней: встретились у одного чиновника из гебитскомиссариата. Она работает переводчицей в гестапо. Пока веду наблюдение. Кажется, чем-то недовольна. Возможно, сумею подобрать ключик...
— Смотри, осторожнее. Сотрудники гестапо проходят особую проверку. С этим шутить нельзя.
— Знаю.
4
Мы пожелали друг другу спокойной ночи и разошлись: Виталий Семенович широко зашагал в сторону улицы Чернышева, а я к себе домой, где меня ждала настуженная холостяцкая комната. Но в ту ночь я вошел в нее не один, а в сопровождении гестаповца и полицая.
Только успел вставить ключ в замочную Скважину, как сразу почувствовал — позади кто-то стоит и пристально смотрит на меня. Обернулся.
Их было двое. Они появились тихо и незаметно, словно тени.
Свет карманного фонаря сначала упал мне под ноги, потом прыгнул вверх, скользнул по лицу и погас.
Два человека стояли так близко, что я слышал их дыхание. В нос ударил запах дешевого одеколона, табака и пота.
— Давайте зайдем в квартиру, пан директор, — услышал я притворно-доброжелательный голос. — Неудобно разговаривать в темноте, у входной двери.
Спрашивать, кто они и что им нужно, не было необходимости. Тот, который назвал меня паном директором и приглашал войти в комнату, держал в руках винтовку. Другой был в немецкой офицерской шинели. На его плечах, когда он включил фонарь, блеснули погоны.
— Я Савчук, из полиции, — представился первый, как только мы вошли в комнату. — Вы меня, наверное, знаете, пан директор? Я был охранником на фабрике кофе... У вас есть лампа?
Вспыхнула спичка. Полицай засветил лампу. Темнота отодвинулась в углы комнаты. Офицер сел у стола и начал бесцеремонно рассматривать меня серыми, чуть прищуренными глазами, в которых таились ирония и интерес. Правую руку он держал в кармане шинели. Пустая кобура на ремне была демонстративно расстегнута.
— В чем дело, господа? — спросил я, стараясь произносить слова как можно спокойнее.
Полицай пробормотал в ответ что-то неразборчивое, испуганно глянул на офицера и осекся на полуслове.
Неожиданно заговорил офицер. Русские слова он произносил правильно и четко. С лица не сходила ироническая ухмылка.
— Господин поздно гуляет. Это опасно. Наши патрули иногда стреляют без предупреждения. Господин заставил нас долго ждать. Скоро полночь. Но ничего не поделаешь: предстоит небольшая прогулка. Запирайте квартиру и — прошу в машину! — Он широким жестом указал на дверь. На рукаве его шинели мелькнули белые буквы «СД».
Машину они предусмотрительно оставили за углом, на улице Димитрова. Шофер с ефрейторскими нашивками небрежно выплюнул недокуренную сигарету, не торопясь взялся за руль. Офицер открыл заднюю дверцу и подтолкнул меня на сиденье. С противоположной стороны в кабину неуклюже влез полицай. Заработал мотор, машина рванулась в темноту, свернула вправо и быстро помчалась по центральной магистрали города. Слева промелькнул переулок Шопена. Через несколько минут мы остановились возле серого затемненного дома. По тротуару прохаживались два часовых с автоматами.
...У гитлеровца, который меня допрашивает, круглая, как футбольный мяч, голова. На темени небольшая прядь бесцветных волос. Толстые стекла пенсне отражают свет электрической лампочки, вспыхивают по временам словно маленькие фары. Красная шея не умещается в воротнике. Немец сидит в глубине длинной и узкой комнаты за дубовым столом, покрытым куском картона. Стены комнаты голы, паркет натерт до блеска, высокие окна завешены черными шторами.
Офицер, который меня сюда привез, примостился в кресле возле металлического сейфа, углубился в какой-то иллюстрированный журнал. Только теперь я заметил у него возле рта глубокий неровный шрам. Шрам перекашивал лицо, и от этого казалось, будто офицер все время скалится в мертвой застывшей ухмылке.
Еще один гитлеровец, белесый унтер-офицер лет двадцати, сидел в углу за столом с пишущей машинкой.
Офицер со шрамом возле рта, вероятно, переводчик. Он чеканит фразы, будто диктует:
— Условимся прежде всего вот о чем. — Немец, сидевший за столом, причмокнул красными губами, сделал паузу, ожидая, когда его слова будут повторены по-русски. — Вы будете отвечать на каждый вопрос с абсолютной точностью и правдивостью... Вам известно, где вы находитесь?
— Догадываюсь.
— Не надо догадываться. Мы СД, служба безопасности рейхсфюрера. Тут не любят лжи. Откровенность и еще раз откровенность, Новак... Кстати, сколько вам лет?
Я ответил. В углу застучала машинка.
— Женат?
— Нет.
— С какого времени занимаете пост директора фабрики валенок?
Услышав ответ, гитлеровец покачал головой с таким выражением, будто то, что он услышал от меня, имело чрезвычайно важное значение и являлось основной целью допроса. Потом он поднял свое лескладное тело из-за стола, вынул из сейфа лист бумаги, исписанный с обеих сторон фиолетовыми чернилами. Повертел, отдал переводчику. Тот нехотя отложил в сторону журнал, взял бумагу и стал молча читать.
Стекла пенсне сверкнули двумя ослепительными молниями. Глаза фашиста словно прилипли к моему лицу.
— Нам известно, что поляки в свое время держали вас в заключении. Объясните, за какую провинность вы попали в тюрьму?
Отвечать надо было немедленно, без колебаний и раздумий. Встреча с бандеровцами на хуторе близ села Дубрава, поединок с Францем Крупой, трибунал националистов — все это было лишь прелюдией, первой ступенькой на пути испытаний. Настоящий экзамен на крепость нервов начинался теперь, тут, возле дубового стола, под перекрестными взглядами гитлеровцев из службы безопасности рейхсфюрера, которая в данную минуту держала в своих руках мою жизнь. И если бы только мою!..
Вопрос гитлеровца был явно рассчитан на то, чтобы нанести мне ошеломляющий удар, от которого я не смог бы защититься. У меня оставалась одна, очень шаткая возможность — попробовать уклониться от удара, попытаться выиграть хотя бы несколько минут, чтобы узнать в ходе допроса, какими материалами располагает СД, что именно известно немцам обо мне, с чем связан мой арест.
Подняв глаза на офицера в пенсне, я ответил:
— Ваша правда, герр следователь. Поляки здорово намяли мне бока, считая, что я занимаюсь коммунистической пропагандой. За это я и в тюрьме сидел.
Пишущая машинка выпустила несколько трескучих очередей. Круглоголовый оживился, удовлетворенно произнес:
— Признание без лишних уверток — это разумно. Теперь уточним, в каком году вы вступили в партию. На этом и закончим разговор.
— Вы шутите, герр следователь. — Я выдавил из себя подобие беспечной улыбки. — Или мне недостаточно точно перевели ваш вопрос? В партию я никогда не вступал и в мыслях не держал такого. Ну какой из меня коммунист? Родился в глухом селе, рос возле свиней, образования почти никакого. Куда мне соваться в политику! Врать не стану: перед поляками не очень-то шапку ломал. Выпьешь, бывало, и ляпнешь такое, что поляки от злости аж зеленеют. Еще у нас, украинцев, песни разные есть. Они тоже полякам не нравились.
А мы с хлопцами часто пели их хором на все село... Ну, понятно, сразу бежит полицай, ругается: «Коммунисты! Пся крев»... Да что и говорить, при польской власти всегда было так: не то слово промолвил — коммунист, налогов в срок не уплатил — коммунист, по-польски не желаешь или не умеешь разговаривать — коммунист... В те времена, герр следователь, тут, на Волыни, каждого второго большевиком считали, это вам любой скажет.
— Выходит, в тюрьму вас за песни посадили?
— Нет. За песни обычно в участок тягали. Всыплют десять горячих шомполом или палкой — и ногой под зад. В тюрьму я попал за большевистскую листовку.
— Как это было? Когда? Где?
— Расскажу по порядку. Было так. В тридцать третьем году в селе Гоща я нанялся на строительство казармы для польского пограничного батальона. Как-то вечером, собираясь домой, увидел на полу казармы листок бумаги. Ну взял его на раскур, положил в карман. А тут вдруг полицейские. Построили всех рабочих в ряд и стали обыскивать. Нашли у меня ту бумагу. Это оказалась большевистская листовка. Тех, кто разбрасывал такие бумажки, не поймали, а меня, дурака, за решетку. С тех пор и началось! Насиделся в тюрьме. А потом хотя и выпустили, но покою все равно не давали. Нацепили на меня то слово «коммунист», как торбу. Куда ни ткнись, нигде нет ходу. «Быдло, большевик»... Так ни за что, ни про что и ославили меня «политиком», «ненадежной личностью»...
Я сделал небольшую паузу, тяжело вздохнул, будто сожалея, что влип тогда в эту историю, затем продолжал:
— О том, что я сидел в тюрьме, в Ровно знают многие, герр следователь. Да я и не скрывал этого. Когда господин Бот, заместитель господина гебитскомиссара, назначал меня директором фабрики, я все подробно рассказал ему о своей жизни, как на духу. Господин Бот сказал мне: «Работай на пользу и во славу великой Германии, работай добросовестно!» И я работаю, герр следователь, не жалея сил. Работаю, так как понимаю: немецкая власть человеком меня сделала. Такое дело мне доверено — целая фабрика! Только теперь и начинается моя настоящая жизнь. Но кое-кому это колет глаза. Недавно вот националисты прицепились, суд надо мной учинили. Слава богу, разобрались, отпустили. Теперь вы, герр следователь, допрашиваете... Я знаю, кому-то хочется занять мое место на фабрике, потому и стараются очернить меня перед вами. Желающих на мой пост хоть отбавляй.
Гитлеровец слушал не без интереса. И все же, я чувствовал, он не собирался расслабить свои пальцы, державшие меня за горло.
— Ну а что скажете о своей должности в институте при большевиках?
Теперь сомнений не было. Вся моя жизнь изложена на том листке бумаги с фиолетовыми чернильными строчками... Кто писал его? Я лихорадочно думал, силясь отгадать, чья рука настрочила донос. Слово «институт» резануло ножом, и в тот же миг вспомнились лекции, собрания, митинг в первый день войны, студенческое общежитие... Неужели все это известно в СД, и следователь просто играет со мной как кошка с мышью?
«Однако доносчик, кто бы он ни был, ничего не знает о моих друзьях, — сверкнуло в мозгу. — Абсолютно ничего!» Сердце начинает биться спокойнее. Нет, рано еще ставить точку. Рано! От напряжения разболелась голова. Однако надо держаться, гнуть свою линию дальше. Ведь у меня не все еще исчерпано, есть кое-что в запасе. Только не спешить, не расслаблять нервов.
— Почему молчите? Отвечайте!
— Я жду вашего вопроса, герр следователь.
— Разве я выразился неясно? Вы занимали высокую должность в студенческой большевистской организации?
Морща лоб, я пожимаю плечами:
— Не могу понять, о чем это вы, герр следователь?.. Может, вы имеете в виду те два месяца, в течение которых мне пришлось заниматься студенческим бытом? Помню. Действительно, я следил, чтобы в столовой подавали свежий борщ и чтобы уничтожали мух, чтобы в общежитии через десять дней меняли постельное белье и вовремя вставляли разбитые стекла, чтобы в хорошем состоянии держали умывальники и уборные... Это называлось председательствовать в профсоюзном товариществе. На такую должность студенты избирали кого-либо из своей среды. Выбрали меня. Никакого отношения к большевистской организации мои заботы о быте студентов не имели. Я был посредником между студентами и обслуживающим персоналом института. Только и всего. А если быть откровенным до конца, герр следователь, то должен признаться, что мои родители — люди бедные. Когда я был студентом, они не присылали мне ни гроша. Приходилось кое-как перебиваться самому. Ну а эта, как вы сказали, должность давала мне возможность тереться возле хозяйственников и приносила некоторую материальную выгоду. Многие студенты искали случайного заработка в городе, на железной дороге, на складах. Я тоже колол дрова, разгружал уголь, укладывал кирпич... За что институтская бухгалтерия выплачивала мне несколько рублей. Меня это устраивало.
— Возможно. Но нас интересует другое. В институте вы вели, как у вас говорят, агитацию против фашистов. С какой целью поносили вы вождя немецкого народа и германские вооруженные силы? За это вам тоже платили? Большевики платили? Еврейские комиссары? — Выдержка изменила гитлеровцу, он стал кричать. Вскочил, стукнул кулаком по столу так, что подпрыгнула и перевернулась чернильница, а офицер со шрамом невозмутимо переводил:
— Ты русская свинья. Не только свинья, но и собака... Ты очень опасный тип. Для тебя приготовлена виселица с крепкой петлей... Тебе не удастся нас обмануть. Мы получили точные сведения и знаем все. Для СД тайн не существует. Если ты сознаешься во всем, тебя помилуют. Если же не сознаешься, не будешь директором фабрики и вообще никем не будешь... Ты будешь трупом...
— Если вы мне не верите, прошу очной ставки с тем негодяем, который оклеветал меня. — Я опустил голову. — Ругать Германию, оскорблять фюрера!.. Какая чепуха, герр следователь! Выслушайте меня полминуты, и вы убедитесь, насколько беспочвенно это обвинение. В то время, когда я учился в институте, был заключен договор о ненападении между СССР и Германией. А к межгосударственным обязательствам у нас отношение святое. Вы же знаете это. Мог ли я, простой студент, говорить что-либо вопреки договору? Никак не мог. Мне бы просто не разрешили, если бы я и хотел сделать это.
Немец снял пенсне, аккуратно протер платком стекла, близоруко прищурился.
— Все будет проверено. Каждое ваше слово... Как случилось, что вы не ушли с большевиками и остались в Ровно? Вы служили в армии?
— Не служил. Меня не привлекала перспектива смерти под пулями и бомбами. Не ожидая вызова военкомата, я удрал из города. Сначала, верно, попал в неприятность. В селе Межиричи меня схватили красноармейцы и как дезертира погнали в местечко Корец. Там советский полковник приказал расстрелять меня. Я очутился у стенки, солдаты начали целиться из винтовок...
— Айн момент, — следователь взмахнул рукой, посмотрел на часы, встал. Одернув мундир, он бросил переводчику «ауфвидерзейн» и, не взглянув в мою сторону, вышел, на ходу надевая фуражку и шинель.
Место следователя за столом занял офицер со шрамом. Развернув перед собой журнал, он сказал:
— На сегодня обер-лейтенант Бенке работу закончил. Мне осталось работать двадцать девять минут. Не будем терять времени. Итак, вас расстреляли...
— На мое счастье, расстрелять не успели.
— Где это было? В какой части Корца?
— У каменной ограды еврейского кладбища... Вы тоже не верите мне, герр офицер? Но ведь господин следователь обещал проверить каждое мое слово. Местечко Корец недалеко. В памяти людей еще свежи картины тех дней. По крайней мере, человек шесть-восемь наблюдали издали, когда меня собирались расстрелять. Я уверен, очевидцы найдутся. У них можно спросить об этом.
— Будем надеяться. Что же произошло потом?
— Мимо кладбища проезжали офицеры НКВД. Красноармейцы сказали им, что расстреливают немецкого шпиона. Офицеры НКВД заинтересовались мною, посадили в свою машину и довезли до Житомира. При въезде в город началась бомбежка. Воспользовавшись паникой, я бежал.
— А затем сидели в поле и ждали, пока подойдут немецкие войска? Так?
— Вы угадали. Только я сидел не в поле, а прятался несколько дней в самом Житомире. Потом появились ваши мотоциклисты и танки.
— Так, так... Мотоциклисты... А отец ваш случайно не кулак?
— Нет.
— Странно, в таких случаях отец обычно оказывается кулаком, высланным в Сибирь. Дело в том, мой дорогой, что через этот кабинет прошло немало таких, как вы. Примерно семь из десяти угощали нас небылицами, как две капли воды, похожими на вашу одиссею. Вы намерены настаивать на своей версии?
Да, этот офицер со шрамом был по-настоящему хитер и опасен. Он толкал меня в какой-то капкан.
— Кто приютил вас в Житомире? Отвечайте быстро! — скороговоркой бросил он, вытянув шею.
— Дед один, старый такой, седой...
— Портрет не нужен. Фамилия?
— Знаю только имя — Охрим. Фамилии не спрашивал.
— Адреса тоже не помните? — он смотрел на меня с издевкой и нескрываемой угрозой.
Я чуть-чуть было не назвал сразу адрес, невольно подчиняясь требовательному тону офицера, но вовремя прикусил язык. Поспешность могла вызвать у него подозрение.
— Сейчас, одну минуту, сейчас, — пробормотал я, усиленно хлопая ресницами. — Если это нужно, господин офицер... Понимаю, надо вспомнить. Я же хорошо знал... улица Николаевская, это точно, а дом... Господин офицер, я знал, честное слово знал!.. Вылетело из головы, но я... проклятый дом... дайте подумать...
Офицер громко захохотал. Смеялся долго, до слез. Потом протянул мне через стол сигарету, дал прикурить от зажигалки.
— Вот к чему приводит самоуверенность, — сказал он, оборвав смех. — Обычный вопрос, и столько приходится нервничать. Вы даже побледнели. В самом деле, на черта сдалась какая-то там квартира в Житомире, к чему ее запоминать? Адрес очень легко забыть. Можно просто не обратить на него внимания. Если бы кто другой упустил подобную деталь, я не придал бы этому значения. Вы же, милый мой, должны понять, что для вас этот адрес — последний шанс на спасение. Без житомирского адреса у вас не сойдутся концы с концами. Не надо было ничего придумывать, господин директор. А если уж придумали, то соблюдайте логику. Давайте адрес. Иначе круг не замкнется, и вам будет очень плохо... Молчите? Ну что ж, тогда скажите, как вам удалось устроиться на такую большую должность? Кто вам помог стать директором фабрики гебитскомиссариата? Если в начале допроса я не мог предугадать, с какой стороны на меня обрушится угроза, и сидел словно наэлектризованный, то этого вопроса я ожидал, ожидал с нетерпением. И ответ приготовил заранее.
— Меня рекомендовал на работу комендант полиции господин Крупа.
На лице гитлеровца промелькнуло замешательство и удивление. Но только на секунду. Потом он опять стал сосредоточенным и серьезным. От недавнего веселого настроения офицера не осталось и следа, о нем напоминала лишь погасшая эрзац-сигарета, которую я держал в руке.
— Это... правда?
— Наиболее точный ответ вы получите от самого господина Франца Крупы.
— Почему именно он оказал вам протекцию?
— Мы давно знакомы. К тому же он был очевидцем случая с листовкой, о котором я рассказывал.
— Не понимаю.
— Он тоже работал на строительстве военной казармы в тридцать третьем году.
В кабинете наступила та атмосфера, когда наконец можно было, как выразился сам офицер, «замыкать круг». Вскочив со стула, я сделал шаг к столу. Немцу, видимо, показалось, что я, расчувствовавшись, собираюсь обнять его.
— Вспомнил, герр офицер, вспомнил! Чтоб он провалился, тот Житомир... Записывайте! Вот вам точный адрес. Теперь его вовек не забуду...
Я назвал номера дома и квартиры житомирского деда Охрима.
Гитлеровец глубоко затянулся дымом сигареты, взглянул на унтер-офицера, неподвижно сидевшего за машинкой, и, ничего не сказав, нажал на кнопку звонка.
Вошел конвоир. В его сопровождении, я третий раз в своей жизни переступил порог ровенской тюрьмы. Надзиратель в коричневой форме принял под расписку нового заключенного, звякнув связкой ключей. Завизжали ржавые петли металлической двери. Это была дверь хорошо знакомой мне камеры номер четыре.
Черные дни
1
Над Николаем Поцелуевым нависла беда, грозная и неотвратимая. Все произошло неожиданно. Большую колонну военнопленных, в том числе и рабочую команду, в составе которой был Поцелуев, рано утром под охраной эсэсовцев вывели за ворота лагеря и погнали в город, на железнодорожную станцию. «Видно, опять придется что-то грузить?» — подумал Николай. Так бывало уже не раз: рабочую команду с расчистки улиц направляли на станцию грузить или разгружать вагоны.
Но в этот раз пленных ожидало совсем другое. Эсэсовцы остановили колонну на пассажирской платформе перед длинным составом пустых пульмановских вагонов, оцепили ее плотным кольцом. Через несколько минут на платформе появился помощник коменданта лагеря, что-то коротко бросил начальнику охраны. Тот в свою очередь отдал распоряжение эсэсовцам, и они, размахивая резиновыми палками, стали загонять пленных в вагоны. Бежать было невозможно. Сразу же, как только вагоны оказались заполненными, гитлеровцы наглухо закрыли двери, вместо обычных пломб закрутили запоры толстой проволокой.
Так вот она, тюремная камера на колесах! Бледный луч света, пробивающийся в щель неплотно прикрытого оконного люка, падает на грязный пол и фигуры оборванных, изможденных людей, тесно сбившихся в вонючей клетке. Вспотевшие от их дыхания, покрытые слоем угольной пыли стены слезятся черными потеками. Разворошенная угольная пыль висит в воздухе, царапает легкие, скрипит на зубах. Отовсюду доносится хриплый кашель и тихая ругань.
Николай Поцелуев лежит возле двери. Там легче дышать. Снаружи сквозь крохотную щель просачивается свежий воздух, холодный ветерок обдувает горячий лоб.
У Николая болит голова. Пересохло во рту. Мучает жажда. Нестерпимо хочется есть. Утром пленных не кормили, не дали даже обычной баланды...
Свет, пробивавшийся сквозь оконный люк, постепенно сереет, расплывается и, наконец, гаснет. Наступают сумерки, а затем ночь. Пленные плотнее кутаются в лохмотья грязной одежды. Молчат. Каждый думает: пройдет еще час, может два или три, железнодорожный состав звякнет буферами, и их повезут... Куда? В Германию? В Польшу? Во Францию или Бельгию?.. Какое теперь это имеет значение! Одна дорога — в рабство, в неволю.
Немало горя натерпелись они в лагере в Ровно: голод, побои, расстрелы. Но тут все-таки своя, родная земля, свое небо и рядом, за колючей проволокой, свои люди. Теплилась надежда при первой возможности вырваться, уйти к партизанам. А что ждет их там, в чужих странах? Участь рабов.
За тонкой стенкой вагона уже не слышно злобного рычания овчарок. Эсэсовцы, наверно, ушли. Остались лишь часовые. Они тяжело шаркают коваными сапогами по гравию, изредка обмениваются короткими фразами...
Николаю Поцелуеву все хуже. Его тело сковывает противный озноб. Руки и ноги становятся совсем непослушными. Болит голова. Усилием воли он пытается сосредоточиться. Ругает себя за то, что вовремя не бежал из лагеря. А ведь такая возможность была. И при расчистке улиц города. И когда немцы объявили, что им нужны рабочие различных специальностей. Он раньше других узнал от подпольщиков о том, что этих рабочих пошлют на предприятия. И все же остался в лагере. Он не мог бросить товарищей, подпольную группу, на создание которой потрачено так много сил!.. А что же теперь?..
Мысли Николая путаются, ускользают в туман. Он впадает в забытье...
Откуда-то сверху на него смотрит отец. Николай пытается приподняться. Он хорошо знает, что отца нет: погиб еще в гражданскую, где-то под Самарой, когда ему, Николаю, было всего полтора года. Но видение не исчезает. Знакомое по старой фотографии, родное лицо, обрамленное русой бородой, с родинкой над правым глазом склоняется все ниже. И вот отец стоит рядом. На нем выгоревшая от солнца гимнастерка, серые, покрытые пылью сапоги, буденовка с красноармейской звездой. Звезда на буденовке вдруг начинает увеличиваться, расти, заслоняет собой отца... Чья-то ласковая рука осторожно гладит Николая по плечу. Ну конечно же, это рука матери. Мать тихо шепчет: «Не надо, сынок, не целуй меня, отодвинься, у меня тиф, заразишься, заболеешь...» А он прижимается щекой к ее щеке. Он не боится тифа. Ему хочется сказать, что он уже окончил школу и возвратился из Мокшан. Будет теперь жить дома, в родном селе Суворове. Сначала думал поехать в Пензу, поступить в институт, но не поедет, останется с матерью: ей очень трудно жить одной...
Щека матери сухая, горячая, словно раскаленная... Почему так горячо? Горит лес? Нет, это Выборг... Танки мнут гусеницами багровый от зарева снег... Все вокруг в тумане... Валит густой дым... Дышать становится все труднее... Откуда на его ватнике кровь? Он же работает инструктором Мокшанского райкома комсомола. Почему вокруг гремят выстрелы? Как попал он в танк?.. А танк горит. Горит на голове Николая отцовская буденовка. Нет, не буденовка, а его, Николая, красноармейская шапка-ушанка, тоже со звездой... Пули ударяются о броню горящего танка, с визгом отскакивают...
Где это он лежит? Вокруг все белое: и стены, и койки, и кусок улицы за окном...
И опять грохот рвущихся снарядов, знакомый свист пуль... Наскоро отрытые окопы под Киевом... «Товарищ политрук, товарищ политрук!..» Кто-то трясет Николая за плечо. Ему очень больно. Страшно болит голова... Там засел небольшой осколок... Мальчик лет восьми-десяти тянет Поцелуева за руку. Откуда он взялся тут, в степи, в районе боев?.. Это же сын, Генка. Но как он попал сюда? Генка, жена и мать далеко... Он знает, они уехали на восток, куда-то в район Пензы... Николай написал им письмо... Последнее письмо...
«Товарищ политрук, немецкие автоматчики!..»
Кто-то грубо толкает его ногой. «Осторожнее, я же ранен, осколок...»
...Вздрагивает холодный пол вагона. И сразу все исчезает — ни матери, ни жены, ни Генки, ни огненных вспышек снарядов. Только непроглядная тьма и скрип угольной пыли на зубах... Николай с трудом поднимает тяжелую голову. «Тук-тук, тук-тук-тук...» — все быстрее отсчитывают время колеса. Эшелон набирает скорость.
...Очнувшись от забытья, Николай встал. Люди спали. В темноте то и дело слышался надрывный кашель. Поцелуев осторожно расшнуровал стоптанный солдатский ботинок. Там, между стелькой и подошвой, он уже несколько недель хранил обломок немецкого штыка, найденный при расчистке ровенских улиц. Хранил на всякий случай. И вот этот случай пришел. Николай достал из-под стельки теплый кусок стали, осторожно ощупал пол вагона, стал ковырять доску. Часа через полтора удалось проделать небольшую дырку, отломить кусок дерева. Сухой треск услышали соседи по вагону, зашевелились. К проделанной в полу щели сразу потянулись несколько рук, пленные стали помогать Поцелуеву, время от времени тихо переговариваясь:
— Твердая, будь она проклята...
— Да, наверно, ничего не получится...
— Что значит не получится?.. Надо по очереди, одному трудно...
— Ну-ка, дай я попробую. Что там за долото?..
— Тише, братцы, немец услышит...
Снаружи ветер доносил однообразную тягучую мелодию. Рядом, на тормозной площадке, находился охранник. Отгоняя сон, он выводил скучную, однообразную мелодию на губной гармонике.
Обломок штыка пошел по рукам. Долбили по очереди. Доска поддавалась туго. Однако на стыке, где было металлическое крепление, ржавчина разъела древесину. Щель постепенно раздавалась вширь.
Работали с остервенением. Если бы могли, зубами грызли эти ненавистные доски. Поцелуеву же казалось, что дело идет слишком медленно. Поезд все дальше и дальше уходил от города.
Когда вынули еще один кусок доски, снизу задул ветер, в вагон ворвался громкий перестук колес.
Поцелуев почувствовал: от проделанной в полу дыры все отодвинулись. Там, внизу, гремели не колеса, гремела сама смерть.
— Ничего другого не остается, — негромко сказал Николай. — Терять нам, товарищи, нечего. Кто первый?
Люди молчали.
— Тогда начну я. — Поцелуев снял сумку от противогаза, чтобы не мешала, и добавил: — Оставаться в вагоне никому не советую. Днем немцы обнаружат пролом. Сами понимаете, чем это кончится... Ну вот, кажется, поезд замедлил ход.
Он сказал это только для того, чтобы подбодрить себя и других. Поезд мчался, как и прежде, не сбавляя скорости. Бросив вниз сумку, Николай ухватился за края отверстия, опустил туда ноги, медленно стал распрямлять руки. Вокруг гремел металл, градом сыпался песок и гравий, стонали рельсы. Почувствовав, что пола шинели почти коснулась шпал, он зажмурился и нечеловеческим усилием заставил себя разжать пальцы.
По телу будто ударило молотом. Поцелуеву показалось, что загорелась и лопается кожа на спине. Он упал навзничь и по инерции вытянул ноги. Рот наполнился кровью. Боль резанула плечо. Поцелуев схватился за шпалы и прилип к ним, словно хотел вдавиться в землю. Над его лицом гремело, тряслось, стонало тысячетонное тело поезда. Страшная неудержимая сила в любую секунду готова была подхватить его, смять, раздавить. Лучше бы оглохнуть, лишь бы не слышать грохота, бьющего тяжелой кувалдой по мозгу, по глазам, по сердцу. И вдруг катившийся над ним нескончаемой волной грохот резко оборвался.
Над Поцелуевым распахнулось небо. Весь мир охватила тишина, только в ушах по-прежнему слышался протяжный звон.
Николай скатился с насыпи. Долго лежал обессиленный, не веря, что остался живым.
Прошло около часа. Он прислушивался к ночным шорохам, ждал. Но никто из товарищей по вагону не подавал голоса. Те, кто прыгал за ним, или разбились, или, как и он, отлеживались у насыпи, не решаясь окликнуть друг друга.
Обломок штыка лежал в кармане. Сталь легко вошла во влажную песчаную почву. Накопав кореньев, Поцелуев обтер их рукавом шинели и начал жевать. Коренья были твердые и горькие, отдавали прелью, но он продолжал жевать, пока не заныли челюсти.
Потом поднялся. Болели спина и ноги. Но Поцелуев облегченно вздохнул: кости целы, значит, можно идти. Он медленно побрел между деревьями в сторону от насыпи.
Наткнулся на лесную тропинку. Чуть заметная в темноте, она петляла в густых зарослях молодого дубняка. Ночной холод быстро остудил разгоряченное тело Поцелуева, но он не чувствовал холода. Только теперь, вдыхая запахи леса, он осознал по-настоящему, что и молчаливые деревья вокруг, и небо над головой, и песок под ногами, и шелест веток — это и есть выстраданная свобода, о которой думал он днем и ночью все страшные месяцы пребывания в лагере.
Хрустнула сухая ветка. Николай замер: впереди будто промелькнула тень человека. Не раздумывая, он бросился в сторону от просеки. В таком виде нельзя с кем-либо встречаться. Сначала он должен добраться до села Тынного. Оно где-то совсем недалеко от Ровно. Поцелуев никогда не был в Тынном, но хорошо запомнил название села.
Месяц назад связная городских подпольщиков, темноволосая женщина сказала, чтобы он запомнил на всякий случай адрес: село Тынное, хата Николая Ханжи и пароль: «Я пришел со Здолбуновского шоссе».
Как же добраться до Тынного? Куда, в какую сторону идти? Далеко ли отошел эшелон от Ровно? Поцелуев не мог ответить самому себе на эти вопросы: забытье, охватившее его в вагоне, нарушило ощущение времени.
В лесу прогремел короткий взрыв. «Граната», — подумал Поцелуев и притаился за сосной. Где-то неподалеку часто и беспорядочно захлопали винтовочные выстрелы. Как бы отвечая им, застрочили автоматы. Ненадолго заглушили стрельбу новые взрывы, эхом прокатившиеся по лесу.
Неожиданно вспыхнувшая стрельба продолжалась несколько минут, потом начала стихать. В той стороне, откуда доносилась стрельба, что-то загорелось.
Поцелуев сделал несколько шагов вперед и услышал плеск волн. Он стоял на крутом берегу. Пламя пылало на противоположной стороне реки и ярко отражалось в воде.
2
Если бы Николай знал, что за выстрелы встревожили лес, то, не теряя ни секунды, бросился бы туда, где все ярче разгоралось пламя пожара. Его не остановили бы ни холодные волны Горыни, ни тупая усталость, ни гнетущая головная боль.
Но он не знал и не мог знать, что именно в тот момент, когда готовился к побегу из вагона, из Ровно выехали два грузовика. Вынырнув из темного переулка, они на большой скорости проскочили западное предместье, задержались на минуту возле шлагбаума и, взревев моторами, вымахнули на шоссе Ровно — Брест.
В кабине переднего грузовика рядом с водителем сидел дядя Юрко. Он очень изменился с тех пор, когда Поцелуев снарядил его из лагеря военнопленных для связи с городскими подпольщиками и когда дядя Юрко принял вымышленную фамилию Конюхов. Тогда он был больной, слабый, харкал кровью. Ребятам из общежития при фабрике валенок приходилось даже подсаживать его на нары.
Теперь дядя Юрко выглядел молодцом. Лицо заметно порозовело. В умных хитроватых глазах появился живой блеск. Только седины прибавилось: голова стала совсем белой.
Иной стала и его одежда: каракулевая шапка, добротный полушубок, валенки. На рукаве желто-голубая повязка вспомогательной полиции. На коленях он держал карабин.
Не задерживаясь, грузовики проскочили село Броньки. За селом водитель, парень лет двадцати, сбавил газ, ладонью вытер пот, заливавший глаза, взглянул на своего спутника и с облегчением чертыхнулся. Его руки, лежащие на баранке, мелко дрожали.
Дядя Юрко успокаивающе хлопнул водителя по плечу, потом забарабанил по металлической крыше кабины. Над кузовом автомашины зашевелился брезент, оттуда послышались голоса. В кузове было по меньшей мере двадцать человек — все с оружием. Сбавила ход и вторая машина. Над ее бортами тоже показались шапки и фуражки, блеснули сталью вороненые стволы винтовок.
Пассажиры с удовольствием разминали затекшие руки и ноги. Лежать в кузовах машин было тесно и, неудобно, а им пришлось трястись по разбитому шоссе километров двадцать пять с гаком. Теперь, когда главная опасность миновала и уже не надо было прятаться, все возбужденно заговорили. Вспыхнули огоньки цигарок, запахло табачным дымком.
По обе стороны шоссе темнели деревья. Машины проехали еще несколько километров, и лес подступил к шоссе сплошной стеной. Где-то среди грабов и сосен затерялась в зарослях и погасла луна. Темнота ночи еще больше сгустилась. Люди на машинах снова замолкли.
Прошло не больше двух часов, когда каждый из них, крадучись, пробирался по ночным улицам города к лесоскладу. Там была назначена встреча. Там их ждали грузовики.
Возле машин дежурили Поплавский, Шкурко и дядя Юрко. Поплавский нетерпеливо посматривал на часы. Стрелки приближались к полуночи. Двадцать восемь человек пришли вовремя, а трое задержались.
Дядя Юрко нервничал, но старался держать себя в руках, тихо, почти шепотом разговаривал со Шкурко, привалившимся к радиатору машины с пулеметом в руках.
— Сколько патронов?
— Штук восемьсот. Кроме того, четырнадцать гранат. Это все, что мы имели, — ответил Шкурко. Только что он роздал уходившим из города оружие, которое прятал здесь же, на лесоскладе, в полуразрушенном погребе. С пулеметом ему просто не хотелось расставаться. К тому же опасно. В любой момент могли налететь полицаи или жандармы. Лучше уж до отправки машин не выпускать пулемет из рук.
Винтовки, гранаты, патроны, несколько обрезов и пулемет привезли на лесосклад сельские подпольщики Кульбенко и Кравчука. Кое-что удалось достать и в самом Ровно. Для всех, правда, оружия не хватило, но полтора десятка винтовок вместе с гранатами и пулеметом — для начала тоже неплохо.
В составе отряда тридцать один боец. Преимущественно военнопленные, работавшие на предприятиях города. На тайном собрании, состоявшемся неделю назад в общежитии при фабрике валенок, было решено всем вместе выехать из Ровно и добраться до Цуманского леса.
Все уже готово. Только трое где-то замешкались. А может, передумали? Может, испугались трудностей партизанской борьбы?
— Подождем еще минут десять, — сказал Поплавский.
Дядя Юрко отступил в темноту. Люди начали садиться в машины. Шкурко передал кому-то пулемет. Заняли свои места водители.
Над Ровно висела ночь. Рыскали по улицам вражеские патрули. Не замирали шаги часовых у стен резиденции гаулейтера Коха. У телефонных аппаратов не смыкали глаз дежурные СД и гестапо. Где-то поблизости находились майор Йоргенс, гебитскомиссар Беер, их подручные — смияки, крупы, максимчуки, эсэсовцы, жандармы, шуцманы, солдаты, офицеры, генералы, шпики, агенты. И тут же рядом, почти в центре ночного города, формировался партизанский отряд, один из первых на оккупированной Ровенщине, отряд весны 1942 года, еще небольшой, плохо вооруженный, но готовый к борьбе.
У ворот лесосклада послышались приглушенные сердитые голоса. Там кого-то ругали часовые, поставленные дядей Юрко.
— До утра ждать, что ли? Где вас черти носили до сих пор?..
— Да патрули же повсюду... Нам, считай, почти через весь город топать пришлось...
Во дворе один за другим появилось трое опоздавших. Дядя Юрко облегченно вздохнул:
— Теперь все в сборе. Можно двигать.
Поплавский отвел его в сторону:
— Не забывайте о нашем уговоре. Связных в город не посылайте. Ваши связные будут ходить только в село Городок к Чибераку. Дом Чиберака стоит в стороне от других, в лесу, там надежное место. Туда же мы будем доставлять боеприпасы и медикаменты. Пароль помните? Все, что нужно, передавайте через Чиберака. Информируйте нас постоянно, чтобы мы знали, как в отряде идут дела, где он находится, какие намечает вылазки. Имейте также в виду: в районе Клевани появились банды националистов. Возможны провокации. Остерегайтесь... Ну, счастливо!
Они обнялись. Часовые, дежурившие у ворот, сели в машину. Грузовики медленно выкатили в переулок. Двор лесосклада опустел. Там остались лишь Поплавский и Шкурко.
Пока грузовики, подпрыгивая на выбоинах мостовой, неслись по темным улицам города, дядя Юрко беспокойно оглядывался по сторонам — не наскочить бы на немцев! Беда, если гитлеровцы заинтересуются грузом. Тогда придется прорываться с боем, поднимется стрельба, фашисты бросятся в погоню. И кто знает, удастся ли добраться до леса. Но пока было спокойно. Патрули, встречавшиеся на улицах, не проявляли интереса к грузовикам. Остановили их только при выезде из города, у шлагбаума. Толстый фельдфебель осветил фонарем кабину передней машины, бросил безразличный взгляд на дядю Юрко, на его карабин, нарукавную повязку. Полицай как полицай, сопровождает машины в ночном рейсе. Документы у водителей в порядке. Грузовики немецкой фирмы «Бендера» едут на деревообрабатывающий комбинат за паркетом.
Не заглядывая в кузова, фельдфебель махнул рукой, пропустил машины.
* * *
...И вот конечный пункт — Цуманский лес. Водители быстро развернули грузовики, чтобы ехать в обратный путь: им во что бы то ни стало надо было до рассвета возвратиться в город, поставить машины в гараж.
Затих шум моторов. Совсем рядом, за высокими соснами, мерно плескалась Горынь. От реки тянуло холодком. Нарушая сонное предутреннее безмолвие леса, под ногами людей громко потрескивали сухие ветки.
Бойцы обступили дядю Юрко. Только теперь каждый из них по-настоящему осознал, что именно отсюда начинаются неизведанные тропы, которые ведут в тревожное будущее. Возврата назад нет. Да никто из них и не хотел оглядываться в прошлое, особенно недавнее, связанное с лагерем.
Они ждали, что скажет в эти первые минуты пребывания в лесу седой человек, всем хорошо знакомый по лагерю, хотя его настоящую фамилию никто еще не знал. Дядя Юрко их командир, и по военной привычке бойцы приготовились выслушать его первый приказ. Теперь они не узники лагеря и не рабочее быдло оккупантов, а партизаны, советские воины, возвращающиеся на поле боя после вынужденного перерыва.
Однако командир ничего не сказал. Сорвав с рукава желто-голубую тряпку, он привычно закинул за плечо карабин и зашагал в глубь леса. Бойцы только что родившегося партизанского отряда двинулись за ним.
Не успели пройти и пятисот метров, как где-то за поворотом лесной дороги, оставленной несколько минут назад, вспыхнул свет автомобильных фар. Свет колебался, пробивался сквозь стену деревьев, бледным сиянием озарял голые безлистые ветки. Партизаны, как по команде, остановились.
— Немцы едут, — прошептал кто-то. — Ей-богу, немцы. Вот бы ударить по ним. Самое время.
В ответ — ни звука. Отряд молчал, как бы ожидая, какое решение примет командир. Седой командир какое-то мгновение оценивал обстановку. Потом отдал короткий приказ:
— К бою!
А свет на дороге становился все ярче. Вот он на миг ослепил припавших к земле партизан, проплыл мимо них. На фоне неба возник силуэт тяжелой машины, загруженной ящиками, на которых, поеживаясь от холодного мартовского ветра, сидели немецкие солдаты. Машину бросало из стороны в сторону.
Грянул залп. Грохот выстрелов прокатился над рекой и ударился о ее крутые берега. Машина, свернув в сторону, с треском врезалась в ствол старого дуба. Фары погасли.
Гул винтовочной стрельбы нарастал с секунды на секунду. Пули продолжали решетить кабину машины, в клочья рвали шины колес. Немцы огрызались короткими очередями из автоматов. Тогда из-за дерева к машине полетела граната. Взрывом снесло капот. Еще один взрыв — и грузовик загорелся. Пламя осветило лес и распластанные на дороге тела гитлеровцев.
Партизаны бросились к пылающему грузовику, чтобы захватить оружие врага, пополнить свой боевой арсенал.
3
Швейцар открыл дверь, низко поклонился, хотел было помочь Крупе снять шинель. Но австриец резко оттолкнул его локтем, выругался и в мокрой, измятой шинели, в шапке, в забрызганных грязью сапогах вошел в ресторан.
Тут его хорошо знали. Навстречу поспешил официант. Крупа не обратил на него внимания и тяжело прошагал через весь зал к буфету. Молча бросил на стойку деньги, не закусывая, выпил стакан водки, безразлично посмотрел на пышнотелую, густонапудренную певичку, поднимавшуюся на помост к оркестру, повернулся и медленно пошел к выходу. На ковре тянулись за ним грязные следы. Сидевшие за столиками офицеры проводили австрийца неприязненно-удивленными взглядами.
У тротуара вплотную одна за другой стояли легковые автомашины. В темноте о чем-то громко спорили немцы-шоферы.
Крупа закурил и поплелся домой. Он устал и был зол. Весь день пришлось шататься по лесу, обдирать колючками руки, месить оттаявшую, напоенную первым весенним дождем землю. И никаких результатов.
Комендант вспомогательной полиции только что вернулся из Клеванского района, из чертовой глухомани, где по ночам воют волки и где невозможно достать стакана порядочной водки. Оперативное подразделение жандармерии, усиленное взводом полиции, выехало туда по тревоге. Из Клевани сообщили, что недалеко от Горыни, в лесу, был обстрелян и сожжен немецкий военный грузовик, убито несколько солдат и унтер-офицер.
Жандармы и полицаи прочесали большой участок леса, но безрезультатно. Партизаны исчезли. Овчарки следа не взяли, потому что утром прошел дождь. Подобрав трупы убитых, валявшиеся возле обугленного остова машины, каратели возвратились в Ровно.
Мокрые полы шинели хлестали по голенищам, сапоги хлюпали. Крупа зло, сквозь зубы матерился. Водка не согрела его, только ударила в голову. Озноб не проходил. Хотелось скорей добраться до дому, залезть под одеяло, заснуть.
Комендант полиции жил в уютной трехкомнатной квартире на втором этаже небольшого особняка, невдалеке от моста через реку Устье, которая лениво несла свои воды, разделяя город почти на две равные половины. Днем австриец дома почти не бывал, чаще всего приходил поздно ночью, а то и совсем на рассвете.
В первом этаже особняка проживал пожилой, но весьма изворотливый делец, открывший неподалеку, на улице Гоголя, собственную аптеку. Зная характер и склонности своего небезопасного соседа, аптекарь и его жена, крашеная блондинка лет тридцати, всячески задабривали и подпаивали Крупу. Иногда приглашали его на чай, но вместо чая обычно ставили на стол бутыль со спиртом. Австриец напивался до того, что часто не в состоянии был подняться к себе наверх. В последнее время он заходил к аптекарю уже без приглашений. Возвращаясь домой, прежде чем идти в свою квартиру, барабанил кулаками в дверь соседа. Перепуганный аптекарь, придерживая кальсоны, гремел засовом, открывал дверь, любезно приглашал пана коменданта к себе в комнаты. Через час-полтора Крупа, смертельно пьяный, плелся на второй этаж.
В этот раз австриец по выработавшейся привычке тоже направился было к аптекарю, но неожиданно раздумал. Вероятно, усталость и выпитая в ресторане натощак водка окончательно доконали его. Посмотрев на темные окна в квартире соседа, он махнул рукой, стал медленно подниматься к себе.
В коридоре щелкнул выключателем. Лампочка не загорелась. Щелкнул еще раз. Результат тот же. Крупа в темноте снял шинель, повесил на гвоздь, прошел в спальню. Тут тоже почему-то не было света. Бормоча проклятия в адрес бургомистра, австриец ощупью, натыкаясь на стулья, добрался до кровати. Снял сапоги, брюки, гимнастерку и швырнул на пол. Оставшись в одном белье, он еще раз подошел к выключателю.
— Не старайтесь, господин Крупа. Я вывернул пробки, — послышался голос из дальнего угла комнаты. Незнакомец говорил по-польски.
Крупа, как ужаленный, отскочил от стены, наступил на сапоги, поскользнулся, ударился об угол орехового серванта. В серванте тонко зазвенели хрустальные бокалы. Комендант полиции белым приведением метнулся к двери, собираясь выскочить в коридор. Тяжелым жилистым телом австриец едва не сбил с ног незнакомца, преградившего ему путь.
— Не спеши, — сказал мужчина и сильным ударом отбросил Крупу назад. — Твой пистолет у меня. Садись. Брюки можешь не надевать, здесь только мужчины.
Попятившись, Крупа тяжело опустился на кровать. Хотел закричать, но из горла вырвался лишь сдавленный хрип.
— Вот что делает с человеком водка, — снова послышался голос из угла комнаты. — А говорят, когда-то вы хорошо владели собой, господин Крупа. Ну зачем кричать? Все равно аптекарь не поможет.
В это время непрошеный гость, отбросивший австрийца от двери, взял со стула его одежду, ощупал карманы. А второй, тот, что говорил по-польски, продолжал из угла:
— Вы уже успокоились, господин Крупа? Способны вести разговор? Слышите, о чем я спрашиваю?
— Я все хорошо слышу, — абсолютно трезвым голосом ответил Крупа. — Какого черта вам нужно? Кто вы такие?
— Сейчас узнаете. Времени у нас маловато, а потому перейдем сразу к делу. Простите за нескромность, но мне хочется знать, как вы представляете себе свою дальнейшую жизнь? Не понимаете? Поясню. Вспомните, сколько прошло времени с тех пор, как вы получили последнюю сотню злотых за услуги, оказанные польской контрразведке...
Кровать под Крупой тревожно заскрипела.
— Снова вскакиваете? Больше выдержки, уважаемый. Так вот. Времени прошло немало. Началась война. Все сдвинулось с места, переместилось, перестроилось. Вы приучили себя к мысли, что полякам уже не до вас, что «двуйка» прекратила свое существование и на вас, как на своего агента, поляки давно махнули рукой. Но, господин Крупа, человеку свойственно ошибаться! Поэтому ответьте мне, что бы вы сделали, если бы к вам внезапно зашли старые хозяева и объявили: ваши каникулы закончились, пора приниматься за работу?
— Капитан Смолинский?! — Крупа резко вскочил на ноги. Из угла донесся тихий смех.
— Вы ошиблись, Крупа. Капитан Смолинский, к сожалению, не смог навестить ваше уютное жилище. Он поручил это мне. Можете называть меня Витольдом, поручником Витольдом... Однако не будем уклоняться от существа дела. Вас следовало бы отругать за то, что злоупотребляете спиртным. Водка может сильно повредить карьере, немцам в конце концов осточертеют ваши ежедневные пьянки, и вы плохо кончите. Не дай вам бог этого, господин Крупа! Нам не хотелось бы терять вас как агента. Разумеется, вы уже не тот, что были когда-то, но положение коменданта полиции в какой-то мере компенсирует отсутствие вашей прошлой энергии. Вы, я надеюсь, еще способны выполнять ответственные задания. Однако к этому мы вернемся потом, А сейчас разберемся в одной неясной истории...
Говоривший на минуту замолчал. В комнате нависла гнетущая тишина. Было слышно лишь тяжелое дыхание Крупы да удары капель воды о раковину в кухне.
— История паршивая, господин комендант полиции, очень паршивая, и может повредить вашей карьере, — снова послышалось из темного угла. Теперь голос говорившего был угрожающе резким. — Один ваш знакомый как-то предостерегал вас от необдуманного шага. Вы хорошо знали, что вас ждет, если с этим человеком случится несчастье, ну, скажем, если его арестуют, выстрелят в него из-за угла. Вам было сказано ясно: есть люди, которые смогут проинформировать гестапо о том, как вы изменили немцам, как стали агентом польской контрразведки. Вот мы и есть те люди, господин Крупа. Для нас вовсе не обязательно решать вашу судьбу с помощью гестапо. Узелок можно развязать немедленно, одним выстрелом, тут же, в вашей квартире. Вы это, надеюсь, прекрасно понимаете. Впрочем, такой исход ни вам, ни нам невыгоден. Поэтому давайте говорить начистоту. Первое, что нам необходимо знать: куда девался Новак?
Крупа понял, что шутить с ним не собираются. Понял он и то, что жизнь его висит на тонкой паутине, которую легко может оборвать любая неожиданность, тем более неискренность. Поэтому он постарался придать своему голосу убедительную твердость:
— Новак арестован СД, а СД, как вы знаете, не отчитывается перед вспомогательной полицией. Я лично тут ни при чем.
— Где содержат арестованного?
— В городской тюрьме.
— Охрана?
— Исключительно немцы.
— Так. Говорите, СД?.. Но кто-то приложил руку к этому аресту. Не вы ли случайно, господин Крупа?
— Повторяю, я непричастен. Донос поступил от Жовтуцкого, бывшего студента, учившегося вместе с Новаком в институте.
— Вам известно, что написал Жовтуцкий в доносе?
— Сам я заявления Жовтуцкого не читал, но кое-что слышал о его содержании. Похоже, что Жовтуцкий вытащил на свет божий давние дела. Написал немцам, что Новак когда-то занимался коммунистической пропагандой и за это отсидел несколько лет в польской тюрьме.
Мужчина, назвавшийся поручником Витольдом, вышел из темного угла комнаты, сел на подоконник. Хотя Крупа не мог в темноте рассмотреть его лица, но на фоне окна австриец видел, что перед ним человек невысокого роста, с узкими, как у подростка плечами, на голове широкополая шляпа.
— Вы, помнится, устроили Новака на работу, господин Крупа?
— Я сказал, чтобы его приняли на фабрику кофе. Потом освободилось место шефа на фабрике валенок, и меня попросили порекомендовать кого-нибудь...
— Понятно. А вас не тревожит то обстоятельство, что теперь немцы предъявят вам счет за эту рекомендацию?
— Уже предъявили, — буркнул австриец.
— То есть?..
— Меня вызывал следователь СД. Вы, может, знаете его? Офицер со шрамом у рта. Я рассказал все, как было. Знаю Новака давно, около десяти лет. В польской тюрьме он сидел, это точно. Бросили его туда за то, что при обыске полицейский обнаружил в кармане у Новака большевистскую листовку. Случилось это в моем присутствии в Гоше. При Советской власти Новак в начальниках не ходил. Был студентом, как и Жовтуцкий. В Красной Армии не служил. Теперь работает на благо Германии, и работает неплохо. У меня нет никаких оснований не доверять ему. Все это я и выложил следователю.
Соскочив с подоконника, человек в шляпе зашагал по комнате. Резко повернувшись к Крупе, спросил:
— А вы хорошо знаете Жовтуцкого? Кто он такой? Что собой представляет?
— Этот вопрос я слышал и в СД. Кто такой Жовтуцкий? Сопливая сволочь, прикидывается интеллигентом, патриотом Украины. Вертится возле оуновских главарей. Когда сюда пришли немцы, стал полицаем. Служит исправно, старается, хотя, как видно, эта карьера не очень его прельщает. По натуре он трус, а служить в полиции, вы знаете, небезопасно. Мне говорили, что Жовтуцкий метил на пост директора фабрики валенок. Кто-то из националистов усиленно пропихивал его на это место, и почти пропихнул, но сорвалось.
— Почему?
— Когда он подал мне рапорт с просьбой уволить из полиции, мотивируя просьбу тем, что его выдвигают на пост директора, я послал его к чертовой матери: людей в полиции и без того не хватает.
— Давно это было?
— В прошлом году.
— Рапорт Жовтуцкого сохранился?
Австриец ответил не сразу. Помолчал. Кашлянул.
— Видите ли, все не так просто, — сказал он после паузы. — С одной стороны, заявление Жовтуцкого на Новака. Такие документы немцы не выбрасывают в корзину. С другой стороны, в гебитскомиссариате не в восторге от ареста директора фабрики, ведь он работал в их системе. Арест Новака — для них горькая пилюля, особенно для Бота. Каждый заботится о собственной шкуре. Меня, к примеру, тоже не тянет подставлять на старости лет под удар свою спину. Поэтому я посчитал самым лучшим отдать рапорт Жовтуцкого в СД. Для полноты картины. При этом я сказал следователю, что, по-моему, тут идет обычная драчка за портфель. Похоже, что и следователь склоняется к тому же выводу. Во всяком случае, рапорт Жовтуцкого заинтересовал его. У шефа гестапо Йоргенса давнишняя дружба с гебитскомиссаром Беером и его заместителем Ботом. Им не захочется портить отношения. Понимаете?
— Понимаю, господин Крупа, — отозвался человек в шляпе. — Я же говорил: вы еще кое на что способны, и если бы не водка, то пошли бы далеко, честное слово!..
И хотя сказано это было не без иронии, австриец воспринял слова человека в шляпе как добрый знак взаимопонимания, решил, что тучи над головой начинают рассеиваться и что эти неожиданно появившиеся люди пришли не для сведения с ним, Францем Крупой, счетов за арест директора фабрики валенок. Он, Крупа, нужен им, нужен живой, а не мертвый. Сделав такой вывод, австриец заговорил непринужденно, как равный с равным, с фамильярностью пожилого добряка:
— В серванте стоит бутылка, господа. Не коньяк, правда, но мозги прочищает. Дернем по стопочке... Нет времени? А куда, собственно, спешить? На тот свет еще успеем... Значит, пане поручник, Крупу на мушку? По морде, пистолетом под ребра?.. Не заслужил я этого, господа, нет! Крупа не подводит хороших людей и умеет держать слово. Вижу, вы мне не верите, а напрасно...
— О чувствах, господин Крупа, потом. Мы еще не закончили деловой разговор. Помните, в прошлом году летом у вас в кабинете хранилась небольшая папка с бумагами? Вам ее передали оуновцы, когда судили Новака. Где эта папка теперь?
— Господа, та писанина не заслуживает никакого внимания, — небрежно, скороговоркой проронил австриец. — В папке было много всяческого вранья. Сами оуновцы признали, что не имеют веских доказательств против Новака...
— Об этом, господин Крупа, позвольте судить нам, Где папка?
Крупа поднялся, хмуро выдавил из себя:
— Позвольте подойти к шкафу. Папка там.
Человек в шляпе глухо засмеялся:
— Не трудитесь, любезный. Папка у меня. Я нашел ее в шкафу час назад, когда мы здесь скучали без вас. Впредь советую не держать на квартире таких документов, это опасно. Если бы мы были сотрудниками гестапо, не дали бы за вашу голову и ломаного гроша. Ну что ж, вы были не очень откровенны с нами и за это заплатите еще одним документом. Вот бумага и ручка. Подойдите к столу, садитесь. Темно, да? Капрал, посветите пану коменданту, — приказал он своему молчаливому напарнику.
Крупа сжался, втянул голову в плечи, но за его спиной не прогремел выстрел, — на столе заплясал желтый круг света от карманного фонарика.
— Писать надо по-польски, — услышал австриец и взял ручку. — Вы готовы? Диктую: «Я, Франц Крупа, получил от поручника Витольда, офицера второго отдела польского генштаба, две тысячи рейхсмарок за очередное донесение, что и удостоверяю». Точка. Обозначьте дату. Можно сегодняшним числом. Распишитесь. Все, господин Крупа. Давайте сюда расписку. Двух тысяч я вам, конечно, не вручу — не такое сейчас время, чтобы бросать деньги на ветер. Вы все равно пропили бы их, А пистолет свой возьмите. Не бойтесь, он разряжен.
Парабеллум австрийца со стуком упал на пол. Фонарик погас. Крупу грубо толкнули к окну.
— Теперь о рапорте Жовтуцкого, — строго сказал поручник. — Был такой рапорт или не было его, правду вы говорили или лгали — это не меняет дела. Запомните: рапорт должен быть и должен попасть к следователю СД. Иначе я пристрелю вас собственной рукой. Никакая охрана не спасет от пули. Посмотрите в окно, Крупа. Вон, видите, во дворе, у дерева стоит человек. Он в любой момент может бросить к вам в окно гранату. Так что не делайте глупостей. Лучше всего вам не выходить из квартиры до утра. Ну а наши дальнейшие взаимоотношения обсудим позже. Надеюсь, еще встретимся с вами, и не раз. А пока не забудьте о рапорте Жовтуцкого...
«Поручник» и «капрал» вышли. Крупа в нижнем белье продолжал стоять у окна. Он слышал, как ночные гости осторожно прикрыли наружную дверь особняка. Потом все стихло.
Они быстрым шагом шли вдоль берега Устье: впереди Иван Луць, за ним, немного отстав, Александр Гуц. Слева струились мутные ручейки, сбегавшие из переулков. Дождь смывал мусор с городских улиц, и теперь вода сносила его в реку. На берегу теснились голые вербы и клены. Сюда спускались прогнившие во многих местах заборы. Тропа змеилась между пнями и кустарником.
Иван первый вошел в стоявший на самом берегу покосившийся сарай с проваленной крышей. Минуту спустя, оглядевшись вокруг, нырнул туда и Александр. Скоро должен был прийти Федор Шкурко, оставленный ими для прикрытия у особняка, в котором жил Крупа.
Шкурко не заставил долго себя ждать. Луць встретил Федора вопросом:
— Ну как он там?
— Порядок. Пока я стоял, не высовывал носа из дому. А у вас что?
— У нас тоже порядок, — спокойно ответил Луць и, попросив у Гуца табаку, не спеша, старательно свернул цигарку.
Сарай, где находились в тот момент подпольщики, был своеобразной явкой, а вернее, заранее условленным местом сбора. Перед посещением квартиры Крупы Иван Иванович инструктировал здесь своих друзей. Теперь сюда же все трое пришли вновь, чтобы подвести итоги.
Во время «дипломатических переговоров» с австрийцем Шкурко нес охрану под окнами особняка, готовый в любую минуту броситься в дом, как только оттуда послышатся звуки выстрелов. Он был уверен, что встреча с комендантом полиции без стрельбы не обойдется. Но, к удивлению и даже разочарованию Шкурко, все закончилось тихо, без шума.
Теперь Федору не терпелось узнать подробности. Но «поручник Витольд» не спешил удовлетворить его любопытство: молча посасывал цигарку. Ничего не говорил и «пан капрал» — Александр Гуц, которого Иван Иванович взял с собой в качестве помощника, зная, что Гуц тоже в совершенстве владеет польским.
— Чего молчите? Рассказывайте, — торопил их Шкурко.
— Мы не молчим, мы дух переводим, — откровенно признался Луць и затоптал окурок. — А теперь... теперь мы знаем главное: в СД известно о Терентии только то, что написал в своем заявлении Жовтуцкий... Крупа, конечно, хитрая бестия. Причастный к назначению Терентия на пост директора фабрики, он понимает, что, если дело арестованного закончится плохо, гитлеровцы схватят за горло и его самого. Потому и гнет австриец свою линию, старается выгородить Терентия. Ничего другого ему не остается. Этому старому псу все еще дорога жизнь... Эх, знал бы Терентий, что причина всему только донос Жовтуцкого, он мог бы легко сориентироваться!..
— Так надо заставить австрийца...
— Ничего из этого не выйдет, — перебил Александр Гуц Федора. — Крупа не такая уж большая птица, чтобы вмешиваться в деятельность СД. Его просто не пустят в камеру к Новаку. Да и как он будет мотивировать свое желание увидеться с арестованным?
— Нельзя и думать, чтобы толкнуть Крупу на такой шаг, — поддержал Гуца Иван Иванович. — Это обязательно вызовет подозрение у немцев. Чрезмерный нажим тут опасен. Всему есть предел. Кое-что мы узнали, что могли, сделали. К сожалению, в квартиру майора Йоргенса не войдешь с помощью отмычки, как к Крупе, и тюремных стен тоже не разрушишь. Придется запастись терпением, ждать и продолжать работу. Арест Терентия Федоровича не должен ослабить деятельности подполья, ни в коем случае не должен... А эти бумаги, — Луць вынул из-за пазухи согнутую пополам папку с доносами оуновцев, — мы немедленно уничтожим.
Иван Иванович разорвал каждую бумажку на мелкие клочки и бросил их в Устье.
4
В те дни, когда друзья предпринимали отчаянные попытки добиться моего освобождения (потом мне об этом подробно рассказал Иван Иванович), ровенская тюрьма оккупантов жила своей обычной, неповторимо страшной жизнью.
Вот в тюремную камеру из коридора доносится тяжелый топот сапог, голоса, смех. Шаги слышатся все отчетливее, приближаются...
— Опять прилетели архангелы, — шепчет Максим Костюрец. — Не по наши ли души?
Я прислушиваюсь. И не только я. Вся камера, вся тюрьма не спит в такие часы, в полночь, когда гитлеровцы приходят за очередными жертвами.
Окованная железом дверь гремит где-то дальше, правее от нас. Немцы уже не смеются. Одновременно со скрипом двери в коридоре вспыхивает ругань. Слышится душераздирающий крик.
— Чего он кричит?.. Чего он кричит?.. — без конца повторяет кто-то, охваченный ужасом, в нашей камере.
— Кричит потому, что бьют, — бросает через плечо Костюрец. — А ты, парень, перестань, без тебя тошно.
— Да нет, погоди... Ну чего он кричит? — тянет свое заключенный.
По коридору кого-то поволокли. Шум и крики удалились, затихли.
В камере все, как по команде, повернулись к зарешеченному окну.
Во дворе, окруженном стенами тюремных корпусов, заработал мотор машины. Голоса немцев и крики заключенных теперь доносятся снизу, со двора, словно из колодца.
И так каждую ночь: либо рокот мотора, либо хлопки выстрелов в конце двора, возле заранее выкопанных ям. И крики, крики, крики...
В зарешеченном окне постепенно редеет серая мгла. Начинает светать. Пронзительно визжат ржавые засовы двери. В полоске света, падающего из коридора, возникает фигура Румке — китель без ремня, пилотка, брюки, заправленные в носки. Румке орет как сумасшедший:
— Вста-а-ать!
Мигом все вскакивают. Все, кроме троих. Эти уже не поднимутся: они умирают от побоев и голода. Даже днем по их запавшим щекам и худым рукам ползают вши.
Несколько взмахов резиновой палки, несколько ударов по головам и спинам, и Румке выбегает из камеры. Шлепая незашнурованными солдатскими бутсами, мчится дальше по коридору. «Вста-а-ать! Вста-а-а-а-а-ать!» — во все горло кричит он, по очереди открывая двери камер.
Этот туповатый гитлеровец каждое утро поднимает своим густым басом левое крыло тюрьмы. Он всячески старается угодить коменданту и его заместителю, выслуживается перед ними, как только может, потому что дела самого Румке плохи. Ефрейтор немецкой армии, он удрал с фронта. Где-то возле Ровно его задержала полевая жандармерия. Теперь дезертир со дня на день ожидает военного суда и... зверствует, выполняя обязанности коридорного надзирателя. Надеется, что за «хорошее поведение» ему смягчат приговор.
Первое знакомство с Румке закончилось для меня неожиданностью. Сразу после ареста и ночного допроса я оказался в камере номер четыре и на рассвете недостаточно быстро поднялся при появлении коридорного надзирателя. Размахивая резиновой палкой, Румке двинулся на меня, заорал:
— Эй ты, паршивая свинья, почему не выполняешь мой приказ? Почему не поднимаешься?
— Как не поднимаюсь? Ведь я стою.
Мой чистый костюм, тогда еще белая рубашка, почти новые ботинки, а особенно мои слова, произнесенные по-немецки, вызвали на квадратном лице Румке что-то похожее на удивление. Смерив меня взглядом, он опустил дубинку и заложил руку за борт грязного мундира.
— Ты знаешь немецкий?
— Немного знаю.
— Гут, пойдешь работать. Эта сволочь, — кивнул он в сторону остальных заключенных, — уже еле дышит.
Ты — свеженький, значит, будешь помогать мне носить воду и колоть дрова.
Подсобные помещения тюрьмы находились на первом этаже. С неделю я скреб, чистил и наполнял водой кухонные котлы, колол и носил к печам дрова, постоянно двигался, дышал свежим воздухом, имел дополнительно две-три чашки баланды и возможность наблюдать за всем, что происходило во дворе.
Как-то во дворе тюрьмы появился молодой офицер СС с плетью в руке.
— Наш комендант, — уважительно сказал Румке, вынул из кармана кусок колбасы (до суда он получал солдатский паек) и лег грудью на подоконник. — У коменданта сегодня гости. Будет концерт.
Офицера сопровождали две молодые немки, тоже в мундирах СС, надзирательницы женского отделения тюрьмы, и гости, несколько человек в штатском.
А тем временем солдаты тюремной охраны прикладами винтовок толкали на середину двора заключенных евреев. Было их человек тридцать, оборванных и окровавленных.
Офицер скомандовал: «Кругом!» Все тридцать повернулись лицом к кирпичной стене. Немки захохотали: лохмотья прикрывали заключенных лишь спереди, сзади сквозь тряпье проглядывали синие, исполосованные плетьми тела с незаживающими язвами.
Надзирательницы продолжали хохотать. Гости в штатском строили брезгливые гримасы. Комендант тюрьмы, видно, решил развеселить и их. По его жесту солдаты быстро вывели из шеренги двух пожилых мужчин. Офицер приказал им плясать вприсядку, а остальным в такт подпевать. Измученные побоями люди начали свой страшный танец. Солдаты подгоняли их палками.
Первым не выдержал и упал седобородый раввин. Солдат охраны вылил на него ведро воды. Старик приподнял голову, что-то сказал, но встать на ноги не смог. Тогда одна из надзирательниц расстегнула маленькую кобуру на ремне. В ее тонких пальцах сверкнул револьвер, слабо треснуло несколько выстрелов. Солдаты подхватили тело старика за ноги, быстро оттащили в глубь двора. Теперь уже смеялись и немцы в штатском.
— Прекратите!.. Прекратите этот танец!.. Дайте спокойно умереть!..
Худой как жердь заключенный, голый до пояса, сел на землю и истерично кричал, раздирая ногтями грудь. Носок офицерского сапога угодил ему в ухо. Изо рта заключенного брызнула кровь. Не вставая с земли, он медленно поднял глаза. Я невольно отшатнулся от окна. Невидящими, полными слез глазами на коменданта тюрьмы смотрел сосед Мальвы Гольберг по гетто, адвокат, тот самый адвокат в черной шляпе, с которым я и Луць разговаривали в прошлом году, накануне трагедии в Сосенках.
Офицер брезгливо обошел адвоката и выстрелил из парабеллума ему в затылок. Худое тело дернулось, склонилось на бок, потом неожиданно выпрямилось, словно подброшенное пружиной. Скользя по камням, адвокат с трудом поднялся и, шатаясь, пошел на своих мучителей. Надзирательницы завизжали. К умирающему человеку, делавшему последние шаги по земле, бросились солдаты. Офицер остановил их спокойным жестом и поднял пистолет еще раз...
Когда я заставил себя снова посмотреть в окно, во дворе уже никого не было. В небольшой луже возле стены поблескивали несколько латунных гильз. От лужи почти через весь двор тянулись две кровавые дорожки. А рядом со мной с безразличным видом, будто ничего не произошло, дожевывал колбасу дезертир Румке...
* * *
«Вста-а-а-ать!» — где-то в дальних камерах гремит бас немца дезертира и тонет в размеренном шарканье множества ног. Заключенные строятся в коридоре в шеренгу по двое и с глухим топотом спускаются по каменным ступеням лестницы вниз, чтобы минуту спустя серым потоком выплеснуться во двор тюрьмы. Там, внизу, каждый получает по нескольку ложек черного вонючего пойла.
Так начинается день в тюрьме, но не во всех камерах. У нас в двадцать третьей, куда меня перевели месяц назад, день начинается по-иному. Утром дверь приоткрывается лишь настолько, сколько требуется тому же Румке, чтобы объявить о подъеме. Потом нам приносят баланду. Прогулки отменены. На работу никого не посылают. Круглые сутки находимся в четырех стенах. Никаких передач от родных и знакомых администрация тюрьмы для заключенных камеры номер двадцать три не принимает. Все брошенные в эту камеру считаются как бы заживо похороненными, вычеркнутыми из жизни. Это камера смертников.
Трое моих соседей медленно умирают. Юноша лет девятнадцати, кажется ровенчанин, на глазах угасает, как свеча. Смерть неумолимо подкрадывается и к бородатому мужчине в красноармейской гимнастерке, вероятно из военнопленных. Юноша и пленный, скорчившись, неподвижно лежат у стены. Даже Румке оставил их в покое. И баланды им не приносит. Мы с Костюрцом отливаем умирающим понемногу тюремной юшки из своих мисок. Но они отказываются от еды. Третий — поляк, похоже офицер, хотя от его суконного мундира остались лишь пропитанные кровью лохмотья. Поляк ранен в живот и голову. Голова обвязана грязной тряпкой. Он не может разговаривать и лишь тоскливо водит глазами, когда хочет пить, и болезненно, глухо стонет.
Трое умирающих, Максим Костюрец и я все время остаемся постоянными обитателями камеры. Другие меняются ежедневно.
Костюрец уже в годах — голова его совсем седая. Иногда я часами наблюдаю за ним, невольно любуюсь его твердым, грубоватым лицом, от которого веет непреоборимой силой. У Максима стальная выдержка, крепкие нервы и огрубевшие руки хлебороба. Таким я знал его раньше, таким же увидел и здесь, в фашистской тюрьме, хотя прошел он через сущий ад, и тяжкому пути его не видно было конца.
Максим Костюрец, как и я, из Гощанского района. Мы знакомы давно. Не раз встречались в селе Синев, где жил Костюрец со своей семьей в старой, построенной дедом хате. Он был одним из тех на Волыни, кто издавна всеми корнями врос в землю, политую потом. И всем сердцем любил ее. Межи, разделявшие узкие полоски земли, не сковали сознания таких людей, как мой старый друг, не затянули тиной их мысли и души.
Он пришел в партию без колебаний и стал ее рядовым тружеником. Получая задание, без разговоров закладывал в повозку лошадь и развозил по дальним хуторам листовки; ходил по селам от хаты к хате и терпеливо рассказывал землякам, кто такие революционеры, за что они страдают и сидят в тюрьмах. Не раз крестьянки, слушавшие его беседы, вытирали украдкой заплаканные глаза, вынимали из-за икон припрятанные на черный день злоты, чтобы поделиться ими с людьми, что пекутся о бедных. Водил Костюрец связных на партийные явки, прятал у себя друзей коммунистов, ходил в город за нелегальной литературой...
Когда Ровенщину оккупировали гитлеровцы, банда оуновцев стала охотиться за Костюрцом. Ему не раз удавалось исчезать, но как-то ночью Максима схватили. Раскидав бандитов, он вырвал у одного из них обрез, послал в ствол патрон, но выстрелить не успел — ударили чем-то тяжелым по голове, потерявшему сознание скрутили проволокой руки.
Полтора месяца мордовали бандеровцы Костюрца в кирпичном подвале: топтали ногами, жгли огнем. «Кого знаешь из коммунистов? Где прячутся? Говори!»
Максим неизменно отвечал бандитам: «Никого и ничего не знаю. Все забыл. Катитесь, сволочи, к такой-сякой матери!»
Бессильные что-либо выпытать у Костюрца, оуновцы передали его немцам в СД.
В годы пилсудчины Максима тоже часто таскали по полицейским участкам. Не раз присуждали к тюремному заключению. Все ступени испытаний, неминуемых для коммуниста в Речи Посполитой, прошел тогда Максим Костюрец. Теперь на его долю выпало перешагнуть еще одну ступень — гитлеровскую тюрьму. Он знал, как вести себя. На допросах твердо говорил: «Никаких коммунистов не знаю, в партии не состоял, все это клевета».
— Знаешь, как у них, у этих гадюк из СД? — шептал мне Максим, примостившись рядом на цементном полу, в первую же ночь, когда меня перевели в камеру номер двадцать три. — Арифметика у них простая и раскусить ее нетрудно. Сначала мягко стелют: признавайся, мол, все равно знаем о тебе все; признаешься — отпустим. Некоторые, глядишь, и заколебались. Бывает, ловят гитлеровцы простаков на эту приманку. А как только пошатнется человек, признается хоть на крошку — смерть. Но мы кое-что уже видели. Нас дешево не купишь! Пусть хоть кожу с меня сдерут, буду стоять на своем. Оуновцы из меня сок давили — не выдавили, эти тоже оближутся. Главное — ни в чем не сознаваться. Ни в коем случае не сознаваться...
Я понял, Максим подсказывал мне, как держаться на допросах.
Но меня почему-то не вызывали на допросы. Со дня ареста фашисты будто утратили ко мне всякий интерес. Я часто думал: видно, напрасны были мои усилия отвести удар следователей СД; никакой проверки немцы не собираются проводить; тщательно продуманная мною версия ровным счетом ничего не дает; для гитлеровской службы безопасности я уже превратился в безыменного заключенного, и этим на моем деле поставлена точка.
* * *
Уже почти час со двора доносятся крики немцев, лай овчарок, глухой гул.
Костюрец подошел к стене, где сквозь запыленное, зарешеченное окно едва пробивался дневной свет. Поманил меня рукой:
— Подсади-ка.
Я подставил плечо и зашатался под небольшой сравнительно тяжестью худого тела Максима. Силенок и у меня осталось немного. Ухватившись за металлические прутья, Костюрец смотрел в окно.
— Чего они там орут? — спросил я.
Максим спрыгнул на пол, негромко сказал:
— Опять, гады, евреев мордуют. Разделили на две группы. Одни бедняги на корточках ползают по двору и кирпичом пытаются натирать мостовую, а другие поливают их водой. Любимое развлечение коменданта... На дворе уже лето, братцы. Ярко светит солнышко, а с юга тучи надвигаются, наверное, дождь будет, — неожиданно добавляет он.
Потом мы с Максимом расстилаем свои пиджаки и ложимся, как всегда, рядом. В камере нет даже соломы, от голого цементного пола тянет холодом. Вспоминаем Гощу, общих знакомых, прошлые встречи, переносимся в воспоминаниях на несколько лет назад, чтобы хоть ненадолго забыть о том, что нас окружает.
— А ты никогда не думал о побеге? — тихо спрашиваю Костюрца.
— Отсюда не убежишь, — качает он головой. — Вон тот парень пробовал, — Максим глазами показывает на поляка. — Сидел он раньше где-то на первом этаже, вместе с другими выходил во двор за баландой. Во время прогулки пробовал бежать. Получил две пули. Потом швырнули его сюда, как мешок. Вот тебе и побег...
Нестерпимо зудит тело: вши кишат в нашей одежде. Ноют суставы рук и ног. Кружится голова. В камере душно. В воздухе постоянно висит густая седая мгла, от которой слезятся глаза...
Серой нитью тянутся дни.
Меня тревожит мысль о друзьях. Как они там, Иван Иванович, Настка, Поплавский, Жарская, Шкурко?.. Может, после моего ареста нависла беда и над ними? А может, СД уже схватила их, и гитлеровцы плетут свою хитрую игру, не вызывая меня на допрос?
Эх, если бы узнать... Если бы хоть слово услышать о том, что творится там, где уже наступило лето, где продолжаются жизнь и дела, от которых я оторван, может быть, навсегда!..
Но может, случиться... Застрочит пулемет, забегает, засуетится тюремная стража. Ворвутся в тюрьму смелые люди с гранатами в руках, сорвут запоры, настежь распахнут двери камер... Нет, такое бывает только в кино. А в жизни? В жизни — параша в углу и вши на умирающих, эсэсовские «концерты» и кровавые следы расстрелянных на вымощенном камнем дворе, люди-привидения, натирающие кирпичами мостовую, и черви на ранах заключенного поляка, холодящий сердце страх от ночных шагов в коридоре и глухие ко всему каменные стены.
Вот снова слышится топот ног; По коридору кого-то волокут. Остановились... Остановились возле нашей камеры.
В приоткрытую дверь гитлеровцы вталкивают одного за другим несколько молодых парней, почти подростков, одетых в полотняные рубахи, свитки из домотканого сукна. Пареньки испуганно жмутся к стенке, размазывают по лицам кровь, поглядывают на нас, как затравленные зверьки.
— Что, сынки, не посчастливилось? — поднимается навстречу им Костюрец. — А вы располагайтесь, садитесь, на чем стоите, кресел тут нет. Привыкайте и не бойтесь. Мы тоже вначале боялись, а теперь вроде бы и ничего, притерпелись, прижились... Побили вас, видно? Это для науки, чтобы больше не попадались. Все пройдет, все будет хорошо. Садитесь. За что вас сюда?
Ребята молчат.
Несколько дней утешает их Костюрец, подбадривает, ведет тихие беседы то с одним, то с другим. И все больше суровеет его лицо.
Ребят арестовали недавно. Кто-то донес, что они комсомольцы, вступили в комсомол перед войной, в школе. Все село знает об этом. Разве ж будешь возражать? На допросе они и не отрицали, что состоят в комсомоле.
Ночью Костюрец долго ворочался на полу, потом повернулся ко мне, прошептал:
— Расстреляют ребят... Эх, дети, наши дети!.. Погибнут хлопцы, а им бы еще жить да жить!
Комсомольцы находились в камере номер двадцать три несколько дней. Потом как-то поздно ночью их увели. Во дворе прогремели автоматные очереди...
* * *
По утрам уже не слышно сумасшедшего баса Румке: расстреляли и его как дезертира. Новый надзиратель, плюгавый заика с нацистским значком на коричневом мундире, впервые открыв дверь камеры номер двадцать три, осмотрел нас бесцветными глазками, поджал губы и заговорил натужно, словно из него силой вырывали слова:
— Руу...с, скоро буу...дет каа...рашо. Скоро больше...вик каа...пут. Вас — пух, пух, и вы тоо...же каа...пут.
— Аминь! — буркнул Костюрец. — По-моему, у него уже полные штаны.
— Что тт...и скаа...заль? — оскалился фашист и, не получив ответа, погрозил нам сухим кулачком, закрывая за собой дверь.
— Гнида гнидой, а туда же: пух, пух, — сплюнул Костюрец.
Но угроза «гниды» начала сбываться. Гитлеровцы стали расстреливать заключенных с какой-то лихорадочной поспешностью. Людей выгоняли из камер уже не только по ночам. Обитые железом двери скрипели почти без перерыва в течение суток. Заключенных выводили теперь группами. И все время во дворе гудели моторы, не умолкала стрельба.
Из окна было видно, как эсэсовцы загоняли заключенных в тяжелые, наглухо закрытые грузовики. Пока машины совершали очередной рейс, всех, кого в это время выводили вниз, плотным кольцом окружали охранники, гнали в конец двора.
Машины курсировали с утра до позднего вечера. Фашисты и не скрывали, куда и для какой цели вывозят заключенных. В тюрьме уже все знали, что грузовики совершают рейсы за город к карьерам в урочище Выдумка. Там осуществлялись массовые расстрелы. Трупы расстрелянных палачи обливали смолой и сжигали на специально построенном металлическом настиле.
...В камере номер двадцать три последнее время нас было тридцать шесть. Утром оставалось семеро. Днем увезли еще пятерых. Теперь нас двое: Максим и я.
В замке заскрежетал ключ. Мне показалось, что тюрьма вдруг застыла в могильной тишине. Растаяли, исчезли выстрелы, крики, шум моторов.
— Ну, Терентий, настал наш черед, — сказал Костюрец, поднимаясь с пола.
— Прощай, Максим!
— Прощай!
В проеме двери, расставив тонкие ноги, стоял офицер в темных очках. За ним, в коридоре еще трое. На рукавах у каждого ромбы с вышитыми буквами «СД». Офицер заглянул в бумажку, запинаясь, прочитал:
— Ньо-вак!
Я вышел вперед. Переступил порог камеры, оглянулся. Костюрец кивнул мне седой головой.
Часть третья
Выходцы с того света
1
Прямо перед глазами в траве снуют муравьи. Они щекочут лоб, нос, сползают на подбородок. Но я не шевелюсь, не смахиваю их, лишь блаженно, с наслаждением жмурюсь, чувствуя под щекой теплую, нагретую солнцем мягкую землю, взрыхленную муравьиным племенем. Земля пахнет душистыми травами, слегка парит, и от этого аромата, от слепящего дневного света, от золотистых солнечных лучей, насквозь пронизывающих листву, от глубокой синевы раскинувшегося над городом неба пьяно шумит в голове. Кровь стучит в висках, а легкие до боли переполнены живительным воздухом.
Я лежу в кустах, в глухом уголке парка Шевченко, раскинув руки и прижимаясь грудью и щекой к земле. Лежу долго, не шевелюсь. Кажется, достаточно сделать движение, и исчезнет все, что есть: день, солнце, небесная синь, деревья, земля — все растает, как мираж...
* * *
«Ньо-вак! Ньо-вак! Ньо-вак!..»
Этот хриплый голос, раздавшийся с порога камеры, все время стоит в ушах. И еще — гулко, размеренно стучат подкованные сапоги по серому цементу тюремного коридора. Стук сапог постепенно нарастает, как гром, ударяет в голову, мешает дышать... Так продолжается минуту... пять минут... десять... А может, меня ведут уже несколько часов? Может, прошла целая вечность?
Время, кажется, остановилось. Слышен только стук немецких сапог.
Потом неожиданно тишина.
В глаза ударил дневной свет. Я пошатнулся. Гул шагов сразу будто растворился в легком ветре, в кипах снежно-белых облаков. Я вижу, как те трое, что конвоировали меня по коридору, не спеша удаляются назад.
Во дворе тюрьмы, возле тяжелых ворот, сбились в кучку несколько мужчин и женщин в изодранной, грязной одежде. Их серые, изможденные лица ничего не выражают. Только у каждого тревожно блестят глаза. Люди молчат. Я присоединяюсь к этой небольшой группе и сразу же ощущаю плечом нервную дрожь чьего-то горячего тела.
Молодой, прилизанный и начищенный немец с погонами капитана, но без нашивок СД на рукаве, офицер тюремной стражи, выкрикивает незнакомые фамилии. Кто-то из моих соседей каждый раз вздрагивает, молча выходит вперед. Но вот я опять слышу: «Ньо-вак!»
Почти механически делаю шаг по направлению к немцу. Не глядя на меня, он протягивает какую-то бумажку и тут же выкрикивает новую фамилию. Последняя из нашей группы, пожилая, седая женщина становится рядом со мной, прижимая к груди небольшой узелок.
— Немецкая власть — справедливая власть, — словно издалека доносится голос прилизанного капитана. — Если ты не делаль вред немецкой армия и закон, ты всегда возвращайся до матка, детка, до своей семья...
Со скрежетом и лязгом распахиваются тюремные ворота. За ними не видно ни гитлеровцев в касках, ни овчарок. За ними — пусто... А дальше — улица, зеленеют деревья, не спеша шагают прохожие, по мостовой громыхает возок, усатый дядька в расстегнутой полотняной рубашке беззаботно помахивает кнутом. Там — свобода!
Отталкивая друг друга, мы бросаемся в раскрытую пасть ворот. Вслед нам не гремят выстрелы. Слышно лишь, как позади хохочет немецкий капитан и вторит ему солдат-часовой...
* * *
Я лежу под кустом сирени, а в ушах все еще стоят нестихающие рыдания, крики, стоны истязаемых, вопли и проклятия людей, которых расстреливают во дворе тюрьмы, пытают в камерах, избивают в коридорах. Мне по-прежнему слышатся рев моторов грузовых машин, до отказа набитых заключенными-смертниками, злобные крики эсэсовцев, лай собак, сухие хлопки пистолетных выстрелов. Эта какофония звуков безумствует где-то рядом, хотя я хорошо знаю, что в парке совсем тихо. Это мой до предела измученный мозг выталкивает наружу картины пережитого. Мозг не в состоянии ни приглушить их, ни задержать в сокровенных уголках памяти. Вокруг шелестят деревья парка, а сквозь спокойный шепот листвы сознание, помимо воли, воскрешает события, которыми были заполнены многие месяцы моей жизни: трудная дорога в Ровно с заданием партии; встречи с друзьями и врагами, первые шаги подполья, фабрика валенок, ночной арест; допрос, поединок со следователями СД...
Чем же все-таки вызвано мое неожиданное освобождение из фашистского застенка? Моей победой в психологическом поединке с представителями имперской службы безопасности? А может быть, заранее подготовленным трюком СД, в котором мне отводится незавидная роль освобожденной из тюрьмы, но оставшейся в поле зрения тайных фашистских агентов своеобразной приманки?
В те минуты не хотелось напрягать нервы. Мозг сопротивлялся навязчивым мыслям. Все мое существо требовало отдыха, хотя бы кратковременного покоя. Не было сил оторваться от пахучей и теплой земли, поднять ослабевшее, измученное голодом тело. Но мысли властно наступали, неумолимо стучала в сердце тревога.
Я заставил себя подняться с земли. Провел ладонями по заросшим немытым щекам. Оглядел свой засаленный, измятый костюм: даже здесь, на свежем воздухе, от него несло смрадом тюремной камеры. Ботинки порваны, левый подвязан проволокой. Вышитая, некогда белая рубашка липнет к плечам черной пропотевшей тряпкой. Брюки так залоснились, что поскрипывают при каждом движении. Нечего сказать, живописный вид для директора фабрики!..
На улицах люди шарахаются от меня, смотрят вслед удивленно и сочувственно.
Пока добирался до квартиры, меня несколько раз останавливали полицейские патрули. Я молча засовывал руку в карман, вытаскивал бумажку, полученную два часа назад у выхода из тюрьмы. В ней было написано, что я освобожден из-под ареста и что имею право возвратиться на прежнее место работы. Печать с немецким орлом делала свое дело — полицаи подозрительно мерили меня взглядами, но не задерживали.
* * *
Ворота фабрики валенок, гребешков и щеток были закрыты. Из-за высокого забора доносился шум двигателя, лязг железа, слышались голоса людей. Дорожка перед воротами старательно утрамбована, засыпана щебнем. Починенный забор пестреет заплатками из недавно прибитых досок.
«Работа Луця! Это, вероятно, он продолжает наводить внешний лоск».
Сколько раз вспоминал я в тот день Ивана Ивановича! У ворот фабрики скова подумал о нем, и от тревожных мыслей, от волнения у меня перехватило дыхание: «Жив ли Луць? Работает ли он по-прежнему на фабрике? А может, до него тоже дотянулась рука гестапо или СД? Может, давно нет в цехах и других моих товарищей?»
Я ничего не знал о них с той самой ночи, когда очутился в легковой машине имперской службы безопасности, зажатый между немцем офицером и полицаем. Одного меня тогда схватили, или и других подпольщиков постигла такая же участь?..
Первым встретил меня возле проходной наш сторож Михал. Не иначе как я показался ему мертвецом, поднявшимся из могилы. Сторож побледнел и с минуту смотрел на меня с раскрытым ртом, не веря своим глазам.
— Матка боска!.. Пан директор!.. Откуда?! Да сам пан бог не узнал бы вас... Глядеть страшно. Вы уж извините... пан директор. Никак не пойму, вы это или кто другой?..
— Эх, пан Михал. Сам удивляюсь. Но кажется, это все-таки я. Не ждали? Может, уже и на фабрику не пустите?
— Как можно, пане директор? Благодаря богу, вы живы, а у нас здесь чего только не болтали! Да люди всегда так: ничего толком не ведают, а языками знай себе чешут. Да что же я, проше пане, не гневайтесь, я сейчас, одну минуту...
Михал забежал в проходную. Тот, кто управлял теперь фабрикой, как видно не только посыпал песком дорожки и заботился о починке забора. Через полураскрытую дверь мне было видно: поляк несколько раз торопливо нажал на какую-то кнопку, вмонтированную в стену возле топчана.
Сигнализация действовала безотказно. Не успел я пройти к внутренней двери проходной, как из конторы выбежал невысокий худощавый мужчина, одетый в мешковатый серый костюм. Увидев меня, он на миг остановился, потом бросился навстречу, размахивая зажатой в руке черной шляпой.
Это был Иван Иванович Луць.
Мы встретились и обнялись посреди двора. Тонкие, но сильные руки друга крепко сжали мои плечи. Взволнованный, бледный, Иван Иванович словно забыл об осторожности. Впрочем, в данном случае осторожничать не было смысла. Хотя я несколько месяцев находился в тюрьме, но все еще оставался директором фабрики, никто не лишал меня этого поста, а пан главный бухгалтер Луць, всем известно, был моей правой рукой на предприятии. Его поведение можно было истолковать, как проявление преданности шефу.
Я с облегчением вздохнул, услышав от Ивана Ивановича, что все наши друзья пока в безопасности. Лейтенант Виталий Поплавский, как и прежде, работает главным инженером центрального бюро по вопросам промышленного производства при гебитскомиссариате. Наш «главный интендант» белоруска Мария Жарская трудится в одном из цехов фабрики. Иван Талан, Михаил Анохин и другие военнопленные тоже работают на предприятии. Бывшему заместителю председателя Клеванского райисполкома Александру Гуцу подпольщики помогли устроиться рабочим на Ровенский склад утильсырья. Руководитель разведки подпольной организации Федор Шкурко, жена Луця Настка Кудеша, член подпольного центра Прокоп Кульбенко, бывший секретарь Ровенского горкома комсомола Федор Кравчук, Иван Кутковец, Ольга Солимчук — все на своих местах, все продолжают начатое дело. Кроме меня, никого из подпольщиков гитлеровцы не арестовывали. Однако за время моего отсутствия произошло много важных событий...
* * *
Мы с Луцем сидим в директорском кабинете. Тут ничего не изменилось, все осталось так, как было еще зимой, когда я вечером вышел отсюда, не зная, что утром уже не вернусь обратно.
По распоряжению гебитскомиссариата обязанности директора фабрики временно исполнял Иван Иванович. Нового директора так и не прислали. Даже Виталию Поплавскому с его связями в гебитскомиссариате не удалось выяснить, какие соображения по этому поводу имел шеф промышленного отдела Бот. Сначала метил занять освободившееся директорское кресло старый петлюровец Шарапановский, но его потуги не увенчались успехом. Вероятнее всего, Бот выжидал, как решится моя судьба. Ведь мой арест в какой-то мере затрагивал и его. Арестовали человека, который принадлежал к его, Бота, кадрам. С этим шутить нельзя.
Мне не терпелось как можно больше узнать о наших товарищах, об их подпольной работе за месяцы моего отсутствия, о важных событиях, на которые намекнул Луць в первые минуты встречи во дворе фабрики. Ему тоже хотелось подробно разузнать, что послужило причиной моего ареста, каким образом мне удалось вырваться из фашистской тюрьмы, откуда мало кто возвращается. Но поговорить нам не давали. Несколько раз в приоткрытую дверь заглядывала секретарша Нина, скороговоркой бросала Луцю: «Вас спрашивают, пан бухгалтер!» — и быстро исчезала, будто стыдясь меня. На пороге топтались рабочие, то и дело заглядывали в кабинет сотрудники канцелярии. Каждый имел какое-то «неотложное дело» к Луцю, и каждый делал вид, что очень удивлен, увидев в кабинете меня, хотя все, собственно, и заходили только затем, чтобы убедиться, правду ли говорят в цехах, что директор вернулся из тюрьмы, точно воскрес из мертвых.
Весть о моем неожиданном возвращении на фабрику быстро облетела не только цеха. Каким-то образом об этом узнал (возможно, даже раньше других) и заместитель гебитскомиссара Бот. На фабрику прикатил на велосипеде посыльный: мне было приказано немедленно прибыть к шефу промышленного отдела.
Я колебался: идти или не идти? Понимал, конечно, что ослушаться, не выполнить приказания Бота нельзя. Но даже теперь, спустя много лет, я не уверен, что пошел бы к нему, не будь тогда рядом Ивана Ивановича.
Луць ничего не говорил мне, не убеждал, не успокаивал и не давал советов. Он лишь смотрел на меня выжидающе. И в пристальном взгляде его серых глаз я как бы читал: «Натерпелся лиха? Знаю. Но сравни пережитое тобою со страданиями тысяч людей. На тебя свалился лишь небольшой осколок той черной каменной глыбы, что душит, прижимает наш народ на этой земле, где хозяйничают фашистские оккупанты. Ты колеблешься? Вижу. Но колеблешься не из-за страха, что снова попадешь в лапы гитлеровцев. Бот не гестапо, и тех, кого немцы собираются схватить за горло, они не вызывают через посыльных. Ты колеблешься потому, что тебя просто тошнит от одной мысли, что снова придется надевать маску угодливости, прикидываться этаким кротким исполнителем приказов, предупредительно вскакивать при появлении тех, в чьи самодовольные морды предпочел бы разрядить пистолет... Тебя вызывает Бот — правая рука гебитскомиссара Вернера Беера. О тех, кто им уже не нужен, они не вспоминают. Значит, ты нужен Боту. А это хорошо для нашего дела... Тебе необходимо идти. Так нужно!»
Я машинально свернул толстую цигарку, еще несколько минут посидел рядом с Иваном Ивановичем, потом встал, решительно шагнул к двери...
Спускаясь с пригорка к мосту, оглянулся. Возле проходной стояли, провожая меня взглядами, Луць, Михал, чуть в глубине виднелась неясная женская фигура. Издали трудно было узнать, но мне показалось, что позади Луця и Михала стояла Нина. А может, мне лишь показалось, что то была она.
* * *
По выражению лица Бота, сидевшего за большим столом, я сразу понял, что он доволен моим освобождением. Он даже слегка улыбнулся, чего раньше за ним не замечалось. Всегда, когда мне приходилось видеть Бота, он оставался каменным и непроницаемым: с подчеркнутым презрением смотрел и на подчиненных по отделу, и на шефов ровенских предприятий, и даже на своих наиболее приближенных холуев-националистов вроде Смияка и братьев Дзиваков.
Теперь же глаза гитлеровца, с набухшими синеватыми мешками под ними, были слегка прищурены; они уставились на меня почти сочувствующе.
— Садитесь, — кивнул Бот на стул. — Говорят, вы попали было в переплет. Как вы смотрите на всю эту историю, что произошла с вами?
— Смотрю, господин Бот, просто — война. Вот и вся история, — ответил я, снова, уже в который раз за день, вынимая бумажку с печатью, выданную мне тюремщиками. Но немец даже не взглянул на нее, отстранил мою руку, давая понять, что ему все известно.
— Война, говорите? — протянул Бот. — Да, во время войны всякое случается. Однако даже подобные недоразумения человеку на пользу. Они закаляют дух. Вот и вы теперь еще больше будете ценить оказанное вам доверие, потому что еще раз убедились в высокой гуманности представителей германских властей. Я уверен в этом.
— Вы правильно говорите, господин Бот. Какие могут быть у меня претензии к немецкой службе безопасности. Там занимаются своим делом, это понятно каждому. Лишь одно поразило меня, господин Бот.
— Что именно?
— Поведение моих земляков. Хотел бы я знать, какая сволочь возвела на меня поклеп?.. Видно, кому-то очень хотелось прорваться на мое место, на директорскую должность. Иначе я не могу объяснить всего, что произошло.
Заместитель гебитскомиссара охотно, но с неожиданным поворотом, поддержал разговор в этом направлении.
— У ваших земляков многое осталось от варваров, — заговорил он, по-ораторски повышая голос, словно выступал перед многочисленными слушателями. — Уровень их культуры близок к нулю. Резко выражена тенденция к самоуничтожению. Психологическая неполноценность. Здесь, на Востоке, фюрер возложил на нас нелегкую обязанность — подтягивать население до степени простейшего сознания, чтобы каждый из туземцев без размышлений выполнял наши приказы, подчинялся нашей силе и работал на великую Германию. Те, кто способны подняться до такой элементарной стадии умственного развития, будут получать необходимый минимум, который обеспечит им существование. Отдельные индивидуумы, развитые лучше, чем вся масса, по той простой причине, что в их жилах течет славянская кровь с определенной качественной примесью более благородной крови, станут нашими помощниками в утверждении нового порядка на территории, отвоеванной нами у потомков варваров. В этом случае тенденция к самоуничтожению, которая так укоренилась в характере ваших единоплеменников, не помешает, а, наоборот, будет способствовать нашей цели...
Он провозглашал свою «философскую» тираду с таким серьезным видом, что я вначале даже растерялся: уж не шутит ли Бот? Нет, он вовсе не шутил. И трудно было поверить, что передо мной сидит психически нормальный человек, который умеет читать, писать, имеет инженерное образование, занимает в своем кругу довольно заметное положение. Ведь заместитель гебитскомиссара не забитый муштрой солдат, нашпигованный геббельсовской пропагандой, мозг которого приучили только тупо покоряться чужой воле. Бот распоряжался другими, он принадлежал к числу фашистских бонз, которые формировали сознание своих подчиненных, вершили судьбы тысяч людей.
Бот был первым оккупантом-нацистом, от которого мне пришлось услышать не только окрики, ругань и приказы, но и в какой-то степени узнать его мысли, познакомиться с его «мировоззрением», с его философским кредо. Столкнувшись внезапно с обнаженным мышлением этого представителя фашистского военно-чиновничьего аппарата, я вдруг вспомнил прочитанный еще в юности мрачный фантастический роман. Бездушные чудовища, полуавтоматы, почти сросшиеся с металлом, расползлись по земле. Тупо, безжалостно сеют они повсюду черную смерть и ужас, бессмысленно уничтожают все живое вокруг...
Мне стало не по себе. На мгновение почудилось, что за стенами этого кабинета, там, где светит солнце и голубеет небо, в самом деле всюду рыщут, набрасываются на женщин, детей, стариков полулюди-полуавтоматы, выплеснутые на нашу землю из зловещего мрака иных миров. И один из них сидит передо мной в образе и плоти человека.
— ...До недовольства своими земляками вы дошли чисто интуитивно, — продолжал заместитель гебитскомиссара. — Но вам надо знать больше. Мы вынуждены заполнять пробелы в умах наших помощников. Так вот, слушайте. В городе еще есть большевистские преступные элементы, которые вследствие своей недоразвитости пытаются противодействовать нашим порядкам. Стремление к самоуничтожению проявляется у таких типов особенно резко. Они готовы любыми способами ликвидировать себе подобных, если только те поняли, что служить нам — это самый лучший, самый выгодный путь. Они, эти фанатики, плели сеть и вокруг вас, Новак. Но! — Бот смотрел на меня не моргая. — Но мы умеем делать разумные выводы, господин директор, будьте уверены... При этом, естественно, не обходится без проверки. Вот тут и вступают в свою роль гестапо, СД. Как видите, дело не только в том, что кто-то польстился на вашу должность. Вы поняли?
— Да, господин Бот.
— Передайте мое распоряжение в бухгалтерию фабрики. За время вашего... отсутствия на предприятии вам выплатят заработок полностью. — Он дал мне заранее подготовленную бумагу. — Уверен, что вам не помешает кратковременный отпуск. Даю четыре дня. Приведете себя в порядок, отдохнете — и за работу.
У меня мелькнула было мысль сделать красивый жест — отказаться от отпуска. Но, черт его знает, как отнесся бы немец к такому слишком уж верноподданническому заявлению. Чтобы не переборщить, решил принять «дар» из рук Бота, как должное, попросил лишь перенести отпуск на более поздний срок. Поскольку господин заместитель гебитскомиссара снова доверяет мне предприятие, с моей стороны было бы просто неблагодарно терять драгоценное время. Как директор, я обязан сначала заняться фабрикой, выяснить, как идет работа, в каком состоянии находится производство. Ведь господин Бот сам знает: отвернешься на минуту, и рабочие прохлаждаются, а меня не было в цехах несколько месяцев...
Мои соображения пришлись немцу по душе. Он милостиво коснулся моего плеча линейкой, которую вертел в руках, и удовлетворенно сказал:
— Да. Работа — прежде всего. В отпуск можете идти через неделю. Главный инженер промышленного отдела Поплавский, вы его знаете, докладывал мне, что без вас все дела на фабрике вел главный бухгалтер, и будто бы неплохо. Но я понимаю, вам самому не терпится узнать, что там и как. Вы любите порядок. Это похвально.
Я скромно опустил глаза.
— У вас есть еще вопросы? — спросил Бот.
— Лишь один, господин заместитель гебитскомиссара. Как с сырьем? Я не утерпел, из тюрьмы поспешил прямо на фабрику. Там мне сказали, что с сырьем все еще трудно. Зимой вы обещали доставить шерсть из Германии...
Бот не дал мне договорить.
— У вас неплохая память, — резко отрубил он. — И кажется, вы думаете, что мы бросаем слова на ветер. Не советую так думать.
— Я хотел лишь узнать о сырье. Придет время, с меня спросят: где продукция...
Но немец уже не слушал. Он снова стал тем неприступным, холодно-непроницаемым заместителем гебитскомиссара Ботом, каким я привык его видеть прежде. Не иначе мое напоминание об обещанной шерсти задело его за живое. Однако уже через несколько минут я понял, что ошибся. Нет, не ущемленное самолюбие испортило Боту настроение. Все было гораздо сложнее.
Он заговорил совсем другим тоном. Резкие, отрывистые фразы звучали теперь, как команды. Украинский директор немецкой фабрики валенок в Ровно, вероятно, считает, что в гебитскомиссариате сидят слепые? Что они ничего не замечают? Ничего не смыслят в экономике? Так пусть директор знает: им все хорошо известно. В гебитскомиссариате прекрасно знают, что здесь, на месте, сырья нет, вернее, его невозможно достать, и что фабрика валенок пока не приносит Германии ни малейшей пользы. Такую захудалую фабричонку давно можно было закрыть, рабочих, а вместе с ними директора отправить куда-нибудь на шахты Рурского бассейна... Фабрика кофе, например, выпускает продукцию, которая идет на нужды армии. Фабрика чурок тоже работает для победы немецкого оружия. Чурки — топливо для газогенераторных машин, которых на фронте немало. Предприятие же на улице Хмельной пока ничего не стоит, оно с самого начала работает на холостом ходу. Директор, видимо, думает, что он, Бот, этого не понимает! Напрасно...
«Так вот оно что! Не такой уж ты, оказывается, доверчивый, — все больше настораживаясь, слушал я заместителя гебитскомиссара. — Ты, негодяй, значит, раскусил нас еще тогда, когда впервые посетил фабрику. Ты хорошо видел, что внешним лоском и показным порядком в цехах мы прикрывали бездеятельность предприятия. Видел, но промолчал. Теперь ты попытаешься прижать меня. И отбиваться нечем...»
Но я снова ошибся. Бот не обвинил меня ни в саботаже, ни в намерении обмануть гебитскомиссариат.
— Когда вы затеяли авантюру с изготовлением валенок из шерсти, которую давали заказчики, — продолжал он, — мы молчаливо согласились с этим. Хотите знать почему? Потому что вы придумали неплохой выход из трудного положения, в котором находилось предприятие, и этим кое-как наладили производство. Потому гебитскомиссариат и не вмешался, не отменил вашего распоряжения. Пусть ваши земляки тешат себя надеждой, что фабрика работает на них. То, что они так думают, тоже нам на пользу... Но разве есть смысл иметь предприятие только для этой цели? Нет, конечно. Нам нужна фабрика валенок на будущее. Гебитскомиссариату важно, чтобы все ее цеха находились в постоянной готовности и в любое время могли приступить к массовому выпуску продукции для нужд армии. О сырье не беспокойтесь. Оно есть. Голландская шерсть уже собрана в одном из пунктов. Остается только доставить ее сюда, а это не так просто. Немецкие войска готовятся нанести решающий удар полуразгромленной русской армии. Железнодорожный транспорт находится под контролем командования вермахта, вагоны используются исключительно для переброски к фронту солдат и военной техники. Шерсть мы доставим несколько позже... Поэтому советую не задавать лишних вопросов, господин директор. Думайте о том, чтобы предприятие было наготове. Запомните, в первый раз вам повезло, но выбраться из тюрьмы СД второй раз невозможно...
Я понял: теперь Бот действительно не бросал слов на ветер. Пока фабрика не дала немцам продукции ни на грош, и они это хорошо знают. Но рано или поздно сырье подвезут. Нам надо подготовиться, наметить план на будущее...
Впрочем, обеспечивать валенками гитлеровских вояк мы не собирались.
2
После вызова к Боту я несколько дней не выходил с фабрики. С запалом, как и положено директору, длительное время отсутствовавшему на предприятии, вмешивался во все дела. Проверял, как идет работа в цехах, в каком состоянии оборудование, интересовался деятельностью бухгалтерии, учетом продукции, заказами. По нескольку раз в день вызывал к себе Луця, мастеров, механика. Секретарша Нина непрерывно сновала взад-вперед: бегала из приемной в бухгалтерию, от Луця — в цеха, из цехов — в кабинет директора.
Словом, я развил бурную деятельность. И не без цели. Среди рабочих или служащих фабрики мог оказаться вражеский информатор, которому приказано тайно присматривать за мной и докладывать гитлеровцам о моих действиях и поведении.
С неделю я не встречался с Луцем нигде, кроме конторы фабрики. Не пытался также встречаться и с другими подпольщиками. Приходилось проявлять осторожность, внимательно присматриваться, не нацепила ли служба безопасности мне после выхода из тюрьмы «хвост».
Луць сказал как-то, что Федор Шкурко принял некоторые меры: несколько подпольщиков из его группы держат фабрику под постоянным наблюдением, чтобы предупредить развитие событий, если кто-то посторонний начнет проявлять подозрительный интерес к моей персоне. Кроме того, у Ивана Ивановича была твердая договоренность со сторожем Михалом, который постоянно находился у проходной: если возле фабрики неожиданно появятся немцы, Михал немедленно предупредит. Для этого достаточно нажать кнопку звонка. Сигнализацию Луць и Михал оборудовали еще весной, после моего ареста, когда главному бухгалтеру было приказано временно возглавить руководство предприятием и он перебрался из бухгалтерии в директорский кабинет.
Каждое утро и вечер, идя на работу и с работы, я внимательно присматривался к людям, встречавшимся на пути. Не раз среди ночи, не зажигая света, тихо выходил из квартиры. Выскользнув в темноту, стоял, прислушиваясь к каждому шороху. Иногда по нескольку раз обходил свой домишко, ожидая, не промелькнет ли вспугнутая мной вороватая фигура шпика. Час-полтора топтался во дворе, силясь уловить шорох чужих шагов, почувствовать близкое присутствие притаившегося соглядатая.
Однако ничего подозрительного не замечал. За мной, видимо, не следили ни на улицах, ни дома. Такого же мнения был и Федор Шкурко. Возглавляемая им группа «контрразведчиков» тоже не обнаружила ничего подозрительного.
Спустя неделю после выхода из тюрьмы я решил наконец побывать на квартире у Луця и Настки Кудеши: необходимо было поговорить с друзьями в более или менее спокойной обстановке, обсудить некоторые вопросы дальнейшего развития подпольной деятельности. У Луця меня ожидал Федор Шкурко. Мы дружески обнялись. Настка, как всегда в таких случаях, не забыла о своих обязанностях гостеприимной хозяйки: наварила картошки, поставила на стол тарелку с огурцами.
За столом ни на минуту не прекращалась оживленная беседа. Не больше как через полчаса друзья уже знали все подробности о каждом дне, проведенном мною в тюрьме СД. О многих событиях, происшедших за время моего отсутствия, узнал и я. Иван Иванович обстоятельно рассказал, в частности, о ночном «визите» к коменданту полиции Францу Крупе, о «задушевном» разговоре, состоявшемся на квартире у австрийца, об обнаруженной в шкафу у Крупы папке с бумагами, об уничтожении заведенного на меня националистами досье.
— После нашего посещения старый бандит запил пуще прежнего. Допился до белой горячки. С должности начальника полиции его сняли, — рассказывал Иван Иванович. — Некоторое время Крупа отирался в гебитскомиссариате, но там для него подходящей работы, вероятно, не нашлось. Тогда он снова пошел на поклон в полицию. Там его приняли, но уже не начальником, а рядовым шуцманом. Пьет по-прежнему. Целыми днями шляется по базару, по вечерам устраивает «набеги» на квартиры жителей. Награбленные у населения вещи меняет на самогон. Несколько раз валялся пьяный под забором...
— Да черт с ним, с Крупой, — перебил я Ивана Ивановича. — Спился, туда ему и дорога. Давай, Иван, о деле. Какие новости?
— Новостей много, и неплохих, — сказал Луць.
Оказывается, в лес уже отправлена первая группа военнопленных, создан партизанский отряд, в котором насчитывается шестьдесят бойцов. Командиром у партизан дядя Юрко. Отряд недавно перебрался в Цуманский лес. В первую же ночь, как только военнопленные во главе с дядей Юрко выехали на двух грузовиках в лес, им пришлось принять бой. Они сожгли на берегу Горыни немецкую грузовую машину. Вскоре захватили небольшой обоз с продовольствием. Уничтожили группу мотоциклистов-эсэсовцев. Несколько дней назад хорошо вооруженный отряд бульбовцев пытался окружить и разгромить партизан, когда они расположились на ночевку в одном из хуторов. Но националистам пришлось отплевываться кровью — дядя Юрко со своими хлопцами встретил бульбовцев метким огнем из трофейного оружия. Полегло там бандитов десятка полтора, остальные махнули в лес, а утром прислали к партизанам своих парламентеров с предложением соблюдать обоюдный нейтралитет. Наши поставили бульбовцам условие: если националисты разоружатся и передадут свои винтовки партизанам, то тогда могут катиться ко всем чертям. Парламентеры больше не появлялись.
Дядя Юрко поддерживает связь с подпольщиками города через старого Иосифа Чиберака. Партизанские разведчики уже несколько раз наведывались в его лесную хибарку. Подпольщики города по возможности обеспечивают партизан медикаментами, собрали кое-что из боеприпасов. Занимается этим Мария Жарская, помогают ей женщины, жены командиров Красной Армии.
В последнее время в лесных селах распространились слухи, будто в районе Клевани высадились советские парашютисты. Партизанам пока не удалось встретиться с ними.
Федор Шкурко имеет немало интересных сведений, добытых на аэродроме вблизи села Тынное, в гебитскомиссариате, в многочисленных учреждениях оккупантов. Его группа систематизирует данные о передвижении вражеских войск по железной дороге, ведет учет воинских частей, направляемых гитлеровским командованием на фронт через Ровно. Федор Шкурко завел список гитлеровских агентов и всевозможных шпиков, которые рыщут по городу, выполняя задания гестапо, СД и полиции. Если слухи о парашютистах подтвердятся и с десантниками удастся установить связь, то эти ценные сведения можно будет передать советскому командованию.
Продолжает действовать под Ровно молодежная группа Федора Кравчука. Грушвицкие комсомольцы разгромили несколько маслопунктов в селе Басов Кут и бывшем совхозе. Члены группы пишут листовки, добывают оружие, вовлекают в подпольную работу юношей и девушек из соседних сел. Кравчук недавно докладывал, что им приходится все чаще сталкиваться с оуновцами. Националисты зашевелились, силятся опутать своей паутиной как можно больше крестьян, в первую очередь молодежь. Комсомольцы ведут настойчивую борьбу с оуновцами, разоблачают перед населением их подлую политику.
Такое же положение и в Гоще. Но там оуновцам приходится труднее. В гощанскую коммунистическую подпольную группу входят двадцать восемь человек, националистам нелегко выдерживать поединок с патриотами, многие из которых приобрели опыт борьбы еще во времена господства пилсудчиков.
Руководит группой Иван Кутковец, из Корца. Эту семью я знал давно. В 1939 году меня и его отца избирали депутатами Народного Собрания Западной Украины. А самого Ивана, боевого комсомольца, известного мне еще по подпольной работе в буржуазной Польше, я рекомендовал в свое время на должность секретаря Временного Народного управления в Корце.
Вместе с Иваном Кутковец гощанскую группу подпольщиков возглавляет вдумчивый, выдержанный человек, бывший командир Красной Армии Владимир Соловьев. Действует он осмотрительно и осторожно, дополняя своей рассудительностью смелого и решительного Ивана Кутковец.
Ивану удалось устроиться агрономом при крайсландвирте Кригере. Такая должность на руку подпольщикам. Руководитель группы контролирует служебную переписку сельскохозяйственного коменданта с гебитскомиссариатом, слушает его телефонные разговоры с гестапо, с интендантской службой.
Гощанские подпольщики умело саботируют мероприятия и приказы местного крайсландвирта, срывают сбор сельскохозяйственных налогов, заготовку мяса и масла для гитлеровской армии. Словом, в Гоще дело налажена хорошо, все идет пока благополучно.
Проводятся диверсии и в Ровно. На железнодорожной станции рабочие подсыпают песок в буксы вагонов, на несколько дней выводили из строя водокачку, дважды повреждали линию связи.
Не прекращается в городе выпуск листовок с сообщениями Совинформбюро. Ротатор и пишущая машинка, как и раньше, хранятся в подвале фабрики валенок. В городе уже имеется более десяти конспиративных квартир: у Веры Макаровой на улице Леси Украинки; у Михаила Конарева на улице Первого мая; у Вали Подкаура на улице Коперника; у Валентины Некрасовой, которую чаще называют Татарочкой. Созданы резервные подпольные явки в селах Дворец, Тютьковичи, Житин, Золотнив...
Прокопу Кульбенко поручено заняться сахарным заводом в Бабине. Он устроился там на работу, подобрал несколько надежных товарищей из рабочих и вместе с ними готовит на предприятии диверсию. На Шпановском сахарном заводе тоже создана небольшая, но надежная подпольная группа.
— Помнишь, еще до твоего ареста мы говорили о секретаре райкома партии с Тернополыдины, что работал в Корце агрономом? — спросил Иван Иванович. — Поплавский докладывал о нем во время нашего последнего заседания на квартире у Чидаевых.
— Конечно помню, — ответил я.
— Тогда мы еще договорились забрать товарища из Корца, так как его опознал какой-то тернопольский националист. Дело там обстояло гораздо сложнее, чем мы полагали. Товарища, который выдавал себя в Корце за агронома, зовут Сергеем Зиненко. Он действительно был секретарем райкома в Збараже. Человек интересный, прошел, как говорят, и Крым и Рим... После оккупации Тернополыцины фашистскими войсками он некоторое время был комиссаром в Красной Армии. Когда наши части отходили от Киева, Зиненко выполнял специальное задание: уничтожал за ними мосты и переправы на Днепре. Потом ему пришлось выводить из окружения отряд, сформированный из саперов, матросов Днепровской флотилии и милиционеров. Где-то недалеко от Полтавы Сергей Зиненко был контужен взрывом мины, в результате попал в плен. Сначала находился в лагере под Житомиром, затем в ровенском лагере. Как раз в те дни гитлеровцы стали направлять военнопленных на предприятия в качестве рабочих. Зиненко тоже назвался специалистом. Хотя окончил он до войны Коммунистический университет имени Артема, но в лагере заявил, что имеет сельскохозяйственное образование и работал агрономом по свекловодству. Немцы направили его в Корец на сахарный завод.
Просматривая списки советских военнопленных, присланных из лагеря для закладки свеклы в бурты, шеф предприятия, махровый петлюровец, обратил внимание, что один из них имеет сельскохозяйственное образование, является агрономом-свекловодом. Ему как раз и нужен был такой специалист. Вызвав к себе Сергея Зиненко, шеф объявил, что направляет его в сырьевой цех агрономом по буртовке свеклы.
Хотя специального агрономического образования у Зиненко не было, но, как бывшему секретарю райкома партии сначала на Харьковщине, потом на Тернопольщине, ему приходилось раньше заниматься свеклой, и он знал, что к чему. Придя в сырьевой цех, Сергей «горячо» взялся за дело: повел работу по принципу тех нерадивых хозяйственников, которых до войны сам беспощадно критиковал на районных совещаниях и колхозных собраниях. Бурты закладывались кое-как, с нарушением самых элементарных правил; огромные вороха свеклы накрепко запечатывались землей; ни о каком проветривании, доступе воздуха в них не могло быть речи. Словом, сырье заранее обрекалось на гниение, хотя внешне все делалось старательно. Казалось, что ни агроном, ни военнопленные не жалели сил и пота для того, чтобы угодить новоявленным хозяевам.
Оказавшись в роли агронома по буртовке свеклы, Зиненко ломал голову, сумеет ли выкрутиться, когда обнаружат результаты его деятельности. А они не заставили себя ждать. Как-то, проверяя бурты, Сергей убедился, что в большинстве из них температура поднялась намного выше нормы. Зиненко тут же забил «тревогу», сообщил о замеченном шефу завода. Тот, не долго раздумывая, чтобы перестраховать себя, настрочил докладную на имя крайсландвирта Генцельмана.
Завод в ту пору не работал: не было топлива, поэтому всем рабочим приказали явиться с лопатами на буртовое поле, чтобы вскрыть бурты и раскладывать свеклу на снегу для охлаждения. Понимая, что за такую рискованную «операцию» можно поплатиться жизнью, Зиненко осторожно разведал, кто отдал такое распоряжение. Оказалось, это был приказ Генцельмана. Письменный приказ.
Пользуясь неосведомленностью немецкого сельскохозяйственного коменданта в свекловодстве и выполняя его «категорические распоряжения», агроном по буртовке с помощью некоторых рабочих стал методически, почти открыто уничтожать огромные запасы сахарного сырья, накопленного с осени на Корецком заводе. Зима была лютая, и свекла мгновенно каменела на морозе при вскрытии буртов. Так повторялось несколько раз. Когда с приходом весны завод наконец заработал, немцы вместо сахара получили лишь патоку: от резких перемен температуры при вскрытии буртов свекла сделалась вялой, полугнилой, по существу, непригодной для производства сахара. Крайсландвирт скрипел зубами, но вынужден был молчать, так как «охлаждение сырья» проводилось по его письменным распоряжениям, которые аккуратно подшивались и хранились в заводской канцелярии...
Луць прищурил глаза, поправил одеяло, которым Настка завесила окно, и опять повернул ко мне суховатое лицо.
— После этой «операции» Сергею Зиненко, сам понимаешь, нельзя было оставаться дальше в Корце. Его удалось устроить агрономом на Шпановский сахарный завод. Там он и работает. Встречался я с ним, долго беседовал. Человек он молодой, умный и энергии — море. На новом месте тоже сразу взялся за дело. Есть у него там уже несколько хороших ребят из заводских рабочих, готовых выполнять любое задание. Надумали они вывести из строя котлы. Зиненко говорит, что если сделать это умело, с головой, то в Шпанове немцы надолго останутся без сахара. Против такого плана я не возражал. Сейчас группа Зиненко старательно готовится... Мы дали ему адрес одной нашей квартиры здесь, в городе. В случае чего переправим его людей в отряд дяди Юрко.
А теперь еще об одной новости, — Луць взглянул на Настку, на Шкурко, словно готовил меня к какой-то неожиданности, но в его взгляде я не заметил тревоги, наоборот, большие серые глаза Ивана Ивановича светились сдержанной радостью. — Политрук Николай Поцелуев сбежал из эшелона, когда пленных вывозили из лагеря на запад, не то в Польшу, не то в Германию. Проломил пол вагона и на полном ходу — на шпалы... Больной, в горячке пришел с нашим паролем в Тынное, к Николаю Титовичу Ханже. Тот прятал политрука у себя несколько дней, отпаивал горячим молоком, кормил, как ребенка, с ложки, поставил на ноги, переодел и недавно привел в город. Сейчас Поцелуев находится у Веры Макаровой, улица Леси Украинки, дом семь.
Впервые услышав незнакомую фамилию, я спросил, кто такая Макарова. Луць кивнул на Шкурко.
— Из кадров Марии Жарской. Федор Захарович даст полную характеристику.
Попыхивая сигаретой, Федор Шкурко кратко, в нескольких словах, рассказал о Вере Макаровой. Она — жена командира Красной Армии, который служил в одной части с мужем Жарской. Вместе с другими семьями военнослужащих пыталась эвакуироваться на Восток, но попытка не удалась. Молодой женщине с двумя маленькими детьми, четырехлетним сынишкой и двухлетней дочкой, пришлось искать пристанища в оккупированном Ровно. Поселилась в брошенной хозяевами захламленной битым кирпичом квартире. Сама сложила печь, застеклила окна, обмазала две небольшие комнатки глиной, привела их в порядок. Живет случайными заработками. То белье кому-нибудь постирает, то поможет вскопать или прополоть огород, словом, кое-как перебивается. Жарская случайно встретила свою подругу на улице, поговорила с ней, и с тех пор Вера стала ее надежной помощницей во всех «интендантских» делах: помогает Жарской добывать еду и одежду для вырвавшихся из лагеря ребят, обштопывает и обстирывает их, устраивает на квартиры. Когда надо, отдает нашим товарищам свое жилье в полное распоряжение, не спрашивая, кто они, откуда, почему вынуждены приходить поздно вечером и исчезать на рассвете...
— Когда я смогу увидеться с Поцелуевым?
— Ну что я тебе говорил, Захарыч? — добродушно улыбнулся Луць, обращаясь к Шкурко. — Так и знал: стоит сказать ему о Поцелуеве, как он немедленно захочет встретиться с ним. А ведь я и сам Поцелуева еще в глаза не видел. Вон Федор Захарович, тот познакомился с политруком. Как полагаешь, Захарыч, можно будет повидаться с ним завтра вечером?
— Думаю, можно.
— Вот и хорошо. Завтра, значит, Терентий. А ты, Захарыч, все устрой, подготовь, чтобы возле дома Макаровой было «чисто». После твоего ареста, Терентий, мы стали осторожнее. Иначе нельзя, — негромко добавил Луць.
На некоторое время в комнате установилась тишина — все с аппетитом ели уже остывшую картошку с огурцами.
— Теперь еще один вопрос, Терентий. Как твоя квартира? Не развалилась, пока ты отсутствовал? — деловито осведомился Иван Иванович, отодвигая от себя тарелку.
— Не развалилась, но потолок еле держится. Видно, весной промок насквозь. На глиняных стенах образовались потеки, всюду плесень, сырость. И заходить туда не хочется.
— А ты не ходи, — вмешалась в разговор Настка. — Мы уже думали об этом. Ночевать тебе, Терентий, там не следует. Оставь мне ключ, я завтра зайду, немного приберу. Ты тоже днем иногда наведывайся туда, будто собираешься жить в своей старой квартире. А на ночь оставаться не смей, слышишь?!
— Да, Настка дело говорит, — поддержал жену Иван Иванович. — Хватит и того, что днем мы у всякой погани на виду. Ночью надо отдыхать в спокойной обстановке. Нервы-то не железные.
— Что ж, по-вашему, выходит, гестаповцы лишь ночью могут меня арестовать, если снова вздумают упрятать в тюрьму? А днем не посмеют? Черта с два! Если им будет нужно, они заберут меня и с фабрики за милую душу.
— Так-то оно так, — согласился Иван Иванович. — А впрочем, разговоры ни к чему. Сегодня же перебирайся на новую квартиру. Как, Захарыч, думаешь, где лучше: на улице Первого мая или на Коперника? — обернулся он к Шкурко.
— Я за второй вариант, Иван Иванович! — отозвался Федор.
— Ну что ж, я согласен... Итак, пан директор, отныне ты будешь соседом известной тебе конторы, именуемой эсдэ. Вот, возьми ключ. Поживешь пока на улице Коперника в доме двадцать восемь. Хозяйка — женщина проверенная, наша подпольщица Ксения Подкаура. Работает в ресторане «Гоф» судомойкой. Дома бывает редко. Имеет ночной пропуск, что тоже важно. С Ксенией живет ее сестренка, девчушка лет тринадцати. О том, что ты придешь к ним, они знают. Федор Захарович проводит тебя и познакомит с сестрами. Девчата хорошие, сам увидишь. Ну а завтра к вечеру встретимся с Поцелуевым. Сразу после работы. Настка зайдет за нами на фабрику.
3
— Здравствуйте, товарищ Поцелуев!
Он быстро обернулся к нам, подался вперед, но сдержался, не встал, засунув руки в карманы залатанного пиджака, видно, из «гардероба» Николая Ханжи, продолжал сидеть на лавке. Я почему-то полагал, что увижу человека могучего телосложения, а Поцелуев оказался низкорослым, светловолосым, остриженным под бокс, лобастым и худощавым. Его слегка запавшие карие глаза выжидательно смотрели на меня и Луця. Худое лицо побледнело от напряжения. Пухлые губы были сжаты, отчего возле рта образовались складки, несколько старившие его. Наш приход был неожиданным, и политрук смотрел на меня и Ивана Ивановича с заметной тревогой. Резко, одним выдохом, он спросил:
— Откуда вам известно, что я Поцелуев? Кто вы?
Луць улыбнулся. Я сел на лавку рядом с политруком, положил ему на плечо руку, негромко сказал:
— Осенью прошлого года незнакомая старушка впервые передала вам сухари и несколько вареных картофелин. Вы работали тогда в команде военнопленных, которая разбирала завалы на улицах города. Вскоре та же старушка вручила вам коротенькое письмо, а вы передали с ней записку на обертке от махорки...
Он продолжал молчать, хотя все более заметно волновался.
— Так вот, письмо написали мы. И ответ ваш тоже получили мы. Получили предупреждение о могилах в Сосенках.
— А где теперь та бабуся? — голос Поцелуева дрогнул.
— Ее уже нет. В тот день, когда вы передали записку о Сосенках, эсэсовец ударил старушку прикладом. Через несколько часов она умерла.
Поцелуев с минуту сидел неподвижно. Мне показалось, что на его глаза набежали слезы.
Но он все еще был насторожен. Разговор о прошлом пришлось продолжить. Мы напомнили Поцелуеву о нашем сообщении, которое он получил в те дни, когда немцы готовились передать часть военнопленных в распоряжение Беера и Бота; о пароле, с которым пришли к нам два «Конюховых».
— Я могу встретиться с Поплавским? — спросил Поцелуев.
— Виталий Семенович находится сейчас в командировке, поехал на ткацкую фабрику в Тучин.
— Гм... Кто же его туда послал?
— Заместитель гебитскомиссара Бот, — ответил Луць.
— Кто? — Поцелуев перевел взгляд с Луця на меня, но, видно было, сразу же взял себя в руки, скрыл удивление и, стараясь быть спокойным, добавил: — А дядя Юрко?..
Луць не сдержал улыбки. Я объяснил политруку, что дядя Юрко не может прийти сюда по той простой причине, что его давно уже нет в городе, он командир партизанского отряда, который действует в лесах неподалеку от Ровно.
— Предположим, что так, — хмуро бросил Поцелуев. — Но может, хоть скажете мне, как увидеться с молодой, красивой женщиной...
— ...которая передавала вам продукты, записки и пароли после смерти бабушки Ксении? — закончил за него Луць и, продолжая улыбаться, направился в коридор. Через минуту в комнату вошла Настка Кудеша.
— Вы ее хотели видеть? — спросил Луць.
Поцелуев вскочил с лавки. Его лицо покрылось румянцем. Он шагнул к Настке, сжал ее руку, срывающимся от волнения голосом проговорил:
— Ее, ну конечно ее! Спасибо, родная! Спасибо за все. От всех нас, лагерников... Если бы вы знали, сколько думал я об этой минуте, чтобы низко поклониться вам, сестра...
Настка обняла его и заплакала.
— Так, так... Видишь, как оно получается: нам он не верит, мы для него личности подозрительные. А появилась женщина, и все сомнения долой! Вот что значит женщина! И доверие ей и рукопожатие. А нам что: «Кто вы такие? Откуда меня знаете?» — добродушно отчитывал политрука Луць. — Ну, что? Можно теперь о делах поговорить или еще кого-нибудь привести? Хотя бы Михаила Анохина? Посмотрите, товарищ Поцелуев, — он подвел политрука к окну. — Вон там, у сарайчика, стоит парень в сером пальто... Не узнаете?
— Узнаю. — Впервые на лице Поцелуева появилась улыбка. — Михаил... Дружок мой верный... Почему же он не заходит?.. Хотя, простите, наверно, я задаю лишние вопросы? — сказал он, отходя от окна.
Немного смущенное лицо Поцелуева светилось теперь безграничной радостью. Это была радость человека, который наконец осознал, что вырвался из сетей неуверенности и сомнений, что многое прояснилось, принеся с собой моральное и физическое облегчение. Ему пришлось долго, очень долго жить в постоянной тревоге, когда нервы натянуты как струна. Сейчас он разрешил себе ослабить их. И сразу весь преобразился. Теперь перед нами стоял самый обычный молодой человек, немного скуластый, с худым, бледным лицом, но вовсе не ершистый, не колючий, каким он казался еще несколько минут назад. Лишь во взгляде его карих глаз, как и прежде, оставалась суровая твердость.
Он вдруг как-то подтянулся, по-военному выпрямился, одернул залатанный пиджак, привычно провел руками по несуществующему армейскому ремню. Теперь можно спокойно продолжать беседу.
Своим положением нелегального квартиранта Поцелуев был неудовлетворен. Мы понимали его состояние. После того, что довелось ему вытерпеть, пережить в фашистском концлагере, он жаждал действий. Он шел из Тынного в город, убежденный, что подпольщики немедленно дадут ему боевое задание, поручат трудное и опасное дело. А тут — уютная квартира, тихая жизнь, строгий приказ не выходить из дому, не требовать встреч даже с друзьями по лагерю, не спешить...
— Я готов выполнить все, что прикажете! — по-юношески громко сказал он. — Не в моем характере бездействовать, сидеть в четырех стенах. Поймите меня, товарищи!..
— И все же, будете сидеть еще несколько дней, — тоном, не допускающим возражений, предупредил Луць. — Если вы решили идти с нами до конца, то имейте в виду: первейшее требование к каждому члену подпольной организации — соблюдение дисциплины. Вам, военному, ясно, что иначе и быть не может. В Ровно вы не жили, города не знаете, со сложившейся тут обстановкой незнакомы. Документов у вас нет. Первый встречный полицай или жандарм задержит вас и отведет в гестапо. Попасть в лапы к гитлеровцам гораздо легче, чем вырваться. Вы это прекрасно знаете сами. Поэтому надо все обдумать, все взвесить, что делать дальше.
Мы изложили Поцелуеву свои соображения. Виталий Поплавский считает самым целесообразным переправить его, Поцелуева, в лес, в отряд дяди Юрко. Бойцы отряда в большинстве своем вчерашние военнопленные, хорошо знают Поцелуева, для них он свой, проверенный на деле человек, товарищ, вместе с которым они в лагере испытали, почем фунт лиха. Лучшего комиссара партизанского отряда, пожалуй, не подберешь. И дядя Юрко будет доволен: он уже передавал через связных, что необходимо назначить в отряд комиссара, просил у подпольного Центра совета, кому лучше доверить этот пост.
С Поплавским можно было бы согласиться. Но у Луця были свои соображения: он предлагает оставить Поцелуева в городе и, как человеку военному, поручить подготовку боевых диверсионных групп, а также связь с военнопленными в лагере. Там осталось еще немало товарищей из состава лагерного подполья, организованного им же, Поцелуевым. Да и среди бывших пленных, которые сейчас работают на предприятиях, тоже много людей, которых Поцелуев давно знает. Но как поступить лучше, пусть политрук решает сам. Никто не сомневается в том, что он готов выполнить любой приказ, готов пойти, куда ему предложат. Но мы не собираемся что-либо навязывать. Он вправе сам определить свое место в борьбе.
Выслушав нас, Поцелуев спросил:
— Где я, по вашему мнению, смогу быть более полезным?
— По-моему, здесь, в Ровно, — твердо, как давно обдуманное, отчеканил Луць.
С минуту Поцелуев молчал. Потом сказал негромко, будто самому себе:
— Взять в руки винтовку!.. Ой как хочется, товарищи!.. Не буду скрывать и напускать туману: в отряд пошел бы с удовольствием. Полагаю, вы тоже, наверно, мигом перебрались бы в лес... Ведь все-таки там открытая борьба, в руках оружие, а с ним и смерть не страшна. Вы сами создавали партизанский отряд, подбирали в него людей, всех их знаете... И все же остались здесь, в городе. Я вот подумал: почему остались? Видно, так нужно.
— Да, так нужно. Это — приказ партии, — подтвердил я.
— Раз нужно, значит, я тоже остаюсь в городе. Луць одобрительно кивнул: он был доволен решением Поцелуева.
— Ну что ж, будем считать, что договорились, — сказал я. — Мы устроим вас на работу, иначе легализоваться невозможно. Есть одно подходящее место. Правда, работа немного... неделикатная, или, не знаю как поточнее выразиться, не совсем обычная, что ли... В общем, речь идет о складе утильсырья. Тряпки, кости и всякое прочее... Зато удобно. Заведующий складом старик, часто болеет. Будете распоряжаться собой, как знаете. Там уже работает один наш товарищ, Александр Гуц. Нравится вам такая «должность»?
— Везет мне сегодня на должности, — усмехнулся Поцелуев. — Мог стать комиссаром, а теперь могу быть утильщиком. И все на выбор. Просто здорово получается. Но отказываться, полагаю, поздно. Утильщик — должность прибыльная, коммерческая, стоит попробовать.
Иван Иванович еще раз предупредил Поцелуева, чтобы тот не выходил на улицу, обещал в ближайшее время принести документы и сообщить, когда можно будет приступать к работе на складе.
— Оружие вам оставить? — спросил я в свою очередь политрука.
Глаза его загорелись. Луць вынул из кармана наган. Поцелуев бережно взял его, словно ему передали хрустальную вазу. Сухо защелкал барабан.
— Ровно семь... Спасибо. Считайте, что вы мне одолжили оружие ненадолго. Обязательно верну. С процентами.
— Не вздумайте раздобывать те проценты раньше, чем надо, — строго напомнил Луць. — Всему свое время.
Через полчаса, проводив Настку и Ивана Ивановича до их дома, я поспешил на улицу Коперника.
Заметно темнело. С юга надвигалась огромная черная туча. Где-то далеко за городом, так далеко, что не слышно было даже грома, небо простреливали молнии. Стояла тишина, было душно, пахло дождем. Людей на улицах почти не было видно.
Домик, где жили сестры Подкаура, прежде соседствовал с кирпичным двухэтажным зданием, от которого остались лишь куча битого кирпича и закопченная стена, темневшая пустыми проемами высаженных вместе с рамами окон. Вдоль стены к воротам вела дорожка, Из квартиры сестер она была видна как на ладони: каждого, кто сворачивал сюда, можно было заметить издалека. А позади — старый, запущенный сад с непролазной чащей запыленного, колючего терна.
Днем я хорошо рассмотрел все вокруг и убедился, что друзья не случайно выбрали эту квартиру. Хотя почти совсем рядом, на соседних улицах, шумели время от времени машины, ходили немцы, домик стоял в глуховатом переулке неприметно, выглядел убогим, словно забытым среди руин и густой зелени. В случае чего требовалось лишь вовремя выскользнуть из квартиры, а там, среди развалин и зарослей легко запутать следы. Не то, что в многолюдных кварталах, где сразу же за порогом можно наткнуться на жандармский патруль или полицаев.
Возле домика меня ожидал Федор Шкурко.
О встрече мы не договаривались. Внезапное появление Шкурко вызвало у меня неясное чувство тревоги. Я быстро отпер дверь, мы вошли в дом. Старшей сестры дома не было, как всегда, в эту пору Ксения работала в ресторане. Младшая, худенькая Валя, которой никак нельзя было дать тринадцати лет, спокойно спала в каморке, куда перебрались сестры, уступив мне свою комнатушку. На столе Валя оставила для меня ужин: тарелку пшенной каши и кусок хлеба, аккуратно прикрыв все чистым полотенцем. Отсветы далекой молнии озаряли стены, старенький буфет в углу, и на миг передо мной четко обозначилось напряженное лицо Шкурко. Он присел к столу, положив перед собой руки, спросил:
— Как устроились?
— Все хорошо. Ксению видел лишь дважды, она все время на работе. Валя — чудесная девочка, сама готовит, убирает квартиру, даже на базар ходит. Мы с ней стали друзьями... Но ты, Федор Захарович, не за тем пришел, чтобы узнать, как я устроился. Что случилось?
— Сегодня в офицерской столовой СД отравлена группа гитлеровцев.
— Что ты говоришь?!
— Девять уже отдали богу душу, а многих отвезли в гарнизонный госпиталь. Очухаются или нет, неизвестно... Наелись супу с какой-то сильной приправой. Некоторые свалились там же, в столовой, как только пообедали, трое или четверо выскочили во двор. Вопили так, что слышно было за несколько кварталов. Гестаповцы окружили столовую, бросились в кухню, но повариха исчезла. Говорят, оставила бумажку, написала, что вот так, мол, как сегодня, скоро накормят всех фашистских гадов. Может, насчет записки неправда, выдумали люди, а что из столовой увезли на машинах девять трупов, точно. Двое наших работают слесарями в немецком госпитале, сами видели.
Мне сразу вспомнилась весенняя ночь, когда мы собрались на заседание подпольного Центра в квартире у Чидаевых, на Скрайней, 16. Рассказывая тогда о настроениях людей в оккупированном городе, Виталий Поплавский упомянул о какой-то женщине, грозившей отравить гитлеровцев.
— Не она ли? — спросил я Федора.
— Она и есть, — подтвердил из темноты Шкурко. — Фамилия ее Полевая. Сама нездешняя. Жена командира Красной Армии, погибшего на фронте. Мария Жарская знает ее, встречалась с ней. Полевая не раз говорила Марии, что сумеет отомстить фашистам за все. Объясняла, что и на работу в столовую пошла только ради того, чтобы сжить со света не каких-то там вшивых солдат, а именно палачей из СД, которые мордуют и расстреливают наших людей. Кое-кого из офицеров называла даже по фамилии. Жарская советовала ей хорошенько подумать, прежде чем пойти на это дело, намекала, что может свести ее с некоторыми людьми, которые подскажут, как надо бороться. Однако Полевая не послушалась, видимо, решила действовать в одиночку. Теперь гестаповцы ищут ее. Но я так думаю, что в городе поварихи уже нет. Она говорила Жарской при встрече: в руки, мол, им не дамся, знаю, как выбраться из Ровно и где спрятаться. Должно быть, все заранее обдумала. Меня беспокоит только, что в этой истории косвенно замешан и Поплавский.
Замешан Поплавский?! Последние слова Федора ударили, как обухом по голове. Впрочем, я уже догадался, что Шкурко не пришел бы в домик сестер Подкаура, куда Луць запретил наведываться без крайней необходимости ему и Настке, только для того, чтобы рассказать об отравленных поварихой гитлеровцах. Но какое отношение имеет Виталий Семенович Поплавский к случившемуся в столовой СД? Какие основания для беспокойства за его судьбу?
— Боюсь, что основания есть, — Шкурко сделал паузу, словно, собирался с мыслями, потом тихо продолжал: — Тут такое дело, Терентий Федорович. В гестапо переводчицей работает некая Елена, высокая, молодая, пышноволосая блондинка. Поплавский знает ее. Познакомился, как он рассказывал, случайно. Один чиновник из гебитскомиссариата по поводу повышения по службе пригласил своих коллег в ресторан. Поплавского, как главного инженера промышленного отдела, тоже не забыл. Секретарша чиновника привела с собой подругу, эту самую пышноволосую переводчицу из гестапо. Узнав, что она работает в ведомстве майора Йоргенса, Виталий Семенович заинтересовался переводчицей, решил присмотреться, что она за птица. Парень он хоть куда, залюбуешься; пригласил блондинку потанцевать раз, другой, третий... Она и растаяла. После того вечера в ресторане они встречались несколько раз. Поплавского я понимаю: если бы ему удалось заглянуть в душу этой Елене и узнать, что она у нее не совсем черная, то иметь такого информатора в гестапо... Ого!.. Тут разыграешь влюбленного, будь она хоть самой бабой Ягой. Луць при мне предупреждал Виталия Семеновича: смотри, не поскользнись, взвешивай в разговоре с ней каждое слово, каждое движение...
Кое-что нам удалось узнать о красавице, однако, очень немногое. Сама она вроде из Ростова, дочь майора. Но как очутилась в Ровно, что заставило ее сотрудничать с гестапо — покрыто мраком. Ведет себя с Поплавским не совсем понятно. Иногда, будто между прочим, интересуется: вот, дескать, ей, русской, да и ему тоже приходится служить немцам, а что будет дальше? Как на это посмотрят наши, если вернутся? Поплавский говорит, что подобные разговоры не поддерживает, уходит от них. Временами переводчица, по словам Виталия Семеновича, нервничает, злится, выглядит удрученной, а то вдруг начинает убеждать Виталия, что не следует, мол, забивать голову мыслями о будущем: что будет, то и будет. «Или она психопатка, или гораздо хитрее, чем кажется», — делился как-то Поплавский своими сомнениями. Но он все же считает, что рано или поздно раскусит эту красавицу и не оставляет мысли заполучить ее как информатора, осведомленного в гестаповских делах.
Однако есть тут заковыка, о которой, собственно, я и пришел сообщить. Однажды эта самая пышнокосая Елена видела Поплавского вместе с поварихой Полевой. Случай был такой месяца три назад. Когда Виталий Семенович узнал через Марию Жарскую о замысле поварихи, он решил потолковать с ней. Мария устроила им встречу в парке имени Шевченко. Но поговорить с Полевой как следует Поплавскому не удалось. В парке неожиданно появилась переводчица, увидела Виталия Семеновича с женщиной и подошла к ним. Полевая, конечно, сообразила, что разговора не получится, тут же попрощалась и ушла. Переводчица, оказывается, знала Полевую. Видно, тоже посещала офицерскую столовую СД. Она с иронией сказала Поплавскому: «А я и не думала, что господин инженер неравнодушен к кухаркам!..» Виталий Семенович ответил шуткой: он, дескать, неравнодушен не к поварихе, а к тому, что повкуснее пахнет в ее кастрюлях... Тогда мы не придали этому случаю никакого значения. Но теперь, когда Полевую разыскивают гестаповцы... Переводчица вряд ли забыла о встрече в парке. Понимаете, Терентий Федорович?
Да, я понимал. Тревога Федора была вполне обоснованной. Пышнокосая красавица являлась, возможно, не только переводчицей.
— Часа два назад мы вместе с Михаилом Анохиным отправились к Виталию Семеновичу. Хозяйка квартиры сказала, что он еще не приходил со службы. А какая там служба, если рабочий день давно кончился, — продолжал Шкурко. — Ну, оставил я Михаила возле дома, чтобы не прозевал, если появится Поплавский, а сам побежал к гебитскомиссариату. Думал, может, в самом деле Виталий Семенович на службе задержался. Но там его тоже не оказалось: помещение закрыто, все давно разошлись по домам.
— У Поплавского, как и у меня, как и у вас с Анохиным, есть ночной пропуск. Ему вовсе не обязательно после работы спешить домой. Зашел к кому-нибудь из наших товарищей, задержался; забот-то у него достаточно, — пытался я успокоить не Шкурко, а прежде всего самого себя.
— Может, и так, — без энтузиазма отозвался Федор. — Будем надеяться, что все обойдется.
По тому, как он произнес эти слова, нетрудно было заметить, что Шкурко вовсе не был уверен, что все обойдется благополучно.
Минут пять мы сидели молча. Потом Федор быстро поднялся, надел фуражку.
— Я пойду, Терентий Федорович, — сказал он. — Михаил, наверно, заждался. Он там, возле дома, в котором живет Поплавский. Будем ждать вместе. Как только Виталий Семенович появится, проводим его на Скрайнюю, к Чидаевым. Потом забегу к вам, скажу...
Шкурко ушел. В окно было видно, как мимо кирпичной стены промелькнула его приземистая фигура.
Я продолжал сидеть у окна, не зажигая лампы и прислушиваясь к тревожной тишине, опустившейся на город. С минуты на минуту ждал, вот появится во дворе Федор Шкурко, потом зайдет ко мне, устало скажет: «Все в порядке, Терентий Федорович. Проводили Поплавского к Чидаевым. Там он в безопасности». Ждал час, два, три... Было не до сна. За окном уже засерел рассвет. Федор не появлялся. На душе становилось все тревожнее: значит, Поплавский так и не вернулся домой. Случилось что-то необъяснимое.
Прошло несколько тревожных дней. Каждое утро, встречаясь на фабрике с Иваном Ивановичем Луцем, я надеялся услышать от него успокоительную весть: дескать, напрасно мы беспокоились, заместитель гебитскомиссара Бот посылал Поплавского в командировку, Виталий Семенович не успел никого предупредить, а теперь он снова в городе. Однако мои надежды были напрасными. Ничего утешительного Луць не говорил и не мог сказать: Виталий Поплавский, наш верный боевой товарищ, не появлялся ни на работе, ни дома. Виталий Поплавский исчез.
Ночь над землей
1
Прокоп Кульбенко спешил из Бабина в Рясники. Большой отрезок пути его подвез какой-то дядька на подводе, а то, наверное, Прокоп не дошел бы. Острая боль раз от разу перехватывала дыхание. Он часто останавливался, чтобы отдышаться, закуривал и, разгоняя дымом рои мошкары, шагал по пустынной дороге дальше. Его мучила старая, нажитая еще в тюрьме язва желудка. С месяц назад было немного легче, а теперь прижало не на шутку. И так это не ко времени! Столько неотложных дел, столько тревог, а тут, на тебе, еще проклятая хвороба. Прокоп сердцем чувствовал, что над подпольем сгущаются тучи. Повсюду в селах подняли головы, зашевелились, как ползучие гады, националисты. Кое-где они смертельно жалили людей. Уже не одна хата вспыхнула среди ночи пламенем, уже не одна жизнь оборвалась от предательских выстрелов. Кем-то подбадриваемые, националисты действовали теперь почти открыто, но не против оккупантов — нет! Они сводили счеты и с украинцами, и с поляками — с каждым, кто попадал в черные списки бандеровской «службы безопасности»...
В Рясниках Прокоп должен был собрать свою группу. Хотел посоветоваться с товарищами, предостеречь их, поскольку опасность нависла серьезная. Гитлеровцам не так-то просто добраться до сельских подпольщиков, а бандеровцы знают в Рясниках каждого, им хорошо известно, кто чем дышит, кто какими глазами смотрит на фашистов. Значит, надо быть начеку, остерегаться сельских бандитов не меньше, а пожалуй, даже больше, чем гестаповцев.
Кульбенко не новичок в делах подполья. Недаром еще при польских панах многие годы отсидел в тюрьме.
Знает, что пассивность к добру не приведет. В голове у него уже созревали планы, как дать отпор рясниковским оуновцам, как ударить их по зубам. А осадить их можно. Он, Прокоп Кульбенко, ведь не один. Смелых людей в Рясниках немало. Взять, к примеру, Ивана Оверчука. Огонь-парень, палец в рот не клади. Не из трусливого десятка и Дмитро Кожан, и Роман Замогильный, и Иван Герасимчук. А Михайло Геращенко — недавний фронтовик, тот хоть сейчас готов сразиться с бандитами-оуновцами. Правда, до последнего времени ни сам Прокоп, ни его друзья по подполью не имели намерения открыто браться за оружие. У них было иное задание: действовать незаметно, вести работу среди рясниковских жителей тайком, чтобы комар носа не подточил. Но теперь обстоятельства сложились по-иному, возникла необходимость пустить в дело винтовки и гранаты. Главное — убрать оуновских верховодов. Кульбенко хорошо знает их. Не раз они науськивали на него гитлеровцев, и те врывались в его хату. Однако Прокоп был настороже: дома ночевал редко, имел несколько надежных убежищ, прятался сначала в одном месте, потом перебирался в другое. Два месяца назад Кульбенко получил от ровенского подпольного Центра задание — временно устроиться работать на Бабинский сахарный завод, подыскать надежных людей, создать еще одну подпольную группу. Пока он работал в Бабине, в Рясниках заменял его Иван Оверчук, давний друг, товарищ юношеских лет.
Километрах в трех от Рясников на взгорке — усадьба Христины Климчук. Прокоп знаком с Христиной с детства и теперь в ее старой хате часто находит себе убежище: уже несколько раз пересиживал тут недоброе время. Сюда он и завернул, не решаясь сразу идти домой, в Рясники.
Близилась полночь. Свет в хате не горел. Крючок из проволоки, которым открывали дверь, закрытую изнутри, лежал над дверным косяком. Прокоп без труда отодвинул засов. Христины дома не было. «Видно, с вечера ушла в Рясники к родственникам и заночевала у них».
Не раздеваясь, Кульбенко лег на деревянную кровать. Боль внутри не утихала, не давала заснуть. Он долго ворочался с боку на бок, курил, обдумывая, как завтра встретиться с Оверчуком, переговорить с ним, а в следующую ночь собрать всю группу.
Приглушенные голоса за окном и чьи-то осторожные шаги мигом подняли Прокопа с кровати. Он прижался лицом к стеклу. По двору, словно тени, двигались люди. Они направлялись к хате. Сколько их, разобрать было трудно, но Прокоп насчитал не меньше пяти-шести человек. Один из них закурил. Тусклый свет вспыхнувшей спички осветил конец винтовочного ствола.
В дверь постучали. Сначала тихо, потом забарабанили изо всех сил.
— Эй, Христя, открывай!
Прокоп вытащил из кармана пистолет, загнал патрон в казенник. Прижался к стене у окна. Снаружи орали:
— Открывай, стерва! Чего притаилась?! Кульбенко прячешь? Не откроешь, разнесем к чертям твой курятник!..
Прокоп быстро вскочил на стоявшую у окна скамью. Под его тяжестью скамья пошатнулась, упала на пол. Теряя равновесие, Прокоп уперся в окно. Оно вывалилось вместе с рамой. Кульбенко выпрыгнул во двор, прижался к земле у стены хаты, трижды выстрелил в темные фигуры, маячившие у двери. Там кто-то завизжал пронзительным голосом. Поднявшись на ноги, Прокоп бросился в реденький сад за углом. Позади — ругань, топот. Вразнобой загрохотали винтовочные выстрелы. Пули взвизгнули где-то рядом, срезая ветки с груш и яблонь. Прокоп бежал изо всех сил. Не оглядываясь, из-за плеча, на бегу отстреливался. Когда обойма кончилась, нащупал в кармане запасную, перезарядил пистолет. А за спиной не утихали крики:
— Стой!..
— Вот он, вот!..
— Гриня, стреляй!..
Снова вспышки, грохот выстрелов.
Однако темнота выручила Прокопа. Петляя между кустами, он бежал по оврагу. Голоса бандитов постепенно удалялись. Выстрелы гремели уже где-то в стороне. Вскоре стрельба прекратилась совсем.
На рассвете изнемогавший от усталости, едва передвигая ноги, Прокоп вернулся в Бабин. Там на сахарном заводе его поджидал наш связной.
— Тебе, Прокоп, нынче надо быть в Ровно, — передал он. — У кого, сам знаешь. Сказали, чтобы поторапливался...
Часа через два Кульбенко направился в город.
* * *
К нам в подпольный Центр отовсюду поступали тревожные вести. Подпольщики из Тучинского, Гощанского, Клеванского, Корецкого, Межиричского районов через связных сообщали, что во многих селах оуновиы приступили к вербовке молодежи в так называемую «Украинскую повстанческую армию» (УПА). «Добровольцев» хотя и не густо, но кое-где уже началось обучение «стрельцов».
О подлой затее буржуазных националистов с созданием УПА слухи в Ровно доходили и раньше. Но то были только слухи. Теперь же оуновцы с молчаливого благословения немецко-фашистского командования приступили к практическому осуществлению своих черных замыслов. Втягивая молодежь Волыни и Полесья в УПА, они не скупились на обещания, прибегали к угрозам, террору и провокациям.
В селах и деревнях Волыни было немало крестьянских парней, готовых драться со «швабами»-оккупантами, бороться за освобождение родной земли от фашистской нечисти. В основном малограмотные или вовсе неграмотные, с детских лет томившиеся в панской неволе и лишь перед самой войной ненадолго освобожденные от нее, многие сыны «хлопов» и «быдла» были не в состоянии разобраться в сложном сплетении политических ситуаций, возникших на оккупированной врагом «территории. Этим воспользовались закоренелые авантюристы из буржуазно-националистического отребья вроде Романа Шухевича, командовавшего в начале войны абверовским спецбатальоном «Нахтигель», а затем ставшего одним из заправил УПА. Своими насквозь лживыми лозунгами и призывами они, как паутиной, опутывали крестьянскую молодежь, одурманивали, отравляли ее несозревшее сознание, всячески преграждали ей путь к подлинным патриотам, борцам против гитлеровских захватчиков — партизанам и подпольщикам.
Загипнотизированные без конца повторявшимися фразами «вольная Украина», «национальная независимость», «самостийная украинская державность», крестьянские юноши извлекали из тайников подобранные еще в сорок первом году на местах боев винтовки и гранаты или отнимали оружие у какого-нибудь немца забулдыги и попадали в оуновские сети, пополняли вооруженные шайки буржуазных националистов, становились бандеровскими «стрельцами», «боевиками». Многие из них не ведали и не догадывались, какую страшную судьбу, судьбу братоубийц готовил им фюрер украинских буржуазных националистов, львовский студент-недоучка Степан Бандера со сворой своих эмиссаров, помещичье-кулацких отпрысков, провокаторов и головорезов — смоков, савуров, энеев и шухевичей. Ни у тех, кто добровольно вступал в УПА, ни у тех, кого вовлекли в нее обманом, на первых порах не возникало тревожных мыслей и сомнений по поводу того, что люди, перед которыми они тянулись, называя их «друже командир» и «друже провúднык», еще вчера носили нарукавные повязки шуцманов, а нередко и мундиры немецко-фашистских офицеров, хотя именно они, вчерашние шуцманы и эсэсовские офицеры, составляли основной костяк УПА, ее первооснову.
Заблуждение многих рядовых повстанцев — этих безусых крестьянских парней — было поначалу их трагедией, неосознанной и мрачной. Оглушенные пропагандой националистов, запуганные их «службой безопасности», они безропотно подчинялись им. Не у всех еще в то время возникал вопрос: почему фашистские оккупанты с их широко разветвленной агентурой, шпионами и осведомителями смотрели сквозь пальцы на возникновение отрядов «повстанческого украинского войска», будто не замечали их? Никаких выводов не делали порой для себя рядовые УПА также из того, что в селах одновременно с немецко-фашистской оккупационной администрацией появлялись и открыто действовали так называемые «станичные», «районовые», «надрайоновые» и даже «крайовые» верховоды националистов, создавалась пресловутая СБ, бандеровская жандармерия. А между тем все это свидетельствовало о прямой связи националистов с оккупантами, и, следовательно, ни о какой борьбе «за освобождение Украины» от фашистов не могло быть и речи.
Интенданты УПА с молчаливого согласия оккупационных властей грабили местное население, отбирали у него все, что не успевали отнять гитлеровцы. Каждый крестьянский двор новоявленные «освободители» обложили всяческими налогами: крестьяне обязаны были снабжать «повстанческую армию» хлебом, мясом, салом, яйцами и даже собачьим жиром для смазки оружия.
Если кто-либо из крестьян осмеливался поднять голос протеста против двойного гнета немецких и бандеровских грабителей, он неизбежно обрекал себя на смерть. Не успевали к горлу такого смельчака дотянуться руки оккупантов-карателей, как свои грабители чинили над ним зверскую расправу. Огнем полыхали по ночам хаты непокорных, а с рассветом люди находили на огородах, в погребах и колодцах изуродованные трупы односельчан — стариков, женщин, малолетних детей.
Пробираясь в город, наши связные из сел приносили страшные вести о том, что видели сами и слышали от других. На многострадальную волынскую землю как бы из мрака прошлого вернулось кровавое варварство.
Через год-полтора сотни обманутых, духовно опустошенных, искалеченных повстанцев увидят перед собой ту бездонную пропасть, к которой пришли они под знаком трезубца. Многие из них прозреют, потому что ОУН — УПА сбросят с себя последние остатки националистического камуфляжа. «Головный провúднык» УПА Клим Савур нацепит на немецкий френч погоны полковника СС, милостиво врученные ему от имени фюрера пожилым оберстом в одной из хат села Скрегетовка. Перед неминуемым крахом, чувствуя всем телом горячий ветер от залпов советских орудий, вожди украинских националистов отдадут приказ своей «службе безопасности» на массовое уничтожение рядовых «повстанческой армии». Бандере и его элите уже будут в тягость лишние свидетели и исполнители их авантюр. Дикой резней в Кременецких лесах, в глуши Демидовского и Козинского районов, убийством при помощи топора и веревки сотен своих же стрельцов завершат провúдныки первый этап своей кровавой деятельности во славу фашистской свастики.
Так закончат свой путь сыны хлеборобов, первые добровольцы УПА.
Это случится позже. Но и в ту пору, когда чудовище вооруженного бандитизма только что вылуплялось из яйца, далеко не все крестьяне Ровенщины безразлично относились к авантюре бандеровских главарей. Многие сельские жители прислушивались к голосу советских патриотов, коммунистов, комсомольцев, хорошо представляли себе, к чему в конце концов приведет затея с «повстанческой армией». Под их влиянием значительная часть крестьянской молодежи, надевшая на себя ярмо УПА, заколебалась, начала покидать свои сотни, разбегаться по домам. За «дезертиров» сразу же бралась «служба безопасности».
Штабы УПА объявили мобилизацию. За отказ вступать в «повстанческую армию» была одна кара — мучительная смерть. Во все концы области доставляли гонцы националистов повестки-приказы. Наряду с другими получали повестки и бывшие красноармейцы, командиры-украинцы, вышедшие из окружения или вырвавшиеся из плена и осевшие в селах Ровенщины. Из них лишь единицы соглашались вступить в УПА. Остальные молча рвали полученные бумажки, хотя знали, что в них содержались не пустые угрозы. И не один вчерашний фронтовик заплатил жизнью за то, что не встал на путь измены. Их убивали из-за угла, терзали до смерти на допросах, вешали, расстреливали в лесу...
* * *
Еще в то время, когда я был заключенным в тюрьме СД, наш «контрразведчик» Федор Шкурко поручил одному из своих товарищей по подполью, Сергею Борко, сблизиться с националистами в Ровно. Отлично играя роль сторонника ОУН, Сергей вскоре стал среди бандеровцев «своим человеком» и был принят в их организацию. В дополнение к тем данным, что приносили связные из районов, Борко передал Федору Захаровичу новый тайный циркуляр центрального провода ОУН, одобренный заграничным руководством националистов во главе с Бандерой. В циркуляре шла речь о полном и окончательном очищении территории от коммунистов и комсомольцев, от тех, кто им сочувствует, а так же от лиц, бывших советскими активистами, председателями колхозов, депутатами Советов, служащими потребительской кооперации, членами Осоавиахима, распространителями советской прессы, бригадирами, звеньевыми, механизаторами, — одним словом, от всех честных людей, которые своими руками строили новую жизнь на освобожденной от пилсудчиков земле Западной Украины. И если бы циркуляр не был скреплен подписями провúдныков-националистов, ни у кого не возникло бы сомнения в том, что составили его чиновники гестапо — так походил он всем своим содержанием на многочисленные инструкции нацистов, выполняя которые, они старались утвердить свой «новый порядок» на оккупированной территории. Бандеровцы, эти презренные блюдолизы, во всем копировали своих хозяев — немецких фашистов, боясь хотя бы на йоту отстать от них в человеконенавистничестве.
2
Выйдя под вечер из ворот фабрики, я попетлял по глухим переулкам, убедился, что за мной никто не следит, и свернул к дому 54 на улице Димитрова. В доме этом жила наша подпольщица Лиза Гельфонд, близкая подруга Марии Жарской, худощавая двадцативосьмилетняя женщина, жена командира Красной Армии. Ей, как и многим другим, не удалось эвакуироваться в начале войны в тыл, и она вынуждена была остаться в Ровно. Сегодня у Лизы должны собраться члены подпольного Центра...
В тесной комнатке с низким потолком меня ожидали Иван Луць, Прокоп Кульбенко, Федор Шкурко, Мария Жарская и Александр Гуц. Не было среди них лишь Виталия Поплавского, непременного участника всех наших нелегальных совещаний. Кульбенко и Гуц только что узнали о внезапном исчезновении Виталия Семеновича. Печальное известие поразило их до глубины души. Прокоп, хмурый и озабоченный, не переставая курил. Александр молча сидел в углу, подперев кулаком подбородок. Видно, каждый из присутствовавших в эти минуты был занят мыслями о Поплавском. В окутывавших комнату сумерках мы как бы чувствовали прикосновение незримых крыльев скорби.
О событиях, взволновавших за последнее время многие села, — о злодеяниях оуновцев докладывал Федор Шкурко. Он был немногословен. Его информация складывалась из скупых точных фактов и цифр, взятых из донесений, поступивших от подпольных групп и от товарищей, которых Шкурко привлекал к разведывательной работе. Он ссылался на факты, а они, эти страшные факты, говорили сами за себя, не требуя комментариев.
Закончив, Федор протянул руку к Прокопову кисету с самосадом. Я наблюдал за друзьями и понимал, что они хорошо представляют себе всю трагичность и опасность положения. Но на их лицах не было ни панического страха, ни растерянности. Только сосредоточенность и глубокая озабоченность.
Дополнять информацию Шкурко никому не пришлось. Он сказал именно то, что надо было сказать, сказал коротко и ясно. И все же возникали вопросы, которые не должны были остаться без ответов. Прежде всего необходимо было установить, что понудило оуновцев распоясаться, прибегнуть к вооруженным акциям против населения, к откровенной, чуть ли не демонстративной жестокости, которая с головой выдавала их как верных прислужников и последователей фашизма. Объяснение могло быть только одно. Лето 1942 года принесло гитлеровцам много неприятных сюрпризов. Хотя немецко-фашистские армии, пытаясь взять реванш за зимнее поражение под Москвой, бешено рвались на восток, в тылу у них, на оккупированной ими земле, все активнее разгоралась борьба советских патриотов. На оккупированной территории нашей области также возникали партизанские отряды и группы, действовали народные мстители-одиночки. Пока эти отряды были небольшими, слабо вооруженными: в некоторых насчитывалось всего по десять — двенадцать бойцов. Но и эти небольшие отряды, даже еще меньшие группы патриотов, сжигали и разрушали мосты, нападали на фашистские обозы, обстреливали машины с солдатами и офицерами, заставляли бежать из сел ландвиртов и фольксдейче, пытавшихся прибирать к рукам имения. Патриоты карали полицаев, уничтожали доносчиков, выдававших гитлеровцам советских людей.
В те дни мы в Ровно знали лишь немногих коммунистов, комсомольцев, гражданских и недавних военных, которые становились во главе партизанских групп и отрядов, вступали в беспощадную борьбу с оккупантами. А между тем таких людей насчитывались уже десятки. Нам был хорошо известен отряд дяди Юрко, родившийся в недрах ровенского партийного подполья; мы слышали о парашютистах-десантниках, хотя еще не имели с ними связи; из сел к нам поступали сообщения о том, что с каждым днем все активнее действуют партизаны в Межиричском, Рафаловском, Высоцком районах, что народные мстители смело нападают на гитлеровцев и в степной стороне под Гощей, и вблизи Ковеля, и в районе Цумани...
Об активизации партизанской борьбы на территории Ровенщины свидетельствовала не только народная молва; о конкретных делах народных мстителей чуть ли не ежедневно напоминали убитые и раненые гитлеровцы, которых все чаще привозили в Ровно; о партизанах со страхом говорили между собой чиновники оккупационных учреждений и всевозможных торгово-промышленных, заготовительных контор, гнездившихся вокруг резиденции обер-палача рейхскомиссара Украины Эриха Коха; об этом же шептались по углам бывшие петлюровские офицеры, приехавшие на Волынь и Ровенщину в обозах немецко-фашистских войск с тайной надеждой снова стать хозяевами отобранных народом имений и угодий. При упоминании о партизанах экс-помещики из петлюровского отребья начинали дрожать мелкой собачьей дрожью. Слово «партизаны» все чаще стало появляться на страницах буржуазно-националистической газетенки «Волынь», продажного желто-блакитного листка «Гайдамак» и фашистской прессы, в больших количествах доставляемой в Ровно.
В ту пору нам еще не было известно, что ночные взрывы и меткие выстрелы под Высоцком — дело рук тамошнего крестьянина из Вычевки, милиционера Максима Мисюры и его боевых друзей; что трупы в серо-зеленых мундирах, обнаруженные полицаями в лесу на рубеже между Ровенской и Волынской областями, были началом счета мести партизан из-под Цумани, возглавляемых бывшим членом КПЗУ Александром Филюком; что взрывы немецких складов неподалеку от Рафаловки являлись первыми боевыми операциями только что созданного Максом, директором Ковельской МТС Юзефом Собесяком[9], небольшого поначалу партизанского отряда; что в лесах Морочновского района жандармов-карателей уничтожали бойцы-партизаны политрука Михаила Корчева и сержанта Дмитрия Попова; что дробный стук конских копыт в ночи возвещал о появлении подольских партизан, возглавляемых учителем Антоном Одухой: совершая стремительные маневры, его бойцы с молниеносной быстротой налетали на эсэсовские гарнизоны в селах и деревнях Каменец-Подольской области, а затем, запутывая следы, уходили на кратковременный отдых в ничем не примечательные степные села на Ровенщине или в раскинувшиеся вокруг этих сел хутора...
Мы не знали тогда имен и фамилий партизанских вожаков, но ни для кого уже не было секретом, что борьба народных мстителей день ото дня разгоралась ярче, что она становилась все более массовой и все более грозной для врага.
Пройдет время, и связные из сел принесут в Ровенский подпольный Центр печальные вести о первых жертвах среди наших отважных земляков — о героической гибели в боях с оккупантами председателя Высоцкого райисполкома Кабака, учителя Храпко, секретаря Клесовского райкома партии Сонина и других советских патриотов. Позже узнаем мы о множестве героев, которые в самые трудные дни Великой Отечественной войны первыми поднялись на беспощадную борьбу против фашистских захватчиков. Об отважных мстителях из львовской «Народной гвардии имени Ивана Франко»; о замученном гитлеровцами и бандеровцами первом большевике Прикарпатья, друге Ивана Франко, руководителе восстания дрогобычского пролетариата в 1919 году[10], основателе компартии Восточной Галиции Василии Коцко; о славных патриотических делах его дочери Ольги, тоже известной галицийской коммунистки, оставшейся с отцом в подполье и погибшей вместе с ним смертью героини; о бородаче Кундиусе, военном враче, под командованием которого группа оставшихся в окружении бойцов захватила несколько вражеских танков и давила ими под Золочевом немецко-фашистскую пехоту; о комсомольце-парашютисте Андрее Денищуке, который был сброшен над селом Грушвица с особым заданием и погиб как воин на боевом посту; о бесстрашном партизане-разведчике Шевчуке; о таинственном и неуловимом «гауптмане Пауле Зиберте» — легендарном Николае Кузнецове; о сотнях и тысячах смелых, решительных борцов за честь, свободу и независимость родной земли.
Летом сорок второго года мы, подпольщики Ровно, полуизолированные в оккупированном городе, не имели и не могли иметь сколько-нибудь полного представления о развернувшихся на Волыни боевых действиях партизан. Еще меньше мы знали тогда о борьбе народных мстителей в районах Галиции, провозглашенной гитлеровцами составной частью «Польского генерал-губернаторства». Но то, о чем тогда не знали мы, было хорошо известно фашистам. Отмечая на картах районы выступлений советских патриотов против «нового порядка», анализируя многочисленные донесения полицейско-гестаповского аппарата, гаулейтер Эрих Кох в Ровно и генерал-губернатор Ганс Франк в Кракове воочию убеждались, что партизаны с каждым днем становятся все более грозной силой в борьбе против оккупационного режима. Они понимали, что их расчеты на лояльность населения западных областей Украины, которому не пришлось и двух лет пожить при Советской власти, терпят полный крах. Вчерашние батраки, безземельные крестьяне, безработные, которым с установлением Советской власти засияло солнце свободы, оказались вовсе не такими безобидными простаками, какими мечтали видеть их фашисты.
Не принесла гитлеровцам желаемых результатов и ставка на фюреров украинских националистов, которые многие годы подкармливались в Германии и выдавали себя за идейных пастырей украинской нации. Это отребье не оправдало, да и не могло оправдать надежд своих хозяев из третьего рейха. Народ не желал знать пастырей, прибывших из Германии вместе с оккупантами. Лишь жалкая горстка оборотней, выползших из своих нор, как только раздался топот немецких сапог, встречала своих вождей криками «Слава!». Однако и этот жидкий хор вскоре затих, заглушенный громкой перебранкой самих украинских «вождей», затеявших между собой грызню из-за призрачной власти, из-за будущих иллюзорных министерских портфелей, которые они мечтали получить. Оккупанты же откровенно смеялись над «украинскими вождями» и над их междоусобными дрязгами. Захватчики требовали от буржуазных националистов не междоусобных распрей, а дела — такой идеологической обработки местного населения, чтобы оно покорно и молчаливо тянуло ярмо «нового порядка».
Вначале гитлеровцы попытались ухватиться за бывшего владельца каменоломен Боровца, вышколенного в Германии и назначенного фашистами на пост коменданта Сарненской полиции. Исклеванный оспой шуцман возомнил, что на него возложена некая «историческая миссия», и неожиданно даже для своих хозяев провозгласил себя основателем «Полесской сечи». Чтобы немцы не подумали плохого, Боровец сразу же обратился к командованию оккупантов с просьбой не чинить преград его войску, ибо ничего крамольного он не замышляет, а заботится лишь об «охране украинских земель от влияния Московии и ее агентов». И еще атаман «новой сечи» попросил оккупантов помочь ему оружием и боеприпасами, обещая не остаться в долгу...
От затеи сарненского шуцмана так несло авантюризмом, его политическая платформа была столь жалкой и запутанной, что даже гитлеровцы скривили рожи. Явным провалом Боровца не преминули воспользоваться бандеровцы. Они поспешили вырвать из рук главаря «новой сечи» инициативу и объявили о создании «Украинской повстанческой армии». Оккупанты вскоре раскусили, что УПА как раз то, что им надо, и умышленно закрыли глаза на активную деятельность поклонников и последователей своего выкормыша Степана Бандеры.
УПА была рождена страхом верховодов ОУН перед гневом народа, боязнью за собственное благополучие, которое заметно пошатнулось с ростом боевой активности советских патриотов. Чтобы оправдаться перед гитлеровцами и упрочить свое положение, националистические «вожди» добровольно взяли на себя обязанности подручных гестапо, СД и иных фашистских служб, которым была поручена охрана тылов гитлеровской армии. По замыслу бандеровской верхушки, части УПА и ее «служба безопасности» должны были перекрывать пути советским партизанам, уничтожать парашютистов-десантников и местные прокоммунистические элементы, расправляться с каждым, кого можно заподозрить в сочувствии Советской власти.
* * *
— ...Вчера бандеровцы пытались схватить его. — Луць показал на Кульбенко. — Завтра они возьмутся за других. Пока они берут наших людей на прицел поодиночке. Но этим они не удовлетворятся. Кровь разожжет бандитские аппетиты, и дело дойдет до массовой резни. Бездействовать, выжидать в такое время нельзя. Если станем пассивно присматриваться да ждать, как оно там пойдет дальше, неминуемо понесем большие потери. Когда вдумываешься в то, что творят бандиты-бандеровцы, в то, о чем только что докладывал Федор Захарович, волосы на голове шевелятся. Информация товарища Шкурко еще раз убеждает: зверства националистов — это особая, заранее продуманная и четко разработанная фашистами программа действий не только в отношении жителей западноукраинских областей, но и населения всей Украины. Тут нет случайностей. Все рассчитано тонко и пунктуально. И нам следовало ожидать такой вспышки террора, готовиться к этому самим и готовить товарищей из подполья. А мы, надо сказать откровенно, недооценили подлости и коварства националистов. Теперь нужны срочные меры. Только, товарищи, — Луць повысил голос, — ни в коем случае нельзя шарахаться из одной крайности в другую. Я уже не раз говорил и повторяю еще: считать оуновцев главными, основными врагами, ставить их в нашей борьбе на первое место — значит допустить грубую ошибку, попасться на крючок фашистских иезуитов. Гестаповцы были бы рады столкнуть советских патриотов с националистической мразью и таким образом отвести от себя удары наших патриотических сил. Пусть, дескать, партизаны и подпольщики дерутся с бандеровцами, мельниковцами, бульбовцами, — с кем угодно, лишь бы не мешали нам, немцам, хозяйничать на оккупированной территории. За националистами всегда стоят фашисты. Об этом мы не должны забывать. До каких бы злодеяний ни докатились оуновцы, они были и остаются орудием в руках гитлеровцев. Громить надо прежде всего фашистов, не забывая, разумеется, и о бандеровцах, об уничтожении их зверствующих боевиков. Ну а как лучше организовать дело, повысить боевую активность всех подпольных групп в городе и в деревне, это надо обмозговать сообща и наметить единый план действий...
Поднялся, вышел из угла на середину комнаты, ближе к столу, Александр Гуц. Это был уже не тот суровый, нелюдимый человек, который пришел к нам после трагедии в селе Деревянное, где фашисты расстреляли его отца, мать, жену. С лица Гуца исчезла тень отрешенности, безразличия. Живя в кругу друзей, занятый делами подполья, он словно переродился, заново вернулся к жизни. Теперь его голос звучал уверенно, от собранной, подтянутой фигуры веяло спокойной решимостью, стал он не по годам зрелым, будто повзрослел за эти месяцы на несколько лет.
— Первое, что надо сделать, — чуть глуховатым голосом произнес он, — это расселить из общежития при фабрике валенок всех рабочих, бывших военнопленных. Если уж националисты начали охотиться за теми, кто может пополнить партизанские отряды, то и гестаповцы не будут дремать: непременно возьмутся за пленных, постараются снова упрятать в лагерь всех, кого отпустили...
— Александр дело говорит, — поддержал его Шкурко. — У меня есть сведения, что эсэсовское начальство не очень довольно действиями гебитскомиссара Беера. Кто-то настрочил в Берлин донос, что Беер использовал приятельские отношения с начальником лагеря и уговорил его передать большую группу русских военнопленных в распоряжение администрации местных фабрик и заводов. Дело поступило на рассмотрение гаулейтеру Коху. Кто знает, как он решит? А эсэсовцам не потребуется много времени, чтобы снова загнать наших ребят за колючую проволоку. Нагрянут ночью в общежитие, всех сразу и схватят.
— Что ты предлагаешь, Александр Романович? Куда девать людей? — повернулся к Гуцу Иван Иванович.
— Переправить в отряд дяди Юрко.
— Пусть так. Тех, кто живет в общежитии, переправим. А как быть с теми, которые работают на других предприятиях?
— Их — тоже. Всех пленных, что работают в городе без охраны, по-моему, нужно побыстрее переправить в партизанский отряд.
— А если кто не согласится уйти в лес? Ведь это дело добровольное. Если и прикажем, не все могут послушаться. Как быть с такими? Оставить их на произвол судьбы?
— Как только узнают, что немцы готовят для них лагерную баланду, все пойдут в лес, бегом помчатся. Может, какой дурак и останется, пускай тогда пеняет на себя, — твердо, без колебаний, произнес Гуц.
Иван Иванович с сомнением покачал головой. Александр во многом, безусловно, прав, его твердость похвальна. Но кое-чего он не учитывает. То, что он предлагает, невозможно осуществить сразу, без подготовки. Одновременный уход большого числа рабочих-военнопленных вызовет переполох среди оккупантов. Поднимется на ноги полиция, вмешаются гестапо и СД, начнутся допросы, аресты, непременно будут взяты заложники. Так гитлеровцы, пожалуй, могут добраться и до подпольного Центра. А это значит полный провал. Все, что с таким трудом удалось наладить, рухнет в тартарары. Фашисты рады будут... Тут надо действовать осторожно, осмотрительно, ну хотя бы так, как поступили при комплектовании партизанского отряда дяди Юрко. Тогда Виталию Семеновичу Поплавскому пришлось немало потрудиться. На место каждого военнопленного, который уходил в лес, заранее был взят на работу кто-нибудь из местных жителей. Вроде никто и не покидал цехов, количество рабочих осталось без изменений. Если же в лес уйдут все военнопленные одновременно, шефы предприятий подымут такой вой, что многим не поздоровится...
После непродолжительного спора единогласно решили, что военнопленных из общежития вначале надо устроить на частные квартиры. Пока они, как и раньше, будут выходить на работу. В отряд переправим их по одному, по два. Для тех, что останутся в городе, заготовим документы, удостоверяющие их «ровенское гражданство». Товарищей из всех подпольных групп, созданных на предприятиях, предупредим о нависшей над пленными угрозе. Каждого из военнопленных, который изъявит желание уйти к партизанам, необходимо проверить через Николая Поцелуева и других товарищей, бывших членов лагерного подполья. После этого связные из группы Шкурко проводят их в село Городок, в домик Чиберака, а оттуда — в отряд. Шкурко должен позаботиться о пароле, о местах встреч связных с военнопленными. Жарской и Кудеше было поручено подыскать в городе жилье для тех, кто покинет общежитие на улице Хмельной. Кое-кого из товарищей на продолжительное время придется устроить на наших явочных квартирах. Поскольку за частные квартиры надо было платить, Луць согласился потрясти нашу фабричную кассу. У него постоянно имелись в резерве средства для нужд подполья. Тут можно было не сомневаться: Иван Иванович умел сводить концы с концами в финансовых документах.
— Как ни крути, как ни верти, а начнем выводить людей в лес, гитлеровцы заметят, что число рабочих на предприятиях сокращается. Этого не скроешь, — сказал Луць. — Мне кажется, есть одна ширма, которой можно прикрыться. Что, если распространить слух, будто пленных мобилизуют в УПА...
Федор Шкурко недовольно усмехнулся:
— Лично меня не привлекает перспектива участвовать в распространении таких слухов. Надо же думать и о будущем. Придет время, попрут наши гитлеровцев, сюда придут части Красной Армии, и слухи, что сами же мы распустим, боком выйдут хорошим, честным парням.
— Черт знает, что ты городишь, — резко перебил его Луць. — Болтаешь всякие глупости. Зачем же тогда существуем мы? Нетрудно будет потом объяснить, для чего, с какой целью распространялись эти слухи...
— Так-то оно так, но существование каждого из нас легко может оборвать фашистская пуля, — возразил Федор. — Ты уверен, что доживешь до возвращения Красной Армии? Я лично не очень в это верю.
В комнате наступила напряженная тишина. Но уже через минуту снова звучал спокойный, как всегда, голос Луця:
— Всех фашисты не перебьют. А тот, кто останется, разъяснит нашим, что к чему. Дымовая завеса рассеется, останется светлая, чистая правда... И знаешь что, друг мой, Федор Захарович? Не нравится мне твоя заупокойная философия. К чему этот разговор? Каждый честный, здравомыслящий человек поймет, что мы тут не в куклы играли и что не все так просто в борьбе, как поется в некоторых песнях. Если думать по-твоему, то удостоверение сотрудника СД, что лежит у тебя в кармане, тоже может выйти тебе боком, хотя ты не получал этот документ из рук господина Йоргенса, а подделал собственноручно... Чепуху говоришь! Ты подумай лучше о том, сколько тебе потребуется времени, чтобы связаться со всеми сельскими подпольными группами.
Смутившись от неожиданной резкости Ивана Ивановича, Шкурко ответил, что меньше, чем за три дня с этим делом не управиться. Связных нужно обеспечить надежными документами, которые они могли бы со спокойной совестью предъявлять не только гитлеровцам и полицаям, но и бандеровским головорезам. К тому же с каждым связным надо обстоятельно потолковать, надлежащим образом проинструктировать и подготовить его. Быстро этого не сделаешь.
Слушая Шкурко, Иван Иванович одновременно с упреком поглядывал на Настку. Для недовольства женой у него были основания. Накануне мы с ним чуть ли не до рассвета просидели за изучением директивы центрального провода ОУН, добытой Сергеем Борко, за составлением к ней своих комментариев. Короче говоря, писали листовку, разоблачавшую подлые дела и замыслы националистов. Утром передали текст Настке. Но, как выяснилось перед началом совещания членов, подпольного Центра, в этот раз у Кудеши что-то не заладилось с ротатором. Поэтому она не успела подготовить нужное количество листовок, а их во что бы то ни стало надо было послать со связными Шкурко в Гощанский, Клеванский, Межиричский, Корецкий и Тучинский районы, где работали сельские подпольные группы, на сахарные заводы в Шпанов и Бабин, на Тучинскую ткацкую фабрику, а также распространить в Ровно. Задержка с листовками и вызвала недовольство Луця. Настка без слов поняла его. Она сказала:
— Чтобы отправить связных, Федору надо три дня. За это время листовки будут готовы.
— За это время ты еще должна подыскать квартиры для бывших военнопленных, — буркнул Луць.
— Квартирами займусь я, управлюсь без Насти, — сказала сидевшая возле двери Жарская. — У меня в городе много знакомых. Настя пусть печатает листовки. Только вот что... Я читала листовку. Уж очень страшно все, что в ней написано. Стоит ли так писать? Вы, конечно, лучше меня знаете, что представляют собой националисты. Вы боролись против них и прежде. Но я подумала, не запугаем ли мы окончательно людей такой листовкой. И без того чуть ли не каждый день расстрелы, виселицы... У фашистов один суд — смерть. А мы пишем в листовке: «Знайте, люди, что вашей жизни угрожают не только немцы оккупанты, но и националисты; они с такой же жестокостью, как и гестаповцы, пытают и убивают советских граждан». Мы почти называем тех, над кем нависла угроза смерти. Представляете, какой это ужас! Знать, что в любой миг к тебе в дом могут ворваться убийцы, а ты не в состоянии защитить ни себя, ни своих детей... Если мы так прямо расскажем, что творят и собираются творить бандеровцы, не прибавим ли мы людям отчаяния? Может, не нужно так откровенно писать? Зачем растравлять и без того больные раны, еще и еще раз напоминать о жестокости...
— По-вашему, выходит, надо молчать? Пусть, мол, бандиты с трезубцами устраивают варфоломеевские ночи, всаживают в спины ножи, а мы, зная их планы, будем помалкивать. Не так ли? Да за такую игру в молчанку люди проклянут нас. О злодеяниях националистов надо кричать во весь голос, кричать так, чтобы услышали тысячи. Верно, это страшная правда, но люди должны знать ее. — Луць обвел взглядом присутствующих, добавил негромко: — Впрочем, может, есть другие соображения? Прошу, товарищи, высказываться. Дело очень серьезное.
— Если бы мы в Деревянном знали, что Сыч, эта кулацкая морда, приведет немцев карателей и те начнут зверскую расправу, то заранее ушли бы в лес, а Сычу воткнули вилы в бок. Тогда жертв было бы меньше, — тихо проговорил Гуц, глядя себе под ноги.
— Люди должны знать правду о кровавых замыслах националистов! — сказала Настка.
— Именно! — подтвердил Шкурко.
Других мнений не было. Жарская не настаивала на изменении содержания листовки.
Решив послать в села связных, подпольный Центр рекомендовал Федору Шкурко назвать им пароль, чтобы они передали его руководителям сельских подпольных групп и те могли бы направить в Ровно всех, кому в первую очередь угрожала опасность попасть в черный список националистов. В городе мы попытаемся устроить товарищей, где сможем, или же вместе с военнопленными переправим их в лес, к партизанам.
В тот вечер мы совещались недолго. Первыми покинули квартиру Лизы Гельфонд, еще до того как наступил комендантский час, Александр Гуц и Мария Жарская. Вслед за ними ушел Шкурко. Потом, попрощавшись со мной и Кульбенко, вышли Иван Иванович и Настка.
Мы остались вдвоем с Прокопом.
— Рассказывай, друже, что с тобой приключилось?
Кульбенко с минуту молчал, как бы собираясь с мыслями, потом словно нехотя сказал:
— Что тут рассказывать?.. Пришли ночью, как всегда приходят. Ну а я выпрыгнул в окно. Вот и все. Видно, решили, сукины сыны, покончить со мной. Но ничего, мы еще посмотрим, кто кого!
Прокоп настаивал, чтобы в Рясники связного не посылали: сам, дескать, собираюсь туда. Я убеждал его, что нет необходимости рисковать. Связному проще: встретится с рясниковскими подпольщиками и сообщит все, что нужно, а ему, Прокопу, следует или вернуться на Бабинский сахарный завод, или же лучше остаться в Ровно. Пока можно устроиться на работу, а потом обстоятельства подскажут, что делать дальше. Кульбенко стоял на своем.
— Нет, Терентий, я пойду в Рясники. Ты сам знаешь, время трудное, и мне просто необходимо быть там, — убежденно говорил он. — Да и связной не потребуется. Сам введу хлопцев в курс дела. Кое-кого сразу же сюда, к вам, направлю. Первым будет Михаил Геращенко. Не здешний он, из военных, националисты давно на него зубы точат... В случае чего держите связь в Рясниках с Иваном Оверчуком, он останется за меня.
Прокоп попросил несколько патронов к пистолету. Я отдал ему свой «зауэр» с двумя полными обоймами и лимонку в обмен на пустой, без патронов, ТТ. Прежде чем распрощаться, Кульбенко устало поднялся со стула, сделал несколько шагов по комнате. Красивый, черноволосый, он чему-то улыбался своими темными, похожими на спелые сливы, ласковыми глазами. Из-за болезни он выглядел несколько старше своих тридцати лет.
Мы обнялись. Не предполагал я в те минуты, что вижу своего друга в последний раз.
3
Прижимая к боку локтем папку с бумагами, Иван Иванович Луць вошел в промышленный отдел гебитскомиссариата. Заглянул на несколько минут в одну комнату, потом в другую, в третью... Везде настороженно прислушивался к разговорам.
За столами сидели пожилые гитлеровские чиновники и фольксдейче, бывший петлюровец Шарапановский и с десяток его приятелей националистов. Больше получаса Луць толкался среди них, обращаясь по делам службы то к одному, то к другому, и за все это время ни слова не услышал о главном инженере отдела, будто никогда и не было тут Поплавского. Обитая дерматином дверь кабинета, который занимал Виталий Семенович, была заперта на замок.
Так ничего и не разведав, Иван Иванович намеревался уже уходить. В коридоре он неожиданно столкнулся со Смияком, «адъютантом» заместителя гебитскомиссара Бота.
Наглаженный, надушенный, Смияк первый вежливо поздоровался с Луцем, любезно осведомился, что привело пана бухгалтера в промышленный отдел, и чем он недоволен в такой чудесный солнечный день. Лицо «адъютанта» светилось самодовольной, притворно-приветливой улыбкой. «А что, если рискнуть? — мгновенно пронеслось в мозгу Луця. — Может же бухгалтер предприятия иметь какие-то дела к главному инженеру промышленного отдела. Ничего подозрительного тут нет: служба есть служба...» Иван Иванович раздраженно махнул рукой:
— Просто напасть какая-то! Третий день пытаюсь застать главного инженера, а его все нет. То говорят в Тучин поехал, то еще куда-то...
— А что у вас к нему? — спросил Смияк.
— Да вот, — Луць показал папку, которую держал в руках. — Согласно распоряжению господина Бота я сделал окончательные расчеты предельной мощности фабрики валенок при условии полного обеспечения ее сырьем. Главный инженер приказал принести расчеты ему лично, чтобы еще раз проверить, прежде чем докладывать господину Боту. Дело срочное, а инженера нет. Поневоле расстроишься...
Смияк как бы сочувственно пожал плечами:
— Не имею ни малейшего представления, где сейчас господин Поплавский. Сам уже несколько дней не видел его.
Иван Иванович направился к двери. Уже у выхода он услышал за спиной приглушенный голос Смияка:
— Пан Луць, подождите минутку!
Взяв бухгалтера под руку, Смияк оглянулся и заговорил почти шепотом:
— Хочу посоветовать вам, пан Луць. Если имеете срочные дела, обратитесь к Шварцу, к тому лысоватому немцу, что сосет трубку за столом у окна слева. О Поплавском не напоминайте, так будет лучше. Советую, как своему человеку.
— Извините, не понимаю... Может, Поплавский удрал? Украл что-нибудь?
— Эх, пан... Случаются такие вещи, о которых лучше не расспрашивать. Считайте, что главного инженера нет и... не будет. И не называйте этой фамилии. Понятно? Знайте, что я вам ничего не говорил, а вы ничего не слышали. Вот такие-то дела, пан бухгалтер... Как там у вас на фабрике? Пока плохо? Знаю, знаю... Но ничего, скоро развернетесь вовсю. Знаю достоверно: вагон с шерстью вот-вот прибудет в Ровно. Заграничная шерсть, высший сорт, будете иметь возможность показать себя... Хотя сейчас лето, но немецкая армия о зиме не забывает. И нам тоже забывать не следует. Не так ли, пан Луць? Не могли бы вы, кстати, организовать пар пять валенок для меня лично? В знак дружбы.
Конечно, это запрещено. Но как человек человеку, по христианскому обычаю...
Луць доверительно ткнул его локтем в бок:
— Все в наших руках, пан Смияк. Что-нибудь придумаем. Может, даже беленькие, новейшего фасона. Разумеется, только для вас... Но, побойтесь бога, пан! Вы меня просто ошарашили... Как это инженера нет и не будет? Скажу вам тоже по-дружески: я к нему не только с этими бумагами. Занял он у меня деньжат, и немалую сумму. Я откладывал понемногу на черный день. Сами знаете, семья у меня небольшая — я да жена. Расходов не так много, кое-что удавалось приберечь... А тут господин инженер как-то спрашивает: «Не выручите ли из трудного положения?» Догадывался я, что это за «трудное положение». Не раз видел Поплавского с молодой особой. Женщины требуют расходов, что и говорить. Да и его должность кое к чему обязывала: костюмов пары три надо иметь, хорошее пальто, соответствующую обувь. Гебитскомиссариат! Не шутка!.. Ну я подумал, человек вроде порядочный, почему бы не оказать ему любезность? Отсчитал определенную сумму... А теперь как быть, пан Смияк? Я не миллионер, три тысячи марок для меня...
— Фю-и-и-ть! — свистнул Смияк, сочувственно глядя на бухгалтера. — Пишите, пан Луць, пропали ваши денежки. Вы здорово влипли, и никто вам не поможет. Та самая, как вы выразились, молодая особа, — он еще раз оглядел коридор, — расколола Поплавского. Представьте себе!
— Расколола? Как это понимать? Я о своих деньгах говорю. При чем тут все это?
— Гестапо! — выдохнул Смияк, наклонившись к уху Луця.
То, чего мы так боялись, подтвердилось. Луць умел держать себя в руках, но слово, произнесенное Смияком, ошеломило его. Заметив, как побледнел и стал тяжело дышать бухгалтер, Смияк, очевидно, решил добить его своей осведомленностью. Он рассказал, что несколько дней назад, приехав из района, Поплавский задержался после работы в своем кабинете. К нему зашла переводчица из гестапо. О чем они говорили между собой, ему, Смияку, неизвестно. Вскоре Поплавский вместе с переводчицей вышел в коридор. Тут его уже ждали. Схватили, надели наручники, бросили в машину. Все это господа из гестапо проделали тихо и гладко. Даже тут, в промотделе, почти никто не знает, что случилось с главным инженером. И хорошо, что они взяли его именно таким образом. Попытка арестовать Поплавского в кабинете, пожалуй, не обошлась бы без жертв. В ящике стола у инженера обнаружили две гранаты и пистолет.
— Если бы не та красавица из гестапо, представляете, что он мог натворить? — выпучил глаза Смияк. — Господин Бот очень сердит. Он имел неприятную беседу с господином гебитскомиссаром. Сами понимаете, ведь это господин Бот назначил Поплавского в промышленный отдел.
— Да кто же он такой, этот Поплавский? Неужели из партизан?
— Э, пан бухгалтер, это я вас должен спросить — кто он такой? Он же с вашей фабрики, у вас работал инженером... В этом деле пан Бот, что и говорить, дал маху. Вы слышали про столовую СД? Поплавского работа... Именно так! Я знаю достоверно. Но, пан Луць, уговор: никому ни слова о том, что слышали от меня. Когда дело связано с гестапо, лучше прикусить язык и молчать. А деньги, которые он задолжал вам, можно вернуть, даже с процентами. Не смею давать вам советы. Вы сами человек опытный, а на фабрике у вас такая продукция, что если с умом... Немножко побольше смелости, пан Луць. С моей стороны всегда будет поддержка, я же тут рядом с начальством! Можно выбраковать сотню-другую пар валенок — и никто от этого не обеднеет... Так ведь? Знаю, знаю, скажете: опасно. А где сейчас безопасно? Учтите мое знакомство с чинами уголовной немецкой полиции и даже кое с кем повыше... Это чего-нибудь стоит! Ну придется иногда сунуть кому-то в зубы сотню или две. Жить надо умеючи, пан Луць. А вы на золотой жиле сидите. Если взяться нам вдвоем, и чтобы никого больше, то будьте уверены, ваши сбережения быстро удвоятся и утроятся. Все будет гладко, тихо. Ваше дело — поставка валенок, моя забота — сбыт...
Луць помолчал, рассеянно поглядел на Смияка, нерешительно почесал затылок:
— Сам бог святой не знает, как тут быть...
— А вы подумайте, подумайте, — горячо шептал Смияк. — О моем компаньонстве не пожалеете, уверяю!
— Знаете, пан Смияк, видно, стоит подумать, — сказал Луць, заметив, как жадно блеснули глаза у «адъютанта» Бота. О том, что тот нечист на руку и ведет темные дела с шефами различных предприятий, Иван Иванович знал и раньше, поэтому он не боялся провокаций со стороны Смияка. Но спешить с ответом не хотел и не мог. Сначала надо было обдумать, что можно выжать из Смияка, что даст это «компаньонство» подпольной организации. К тому же в тот момент Луцю было не до «компаньонства» со Смияком. Все заслонил собой Поплавский. Вот тут, в этом коридоре, гестаповцы выкручивали ему руки, затыкали рот, по этим ступенькам волокли его к машине, может, как раз у этой двери стояла тогда пышноволосая предательница-переводчица...
4
В маленькой харчевне за столиком в углу сидели двое. Это было на следующий день после разговора Ивана Луця со Смияком в коридоре гебитскомиссариата.
Харчевня стояла на перекрестке запыленных узеньких улиц предместья, неподалеку от пруда, голубевшего у Острожского шоссе. В «кофейной» воняло гнилой селедкой, жужжали мухи, у входной двери висела грязная марлевая занавеска. Кудрявый парень, смуглый до черноты, похожий на цыгана, в белой вышитой рубашке и щеголеватых бриджах, плотно облегавших мускулистые, стройные ноги, то и дело подливал из бутылки в рюмку своему соседу грязновато-серый самогон. Сосед кудрявою, молодой человек лет двадцати двух, в распахнутом суконном мундире шуцмана тюремной охраны, был уже сильно на взводе. Он почти беспрерывно водил грязным скомканным носовым платком по взмокшему, бледному от водки лицу.
Хозяин харчевни только что принес клиентам еще тарелку огурцов и помидоров, сменил пустую бутылку на полную, изобразив при этом на желтом морщинистом лице угодливую улыбку. Торговля самогоном запрещалась, однако пронырливый кулак из села Басов Кут, открывший свое «заведение» в городе чуть ли не на другой день после прихода немецких войск, не очень остерегался этого запрета, надеясь на свою клиентуру. Харчевню посещала самая разношерстная публика. Бывали тут мелкие спекулянты, которые перехватывали крестьян по дороге в город и обделывали всякие коммерции за стаканом первача; частенько закусывали и выпивали здесь полицаи, патрулировавшие шоссе на выезде из города; среди вечерних посетителей можно было нередко видеть группу шумных молодчиков, которые еще недавно носили на лацканах пиджаков трезубцы, а теперь, неизвестно по какой причине, сняли их: засиживаясь допоздна в харчевне и распивая самогон, они о чем-то до хрипоты спорили; наведывались сюда и размалеванные девицы, но не часто, лишь в тех случаях, когда где-нибудь неподалеку размещалась на отдых или на переформирование немецкая воинская часть.
В ранние часы харчевня обычно пустовала, и сегодняшнее появление в ней двух молодых людей было неожиданностью для хозяина.
— Может, панове еще чего желают к столу? — осведомился он, угодливо кланяясь. — Есть жареные угри, окорок, вареные яйца... Такого и в ресторации не попробуете...
— Сгинь! — прикрикнул на него шуцман и, скривившись, опрокинул в себя еще стакан мутного самогона.
Шинкарь мигом очутился за стойкой и больше не надоедал посетителям. А в углу за столиком тем временем продолжалась беседа. Говорил кудрявый:
— Нашей повстанческой армии нужны мужественные воины, которые не остановятся ни перед чем в достижении высокой цели, не пощадят жизни за свободную Украину. Сейчас мы еще много занимаемся уговорами, а надо будет — мобилизуем всех колеблющихся панов гречкосеев. Они никак не поймут, дурачье, что именно теперь есть возможность послужить нашей государственности, чтобы занять потом большие посты. Кто в этот трудный час докажет делом свою преданность, перед тем в будущем всюду откроются двери, в том числе и в самом войске... Из кого мы завтра будем готовить украинских офицеров и генералов? Из молодых, способных людей, которые примут боевое крещение огнем. Вот и ты, приятель, кто знает, может, сотенным станешь, полковником, а то и выше прыгнешь... Выпьем! За тебя, за нового стрельца украинского войска!
— Очень вам благодарен, пан... друже командир, — шуцман захлебнулся водкой, закашлялся. — Я рад, что... вот так... с вами вдвоем... Неужели мы не сможем хотя бы на день съездить к моему батьку, в село Бармаки? Он приветил бы вас. Такую встречу закатил бы...
— Возможно, съездим, парень. А почему бы нет?
— Хотел еще спросить...
— Спрашивай.
— Слышно, наши теперь в лесах группируются. Когда же мне туда направляться?
— Не спеши, — усмехнулся кудрявый. — Приказ будет, тоже пойдешь. Но учти, может случиться, что тебе придется остаться в городе.
— Это почему?
— Не понимаешь? А вот почему: в городе нам всегда нужны будут свои люди, способные безоговорочно выполнять приказы центрального и местных проводов ОУН. Ты многое можешь сделать, приятель. На такой службе, как у тебя, ты всегда сможешь оказать помощь кому нужно.
— Помощь в тюрьме? Наших немцы там не держат, а помогать коммунистам и евреям... хе! И не подумаю, друже командир! — Полицай надкусил помидор, розовый сок брызнул на стол, на белую рубашку кудрявого. Тот бросил пренебрежительный взгляд на вспотевшего шуцмана, на миг брезгливо сморщил лицо, но тут же снова заговорил, снисходительно улыбнувшись:
— Мало ты еще знаешь, приятель. Сейчас в тюрьмах полно всякого люда, и не так легко проведать, что у кого в мыслях, кто арестант есть на самом деле. Немцы тоже иногда туману напускают с арестантами: когда нужно, прячут концы в воду. Говоришь, коммунисты? Нам и об этом важно знать. К примеру, кто именно из них попал под замок? Кто из села, кто из города?
— Разные там встречаются в камерах... И ровенские есть, и из районов волокут некоторых. Знаю двоих — были председателями колхозов, одна учительница-коммунистка сидит уже почти месяц, трое с железной дороги, тоже коммунисты... Если надо, разнюхаю и про остальных, список составлю.
— Вот видишь, а ты сомневаешься, что в немецкой тюрьме не найдется для тебя дела, полезного будущей самостийной Украине. Но списка составлять не нужно. Это опасно. Лучше запоминай фамилии и места, откуда привезены арестованные. Расскажешь потом мне с глазу на глаз... Ну а за последнее время эсдэ или гестапо не подбросили вам кого-нибудь из новеньких? Отсюда, из Ровно?
Шуцман утвердительно кивнул:
— Недавно гестаповцы сцапали советского шпиона. Возле самого гебитскомиссара пристроился. Говорят, с немцами за ручку здоровался, на бричке разъезжал, а сам тем временем офицеров СД ядом травил, аж к самому пану Коху подбирался. Ну вот, схватили его и теперь держат в одиночной камере, как самого опасного арестанта.
Кудрявый медленно, не глядя на стол, отодвинул ребром ладони стакан, спросил, почти не размыкая губ:
— Ты видел его?
— А как же! Даже два раза на допрос водил. С немецким вахтманом мы вели его под руки, будто пана какого. Сам он ходить уже не может. Гейнц его так обработал, что он еле ноги волочит.
— Кто такой Гейнц?
— Обер-фельдфебель. Говорят, чехам бензин продавал, за это и сидит. А как допрашивают кого, за ним посылают. Кулаки у фельдфебеля что твои гири! Ударит, кости трещат. Умеет бить, стерва, здорово у него получается, — оживился шуцман, и вдруг тихо вскрикнул, дернувшись на стуле: сапог кудрявого с силой придавил под столом ему ногу. Скользнув взглядом по растерянному, испуганному лицу полицая, кудрявый кивнул в сторону хозяина харчевни: дескать, услышит! — хотя тот сидел вдали за стойкой, безразлично щелкая на счетах.
— Вот что, парень, — голос кудрявого стал вкрадчивым, но в нем слышалась угроза. — У нашей службы безопасности есть свои гейнцы, тоже умеют дробить кости, не хуже твоего фельдфебеля. Кто нам изменяет, быстро лишается головы. Ляпнешь где об этом разговоре, сам тебе заткну глотку. — В его руке, показавшейся на миг из кармана, шуцман увидел пистолет и позеленел от испуга. — Арестованный, о котором ты рассказал, высокий такой, красивый мужчина с темными усиками?
Осоловевшие глаза шуцмана округлились:
— Да, то он... Высокий... с усиками...
— Так вот, знай, парень: он вовсе не москаль и не большевистский агент. Врут немцы! То храбрый рыцарь, один из провúдныков нашей ОУН, имеет такие заслуги перед Украиной, которые тебе и не снились... Какого черта дрожишь! Никто тебя не будет принуждать нападать на тюремную охрану, до этого ты еще не дорос!
— Если прикажете... Если я смогу...
— Что ты сможешь? Сможешь передать ему пистолет или гранату?
— Невозможно, совсем невозможно, — в отчаянии зашептал шуцман, со страхом поглядывая на карман кудрявого. — Нас каждый раз обыскивают при входе в тюрьму, гвоздя не пронесешь. Разве что на словах передам ему... если удастся... что-нибудь от вас. Пока еще его не вывезли на «семерке»...
— Куда должны вывезти? На какой «семерке»? — темные глаза кудрявого сузились, он весь напружинился, словно струна. — Рассказывай! Язык проглотил, что ли?
Окончательно сбитый с толку поведением своего щедрого соседа в вышитой рубашке, особенно тем, что тот внезапно переменился, когда услышал об арестанте из камеры-одиночки, шуцман растерялся и перепугался одновременно. Он чуть не плакал, не понимая, чем не угодил «другу командиру», который еще несколько минут назад так приветливо разговаривал с ним, как с равным, а теперь готов наброситься ястребом, скажи он не в лад хоть слово.
Слегка заикаясь от волнения, боязливо заглядывая в глаза соседу, шуцман стал путано рассказывать о «семерке» и о том, куда могут вывезти этого арестанта из одиночной камеры.
Он простой шуцман, охранник, и знает совсем немного. Что гестаповцы почти каждую ночь допрашивают того заключенного, это ему известно. После допросов часто сажают в карцер — есть в тюремном подвале такая кирпичная яма, залитая водой... Не давали ему есть, пить и спать. Видно, немцам ничего не удалось от него дознаться, потому что Гейнц всякий раз возвращается после «работы» к себе в камеру злой как собака. А если фельдфебель в плохом настроении, то в тюрьме все знают, что и его кулаки не помогли гестаповским следователям... Сейчас того человека в карцере уже не держат, дают ему немного прийти в себя. В тюрьме прошел слух, будто им заинтересовалось высокое начальство из гестапо и немцы собираются вывезти его в Берлин. Правда это или брехня, он, шуцман, не знает точно, но такие разговоры среди охранников ведутся. Потому он и вспомнил о «семерке». Так в тюрьме называют большую грузовую машину с зеленым закрытым кузовом без окон. Когда арестованных увозят куда-нибудь из города, то гестаповцы доставляют их к вокзалу в этой машине. На ней нет номерных знаков, лишь на дверцах кабины белой краской намалевана цифра «7». Отсюда и пошло в тюрьме название «семерка».
Шуцман замолчал. Кудрявый, словно забыв о собеседнике, мял сигарету, не замечая, что она уже раскрошилась в его пальцах. Потом стряхнул с колен крошки табака, вынул из пачки новую сигарету. Долго прикуривал, прощупывая внимательным взглядом шуцмана, тихо говорил:
— Интересно, интересно... Значит, хотят вывезти на «семерке»... А когда? Когда именно повезут? Надо обязательно разнюхать. Ты, парень, говоришь, в Станиславе в семинарии учился, немецкий язык знаешь. Так вот, навостри уши, прислушивайся там ко всему. Узнаешь, сообщишь мне, и нашивки унтер-офицера УПА тебе обеспечены. Об этом я позабочусь сам.
— Друже командир, я сделаю все, что смогу, — проговорил шуцман почти трезвым голосом. — Попытаюсь сделать, что бы там ни было. Но учтите, друже командир, я всего лишь рядовой охранник, да еще из украинцев. Нам немцы не особенно доверяют. При входе на территорию тюрьмы даже карманы выворачивают... Если мне не удастся узнать, ради бога не подумайте, что я... Это нелегко, но я попытаюсь, обязательно попытаюсь... Только и вы, друже командир, не забудьте о своем обещании...
— Вот теперь я слышу голос мужчины. — Кудрявый скупо улыбнулся и поманил рукой хозяина харчевни, чтобы расплатиться. — А насчет моего обещания будь спокоен, приятель. Унтер-офицерские погоны. Понял?
5
От тюрьмы гестапо к вокзалу самый удобный путь пролегал по улице Сталина, переименованной оккупантами в Гитлерштрассе. Достаточно широкая, вымощенная камнем, эта улица брала начало в восточной части Ровно, у асфальтированного шоссе на Киев, и, рассекая город на две почти одинаковые половины, выходила к противоположной его окраине, где сливалась с Луцким трактом.
Федора Шкурко и его спутника интересовала не вся Гитлерштрассе, а лишь сравнительно небольшой ее отрезок от тюрьмы до деревянного моста через Устье, точнее, до ее перекрестка с Вокзальной улицей. Федор вместе со своим кудрявым другом неторопливо шагали по тротуару, бросая взгляды на проносившиеся мимо машины. На перекрестке Гитлерштрассе с Вокзальной улицей, возле кинотеатра, они на некоторое время задержались, затем, словно прогуливаясь, пошли обратно. По их предположению, именно этим маршрутом должна была следовать гестаповская «семерка».
Машину с крытым кузовом без окон и цифрой «7» на кабине они видели уже несколько раз. Чтобы проследить весь путь «семерки» от тюрьмы до вокзала, Шкурко вечером расставил своих людей по Гитлерштрассе, возле моста через Устье и в районе железнодорожной станции. Как удалось установить, «семерка» не делала поворота на Вокзальную улицу возле кинотеатра. Ее водитель то ли по собственной инициативе, чтобы несколько сократить путь, то ли по указанию начальства, не доезжая до моста, круто сворачивал с Гитлерштрассе на Красноармейскую, потом на Широкую, а примерно через четверть часа зеленый кузов «семерки» появлялся у железнодорожных подъездных путей, на которых словно огромные спичечные коробки выстроились в ряд вагоны. Так повторялось трижды. Значит, это был постоянный маршрут машины.
Все складывалось удачно. На боковых, слабо освещенных улицах, где «семерка» делала два поворота, нападение на нее сулило гораздо больше шансов, чем на центральной Гитлерштрассе, по которой непрестанно курсировали патрули.
Шкурко и его спутник свернули на Красноармейскую, стараясь не попасться на глаза немецкому часовому, прохаживавшемуся с карабином за спиной возле комендатуры. Если бы молодой шуцман из тюремной охраны, что пил самогонку в харчевне, повстречался сейчас с ними, он обязательно узнал бы в кудрявом спутнике Шкурко того самого «друга командира», с которым два дня назад сидел за одним столиком.
Сергея Борко, который передал нам секретный циркуляр ОУН, привел в харчевню на окраине города рассказ Луця о беседе со Смияком в гебитскомиссариате. Роль бандеровского эмиссара, вербовщика стрельцов в УПА, Сергей сыграл безупречно. Его заранее продуманный разговор о «самостийной Украине», о «повстанческой армии» поразил воображение честолюбивого молодого полицая из семинаристов. Борко встречался с ним и раньше на одном из сборищ националистически настроенных молодчиков. Тогда шуцман видел Сергея в роли докладчика, который по поручению политреферента бандеровцев выступал с сообщением о задачах всеобщего политического и военного обучения украинской молодежи.
Если говорить откровенно, надежда на молодого шуцмана была довольно шаткой. Борко не очень верил, что тот сумеет точно узнать, когда гитлеровцы предполагают везти Поплавского из тюрьмы на вокзал. Не было у него уверенности и в том, что немцы на самом деле собираются отправить Виталия Семеновича в Германию. Разговоры охранников на эту тему могли оказаться всего лишь тюремными сплетнями, нередко возникающими вокруг того или иного заключенного, личность которого остается загадочной для окружающих. Однако выбора у нас не было. Поэтому, несмотря на все сомнения, мы не могли пренебречь даже такой шаткой возможностью, чтобы попытаться спасти Поплавского, вырвать его из рук гестапо.
Операцию готовил Шкурко. Вместе с Сергеем Борко они определили место, откуда было более удобно напасть на гестаповскую «семерку». Местом для засады был избран небольшой полуразрушенный дом без окон, с повалившимися внутрь стенами и еле державшимся, провисшим потолком, расположенный в нескольких десятках метров от реки Устье, на улице Широкой. В помощь Федору и Сергею мы выделили боевую группу из пяти человек. Двум подпольщикам поручили прикрывать действия атакующей группы в случае, если к месту стычки успеют примчаться фашистские патрули. В полуразрушенный дом заблаговременно доставили и спрятали под грудой битого кирпича оружие — три автомата и гранаты. Участники операции собрались в конспиративной квартире, расположенной вблизи места засады.
Восемь дней боевая группа ждала вестей от шуцмана из тюремной охраны. Он встретился с Сергеем Борко лишь на девятый день, сообщил, что заключенного, который интересует «друга командира», вывезут из тюрьмы предстоящей ночью.
Расчет, казалось, был правильным, и все же операция сорвалась. Почему так случилось, об этом Шкурко рассказывал мне впоследствии с горечью и тяжелым сердцем, не поднимая глаз, будто во всем происшедшем был виноват он сам.
Упрекать же Федора Захаровича было не в чем и не за что. Боевая группа подпольщиков во главе со Шкурко, заняв позицию в развалинах дома на Широкой, напрасно почти до рассвета ждала появления зеленой машины. Напрасно потому, что «семерка», выехав около полуночи из тюремных ворот, направилась не к вокзалу, как мы предполагали, а сделала разворот влево и помчалась по Гитлерштрассе в противоположную сторону. Михаилу Анохину, которому было поручено наблюдать за тюремными воротами из подъезда соседнего дома, оставалось лишь проводить ее взглядом. Часа через полтора «семерка» возвратилась и после этого до утра уже не выезжала за тюремные ворота.
Можно было думать разное. Возможно, что-то напутал знакомый Сергею Борко шуцман? А может быть, гестаповцы по какой-то причине отложили отправку Поплавского? Кое-что прояснилось лишь на следующий день. Сергею Борко удалось встретиться с тюремным шуцманом. Тот клялся и божился, что заключенного с черными усиками в тюрьме уже нет, его вывезли ночью и именно на «семерке», а не на какой-либо другой машине. Охранник уверял, что видел сам, как тюремная стража подсаживала арестанта в зеленый кузов. Почему его повезли не к железнодорожной станции, шуцман не знал.
Значит, гестаповцы все же увезли Поплавского из тюрьмы. Но куда?..
Пройдет еще несколько дней, и тайна исчезновения Виталия Семеновича раскроется.
Мы, правда, уже почти догадывались: наверно, случилось самое страшное — гестаповцы расстреляли Поплавского, но пока даже самим себе не признавались в этих догадках. Надо было убедиться.
Как-то ночью Федор Шкурко пробрался за город к урочищу Выдумка. Подсвечивая себе электрическим фонариком, он больше часа ходил по страшному месту, о котором ровенчане говорили шепотом. Под его ногами тускло поблескивали патронные гильзы. На закопченных квадратах металлических щитов, валявшихся в балке, Федор увидел такое, отчего у него невольно перехватило дыхание: целую гору перемешанного с песком пепла и обуглившихся человеческих костей. Словно оцепенев, стоял он над останками расстрелянных и сожженных, стоял долго, не в силах пошевелиться. Потом медленно повернулся, намереваясь идти обратно в город, и неожиданно натолкнулся на темный, прибитый дождем бугорок. Тут же увидел польский солдатский ремень с массивной пряжкой, тот самый, который еще в дни работы Виталия Семеновича на фабрике валенок подарил ему Иван Иванович Луць. Под утро Федор возвратился в Ровно. Принесенный им солдатский ремень с массивной пряжкой молча и неопровержимо свидетельствовал о том, что случилось непоправимое. Той тревожной ночью, когда сорвалась задуманная нами операция, именно к урочищу Выдумка проследовала гестаповская «семерка». И этот ее маршрут был последним в жизни подпольщика инженера Виталия Семеновича Поплавского.
...Поздно вечером на Дубновской улице кто-то убил немецкого офицера. На труп натолкнулся ночной патруль. Убитый не имел при себе документов, расстегнутая кобура его пистолета была пустой. Гитлеровцы окружили несколько кварталов, перевернули все вверх дном в десятках квартир. Это был уже не первый случай на Дубновской. За день перед тем тут же нашли мотоциклиста-офицера СС с раскроенным черепом. Мотоцикл убитого врезался с разгона в забор, и смерть эсэсовца вначале объясняли несчастным случаем: мчался, дескать, на большой скорости, его и занесло на повороте... Однако обнаружение в том же районе еще одного трупа насторожило немцев. Кто-то из них вспомнил, что и у мертвого мотоциклиста в кобуре не оказалось парабеллума.
Несколько дней спустя — снова двое убитых. В одном из них опознали гауптмана, который направлялся ночью к вокзалу; второй — не то солдат, не то офицер, без мундира и оружия валялся в переулке, метрах в двухстах от комендатуры.
Гестаповская машина пришла в движение. Повсюду начали шнырять переодетые агенты. Усилилось патрулирование улиц. Начальник гарнизона издал приказ, категорически запрещавший немецким солдатам и офицерам появляться ночью на улицах города в одиночку. Были введены новые образцы ночных пропусков, которые теперь выдавались немецким гражданским чиновникам и лишь в исключительных случаях фольксдейче. Еще реже такие пропуска получали местные жители, независимо от занимаемых ими должностей в иерархии оккупационных и других учреждений. Среди ночи часто трещали выстрелы: гитлеровцы открывали огонь по каждому, кого выхватывали из темноты лучи их фонариков, кто не останавливался с поднятыми вверх руками после первого окрика.
Нарушение режима комендантского часа каралось смертью и раньше, но все же подпольщики понемногу приноровились к жизни оккупированного города, находили более или менее безопасные пути, пробираясь, если это было необходимо, под самым носом у патрулей, по затемненным улицам. Теперь с наступлением темноты почти невозможно было выйти из дома. Диверсии против немецких офицеров, осуществленные кем-то из патриотов на Дубновской, осложнили наше положение.
В самом глухом закоулке в любой момент можно было услышать короткое и грозное «Хальт!», а вслед за тем тьму прорезали вспышки автоматных очередей.
Наши попытки выяснить, кто осуществил смелые, отчаянные, но недостаточно продуманные диверсии, долгое время оставались безрезультатными. Руководители подпольных групп все, как один, отвечали: «Не знаем!» Оставалось предположить, что кто-то из подпольщиков действовал по собственной инициативе. Но возникали и иные предположения. Возможно, в городе появилась другая, не связанная с нами подпольная организация. Ведь Федор Шкурко докладывал как-то об антифашистских листовках, отпечатанных не на нашем ротаторе. Это предположение казалось не лишенным вероятности. Но Иван Иванович Луць пришел к другому выводу.
— По-моему, зря мы ломаем голову, — сказал он однажды, зайдя ко мне в кабинет «по служебным делам». — Думаю, что не ошибусь, если скажу, что офицеров на Дубновской прикончил Николай Поцелуев.
— Почему именно Поцелуев? — спросил я.
— А вот почему. Когда мы первый раз встретились с ним на квартире у Веры Макаровой, то оставили ему свой старый наган. Ты же помнишь? Ну так вот, вчера, по пути домой, я заглянул на склад утильсырья, где теперь Поцелуев работает. На складе он был один. Побеседовали. У него все в порядке, работой доволен. Управляются они там вдвоем с Гуцем, никто им не мешает. Заведующий, как и прежде, болеет, почти не появляется на складе... После разговора Поцелуев вытащил из-под тряпок наш наган и протянул его мне, при этом хитровато улыбнулся и сказал: «Возвращаю одолженное, проценты, как обещал, могу отдать хоть сейчас. Вот они!» И тут же положил передо мной несколько пистолетов, новеньких, будто только что с завода: выбирай, мол, какой на тебя смотрит. Спрашиваю, где взял. Не говорит, только улыбается. По лицу вижу, доволен, весь сияет. Тут-то я и догадался: трупы немецких офицеров на Дубновской — его рук дело. Промолчал я и ничего не сказал, но, думается, нужно поговорить с парнем серьезно, чтобы не очень самовольничал, не лез на рожон.
— Поговорить, конечно, нужно. Но как, вот вопрос. Ведь он по-своему прав. Партийное подполье существует не для того только, чтобы вести антифашистскую пропаганду, печатать и распространять листовки. Истреблять оккупантов тоже наша задача. Не станешь же читать мораль Поцелуеву, будто он поступил неверно, отправив к праотцам нескольких фашистских головорезов.
— Мораль не мораль, а так не годится, — хмуро проговорил Луць. — Если каждый из нас начнет в одиночку охотиться на гитлеровцев, убивать, когда кому вздумается первого встречного из них, то боюсь, что ровно через неделю от нашей организации ничего не останется. Передушат, как кроликов. Понимаю, разговор будет нелегким. Но Поцелуев — человек военный, он обязан понять, что существует дисциплина. А действовать так, как он, нельзя. Этим мы ставим под удар и себя, и сотни других людей, подчас даже не имеющих отношения к подполью.
— Все это верно. Но мы тоже хороши. Устроили Поцелуева на склад утильсырья и забыли о нем. Человек он смелый, боевой, считай, из самого пекла выбрался. Рвется на живое дело, а мы ничего ему не поручаем. Вот он и решил сам себе определять задания. Такой уж у парня характер, без дела сидеть не может. Поэтому, думаю, лучше всего обойтись без нотаций. Хотя поговорить с Николаем нужно, обязательно нужно.
Я попросил Луця передать Федору Шкурко, чтобы он предупредил Поцелуева о том, что я хочу встретиться с ним.
В конце следующего дня Николай ждал меня на квартире Александры Венедиктовны Чидаевой. Я с трудом узнал его: так изменился он с момента нашей первой встречи, хотя времени прошло не так уж много. На лице политрука не осталось и следа от лагерной изнуренности и болезненной бледности. Он словно помолодел. Хорошо отглаженный синий костюм, белая рубашка, модный галстук придавали его внешности почти элегантный вид. Светлые волосы были аккуратно зачесаны, смуглые щеки гладко выбриты.
Начинать разговор издалека не было необходимости. Я сразу сказал Поцелуеву, что нам известно, кто ликвидировал немецких офицеров на Дубновской и возле комендатуры. Тут же, как мог, постарался объяснить ему: подпольный Центр вовсе не против того, чтобы истреблять оккупантов, каждый из нас с удовольствием занялся бы этим полезным делом. Но мы не можем допускать, чтобы любой подпольщик действовал на свой страх и риск, руководствуясь лишь собственными соображениями, не считаясь ни с дисциплиной, ни с особенностями подполья. Нельзя забывать, что непродуманный поступок одного может привести к гибели десятков советских патриотов, к трагическому концу всего подполья.
Поцелуев немного смутился, но явно не склонен был соглашаться с моими доводами или оправдываться. Упрямо качнув головой, он сказал с некоторым вызовом:
— Да, тех негодяев уничтожил я, отказываться не намерен! Сам рисковал и, если бы что случилось, сам и расплатился за все. Никто бы от этого не пострадал.
Чтобы несколько смягчить напряженность начавшегося разговора, я, будто меня это больше всего интересовало, спросил:
— Интересно, как это вам удавалось всякий раз уходить от преследования? Ведь немцы прочесывали чуть ли не каждый дом.
— Интересного не так уж много, — нехотя ответил Поцелуев. — Опасно — это верно. Но к опасности я привык и на фронте, и в лагере. — Он сделал паузу и уже с несколько большим оживлением продолжал: — Все началось со случая на Дубновской. Иду я как-то под вечер по этой улице. Шагаю не спеша, на палку опираюсь. Нога у меня болит. Это с тех пор, как из вагона прыгал, ударился о шпалу. По сей день ноет. Так вот, иду, вокруг ни одного немца. А я, сами знаете, вынужден присматриваться к ним. Город-то не очень большой: встретишься случайно с каким-нибудь охранником из лагеря, узнает во мне бывшего военнопленного, ну и пиши пропало... Подхожу к деревянному забору и вдруг слышу трещит мотоцикл, вынырнул откуда-то из-за угла и несется навстречу. Вижу, офицер едет, один, без водителя, сам управляет мотоциклом. Я остановился — пусть проскочит. А он, сволочь, заметил меня, крутит руль и на полном ходу целится прижать меня коляской к забору. И сам смеется, фашистская морда. Весело, видите ли ему! Улица узкая, бежать некуда. Ударит, думаю, коляской, ноги переломает. Закипело у меня все внутри.
Еле успел к забору прижаться, а он уже рядом. Рука просто сама дернулась — поднял я палку да и рубанул его изо всех сил по башке. Палка у меня в тот раз была крепкая, дубовая. Подпрыгнул фашист на седле, выпустил руль и на булыжник грохнулся. Мотоцикл с разгона — в забор, только доски затрещали... Оглянулся я туда-сюда: никого, кругом тихо. Наклонился к офицеру, не дышит. Выдернул у него из кобуры пистолет, и айда подальше от Дубновской... Вот так оно все и вышло. Не наезжал бы он коляской, не тронул бы я его. Но ему, гаду, развлечься приспичило...
— И тот, второй, которого нашли без документов, тоже хотел прижать вас к забору?
Поцелуев старательно поскреб ногтем колено, оттирая чуть заметное пятнышко на выглаженных брюках. Внимательно поглядел на меня, как бы размышляя, стоит ли рассказывать. Все же не выдержал, сказал:
— Тот нет. Тот шел пешком, видно, подвыпил и насвистывал какую-то песенку, «Марлен», что ли. Встретил меня, остановился, наверно, принял за полицая. Спрашивает: «Иван, где тут есть красивый русский Катуша? Скажешь, цвай сигаретен дам для твой закуривания». Щедрый офицерик! Но все равно обдурить хотел: в его карманах сигарет я не обнаружил... Короче говоря, стал я подстерегать их, — продолжал Поцелуев уже серьезно. — Знаете, как оно бывает, раз обошлось благополучно, два обошлось, а дальше уничтожать этих гадов сам бог велел, да и оружие, думаю, нам не лишним будет. Еще двух прихлопнул. Вот, собственно, и все.
— Пистолеты у вас? — спросил я.
— У меня.
— Один можете оставить себе. Остальные сдайте Шкурко.
— Будет исполнено! — отчеканил Поцелуев.
— И теперь вот что, на будущее. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, посоветуйтесь со Шкурко, со мной или Луцем. Мы обязаны знать, чем занимаются подпольщики, какие действия собираются предпринимать. Я не имею намерения отчитывать вас, товарищ Поцелуев, вы не мальчик и хорошо все понимаете сами. Тем не менее хочу категорически предупредить, что без согласования со Шкурко, в группу которого вы зачислены, запрещаю проводить какие-либо самочинные диверсии. Прошу отнестись к моим словам со всей серьезностью.
— Все понятно.
— А теперь есть у меня к вам, товарищ Поцелуев, одно предложение...
И я подробно изложил ему суть не очень трудного на первый взгляд задания.
Два дня назад из подпольной группы, что успешно действовала на железной дороге, нам сообщили: на товарной станции выгружено прямо под открытое небо много ящиков и большое количество стеклянных бутылей в деревянных футлярах. Этот груз, может, и не заинтересовал бы нас, но, как выяснилось, бутыли были адресованы Ровенской фабрике валенок. Они заполнены серной кислотой, без которой наша фабрика не может давать продукции. Заместителю гебитскомиссара Боту было известно, что довоенные запасы кислоты у нас почти на исходе: мы истратили ее в основном на изготовление валенок по частным заказам. А поскольку гебитскомиссариат все же надеялся в конце концов получить шерсть, тот же Бот и позаботился, чтобы нам доставили кислоту. Деревянные ящики, сложенные штабелями возле станционных цейхгаузов, тоже достойны внимания: в них упакованы различные материалы и инструменты, на которые верноподданные шефы некоторых городских предприятий еще несколько месяцев назад подали в промотдел заявки. Пока фабрика валенок не получала уведомления о прибытии химикатов, бутыли с кислотой надо во что бы то ни стало уничтожить.
— Это очень важно, — напомнил я Поцелуеву. — Если бутыли с химикатами удастся уничтожить, то даже при наличии шерсти фабрика не сможет наладить массовое изготовление валенок, которых ждут к зиме гитлеровские солдаты и офицеры.
— Охрана на станции, конечно, имеется? — осведомился Николай.
— Да, охрана есть, хотя и не очень сильная, — ответил я. — Ящики с материалами для городских предприятий и бутыли с кислотой, как мне известно, охраняет один полицай. С ним, я полагаю, справиться нетрудно. Главное в том, чтобы уничтожить эти проклятые бутыли, пока мы не получили на них документы и они числятся еще за железной дорогой. Понимаете, в чем дело? Как только сопроводительные накладные на груз поступят к нам, мы должны отвечать за каждую бутыль. Вы сами знаете, у немцев в этом отношении строго... Не думайте, что задание пустяковое. Какие-то там химикаты и прочее, вроде мелочь. За этими неказистыми бутылями с кислотой — тысячи пар валенок для фашистской армии. Одним словом, овчинка стоит выделки... Как вы смотрите на то, чтобы возглавить операцию по уничтожению грузов? Сколько потребуется помощников? Еще раз повторяю: дело не шуточное, задание ответственное.
Николай встал, походил по комнате, что-то обдумывая, затем, быстро обернувшись ко мне, сказал:
— Бутыли и ящики беру на себя. Никаких помощников не нужно. Одному удобнее...
На следующий день вечером, как только город погрузился во тьму, на станции внезапно вспыхнул пожар — загорелись сложенные в штабеля ящики и бутыли в деревянных футлярах. К месту происшествия быстро прибыла городская пожарная команда, а вслед за ней примчались два грузовика с солдатами из какой-то тыловой части, расквартированной в соседнем селе. Цейхгаузы они от огня отстояли, но спасти бутыли с кислотой и ящики с материалами не удалось: к ним нельзя было подступить из-за едкого пара, от которого раздирало легкие.
С чего начались и как развертывались события на станции, для меня (и не только для меня) долгое время было загадкой. Сколько мы ни просили Николая Поцелуева рассказать, каким образом он пробрался к штабелям, как отделался от часового и осуществил поджог, он всякий раз либо отмалчивался, либо переводил разговор на другую тему.
Подпольщики, работавшие на железной дороге, позже рассказывали, что полицая, верзилу чуть ли не двухметрового роста, охранявшего груз у цейхгаузов, после пожара немецкие солдаты выволокли полуживого, перепачканного мазутом из-под старого вагона. Железнодорожные жандармы пытались выяснить у него, отчего загорелись ящики. Однако полицай, трясшийся, как в лихорадке, ничего толком рассказать не мог. Молол какую-то чепуху: будто на него напали немцы, которыми командовал капитан или старший лейтенант войск СС, будто стали его душить, а он отбивался, как мог, до последней возможности, пока кто-то не стукнул его прикладом по затылку.
Офицер железнодорожной жандармерии, не дослушав до конца путаные объяснения шуцмана, со злостью плюнул и влепил ему по уху кулаком. А полицай, размазывая по лицу мазут, продолжал твердить одно и то же: «Немцы набросились... Ей-богу, не вру, то немцы были... Если бы я не вырвался, они обязательно задушили бы меня...»
Некоторую ясность в путаный рассказ полицая о будто бы напавших на него немцах спустя какое-то время внес Александр Гуц.
В тот вечер, по его словам, он допоздна засиделся на складе утильсырья.
— Николай ушел рано, а я решил починить развалившиеся сапоги, — рассказывал он. — Сапожник из меня неважный, да и подходящего инструмента не было. Ну я и замешкался. Смотрю, на дворе темно: наступил комендантский час, а нового ночного пропуска у меня не было. Чего, думаю, зря рисковать. Останусь-ка лучше на складе. Ну и остался. Сижу себе, сапоги латаю. Вдруг около полуночи вижу: влетает на двор склада немецкий офицер. Без фуражки, взлохмаченный, лицо грязное, френч порван, одна штанина разодрана. Поначалу я даже испугался, от неожиданности ткнул шилом в палец. Зачем, думаю, черти тебя принесли в такое позднее время? Потом присмотрелся к офицеру и узнал в нем... Николая Поцелуева. Спрашиваю: «В чем дело? Откуда ты такой красивый появился?» Не отвечает...
Где Поцелуев взял офицерский мундир, нам было ясно без объяснений. Никто из нас еще не забыл, что одного из приконченных им офицеров гитлеровцы нашли полураздетым. А вот почему Поцелуев прибежал на склад в таком живописном виде, да еще с синяком под глазом, Гуц объяснить не мог. Сам же Николай об этом почему-то предпочитал молчать.
Не один месяц после того случая мы провели с Поцелуевым в ровенском подполье, стали хорошими друзьями, довольно часто встречались. Николай много раз ходил на задания, но уже никогда не надевал немецкого мундира — ни офицерского, ни солдатского, даже если это вызывалось порой необходимостью. «Обойдусь своим, — обычно говорил он. — Чего это я вдруг стану переодеваться, напяливать на себя мышиный френч?»
Почему Поцелуев так ревностно соблюдал зарок не переодеваться в немецкую военную форму, я совершенно случайно узнал много лет спустя, когда работал в Берлине.
Мне приходилось тогда встречаться с людьми, принадлежавшими к различным слоям населения германской столицы. Приводило их ко мне или меня к ним множество разных дел, возникавших в тяжелые послевоенные годы и требовавших решения или выяснения при участии обеих сторон. В ходе этого общения нередко завязывались знакомства.
Одним из моих знакомых стал и Альфред Баас, коренной берлинец; он давал мне консультации по немецкому языку. Альфред принадлежал к той категории молодых немцев, которые многое поняли за годы войны и в послевоенный период старались побыстрее сбросить с себя груз прошлого. Он обладал трезвым умом, был интересным собеседником, хорошо знал историю своей страны, много рассказывал мне о немецкой культуре.
Баас был моложе меня на два года. На память о восточном фронте у него остались перебитые ребра и контузия, после которой он стал плохо видеть и не расставался с очками в толстой роговой оправе, резко выделявшейся на его бледном задумчивом лице.
Как учителя мне рекомендовали его берлинские товарищи, и, надо сказать, не ошиблись: с помощью Альфреда я в немалой степени усовершенствовал свои скудные знания немецкого языка. Дело значительно облегчалось тем, что Баас, находясь в плену, научился довольно бегло говорить по-русски. Консультировал он меня раза два-три в неделю. Кроме того, как добрые знакомые, мы иногда встречались с ним за чашкой кофе.
Он уже слышал, что в годы войны я вел подпольную работу в Ровно, и как-то сказал мне, улыбаясь:
— Я ведь тоже однажды оказался в роли... советского партизана. Да, да, не удивляйтесь... Как это ни странно, но было действительно так. Вы, вероятно, помните о пожаре на железнодорожной станции, когда сгорели бутыли с кислотой и ящики с материалами для городских предприятий?
— Да, конечно помню, — ответил я.
— Кто бы, вы думаете, осуществил поджог? Вы, разумеется, можете назвать фамилию человека, вашего человека... Теперь в этом нет секрета... На самом же деле поджигателем был я. Поверьте, я не шучу. Именно я поджег штабеля ящиков, — взволнованно говорил Баас.
Я слушал его с недоверием, одновременно размышляя над тем, зачем вдруг потребовалась Альфреду эта ложь? Ведь он не из тех (в этом я был убежден), кто ради шкурных интересов готов приписать себе несуществующие заслуги. Но поскольку он говорил о событиях, близких и дорогих моему сердцу, у меня вдруг возникло чувство неприязни к нему. И это чувство росло, ширилось с каждой минутой. А Баас, отпивая маленькими глотками кофе, продолжал спокойно рассказывать, будоражить мои мысли. Очевидно заметив мое состояние и почувствовав, что кроме заинтересованности вызвал у меня своим рассказом настороженность, он поспешил объяснить:
— Да, я понимаю: немецкий офицер совершает диверсию против рейха — парадокс. Не правда ли? Но не думайте, пожалуйста, что перед вами антифашист с большим стажем, который совершил самоотверженный поступок, направленный против нацизма еще тогда, когда многие и многие его соотечественники видели в Гитлере чуть ли не бога. В тот раз все произошло совершенно неожиданно, я не успел даже опомниться...
Он отпил несколько глотков кофе, а затем продолжал:
— В Ровно я попал после лечения в госпитале. Был направлен штабом армии в ваш город, на железнодорожную станцию с заданием вести учет военных грузов. В ту пору мне было двадцать семь лет, я имел чин обер-лейтенанта, успел в достаточной мере понюхать пороху, после ранения чувствовал недомогание. Поэтому меня вполне устраивала новая тыловая служба в тихом украинском городе, вдали от фронта. Обязанности мои были несложные. На железной дороге я никому не был подчинен и подотчетен. Короче говоря, лично для меня война на какое-то время отодвинулась в прошлое, и я мог лишь благодарить бога, что так получилось. Квартировал я в Ровно, недалеко от вокзала. Со станции на квартиру возвращался поздно, часто вынужден был задерживаться на службе до полуночи... Но в тот день, если вы помните, была суббота. Поэтому, покончив с делами, я несколько раньше обычного направился домой. Шел напрямик, между вагонами, стоявшими в тупике. Ночь была ясная, лунная. Когда я приблизился к цейхгаузу, неожиданно увидел, что наш офицер, невысокий молодой пехотинец с погонами лейтенанта, борется с рослым шуцманом в черной шинели. Шуцман, я это знал, часовой из местной вспомогательной полиции, вцепился в офицера и мотал его из стороны в сторону, пытаясь свалить, прижать к земле. Лейтенант в свою очередь отбивался и старался дотянуться правой рукой с зажатым в ней пистолетом до головы шуцмана... Местный полицай бьет немецкого офицера? К такому мы тогда были непривычны! Я подскочил к ним и изо всех сил ткнул шуцмана кулаком под ребра. Тот от неожиданности выпустил лейтенанта, повернул ко мне вспотевшее, искаженное злобой лицо. Не раздумывая, я ударил его парабеллумом по голове. Полицай, попятившись, споткнулся о шпалы и мешком свалился под вагон.
У моих ног лежали винтовка шуцмана и фуражка лейтенанта. Я поднял фуражку, протянул офицеру, он взял ее, не проронив ни слова. В подобных случаях положено благодарить, а лейтенант будто онемел. «Что с вами? — спрашиваю. — Уж не откусили ли вы себе язык, герр лейтенант?», а сам внимательно смотрю на его поцарапанное лицо, стараюсь понять, действительно ли передо мной немецкий офицер. Хотел прикрикнуть на него, а тут сам перепугался до полусмерти: парабеллум лейтенанта упирался в мой живот. «Тихо! Подашь голос — застрелю на месте. Не понимаешь?» — произнес лейтенант на чистейшем русском языке, и я почти физически ощутил, что должно было произойти. «Я понимаю, — поспешно ответил я лейтенанту тоже по-русски. — Очень хорошо понимаю...»
Не отводя от моего живота пистолет, переодетый партизан (в этом я уже не сомневался) вытащил из кармана гранату и бросил на грудившиеся рядом ящики. Во все стороны полетели осколки, в нос ударил запах бензина. Он разбил бутылку с бензином, а мне со страху почудилась граната. Кивнув на брезент, которым были накрыты ящики, он повелительно скомандовал: «Поджигай!» Сначала я никак не мог сообразить, чего от меня хотят. Когда же он ткнул меня пистолетом в бок, все сразу стало понятно. Я выхватил зажигалку. Что мне оставалось делать? Пламя лизнуло брезент и быстро перекинулось на ящики. «Теперь марш отсюда!» — крикнул «лейтенант».
Еще не веря, что советский партизан отпускает меня, я что есть духу бросился в сторону от огня. Меня подгонял не только страх от неожиданной встречи с партизаном. Убегая от места возникшего пожара и от валявшегося под вагоном оглушенного шуцмана, я не меньше боялся того, что встречу патруль железнодорожной жандармерии. Он мог появиться в любой момент, и жандармы по-своему истолковали бы мое поведение... Я оглянулся. Тень «лейтенанта» промелькнула между вагонами. Он, вероятно, тоже спешил как можно быстрее убраться подобру-поздорову от опасного места...
Теперь вы верите, что я вовсе не шучу, говоря о своей причастности к партизанам? — спросил меня Баас, закончив рассказ. — Впрочем, в столь почетной роли я оказался вынужденно и ненадолго. А тот ваш парень... Он здорово рисковал, надев мундир немецкого офицера. Не знать ни слова по-немецки и натянуть на себя такую одежду — немногие пойдут на это. Кстати, вы знали его?
— Он был моим другом.
— Сколько удивительного случается иногда в жизни! Интересно, где же он теперь? — Баас вопросительно посмотрел на меня сквозь очки.
— В Ровно было гестапо, — ответил я.
Баас опустил глаза. Он понял все и больше не задавал вопросов.
Друзья протягивают руку
1
Они вышли из города вскоре после обеда. Было пасмурно, накрапывал холодный осенний дождь. Изредка мимо проносились немецкие машины, разбрасывая во все стороны комья грязи. По обеим сторонам дороги темнели оголенные деревья, ветер срывал с них последние листья.
Михаил Анохин плотнее запахнул ватник, перешитый из шинели, потуже затянул ремень. Закурили. Поцелуев оглянулся. Окраину Ровно закрывала серая пелена дождя. Тая на лету, в воздухе закружились первые снежинки.
Анохин поправил на плече мешок. В нем позвякивало: там была лопата, кирка с короткой ручкой, зубило, молоток, кусачки, ножовка. Друзья шли молча, пряча лица от холодных капель дождя. До села Антополь, куда они направлялись, от города около пятнадцати километров, но разбитая дорога и дождливая погода словно удвоили расстояние.
— Не повезло нам, — хмуро произнес Анохин. — Выйди мы на день раньше, по сухому добрались бы часа за два с половиной.
— Кто его знает, как лучше, — отозвался Поцелуев. — Идти в слякоть тяжеловато, верно. Зато меньше людей шатается по дорогам, а в нашем положении это немаловажно.
— Может, и так.
К Антополю они приблизились вечером, но заходить в село и не подумали. Свернув в сторону, Поцелуев и Анохин зашагали вдоль Киевского шоссе. Когда дошли до неглубокого оврага, спрятались там в мокром от дождя кустарнике, чтобы дождаться наступления темноты.
Эти места были знакомы Михаилу Анохину. Осенью сорок первого года гитлеровцы много раз пригоняли сюда военнопленных из ровенского лагеря, в числе которых был и он, Михаил. Опухшие от голода, обессиленные люди по четырнадцать-пятнадцать часов в сутки долбили кирками неподатливую землю, скованную ранними морозами, отрывали траншеи для подземного кабеля связи. То и дело слышались хлопки пистолетных выстрелов — эсэсовцы безжалостно добивали тех, кто уже не мог держать в руках лопату или кирку. Многие, очень многие сложили тут головы, сраженные пулями эсэсовцев, затравленные овчарками. На всю жизнь запомнилась Анохину эта бугристая, неровная степь, полоска дальнего леса, шоссе, запруженное вражескими танками, грузовиками, бронетранспортерами, мотоциклами, слившимися в нескончаемую громыхающую серую колонну, которая днем и ночью ползла на восток...
Холодной осенью сорок первого года Михаил был настолько слаб, что и у него кирка часто выпадала из рук. Трижды сваливался он в канаву, как в могилу, мял грудью холодные комья глины, стиснув зубы, сгребал их пальцами, упирался в них коленями и локтями, стараясь во что бы то ни стало подняться на ноги. Он знал, над канавой-могилой бессловесным призраком, положив ладонь на кобуру пистолета, стоит эсэсовский офицер, сверху в любой момент может прогреметь выстрел... Анохин трижды падал в похожую на могилу канаву и трижды выползал из нее. Не глядя на гитлеровского офицера, он вставал на дрожащие ноги, брал в руки кирку и почти автоматически, помимо воли снова начинал долбить мерзлую землю. Кирка казалась стопудовым молотом, но Анохин, наперекор всему, хотел жить и потому держался, держался до последней возможности...
Да, Анохину были очень хорошо знакомы эти места. И вчера, когда Федор Шкурко стал объяснять ему и Поцелуеву, куда надо идти, где искать зарытый в землю бронированный немецкий кабель, чтобы перерезать его и лишить хотя бы на время командование немецко-фашистских войск связи с Берлином, Анохин сам предложил: наиболее удобное место для диверсии район Антополя.
Телефонный кабель, связывавший Берлин со штабами гитлеровских армий на восточном фронте, тянулся на многие сотни километров. Возле Антополя он пролегал в каких-нибудь двадцати метрах от шоссе, по которому время от времени проносились грузовики, большей частью в одиночку, а временами небольшими колоннами. Они двигались либо в направлении Киева, либо в сторону Ровно.
Как только стемнело, движение по шоссе почти прекратилось. Разломив на равные части краюху хлеба. Поцелуев и Анохин поели, молча вытряхнули из мешка инструменты, направились к шоссе. Копали попеременно: пока один работал, другой наблюдал за дорогой. Как только вдали слышался гул мотора, оба отбегали в овраг, падали на землю. Проводив взглядом грузовик, снова возвращались к шоссе, продолжали работать. Копать пришлось в нескольких местах. Только поздно ночью наткнулись они на тугой жгут проводов, покрытых крепкой оболочкой.
Перерезать кабель оказалось непросто. Кусачки скользили по оболочке кабеля, не повреждая его. Ножовка быстро тупилась. В темноте, работая на ощупь, почти вслепую, Анохин промахнулся и полоснул себя ножовкой по руке. Брызнула кровь, но он продолжал пилить. Давно уже не чувствуя холода, время от времени смахивая с лиц обильный пот, Поцелуев и Анохин рвали, дробили, чуть ли не зубами грызли неподатливый кабель. Затем Николай положил кабель на кирку и стал рубить зубилом при тусклом свете электрического фонарика, который держал Анохин. Прошло не менее получаса, прежде чем кабель был наконец перебит.
Друзья присели отдохнуть. Ощупывая концы кабеля, щетинившиеся десятками перерубленных проводов, Анохин сказал:
— А что, Николай, если в эту самую минуту сидит где-то Гитлер, держит возле уха телефонную трубку, разговаривает с кем-то из своих генералов, а ты молотком бах — и конец разговору! Ну и рассвирепеет фюрер... Прекратилась связь с фронтом. Это тебе не шутка... Чертей кому-то надают таких, что тошно станет.
— Я о другом думаю, — отозвался Поцелуев. — Какие все же наглецы эти фашисты. Проложили кабель по чужой земле, закопали траншею, и не приходит им в голову, что кто-то может откопать кабель, извлечь его из земли, перерубить... Самоуверенные они до тупости...
— Привычка... До сих пор им легко удавалось целые страны под себя подминать, потому и обнаглели. Думали, на нашей земле тоже все будут перед ними шапки ломать, на колени падать, одного их взгляда бояться. Ошиблись, гады. Ну что, Николай, может, рубанем еще местах в двух?
— Давай. И вырубим небольшой кусок кабеля. Пусть немцы побегают, поищут, чем его нарастить.
Старательно засыпали яму и притоптали землю на месте, где был перебит кабель, собрали инструменты, пошли вдоль дороги дальше, к селу Белая Криница. Под горой за селом снова начали копать. В этот раз получилось удачнее — земля в траншее несколько осела, и по этой примете они безошибочно обнаружили, где зарыт кабель. Правда, тут он был уложен намного глубже, чем у села Антополь. Пришлось изрядно помахать лопатой, пока добрались до него. Зато потом работа пошла быстрее. Теперь они уже знали, как скорее и проще перебить тугой жгут проводов, покрытый крепкой оплеткой. Именно в этом месте решили вырубить кусок кабеля, чтобы немцы, обнаружив повреждение, не смогли восстановить телефонную магистраль простой спайкой проводов.
Увлекшись работой, Анохин и Поцелуев вовремя не услышали шум моторов приближавшихся машин. Спохватились только, когда ослепительный свет автомобильных фар ударил в глаза. Оба быстро пригнули головы. Совсем недалеко послышались раздраженные голоса гитлеровцев. Натужно завыл, захлебываясь, мотор. Фары на минуту погасли, потом вспыхнули снова.
Анохин и Поцелуев догадались, что немцы их не заметили: два грузовика, спускаясь с горы, остановились случайно — передний занесло на скользком месте, он развернулся поперек дороги, съехал в кювет и забуксовал. Теперь, переругиваясь, гитлеровцы цепляли к застрявшей машине буксирный трос.
— Эх, гранатой бы шарахнуть, вот драпанули бы в степь! — прошептал Анохин. — Их там, кажется, трое или четверо. Может, подползем поближе, да из пистолетов... А?
— Лежи, не болтай зря! — тоже шепотом ответил Поцелуев. — Нам не давали задания нападать на машины. Или ты думаешь, какой-нибудь дохлый фриц-тыловик больше значит, чем этот кабель?
Вскоре машины сползли вниз, и свет их фар растаял в ночи.
Насквозь промокшие, едва державшиеся от усталости на ногах, Поцелуев и Анохин возвратились в город только часов в одиннадцать утра.
У Анохина не на шутку разболелась разрезанная ножовкой рука. Он поспешил к Александре Венедиктовне Чидаевой, чтобы промыть и перевязать рану. А Поцелуев, не отдохнув, отправился на склад утильсырья.
* * *
Вечером Федор Шкурко доложил мне о результатах ночного похода Анохина и Поцелуева. В конце доклада, с минуту поколебавшись, он вытащил из кармана и протянул сверток. Я развернул бумагу. В свертке оказался небольшой обрубок кабеля с острыми рваными краями.
И хотя было ясно, откуда кусок кабеля попал к Шкурко, я все же спросил:
— Они принесли?
— Да, они, — подтвердил Шкурко. — Дает мне Поцелуев этот кусочек, а сам улыбается: «Для наглядности, — говорит, — принесли, в доказательство того, что не прохлаждались мы с Михаилом ночью, а дело делали...» Хотел я отругать Николая как следует за такую «наглядность», но язык не повернулся. Ребята пришли из степи измученные, одежда на них хоть выжимай, сами синие от холода, у Анохина рука распухла. Я смолчал, чтобы не портить им настроение.
— Ну а если бы их задержали и обыскали немцы? Тогда что?
— Полетели бы с ребят головы, это факт...
Мне пришлось еще раз строго поговорить с Николаем Поцелуевым.
— Поймите, наконец, товарищ Поцелуев, что мы, подпольщики, не для того находимся в оккупированном городе, чтобы удивлять друг друга отчаянной смелостью, бесшабашностью, — напомнил я Николаю. — Было бы гораздо лучше еще в двух-трех местах перебить кабель, чем вырубать кусок и нести в город напоказ. Ведь это мальчишество, ничем не оправданный риск... Мы теперь даже листовки не разбрасываем и не расклеиваем, как делали раньше, потому что мало пользы. Полицаи быстро сдирают их с заборов и уничтожают. Иное дело подсунуть листовку под дверь квартиры, бросить в почтовый ящик, тайно вручить надежному человеку, чтобы не только он сам прочитал, но и передал дальше, соседу, знакомому. Прежде всего в нашем деле — практическая сторона, а красивые жесты ни к чему. Имейте в виду, если еще раз повторится что-нибудь подобное, я буду вынужден поставить о вас вопрос в подпольном Центре. Мы не можем мириться, если кто-то из нас не считается с дисциплиной, с обстановкой, в которой работаем...
Николай слушал меня, виновато опустив глаза. И я понимал его настроение. В лагере военнопленных он проявлял железную выдержку, был постоянно начеку, а теперь считал такое поведение необязательным. Когда он оказался вне лагеря и поле его деятельности уже не было ограничено клочком земли, обнесенным колючей проволокой, чувство опасности у него несколько притупилось. И мы обязаны были оберегать его, чтобы из-за нелепой случайности не потерять этого мужественного человека и чудесного товарища.
* * *
С каждым днем становилось холоднее. Город приобретал какой-то серый оттенок: серыми казались мокрые от дождя стены домов, деревья, улицы, скверы. Но осень была лишь предвестником тех неисчислимых бед, которые свалились на город зимой, когда ударили морозы.
Шел второй год оккупации. Горожанам все труднее становилось сводить концы с концами. Не хватало продовольствия, люди голодали. И без того скудные пайки, которые выдавались по карточкам рабочим и служащим, оккупационные власти резко сократили. Это было уже вторичное урезывание пайков. С наступлением холодов тысячи горожан отправлялись по заснеженным дорогам в села и деревни, чтобы выменять на последнюю одежонку чашку муки или ведро картофеля. Не было хлеба, масла, сахара, соли. Не хватало воды: она замерзала в поврежденных и оголенных трубах водопровода. Не было топлива. Жители городских кварталов, преимущественно старики и дети, часами копались в кучах шлака на подъездных железнодорожных путях, отыскивая и собирая кусочки несгоревшего угля. По ночам разбирали деревянные заборы, спиливали деревья.
В городе вспыхнула эпидемия тифа. Больные умирали в нетопленых квартирах и комнатах, не получая медицинской помощи. Невозможно было достать лекарств. За таблетку аспирина или ложечку соды спекулянты требовали бешеные деньги. Не было керосина, чтобы освещать жилища, не было мыла, чтобы постирать белье. Не было ничего, кроме многоцветных плакатов геббельсовского ведомства «остпропаганде», нагло и цинично кричавших о «благословенном рае», который принесли на Украину войска Адольфа Гитлера. И были еще восторженные статьи в националистической газетенке «Волынь». Бездарные лакействующие писаки из буржуазно-националистического отребья во главе с редактором «Волыни», доморощенным щелкопером из села Дермань Уласом Самчуком, хором и в одиночку восхваляли фюрера, его железные «когорты», которые «победно уничтожают нашего общего врага — большевизм и армию Советов на приволжских просторах...»
Хотя персоналу фабрики валенок регулярно выдавалась заработная плата (Луць не жалел немецких марок), тем не менее семьи и наших рабочих тоже голодали: на деньги мало что можно было купить. Рынок требовал в обмен на продукты не оккупационные бумажки, а одежду, обувь, домашнюю утварь. Но где все это взять рабочему люду? Если и была у некоторых лишняя одежонка, то ее еще раньше обменяли на продукты. Теперь же голод все яростнее наступал на ровенчан.
Рабочие приходили на фабрику раздраженные, злые, не таясь, материли оккупантов, проклинали фашистский «новый порядок», а вместе с ним националистов, полицаев, спекулянтов и других проходимцев, порожденных этим «порядком» и воплотивших в себе его атрибуты. Особенно были обозлены женщины. Их насупленные лица как бы говорили: терпеть такое больше нет сил.
И все же, несмотря на голод и холод, наперекор всем трудностям, к концу года лица людей посветлели. Ни штатные геббельсовские пропагандисты, ни их местные подголоски не в состоянии были заглушить правду, о которой ровенчане узнавали из листовок, ежедневно появлявшихся в городе и передававшихся из рук в руки. В листовках была правда о положении на фронте, правда о мужестве и стойкости советских войск, сражавшихся у волжских берегов, правда о сталинградском котле, в котором переваривались, а вернее, доживали свои последние дни десятки немецко-фашистских дивизий.
Перед новым, 1943 годом тон фашистских и националистических газет резко изменился. Сообщения о событиях на восточном фронте становились все туманнее. Повторялось примерно то, что уже было, когда гитлеровцев разбили под Москвой. Хотя немцы еще писали о продолжавшихся атаках войск рейха под Сталинградом, расхваливали на все лады новые сверхмощные танки и самоходки, хотя в газетных статьях и радиопередачах еще выражалась надежда, что кольцо окружения, в котором оказалась 6-я армия фельдмаршала Паулюса под Сталинградом, будет обязательно прорвано, однако с каждым днем все явственнее чувствовалось, что гитлеровская военная машина дает перебои.
Как раз в эти дни на станцию Ровно прибыли вагоны с шерстью для фабрики валенок. Железнодорожная администрация в этот раз действовала гораздо оперативнее, чем при разгрузке бутылей с кислотой. Примерно часа через два-три на фабрику с нарочным были доставлены сопроводительные документы на шерсть, а еще через час началась ее перевозка на фабричный склад. Для этой цели гебитскомиссариат специально выделил несколько грузовых машин.
О том, что ожидается вагон с шерстью, мы знали и заранее предупредили работавших на железной дороге подпольщиков, чтобы они постарались вовремя засечь эшелон, к которому прицеплен вагон с грузом для фабрики валенок. В этом случае мы могли бы повторить эксперимент, удачно осуществленный во время доставки на станцию кислоты. Однако своевременно узнать о шерсти подпольщикам-железнодорожникам не удалось. И на это была своя причина.
После пожара у цейхгаузов гитлеровские железнодорожные чиновники стали более осторожными. Все документы, по которым можно было определить характер поступающих грузов и адресатов, которым предназначались эти грузы, они оформляли теперь сами, не допуская к ним служащих из местных жителей. Охрану станции и особенно запасных путей полностью взяли на себя немецкие жандармы. Они никого не подпускали к железнодорожным составам, тщательно обыскивали рабочих, обслуживавших поезда, следили за каждым их шагом. Проникнуть сквозь эти преграды нашим товарищам не было возможности.
Как только к воротам фабрики подъехали первые машины с тюками шерсти, меня вызвал Бот. Он приказал немедленно начать переработку сырья и в ближайшее время сдать интендантству десять тысяч пар валенок. На мое замечание по поводу того, что фабрика не имеет кислоты, Бот заявил, что знает об этом и что уже отдано распоряжение завезти химикаты: их доставят на фабрику в начале следующей недели.
Мы встали перед выбором: либо ликвидировать предприятие вместе с сырьем и готовой продукцией, либо искать иной выход из положения. Сжечь фабрику мы, конечно, могли. Однако такая диверсия послужила бы причиной для массовых репрессий. Десятки людей, связанных с предприятием, вынуждены были бы вместе с семьями бежать из города или прятаться, проживать нелегально. Оказалась бы под угрозой вся подпольная организация.
Мы обдумывали разные варианты. Наконец остановились на весьма простом плане. Он, правда, тоже таил в себе огромную опасность: малейшая неосмотрительность могла привести к тяжелым последствиям. Но этот план, как показала предварительная «репетиция», проведенная в подвале фабрики, давал достаточно эффективные результаты...
* * *
Обещанную Ботом кислоту мы получили не сразу. Лишь в конце января сторож Михал раскрыл ворота перед старой расшатанной полуторкой. Из ее кабины выполз пожилой унтер-офицер, показал рукавицей на кузов, где стояли обложенные соломой ящики с темно-зелеными бутылями.
Теперь мне ничего другого не оставалось, как доложить гебитскомиссариату, что фабрика приступает к выполнению заказа.
Мой доклад Бот выслушал очень невнимательно и, как мне показалось, без особого интереса. Едва успел я произнести несколько фраз, как он нетерпеливо махнул рукой. Аудиенция длилась не больше трех минут. Было очевидно, что заместитель гебитскомиссара чем-то озабочен. Выходя из его кабинета, я задержал взгляд на лежавшем на столе перед немцем перекидном календаре. Было 31 января. Бот нервно чертил на листках календаря какие-то закорючки.
На улице я издали увидел Поцелуева. Догнал его за углом соседнего дома, и мы пошли рядом. В последнее время, когда мне приходилось являться по вызову в гебитскомиссариат, меня непременно сопровождал кто-нибудь из группы Федора Шкурко, чаще всех Михаил Анохин. Товарищи убеждали, что так надо, поскольку, как рассказал недавно Сергей Борко, оуновцы стали усиленно охотиться за внесенными ими в черные списки лицами, по их мнению, опасными для украинской нации, и что в одном из таких списков значилась моя фамилия. Месяц назад, возвращаясь после работы с фабрики, я и сам обратил внимание на подозрительного типа в темно-синем пальто и каракулевой шапке. Встретив меня возле железнодорожного переезда, он сначала прошмыгнул мимо, потом повернул назад и долго плелся следом. Я подумал было, что это шпик из СД. С полчаса петлял переулками, пока сумел оторваться от него. При встрече с Федором Шкурко подробно описал ему внешний вид обладателя темно-синего пальто и каракулевой шапки и попросил уточнить, что он собой представляет. Дня через два Федор сообщил, что прицепившийся ко мне у переезда «хвост» был не кто иной, как тайный агент бандеровцев, хорошо известный Сергею Борко.
...Быстро темнело. Мы с Поцелуевым шли тихим шагом, делая вид, что нас нисколько не волнуют ни патрули, ни жандармы, ни полицаи, то и дело встречавшиеся на улице. Николай полушепотом докладывал мне о последних новостях, о которых узнал от Федора Шкурко. Сведения были довольно интересными. На автостраде Ровно — Киев, неподалеку от села Синев, из засады обстреляна колонна немецких грузовых машин. Один грузовик сгорел, несколько гитлеровцев убито, пять или шесть солдат ранено... Из Тучина пришло сообщение от Захарова: там, в окрестных лесах, появилась группа партизан. Ее бойцы, как видно, неплохо вооружены. Недавно партизаны провели успешный бой с жандармами, а дня за два до того уничтожили двух штабных офицеров. Легковая машина, на которой ехали офицеры, вся изрешечена пулями... Партизанский отряд дяди Юрко, пополненный за счет бывших военнопленных, которые переправлены в лес из фабричного общежития, продолжает продвигаться в глубь Полесья...
То, что сообщил Поцелуев об отряде дяди Юрко, мне уже было известно. Отряд получил задание совершить рейд по наиболее удаленным от Ровно районам, по затерянным, среди лесов и болот хуторам и селам, где все более активно начинали развивать свою бандитскую деятельность так называемые «полесские сечевики» Бульбы — Боровца. Рейд партизан — наша первая глубокая разведка. Важно было выяснить, что происходит вдали от больших дорог, в недрах Ровенщины, где группировались стаи националистов, узнать, чем дышит эта шваль, какие намечает планы после того, как закончилась игра ее главарей в тайну. Подпольный Центр посоветовал дяде Юрко по возможности не ввязываться в стычки с националистами, соблюдать осторожность, беречь людей и одновременно устанавливать тесные связи с населением. Только так можно было правильно разобраться в обстановке. Теперь дядя Юрко вел свой отряд все дальше на север. Последнее сообщение о том, что он без особых трудностей продвигается по намеченному маршруту, мы получили несколькими днями раньше через связного, посланного командиром в Ровно. С тех пор сведений из отряда не поступало.
— Шкурко сказал, что отряд дяди Юрко ушел в Полесье в полном составе, — тихо продолжал Поцелуев. — И все-таки кто-то дает немцам прикурить. Интересно было бы узнать, кто?
— Когда на улицах города стали находить трупы гитлеровских офицеров, мы тоже ломали головы: кто? Потом все выяснилось, — не без желания несколько охладить его пыл, напомнил я Николаю.
Поцелуев, не обращая внимания на мои слова, махнул рукой:
— Так то мелочь, Терентий Федорович. Большое ли дело пристукнуть нескольких гитлеровцев? Они, можно сказать, сами шли в руки. А там, на автостраде или возле Тучина, совсем иное... Там настоящая боевая работа! Федор Захарович поначалу предполагал, что действует какая-нибудь местная партизанская группа. Я тоже так думал. Потом, когда разобрались поглубже, оба пришли к выводу: на местных не похоже. Иной почерк, более твердый.
— Почему вы так считаете?
— А потому, что по грузовикам на автостраде и по жандармам возле Тучина уж очень дружно и метко незнакомцы полоснули огнем. Били, как удалось выяснить, из автоматического оружия по всем правилам боя... Что может быть у местных партизан? Несколько винтовок, в лучшем случае один-два трофейных автомата, пара-другая гранат. А те вели шквальный огонь из автоматов, причем из наших, советских.
— Ну и что из того?
— Как что? Не иначе парашютисты-десантники появились. О них ведь уже давно говорят.
Парашютисты-десантники! Как это мне самому не пришло в голову? Если действительно так, то через них можно установить связь с командованием Красной Армии, передать всю ценную информацию, которую собрали и продолжают собирать подпольщики группы Федора Шкурко.
— Вот что, Николай Михайлович, — повернулся я к Поцелуеву. — Возможно, Шкурко и вы правы. Если это в самом деле десантники, нам надо принять все меры, чтобы как можно быстрее связаться с ними. Передайте Федору, это приказ подпольного Центра. Он должен быть выполнен во что бы то ни стало. Десантников, надо полагать, направляют в тыл врага не только и не столько для того, чтобы они нападали на оккупантов из засад, обстреливали их на дорогах. Наверняка они имеют задание поважнее и поддерживают связь с командованием советских войск за линией фронта.
— Федор Захарович тоже так полагает. У нас имеется столько ценных сведений, а толку от них пока ни на грош. Информация стареет, теряет свое значение, хотя очень пригодилась бы советскому командованию. — Николай взял меня за руку, плотнее прижался к моему плечу, с некоторым смущением добавил: — Я ведь что думал, когда впервые узнал о городском подполье? Был убежден, что вы каждую ночь ведете переговоры с нашими, ну с фронтовым командованием или с партийным руководством, которое за линией фронта. По наивности полагал, что у вас есть и радиостанции и чуть ли не телефонная связь с самой Москвой. А оно выходит, все гораздо сложнее и труднее.
— Да, как видите, Николай Михайлович, не так все просто. Намного труднее и сложнее, чем приходилось в довоенные годы читать в некоторых книгах. А что поделаешь? Так уж получилось. И не наша с вами в этом вина...
Мы вышли из переулка к центру города. Неподалеку, возле тускло освещенного входа в кинотеатр, толпились люди, главным образом немцы — офицеры и солдаты. Среди них резко выделялись мужчины в гражданском и женщины в модных пальто. Над толпой вился дымок от сигарет. Немцы громко разговаривали между собой, смеялись, ворковали с дамами. Мужчины в гражданском держались в сторонке, дожидаясь, пока офицеры и солдаты первыми пройдут в фойе.
Демонстрировался немецкий фильм, сделанный, как видно, по образцу американских боевиков. На вывешенной возле кинотеатра афише застыл в крике светловолосый молодчик с двумя пистолетами в руках, а возле него полуголая девица с тонкой шеей и осиной талией.
Скользнув взглядом по афише, Поцелуев вдруг остановился, показал глазами на две фигуры, маячившие под деревом шагах в пяти от нас. Молодой немецкий офицер в фуражке с примятой тульей разговаривал с высокой стройной блондинкой. Она была в полувоенной форме — кожаное пальто с меховым воротником, серая, немецкого покроя суконная шапочка с длинным козырьком. Из-под шапочки на плечи спадали туго заплетенные светлые косы. Начищенные хромовые сапожки на высоких каблуках отражали свет электрической лампочки. Матовое холеное лицо, особенно большие, выразительные глаза запоминались сразу, словно врезались в память. Женщина игриво помахивала кожаной перчаткой, что-то быстро и негромко рассказывала офицеру, а тот с подчеркнутым вниманием слушал, заложив руки за спину.
Медленно отступив в тень, Поцелуев сказал:
— Переводчица Елена. Из гестапо.
— Откуда ты знаешь?
— Недавно Шкурко показал ее мне на улице. Шла в комендатуру с этим самым лейтенантом, кокетничала, стерва... Не вредно было бы узнать, где она живет. Но они, кажется, пойдут в кино. Скоро начнется сеанс. Что, если и нам заглянуть в кинотеатр? Ночной пропуск у меня в порядке. У вас, думаю, тоже.
Я уловил в голосе Поцелуева какие-то новые нотки. Но внешне он был невозмутим.
— Хотя нет, — продолжал Николай, беря меня за руку. — Сделаем так. Вы идите домой, не надо вам оставаться. Я сам... Все будет в порядке, не беспокойтесь...
Решение Поцелуева пойти в кино было столь неожиданным, что невольно вызвало у меня тревогу: «Как бы опять не принялся за старое. Нельзя оставлять его одного». Я молча направился к освещенному входу в кинотеатр. Сзади поскрипывал снег. Поцелуев шел следом.
Купили билеты. В фойе намеренно задержались. Минуту спустя туда вошли офицер и переводчица. Увидев офицера, солдаты расступились. Близко от меня промелькнуло раскрасневшееся от мороза лицо блондинки. От ее кожаного пальто веяло духами и холодом. В проеме двери, ведущей в зал, она повернулась к офицеру, и я на мгновение отчетливо увидел ее профиль — длинные темные ресницы, по-детски припухлые губы, прямой нос, родинку на щеке. «Красивая, дрянь!»
Зажатые со всех сторон солдатами в серо-зеленых шинелях, мы с Николаем протиснулись в зал, не выпуская из поля зрения кожаное пальто.
Лейтенант галантно держал переводчицу под руку. Они сели в середине ряда. Наши места были дальше, зато с краю. Хотя от переводчицы и ее спутника нас отделяло несколько рядов солдатских голов, мы, тем не менее, хорошо видели и офицерскую фуражку с примятой тульей и серую суконную шапочку. Поцелуев, пока не начался сеанс, то и дело бросал исподлобья взгляд в ту сторону. На меня он, казалось, не обращал никакого внимания.
Справа от меня сидел паренек лет шестнадцати, а дальше почти весь ряд занимали немцы. На их шинелях тускло поблескивали металлические пуговицы и пряжки ремней. Позади тоже сидели немцы, непрестанно болтали между собой и весело, громко смеялись.
Офицер наклонился к переводчице, что-то сказал ей. Она тряхнула головой, оглянулась, повела глазами по залу, словно кого-то отыскивая. Мне показалось, что ее взгляд на короткий миг задержался на моем лице, но, скользнув по нему, перескочил дальше. Я искоса глянул на Поцелуева и вдруг как бы физически почувствовал то огромное напряжение, которым была охвачена вся его ладная фигура, каждая клетка его существа. Это напряжение сразу же передалось и мне. Нас словно соединила невидимая тонкая нить, и каждое внутреннее движение Поцелуева мгновенно передавалось мне многообразной гаммой чувств, отражавших в те минуты его душевное состояние. Я понял, нет, уже твердо знал, был уверен: он будет стрелять. Николай держал правую руку в кармане пальто. Там у него пистолет. Он сжимает твердую рукоятку пистолета, его большой палец недвижно лежит на предохранителе. Поцелуев ждет, когда в зале погаснет свет. Как только станет темно, мягко, чуть слышно щелкнет предохранитель, Николай поднимется и пойдет туда, вперед, к ним... Я допустил ошибку, что сел вторым от края. Садиться с краю следовало мне, тогда я еще мог бы удержать Поцелуева, предупредить его рискованный поступок...
Николай смотрел на дверь, завешенную тяжелой синей портьерой. Дверь была как раз напротив того ряда, где сидела гестаповская переводчица со своим кавалером, коллегой, женихом или черт знает, кем он там ей доводился. Дверь интересовала Поцелуева потому, что через нее нам предстояло бежать: сначала в фойе, потом на улицу. Бежать, как только после выстрела начнется паника.
Я поднес к глазам руку, чтобы посмотреть на циферблат часов. В этот момент погас свет, зал словно провалился в темноту, грянула мелодия немецкого военного марша. И сразу квадрат экрана замелькал кадрами бешеной танковой атаки. Танки с оглушительным грохотом мчались к предместью какого-то городка. Сеанс начался показом фашистской фронтовой хроники. Но мне было не до экрана, мысли занимало совсем другое. Я ждал, что предпримет Николай, не откажется ли он от своей затеи. Нет, у моего уха послышался его требовательный шепот:
— Идите к двери, и сразу на улицу. Не задерживайтесь, идите сейчас же... Дверь за шторой открыта... Кроме билетерши, там никого нет...
Он шептал с такой уверенностью, словно мы раньше обо всем договорились. Я различил в грохоте марша еле уловимый короткий щелчок — Поцелуев в кармане поставил пистолет на боевой взвод. Я протянул руку, чтобы удержать Николая, но в темноте нащупал лишь подлокотник пустого кресла: он успел встать и сделать шаг вперед. Рассчитал он точно — сидевшие в зале еще не освоились с наступившей после яркого света темнотой, в проходе толпились запоздавшие зрители. Он все предусмотрел...
Я вскочил. Был еще какой-то миг, чтобы успеть остановить его. И все же в ту долю секунды, которая оставалась в моем распоряжении, я заколебался. Вдруг я поймал себя на мысли, что сам хочу услышать выстрел, увидеть, как после него сползет вниз эта красивая тварь, гестаповская переводчица. Я готов был к этому выстрелу еще тогда, когда подходил к билетной кассе, а возможно, раньше, сразу, как только увидел мерзавку со светлыми косами и вспомнил о Виталии Поплавском...
В зале неожиданно вспыхнул свет. Николай был уже совсем близко от того ряда, где виднелась офицерская фуражка с примятой тульей и серая суконная шапочка. Он стоял почти у самой двери, по-прежнему держа правую руку в кармане. Мне показалось, что все сидевшие в зале смотрят на Поцелуева. На самом же деле на него никто, кроме меня, не обращал внимания. Ничего особенного, просто один из опоздавших к началу сеанса зрителей.
Все смотрели на погасший экран. А на нем вместо кинокадров сначала появилась огромная тень, потом на фоне белого полотна зрители увидели низкорослого, не в меру полного, кривоногого гитлеровского офицера. Фуражку он держал на согнутой руке, будто присутствовал на торжественном приеме. Его круглая, коротко остриженная голова поблескивала сединой. Офицер вскинул вверх правую руку, и возникший было в зале гул сразу стих. Немец громко, басовито прохрипел:
— Внимание! Правительственное сообщение! В ознаменование до конца выполненного долга германскими вооруженными силами под Сталинградом и в память о доблестной шестой армии фюрер приказал объявить траур на всех территориях рейха. Все зрелища и развлечения — в театрах, кино, концертах, а также банкеты и свадебные церемонии — — отменяются до особого распоряжения. Встать! Хайль Гитлер!
В зале загремели откидываемые сиденья.
Я сразу вспомнил календарь на столе у Бота и его плохое настроение. Мы с Поцелуевым переглянулись. Он был немного бледен, на его высоком лбу блестели капельки пота.
2
Короткие и толстые пальцы немца нежно мнут и поглаживают со всех сторон новую пару валенок. Немец держит их на мясистой ладони, будто взвешивает, постукивает ногтем по тугой подошве и чуть ли не обнюхивает, поднося к лицу, на котором под толстыми стеклами очков темнеют маленькие, круглые, подслеповатые глаза. По всему видно, он понимает толк в нашей продукции и вовсе не случайно уполномочен принимать ее. Однако думает он, скорее всего, не о солдатах, находящихся на фронте, не об их нуждах, а о медали, которая ему обещана на тот случай, если он успешно и в срок выполнит задание. Мысленно он уже слышит похвалу начальства за то, что в тыловом городе сумел найти такое сокровище...
Когда этот мешковатый, не по годам полный, страдающий одышкой интендант только что появился на фабрике и предъявил мне бумагу с соответствующими подписями и печатью на право получать от нас и вывозить на станцию валенки, я спросил, не знаком ли случайно господин обер-лейтенант Ляйпсле с майором Хиршем, тоже из интендантского ведомства, который бывал у нас прежде и собирался первый получить для фронта по крайней мере не менее пяти тысяч пар валяной обуви. Ляйпсле кивнул:
— Да, я знал майора Хирша.
— Где он теперь? Почему не приехал на фабрику, как обещал?
— Майора уже нет в живых, — не очень охотно ответил обер-лейтенант Ляйпсле. — Партизаны возле Каменец-Подольска подорвали поезд, в котором Хирш ехал в отпуск в Германию. Тело майора по частям извлекли из-под обломков вагона...
Ляйпсле пригнал на фабрику две машины, их надо было быстро загрузить готовой продукцией.
Михаил Хлевной, один из наших рабочих, круглолицый, никогда не унывавший одессит, попавший на фабрику из лагеря военнопленных, быстро сбрасывал связанные попарно валенки с чердака. Интендант был доволен. Товар вполне добротный! Только нужен точный счет — в этом нельзя надеяться на русских.
В то время, как грузчики охапками выносили валенки из помещения и укладывали в машины, а обер-лейтенант Ляйпсле, причмокивая толстыми губами, записывал, сколько пар погружено, еще один человек, о присутствии которого интендант не подозревал, на полутемном фабричном чердаке был занят совсем иной работой. И если бы обер-лейтенант Ляйпсле вздумал заглянуть на чердак, то непременно догадался, что этот человек сводит на нет все его старание, а также все длительные хлопоты господина Бота об обеспечении фабрики сырьем.
Но обер-лейтенант не собирался подниматься на чердак. Он не знал и не мог знать, что там кроме рабочего Хлевного, который сбрасывал валенки, находился еще один наш подпольщик Иван Талан. Иван сидел в темном углу, перед целой батареей открытых бутылок с серной кислотой. Натренированным движением брал из вороха валенки, обрызгивал изнутри подошвы едкой жидкостью и, не глядя, отодвигал к Хлевному, а тот швырял их вниз. Дело шло быстро. Талан, увлеченный работой, даже мурлыкал вполголоса какую-то песенку. Хлевной время от времени поглядывал на Ивана, молча подмигивал ему, не прекращая своего дела.
Внутреннюю обработку валенок кислотой придумал Иван Луць. Еще за неделю до отгрузки мы вместе с ним проверили этот способ. Обрызганные изнутри едкой жидкостью валенки внешне ничем не отличались от здоровых. Но достаточно было несколько дней поносить такую обувь, и она рассыпалась. Иван Талан внес в эту нехитрую технологию кое-что свое. Он приноровился так разбрызгивать кислоту, что она попадала не только на подошвы, но и на голенища.
Куда немцы собирались отправить изделия фабрики — на восточный фронт или на север — мы не знали. Но в любом случае «счастливцам», которые должны были получить наши валенки, завидовать не приходилось.
На следующий день, когда весь запас готовой продукции был вывезен на железнодорожную станцию и погружен в вагон, обер-лейтенант Ляйпсле зашел ко мне в кабинет. Настроение у него было прекрасное.
— Господин директор, весьма вам благодарен, — с некоторой торжественностью произнес он, угощая меня и Луця сигаретами. — У вас на фабрике я убедился, что местное население очень многое может сделать для нашей славной, могущественной, непобедимой армии. Я очень, очень рад!
— Смею надеяться, господин обер-лейтенант, что вам понравилась наша продукция?
— О, чудесная обувь! — воскликнул он. — Солдаты великой Германии могут смело шагать в ней по снегу до Урала, до Сибири, куда угодно, черт побери! Когда можно будет приезжать за новой партией зимней обуви? Она так нужна сейчас нашим солдатам.
— Не раньше чем через месяц, господин обер-лейтенант, — ответил я.
— Чудесно! Ровно через месяц я буду снова у вас.
Сделав какую-то пометку в блокноте, Ляйпсле благосклонно похлопал меня по плечу, а к Луцю проявил еще большее расположение — пожал ему руку. Через минуту немец был уже во дворе, садился в машину.
Оставшись вдвоем с Иваном Ивановичем, я сказал, что боюсь, как бы этот подслеповатый интендант не подвел нас под монастырь. Ходит он в хромовых сапогах, а на дворе изрядный мороз. Возьмет да и напялит на себя валенки. И сразу увидит, что в них только до уборной можно добежать.
— Не думаю, что он решится на это, — с минуту подумав, возразил Луць. — Собственно, кто такой Ляйпсле? Интендантская мелкота. Такие, как он, не рискнут греть руки там, где у них все подсчитано и оформлено документами. Знают, что такое военно-полевой суд! Попадется этот Ляйпсле на мелочи, тут и конец его спокойной тыловой жизни, марш на фронт, да еще штрафником. К тому же валенки-то он принял, расписался за них. Это тоже кое-что значит. — Иван Иванович некоторое время молча мерял шагами кабинет, затем, остановившись возле стола, твердо добавил: — Нет, такая перспектива Ляйпсле не привлечет, особенно сейчас, когда наши молотят фашистов в хвост и в гриву. Немец, он привык все тщательно взвешивать, ради какой-то пары валенок рисковать головой не станет. А впрочем, чтобы удержать герра Ляйпсле от искушения, я кое-что предусмотрел: положил вчера в кабину грузовика, на котором он ездил на станцию, пару новеньких, непротравленных валенок сверх того, что записано в накладной. Пусть носит на здоровье! — улыбнулся Луць.
— Так вот оно в чем дело! А я все думаю, чего это немец так благосклонно пожимает руку «господину бухгалтеру»?
— А как же иначе? — лукаво усмехнулся Иван Иванович. — Герр Ляйпсле знает, с кем имеет дело. — Потом уже более серьезно сказал: — Вот, когда солдаты наденут валенки и останутся в одних носках, тогда заварится каша. Гестаповцы обязательно постараются размотать клубочек. Вот где наша ахиллесова пята...
— Ну этого-то я не очень боюсь, Иван, — в свою очередь возразил я, хотя и не совсем уверенно. — У них и без того переполох. Ты правильно говоришь: бьют их наши в хвост и в гриву. В таком круговороте вряд ли они станут выяснять, по какой причине появляются дыры на валенках. Кроме того, путь от Ровно до передовой неблизкий. Виновных найти не так-то просто. Вроде не логично, чтобы портили обувь те, кто ее изготовляет. Скорее, это могло случиться в дороге или на промежуточных складах. Конечно, пока вагон с валенками стоит на станции, надо быть начеку. Да и после отправки какая-то опасность останется. Вот если бы наши ребята-железнодорожники попытались запутать концы, к примеру, подменить накладную, чтобы в ней значилось, будто валенки отправлены не из Ровно и даже не из Ровенской области, а с какой-нибудь другой станции.
— Ну что ж, можно попробовать, — согласился Луць. — Я скажу Шкурко, чтобы он дал задание железнодорожникам, хотя сомневаюсь, что им удастся его выполнить. Они не смогли дознаться о прибытии вагона с шерстью, чтобы вовремя предупредить нас, а подделать или подменить документы на отправленный груз гораздо труднее. Но в конце концов пусть попробуют. Не сумеют, что ж, тут уж ничего не поделаешь. Будем считать, что с протравливанием валенок мы пошли на риск. В нашем деле это неизбежно, без риска не обойдешься. Лично меня в данный момент больше, чем протравленная обувь, беспокоят немецкие эшелоны. Листовки мы выпускаем, пишем, что после победы под Сталинградом наши перешли в наступление. Это хорошо. Такие новости для людей лучше всякого лекарства, они поддерживают веру в наше дело. Но одних листовок теперь мало. Сам знаешь, сколько фашистских войск и боевой техники катит на восток. Составы летят один за другим. Через Ровно и Здолбунов. На платформах и танки, и самолеты, и пушки. Собирать данные о передвижении гитлеровских войск не так уж трудно. Достаточно тройки сообразительных ребят, чтобы взять на заметку каждый фашистский полк. Для советской авиации большую поживу можно подготовить. Одна беда — нет возможности передать эти сведения командованию Красной Армии. Получается, что все старания Федора Шкурко и его разведчиков сводятся на нет.
— Об этом я и сам на днях говорил с Поцелуевым. К сожалению, сделать пока ничего нельзя. Надо пытаться, искать возможности... Кстати, Иван, как ты смотришь на сообщение тучинцев о бое с жандармами, который провела какая-то неизвестная нам группа?
— А как ты смотришь на то, что позавчера убит немецкий генерал, командовавший карательными частями? — ответил Луць вопросом на вопрос.
— Где убит?
— В районе Сарн. Сведения самые точные, из арсенала «последних известий» Шкурко. Несколько жандармских подразделений вчера вечером вернулись из-под Сарн, где занимались прочесыванием окрестных лесов. Вот там партизаны и прихлопнули генерала. Говорят, попал под огонь партизанского пулемета вместе со своей охраной возле села Вороновка. Шеф СД Волыни и Подолья доктор Питц послал телеграфом соболезнование семье генерала и вчера же отдал приказ вести боевые действия против партизан широким фронтом, не прекращать карательных операций до полного уничтожения «лесных бандитов».
До нас и прежде доходили вести, что в лесах на севере области, прежде всего в районах Сарн, Клесова, Томзшгорода, Чуделя, Сновидовичей, немцам частенько приходится сталкиваться с народными мстителями. Вообще слухи о партизанах, о «хлопцах с советской стороны», вооруженных «скорострелами» и чуть ли не открыто разъезжающих на конях по северным селам, распространялись давно. Но слухи слухами. В те дни можно было услышать все, что угодно, вплоть до версии о захвате советскими парашютистами и расстреле самого Гитлера. Передавая друг другу «по секрету» всякого рода фантастические новости, люди в большинстве случаев выдавали желаемое за действительное. Далеко не всему можно было верить.
Но в начале сорок третьего года слухи о партизанах приобрели реальную основу. В лесах день ото дня накапливалась грозная для врагов сила, и то, о чем люди поначалу говорили друг другу шепотом, подтверждалось теперь приказами и распоряжениями руководителей фашистской службы безопасности.
— Видно, не зря твердит народ о хлопцах с советской стороны, — продолжал я начатый с Луцем разговор. — Вот и Поцелуев считает, что в области действует группа, а возможно, и несколько групп парашютистов, заброшенных сюда нашими из-за линии фронта. Николай, как человек военный, пришел к такому выводу, проанализировав характер диверсий под Тучином и на автостраде. И с ним нельзя не согласиться. Теперь еще это сообщение об уничтоженном гитлеровском генерале-карателе. Тоже, возможно, дело рук парашютистов. Нам бы давно следовало попросить дядю Юрко отрядить нескольких бойцов в район Сарн для установления связи с товарищами из-за линии фронта, если и в самом деле они там базируются. Сейчас, к сожалению, уже поздно поручать это дело дяде Юрко. Когда он вернется со своим отрядом с севера области, сказать трудно. А времени терять нельзя. По-моему, надо отобрать двух-трех человек из городских подпольщиков, лучше всего добровольцев, и послать в Сарненские леса. Может, им посчастливится встретить там кого-нибудь из партизан. Это было бы здорово.
— Правильно, — горячо поддержал меня Луць. — Это ты хорошо придумал. Трех человек, думаю, вполне достаточно. Только нужно, чтобы они знали те места, где им придется действовать. Это раз. Во-вторых, чтобы не вызвали подозрений у всякой тамошней сволочи. Ну и третье, чтобы сумели установить контакт с местными крестьянами. Без этого никаких партизан им не найти. Короче говоря, надо послать людей опытных, сообразительных. — Луць задумчиво почесал затылок. — Полагаю, моя Настка с таким заданием справится, — твердо произнес он после короткой паузы. — Не одна, конечно, а с кем-нибудь из своих подруг. Для женщин такое путешествие менее опасно, чем для мужчин. Кто на них обратит внимание? Идут, дескать, в деревню менять барахлишко на продукты. Таких менялыциц сейчас всюду хоть пруд пруди. И район Настка хорошо знает: до войны не раз бывала в Сарнах. Может, встретит там своих старых знакомых по польскому подполью. Не встретит старых друзей, новые знакомства заведет. Она это умеет. Кстати, в Сарненском районе проживает много поляков, а Настка по-польски не хуже, чем на своем родном языке говорит.
— Да, Настка — опытная подпольщица, — механически повторил я за Иваном Ивановичем. — Бывала во многих переделках и с людьми ладить умеет. Только согласится ли она отправиться в такой дальний путь? Путешествие не столь безобидное, как ты описал. Всякое может случиться...
— Согласится ли Настка? — Луць удивленно приподнял брови. — Все, что необходимо для нашего дела, она выполнит, не колеблясь ни минуты. Ты же ее знаешь, — не скрывая гордости за жену, сказал Иван Иванович.
* * *
В конце февраля мы провожали Настку в Сарны. Она отправлялась в путь одна, сама настояла на этом, убедив нас, что не следует выделять ей кого-либо в помощницы, так как это усложнит путешествие.
Командировка была оформлена по всем правилам. С документами на имя экспедитора ровенской фабрики валенок Оксаны Сидоровны Опанасич Настка направлялась в Сарненский и прилегающие районы «по распоряжению промышленного отдела гебитскомиссариата для заготовки сырья». Расчет был простой: доехать до Сарн поездом, а оттуда, не задерживаясь, отправиться в лесные села. Командировочное предписание и аусвайс на имя Опанасич надежные. Вряд ли кто из сарненских полицаев осмелится задержать доверенную немецких властей, выполняющую их задание.
Тепло одетая, закутанная по самые глаза шерстяным платком, с мешком за спиной, она ничем не напоминала теперь стройную красавицу Настку, которую мы привыкли видеть. Старое, потертое пальто, надетое поверх ватника, мужские сапоги и большие брезентовые рукавицы до неузнаваемости изменили ее облик. Насткиными оставались только глаза — большие, лучезарные, улыбчивые в минуты радости и строгие, полные гнева в моменты возмущения.
Собирая жену в дорогу, Иван Иванович спросил ее:
— Пистолет возьмешь?
Она удивленно посмотрела сначала на мужа, потом на меня и рассмеялась:
— Что вы, хлопцы! Зачем мне оружие? Я ведь всего только «экспедитор» фабрики валенок...
— Действительно, сейчас тебе оружие, Настка, ни к чему. Это ты правильно говоришь. Пользы от него в твоем положении мало, а в случае чего не оберешься беды, — сказал я.
Настка крепко, по-мужски пожала мне руку, обняла Ивана и молча направилась к двери. В окно мы видели, как она вышла из подъезда и заспешила по серой, неуютной, покрытой ворохами грязного снега улице. В конце квартала ее встретил Федор Шкурко: было заранее условлено, что он проводит Настку на вокзал и поможет ей сесть в поезд, отправлявшийся в шесть часов вечера на Сарны.
3
С каждым днем меня все больше охватывала тревога. Уже продолжительное время не подавал о себе никаких вестей отряд дяди Юрко. Не возвращалась Настка Кудеша. Не появлялся Прокоп Кульбенко...
О том, что Настке удалось благополучно выехать из Ровно, мы знали. Она быстро, без осложнений купила железнодорожный билет до Сарн: помогло официальное командировочное предписание с фабричной печатью и ссылкой на распоряжение гебитскомиссариата. Провожавший Настку Федор Шкурко посадил ее в вагон и не уходил с перрона до тех пор, пока не тронулся поезд. Федор уверял, что до Сарн Настка доехала благополучно. А как все сложилось дальше, мы не знали.
Я ругал себя, что согласился на уговоры Настки и послал ее одну. Конечно, кое в чем она права: в одиночку выполнить задание было проще и безопаснее. В самом деле, у кого могла вызвать подозрение женщина, приехавшая в лесные села с предписанием дирекции фабрики, по распоряжению самого начальника промышленного отдела гебитскомиссариата! А появись в районе опасной для гитлеровцев зоны группа таких заготовителей, на нее сразу обратят внимание. Дороги там наверняка охраняются. Задержат полицаи, станут допытываться: кто послал, почему нет специального пропуска и всякое другое? Так не долго и до беды.
Перед отъездом Настки я и Луць согласились с ее, казалось бы, очень убедительными доводами. Теперь же мы оба волновались, жалели о том, что не послали с ней хотя бы Марию Жарскую или любую другую подпольщицу.
По нашим расчетам, Настка должна была уже вернуться в город, однако ее все не было.
* * *
Пока мы с нетерпением ждали возвращения Настки, из Рясников неожиданно прибыл связной. Уже по тому, что пришел не сам Прокоп Кульбенко, а незнакомый нам человек, по тому, что его сразу проводили ко мне в директорский кабинет, чего ни Луць, ни Шкурко прежде никогда не делали, я почувствовал что-то недоброе.
Прибывший из Рясников товарищ, печальный и заметно взволнованный, сел на краешек стула, некоторое время молча мял в руках шапку. Видно, его поначалу смутили и этот кабинет, и табличка «Директор» на двери, и вся обстановка, в которой он неожиданно очутился. Но, бросая на меня исподлобья подозрительные взгляды, он, вероятно, в эти минуты думал: если люди, которые его сюда привели со Скрайней улицы, правильно ответили на пароль, значит, все в порядке, хотя как-то не совсем обычно говорить о делах подпольщиков с директором фабрики, на которой делают валенки для немцев.
Связной назвал себя Иваном Оверчуком. Потом сказал, что пароль ему дал Прокоп Никитович Кульбенко. Прокоп предупредил его: «Если со мной что случится, иди с этим паролем в Ровно, разыщи на Скрайней улице дом номер шестнадцать и там объясни все, как было». Вот он и пришел. Потому пришел, что несколько дней назад они, рясниковцы, похоронили Прокопа Кульбенко. Хоронили втихомолку, глубокой ночью, а до того тело убитого двое суток лежало на улице, перед сожженным домом. В селе было полно бандитов, по этой причине сразу нельзя было похоронить: бандеровцы не давали...
Стычка с бандеровцами у хаты Христины Климчук была для Прокопа Кульбенко серьезным предупреждением. Ему не следовало возвращаться в родное село; я говорил об этом. Но он все же вернулся в Рясники. Правда, по словам Ивана Оверчука, последнее время Прокоп старался меньше показываться на людях, реже встречался с односельчанами. Знал, что бандиты поручили своим агентам следить за ним. Свой дом Кульбенко тоже обходил стороной: он мог стать для него западней. Поздно вечером стучал в дверь или окно хаты верного человека, час-другой разговаривал с ним, но из-за предосторожности ночевать не оставался; примерно к полуночи тайком, садами и огородами перебирался на новое место. Чаще всего остаток ночи проводил либо у Дмитро Кожана, либо у Ивана Герасимчука, своих надежных друзей.
Время от времени в селе появлялись машины с гитлеровскими солдатами. Солдаты окружали усадьбы Прокопа и некоторых других подпольщиков, находившихся на полулегальном положении, производили обыски, все переворачивали вверх дном и, не обнаружив никого из подозреваемых в связях с партизанами, уезжали. Как коршуны, кружили вокруг хат крестьян и бандеровцы, выслеживая тех, на кого точили зубы.
Для некоторых активистов сельской подпольной группы, в особенности для ее руководителя Кульбенко, жизнь в Рясниках становилась невыносимой. Однажды на нелегальном собрании подпольщиков в хате Романа Замогильного, после того как Прокоп Кульбенко доложил о намерении бандеровцев развернуть массовый террор против неугодных им крестьян и рабочих окрестных сахарных заводов, кто-то из собравшихся высказал мысль: не податься ли всем вместе за Случь, к партизанам. Бороться с врагом открыто, с оружием в руках все-таки легче, чем оставаться в селе и ждать расправы бандеровцев.
Предложение было заманчивым. Однако против него решительно выступили наиболее активные члены подпольной группы, в том числе и Кульбенко.
— В такое время, когда бандеровские головорезы готовятся к массовому террору, нельзя бросать село на произвол судьбы, — убеждал он товарищей. — Мы должны оставаться на месте, открывать людям глаза на то, что творят и собираются творить гитлеровские холуи националисты. Уйти за Случь, значит, смириться со всем этим. Пока зараза еще не очень распространилась, нам надо самим попытаться покончить с ней... Я, конечно, не могу никому запретить уйти к партизанам, — продолжал Прокоп. — Партизаны воюют за правое дело. Я и сам бы подался к ним. Но еще рано нам уходить.
Надо прищемить хвост местным бандеровским бандитам.
И подпольщики остались в селе. Им были известны некоторые главари националистических банд, действовавших в окрестных селах и хуторах, но они не знали места расположения их штаба: бандеровцы периодически меняли место своих сборищ. Подпольщики приняли решение разведать, где собираются бандеровские верховоды, чтобы при случае напасть на них и уничтожить. Распределили между собой обязанности, договорились, кто займется разведкой, кто подготовит оружие, когда собраться в следующий раз.
Хотя дело оказалось нелегким, но все же удалось установить, что бандитский штаб обосновался в селе Антополь, что в ночь на воскресенье главный вожак местных националистов, по прозвищу Батура, его подручный из СД Птаха, а также главари нескольких вооруженных шаек соберутся у старшего полицая для переговоров с заместителем начальника гощанского гестапо.
— Вот там мы и накроем их, — объявил Кульбенко своим товарищам в пятницу, когда они снова собрались у Романа Замогильного.
Когда расходились с нелегального совещания, было уже за полночь. В селе чувствовалась какая-то тревога, заливались лаем собаки.
Прокоп покинул хату Замогильного последним: видно, решил пробраться поближе к своей усадьбе, чтобы повидать жену... И как раз в это время в селе загремели выстрелы.
— Бандиты перехватили Прокопа на улице, — неторопливо и обстоятельно рассказывал Иван Оверчук. — Люди потом говорили, что на Кульбенко набросились одновременно шесть или восемь бандеровцев, хотели его сбить с ног и взять живым. Но он вырвался. Отстреливаясь из пистолета, бросился на огороды, побежал к Горыни. За ним гнались, то и дело грохали винтовочные выстрелы...
Тут случилось то, чего бандиты с трезубцами никак не ожидали. Прокоп бросился к своей хате и исчез. Стрельба стихла. Бандеровцы не могли сразу сообразить, куда девался Кульбенко. Никто не знал, что под хатой у него был тайник, который он устроил еще осенью сорок первого года, месяца через два после того, как пришли гитлеровцы.
Конечно, нетрудно было догадаться, что Кульбенко прячется где-то рядом. Бандеровцы со всех сторон окружили двор и хату, вызвали из соседнего села подмогу. Когда прискакала группа бандитов на конях, в кольце оказались и соседние дворы. Часа полтора в хате Прокопа продолжался погром: бандеровцы стреляли из автоматов в потолок, искали Кульбенко в погребе, в сарае, истязали его жену, добиваясь, чтобы она сказала, где прячется Прокоп. Но она молчала, лишь закрывала руками от ударов лицо.
Взбешенные неудачей, бандиты выволокли жену Прокопа во двор, а хату подожгли. Пожар перекинулся на соседние строения, быстро охватил половину улицы. Стало светло как днем. Крестьяне начали было носить ведрами воду, чтобы спасти свои дома от огня, но бандеровцы и полицаи отгоняли их выстрелами.
Когда хата Кульбенко вся была охвачена пламенем, Прокоп вынужден был покинуть свое убежище. В тлеющей одежде, с пистолетом в обожженной руке, он выскочил прямо из огня. Бандиты стреляли в него из винтовок и автоматов, видно, ранили. Все же он успел отскочить за угол соседней хаты, оттуда продолжал отстреливаться. В горящем доме рухнул потолок. В это время Прокоп ухватился за забор, чтобы перелезть в огород. Но не успел. Грохнуло несколько выстрелов. Кульбенко, сраженный пулями, упал. Бандиты долго еще стреляли в мертвого подпольщика, не решаясь приблизиться к нему...
Пальцы Оверчука продолжали непроизвольно мять шапку. Казалось, из его опечаленных глаз вот-вот закапают слезы. Рассказав о смерти Прокопа Кульбенко, посланец рясниковцев виновато добавил:
— Мы ничего не могли сделать, чтобы спасти его. Не успели забрать оружие. Оно находилось в кладовой у одного из наших товарищей на той самой улице, которую жгли бандеровские бандиты. На руках имелось всего два-три пистолета, а что с ними сделаешь против целой вооруженной оравы?
После этих его слов в кабинете долго висела гнетущая тишина. Потом я спросил Оверчука, что он собирается делать дальше.
— Буду продолжать то, что делал Прокоп. Вот и к вам пришел, чтобы получить задание. Потом вернусь в Рясники. Там товарищи ждут...
Иван Оверчук пробыл в городе двое суток. Я еще раз беседовал с ним, уже на квартире у Александры Чидаевой. Проинструктировал, на чем следует сосредоточить внимание подпольщиков, как лучше организовать среди крестьян разъяснительную работу. Что касается задуманного рясниковцами нападения на главарей бандеровских шаек, я посоветовал Оверчуку не проявлять спешки, а тщательно и всесторонне подготовиться, чтобы не понести напрасных, неоправданных потерь. Потом с Оверчуком разговаривал Федор Шкурко, дал ему задание по сбору разведывательных данных о численном составе бандеровских банд, о выявлении агентов гестапо и СД в Рясниках и соседних селах.
Захватив с собой пачку листовок о разгроме немецких войск под Сталинградом, Иван Маркович Оверчук отправился в родное село: он заменил погибшего на боевом посту Прокопа Никитовича Кульбенко, возглавил рясниковскую подпольную группу.
* * *
После разговора с Оверчуком на квартире Чидаевых, неторопливо шагая по тротуару в сторону своей временной квартиры, к сестрам Подкаура, я думал о Настке Кудеше: «Что с ней случилось? Почему не возвращается? Может, схвачена гестаповцами?» В том, что она выдержит любые пытки при допросах и никого не выдаст, я был уверен. Но по-человечески жаль было Настку, прекрасного товарища, опытную подпольщицу, умную и расчетливую, смелую и решительную, готовую на любой подвиг во имя общего дела. Жаль было и Ивана Луця. Думалось: случись что с Насткой, для него это будет самым сильным, самым злым ударом судьбы...
Дверь, как всегда, открыла маленькая Валя. В коридоре заговорщически шепнула:
— Дядько Терентий, там, в комнате, вас ждет какая-то жинка.
Я не стал ни о чем расспрашивать Валю. Торопливо прошел к себе и, не веря глазам, увидел в углу комнаты, в стороне от окна... Настку.
Прежде чем я успел раскрыть рот и сказать хотя бы одно слово, она порывисто поднялась со стула и обеими руками протянула мне свернутую вчетверо, потертую на сгибах газету. Это была «Правда», почти свежая московская «Правда», напечатанная всего лишь несколько дней назад!
— Ну? — только и произнес я, не находя слов от охватившего меня волнения.
— Ну! — повторила вслед за мной Настка, и блеск ее больших, светившихся радостью глаз говорил, что не напрасно она заставила нас столько дней волноваться, беспокоиться. — Ой, Терентий, милый, — певуче продолжала она. — Если бы ты только знал, какие они... Как там у них... Обо всем забыла, как их увидела, будто солнышко стало ярче светить... Нашли мы их, Терентий, нашли...
— Кого нашли? — растерянно спросил я, забыв в ту минуту, с каким заданием уезжала Настка. — И почему «нашли»? Ты же была одна.
— Не одна я была. Чиберак со мной ходил... Ты не перебивай... Про Чиберака потом... Они оттуда, из-за фронта, наши, советские ребята. И радиостанция у них, и самолеты к ним летают, и с Москвой они разговаривают. Можешь поверить? Самолеты! Сбрасывают им оружие, газеты, медикаменты, одежду, даже письма от родных. Вот эта «Правда» из последней почты, тоже с самолета сбросили...
— Не спеши, Настенька, — взмолился я. — Рассказывай спокойно, а то ничего не пойму... Во-первых, где ты встретила их? Кто они — партизаны или разведчики-парашютисты? Чей отряд? Кто командир? Рассказывай все по порядку.
— Они называют себя «медведями». Мы, говорят, «медведи», и смеются. Командиром у них полковник. Фамилию не спрашивала. Неудобно, может, это секрет. Они недалеко отсюда, в Цуманских лесах...
— В Цуманских лесах? Как же ты туда попала? Мы же посылали тебя в Сарненский район, — с удивлением уставился я на Настку.
— Попала. Об этом долго рассказывать. Слушай и не перебивай...
...Путешествие Настки началось без каких-либо приключений. В поезде жандармы дважды проверяли документы. Наше командировочное предписание не вызвало у них подозрений.
По прибытии в Сарны Кудеша прямо с вокзала отправилась на базар. Часа два толкалась среди людей, прислушивалась к разговорам. Потом договорилась с каким-то дедом, приехавшим с хутора из-под Люхчи, чтобы тот подвез ее, когда будет возвращаться домой, в сторону Клесова.
Дед оказался неразговорчивым. Всю дорогу молчал, как ни пыталась Настка расспрашивать его, не балуют ли, дескать, в этих местах партизаны. Доехали до развилки, откуда одна дорога сворачивала на Клесов, другая на Люхчу. Дед остановил свой возок, показал кнутовищем, куда Настке идти, а сам поехал дальше.
До Клесова, это Настка знала, было неблизко. К тому же идти тяжело: дорога раскисла, подтаявший снизу снег проваливался. Уже стемнело, когда наша разведчица добралась до какой-то маленькой деревеньки. Заночевала в крайней хате. Перед тем как лечь спать, задала хозяину несколько вопросов. Не продаст ли кто в деревне шерсть на валенки? Есть ли в Клесове немцы? Чем люди торгуют на Клесовском базаре?
Хозяин отвечал неохотно. Есть ли нужда откровенничать с чужим человеком в такое тревожное время?
Несколько дней Настка бродила по окрестным селам, все дальше уходя от Сарн. Севернее, совсем уже близко, начиналась Белоруссия — Пинские и Мозырские болота, правее тянулись лесные массивы Житомирщины. О партизанах в этих местах говорили более откровенно, почти не таясь. Рассказывали, будто недавно прошел тут дед Ковпак со своим войском, наделал в тылу у фашистов много шуму и двинулся дальше на запад, чуть ли не в самую Германию. Говорили и о своих, местных партизанах, а также о каких-то советских солдатах, побывавших в здешних местах. Солдаты будто бы настоящие, в военной форме и очень смелые — здорово поколотили карателей, полицаев, потом ушли обратно в Мозырские леса.
На осторожные расспросы Настки, где находятся солдаты, в Полесье загадочно улыбались. Где они? Это одному господу богу известно. Дорог у них что звезд на небе. Куда держат путь, о том только им самим ведомо.
Крестьяне порой бросали на незнакомую, слишком уж любопытную женщину косые взгляды. Настка догадывалась, что они знают о партизанах гораздо больше того, что говорят, но не хотят откровенничать с чужим человеком.
И все же Настка не теряла надежды, продолжала поиски. Переночевать, обсушиться местные жители пускали ее в свои хаты охотно, а с едой было туго: сами с хлеба на воду перебивались. Захваченные из Ровно сухари Кудеша давно съела. Пыталась кое-что купить. Да у кого купишь, если в деревнях пусто. И еще Настка приметила: немецкие оккупационные марки местные жители вообще не считали за деньги.
Приходилось жить впроголодь. Нальет хозяйка миску постного супа, даст луковицу, сжалившись над уставшей, голодной женщиной, и на том спасибо.
Постепенно Настка все больше узнавала о партизанах. Там они покарали при всем честном народе полицая-предателя, там взорвалась партизанская мина, взлетела на воздух немецкая машина, там разгорелась перестрелка, там вспыхнула немецкая цистерна с бензином... Настка спешила к местам этих происшествий, стараясь таким образом добраться до тех, кто оставлял после себя следы с помощью гранат и автоматов. Вскоре заметила, что ее путь все круче отклоняется на юго-запад, к Цумани. Осталась позади железная дорога Ровно — Сарны; Настка перешла ее возле Немовичей. Где-то там, за спиной, оказалась и Горынь. Партизанские вехи вели разведчицу все ближе к Ровно.
В те дни никто из нас не знал и, разумеется, не мог знать, что советские партизаны-разведчики под командованием полковника Дмитрия Николаевича Медведева, высадившиеся еще в минувшем году в Мозырских лесах, с приближением весны оставили свои зимние «квартиры» под Рудней-Бобровской и совершили переход в район Цумани, ближе к Ровно, к резиденции рейхскомиссара Украины Эриха Коха. Настка шла следом за отрядом Медведева и все же никак не могла встретиться с партизанами.
Вот уже где-то совсем близко Ровно. До города, как говорится, рукой подать. Пора бы возвращаться домой. Товарищи, вероятно, беспокоятся. Но Кудеша не хотела и думать о том, чтобы вернуться ни с чем. Сопоставляя события, разговоры крестьян о «партизанах-солдатах в настоящей военной форме», всевозможные слухи, Настка чутьем опытной подпольщицы, привыкшей все время мысленно анализировать факты, понимала, что это именно те люди, которые нужны ей, те, которые, несомненно, имеют связь с командованием Красной Армии.
Как-то уже под вечер она пришла в село Городок, а оттуда направилась на хутор к Иосифу Адамовичу Чибераку, хата которого, как она знала, являлась нашей резервной явкой. И она не пожалела, что зашла к нашему старому другу. Оказалось, что и до него дошел слух о советских партизанах, будто бы прибывших из самой Москвы.
Старый Чиберак, как собственный дом, знал в округе все лесные тропы и просеки, повсюду имел друзей и просто хороших знакомых. Осторожный и хитроватый старик, узнав о цели прихода Настки, сказал:
— Ну что ж, дочка, поищем этих московских гостей вместе. Вдвоем по лесным чащам ходить веселее. Со мной не заблудишься, мне в Цуманских лесах каждое дерево знакомо.
Видно, кто-то из лесничих шепнул старому Чибераку, куда надо держать путь. И все же целых два дня Настка с Иосифом Адамовичем блуждали по лесным чащам. Только на третьи сутки встретили группу бойцов, разговаривавших между собой по-русски и вооруженных почти новенькими советскими автоматами. Некоторые из них были одеты в бушлаты русского покроя, другие в красноармейские шинели без погон.
Это была одна из разведывательных групп того самого партизанского отряда, прибывшего из самой Москвы, следом за которым Настка шла несколько дней подряд, почти от границы Белоруссии. Теперь тут, в Цуманских лесах, разведчики изучали местность, обстановку. Возглавлял группу смышленый и ловкий партизан Трихлебов. Он охотно выслушал Настку, потом проводил ее и Чиберака к одному из партизанских командиров, фамилию которого Кудеша не узнала. Командир приказал Трихлебову условиться с Насткой о месте и времени встречи с представителями ровенского подполья...
Не успела Настка закончить рассказ о своем пребывании в отряде у «медведей», как на квартиру к сестрам Подкаура пришел Федор Шкурко. Он откуда-то уже успел узнать о возвращении нашей разведчицы. Хотя у Федора к Настке было множество всяких вопросов, он, как обычно, проявил выдержку и прежде всего доложил мне о самых последних новостях. В город только что прибыл связной из отряда дяди Юрко, рассказал много интересного. На квартире Александры Чидаевой меня ожидает Ольга Солимчук; ей о чем-то необходимо поговорить лично со мной. Получено сообщение от Александра Гуца. Выполняя задание подпольной организации, он по-прежнему находится в селе Грабов, продолжает налаживать связи с бывшими членами КПЗУ и комсомольцами Клеванского района. Александр дал задание своему брату Максиму выяснить, кто в Клевани верховодит оуновцами и, если удастся, войти к ним в доверие, проникнуть в их организацию с тем, чтобы своевременно узнавать о всех коварных замыслах и планах бандеровцев.
* * *
Из квартиры сестер Подкаура мы вышли почти одновременно. Федор пошел проводить Настку до дома (им было о чем поговорить), а я направился на явочную квартиру Вали Татарки, где, как сообщил Федор, меня ждал связной из партизанского отряда дяди Юрко.
Из всего, о чем рассказал Федор, меня почему-то больше всего обрадовало и взволновало сообщение об Александре Гуце. В Кдеванский район он несколько раз наведывался еще в прошлом году, встречался там с некоторыми своими друзьями, активными участниками подпольной борьбы во времена пилсудчины. Тогда же Александр попросил подпольный Центр разрешить ему оставить Ровно и обосноваться на более или менее длительный срок в Клеванском районе.
— Там имеются все условия для создания крепкой, боеспособной подпольной организации, — говорил он. — Нужно только собрать людей, объединить, наметить план борьбы против оккупантов, и дело пойдет. Людей там я хорошо знаю, в каждом селе, в каждой деревне найдутся товарищи, готовые на все, лишь бы не сидеть сложа руки, лишь бы бороться...
Сначала я не решался отпускать его из Ровно. Уж слишком многие знали Александра в Клеванском районе. Знали как бывшего заместителя председателя райисполкома, советского активиста. Знали как бывшего члена КПЗУ в годы хозяйничанья пилсудчиков. И конечно, клеванцы не забыли страшной трагедии в селе Деревянное, когда гитлеровцы и их подпевалы уничтожили семью Гуца и когда сам Александр чудом спасся от расстрела. С одной стороны, подобная известность вроде бы должна была облегчить ему подпольную работу в родном районе: ведь хороших людей, настоящих советских патриотов, бывших соратников по борьбе с гнетом польских панов, знакомых по работе в райисполкоме и сельских Советах, наконец, честных рядовых крестьян-тружеников там было во сто крат больше, чем изменников, предателей, буржуазных националистов. Но нельзя было сбрасывать со счета и недругов. Им тоже не так трудно будет опознать ответственного районного работника, донести на него в гестапо, а то и самим с ним расправиться.
Колебался и Луць, хотя, так же как и я, не сомневался, что Александр Гуц достаточно опытный конспиратор и что не так-то просто предателям из местных националистов схватить его. Знали мы и о прекрасных организаторских способностях Гуца: в своем родном районе он, безусловно, сумеет создать подпольную организацию, сплотить патриотов, поднять их на активную борьбу с гитлеровцами. Никакие трудности его не пугали.
С тех пор как Александр появился в Ровно и устроился работать на склад утильсырья, он не раз выполнял ответственные и опасные задания подпольного Центра. В сорок втором году выезжал в село Межиричи для установления связи с тамошними подпольщиками. Группу надежных людей в Межиричах еще в конце 1941 года возглавил бывший член КПЗУ Моисей Губерман. Я хорошо знал Губермана как опытного подпольщика и умелого конспиратора еще до 1939 года. Эти качества помогли ему и в период немецко-фашистской оккупации: он почти год продержался в Межиричах. А ведь его, еврея по национальности, гестаповцы могли схватить в любой момент, даже если бы он не имел никакого отношения к подполью.
Чтобы спасти Моисея Губермана, подпольный Центр принял решение отозвать его в Ровно, а отсюда, включив в состав партизанского отряда, формированием которого в ту пору занимались дядя Юрко и Виталий Поплавский, переправить в лес. На месте нужно было подобрать товарища, который бы заменил Губермана в межиричской подпольной группе.
Именно это задание и получил Александр Гуц от подпольного Центра. Он немедленно выехал в Межиричи, но, к сожалению, опоздал: гестаповцы перед тем расстреляли Губермана и нескольких его друзей. Остальные члены подпольной группы, избежавшие когтей гестапо, опасаясь провокации, не прислали своих представителей на встречу с Гуцем. Связь с межиричскими подпольщиками оборвалась. Александру пришлось ограничиться лишь встречей с одним из своих старых друзей, не входившим в состав группы.
Через некоторое время Гуц предпринял еще одну поездку, на этот раз в Острог. Там, на чесальной фабрике, по нашим сведениям, тоже действовала группа подпольщиков. Гуцу пришлось немало потрудиться, прежде чем он напал на след руководителей подполья, белоруса Черповецкого и двух рабочих фабрики из военнопленных. С подпольщиками на Острожской чесальной фабрике был установлен контакт.
Немалая заслуга Александра Гуца состояла и в том, что нам удалось связаться с боевой подпольной группой на железнодорожной станции Здолбунов. Сначала в Здолбунов выезжал Иван Луць. К моменту его приезда там уже было совершено несколько диверсий: патриоты вывели из строя два паровоза, сожгли вагон с обмундированием для немецкой армии, повредили водокачку. Однако как ни пытался Луць разыскать смельчаков, чтобы наладить с ними связь, это ему не удалось. Александру Гуцу, который выехал в Здолбунов после Луця, повезло больше: несмотря на трудности, он сумел перебросить мостик от подпольного Центра к еще одной небольшой, но активной боевой группе патриотов, в которую входили Артем Зацаринный и несколько его друзей по работе на железнодорожном узле.
Через своего брата Максима, перебивавшегося случайными заработками художника, Александр постепенно восстанавливал связи с земляками из Клевани и окрестных сел, привлекал их к борьбе против оккупантов. Но это его уже не удовлетворяло. Он считал своим долгом быть там, где, по его мнению, мог принести наибольшую пользу как подпольщик-организатор. Всем сердцем он рвался в свой родной Клеванский район.
— Говорите, меня там все знают? Ну и что ж? Это очень хорошо, просто замечательно! — убеждал он меня и Луця. — Депутат районного совета, бывший заместитель председателя исполкома, назло всей этой националистической сволочи, наперекор зверствам оккупантов, действует как представитель партийной организации на территории своего района, выполняет задание партии. Уже одно это поднимет у людей настроение. А опасность... Кому она сейчас не угрожает? Разве здесь, в Ровно, я в большей безопасности, чем в каком-нибудь из сел Клеванского района? Там меня могут опознать предатели, фашистские прислужники, лизоблюды? Верно, могут. Но от этого я не гарантирован и в Ровно. Разве мало наших, клеванских, приезжает в город? Зато в своем родном районе, я в этом уверен, десятки, сотни семей дадут мне приют, спрячут, когда будет необходимо... То, что случилось в Деревянном, не повторится, уверяю вас, товарищи! Теперь меня голыми руками не возьмешь!.. Да и что значит собственная жизнь каждого из нас, когда идет смертельная борьба! На войне и поважнее меня гибнут люди...
В конце концов мы согласились с Гуцем, отпустили его в Клеванский район. И вот теперь получено от него первое сообщение: «Пока все в порядке, работаю, готовлю почву для создания подпольной организации...»
* * *
Возле дома в сумерках маячила женская фигура. Я издали узнал хозяйку явочной квартиры. Эту молодую, невысокую женщину с коротко остриженными темными волосами, с живыми, чуть раскосыми глазами, похожими на горящие угольки, все мы называли Валей Татаркой. Она прохаживалась по тротуару вместе со своим маленьким сыном Васильком, что означало — в ее квартире находится кто-то из наших товарищей.
— Здравствуйте, Валя! — сказал я, подойдя к хозяйке явки. — У вас гость?
— Да. Когда мы с Васильком уходили, он спал. Устал, говорит, километров тридцать, а может, больше пешком отмахал. Вот вам ключ, идите в дом, а мы с Васильком еще побудем на воздухе.
Связной дяди Юрко, когда я вошел в небольшую Валину квартирку, уже не спал. Придвинув вплотную к себе зажженную плошку, дававшую неровный, колеблющийся свет, он перед осколком зеркала старательно скреб бритвой заросший густой щетиной подбородок. На скрип прикрываемой двери быстро обернулся, и я не без труда узнал в нем Ивана Саввича Лунькова, бывшего военнопленного, посланного гитлеровцами работать на завод «Металлист». С ним меня в свое время познакомил Виталий Поплавский. В отряде дяди Юрко Иван Саввич находился с первого дня его существования.
Я окинул взглядом коренастую фигуру Лунькова. Сейчас он мало чем напоминал того изможденного, хмурого человека, с которым когда-то я разговаривал в присутствии Поплавского. На нем были серо-зеленые брюки, заправленные в добротные, почти новые трофейные сапоги, теплый свитер. На гвоздике возле двери висели принадлежавшие ему немецкий солдатский китель и брезентовый плащ. Только что побритые щеки и подбородок при тусклом свете плошки отливали синевой. Если бы я не знал Лунькова, то по первости вполне мог принять его за немецкого солдата. За широким голенищем сапога Ивана Саввича торчал парабеллум, на скамейке лежали две немецкие гранаты с длинными ручками.
Перехватив мой взгляд, Луньков улыбнулся:
— Без этого припаса сейчас далеко не уйдешь. Всегда держу при себе на всякий случай.
Иван Саввич сходил в кухню за чайником, налил в чашки кипятку и, будто отрубая слова, стал рассказывать:
— Забрался наш отряд в настоящие джунгли. Света божьего не видать: вокруг леса, болота, волки воют. Одним словом, полесская чащоба. Вначале двигались тихо, с оглядкой да опаской. Потом надоело слюну глотать, решили при случае шугануть немцев. Под Костополем представился удобный момент. Брели фашисты колонной, в пешем строю, ну мы и ударили по ним изо всех стволов. В результате восемнадцать немецких трупов, шесть трофейных автоматов. Некоторые ребята, у которых одежонка поизносилась, натянули на себя немецкие мундиры, шинели, пилотки, вооружились трофейным оружием. Глянешь со стороны — фрицы, да и только. Не отличишь. А тут еще оказия. Приметили мы возле Александрии немецкий обоз. Дядя Юрко приказывает: всем партизанам, на которых немецкая форма, выходить на дорогу и двигаться навстречу обозу. Так и сделали. Человек пятнадцать наших построились как положено и двинулись по дороге. Впереди «начальство», «унтер-офицер». Поравнялись с обозом, и — «Хенде хох, сволочи!». Несколько очередей — двадцати гитлеровцев как не бывало. На подводах у них свиные туши и битая птица. Закусили мы крепко, полакомились жареной свининкой и курятиной, расселись по подводам и айда дальше. Правда, лошадей пришлось вскоре бросить: в лесу с ними одна морока... Наполнили заплечные мешки оставшимися продуктами, опять на «одиннадцатый номер» пересели. К тому времени нас все чаще стали донимать вооруженные шайки бульбовцев. Несколько раз наскакивали, хотя особого геройства не проявляли. Дадим мы по ним залп-другой, они в кусты, драпают от нас. Ну а преследовать их не моги. Носенко строго приказал: «Боев с бандитами избегать!»
— Кто такой Носенко? — спросил я.
Лунькова мой вопрос сначала удивил: кто же, мол, не знает Носенко? Но потом он догадался, в чем дело, пояснил:
— Командира нашего дядей Юрко кличут, а на самом-то деле его настоящее имя Николай, фамилия Носенко. Так вот он и приказал избегать боев с бандами националистов. Это, говорит, фашистам выгодно отвлечь наше внимание всецело на борьбу с бандитами и истреблять их всех подряд, без разбора. А нам, дескать, надо разбираться, кого бить беспощадно, а на кого и агитацией воздействовать. Правильно, конечно, говорит. Ведь среди всяких там бульбовцев и бандеровцев немало людей обманутых, оболваненных главарями. Бульба, к примеру, на каждом перекрестке, в каждом селе трезвонит, что борется за народную Украинскую республику, не за Советскую, разумеется, а за народную. В понятие «народная» он вкладывает свой, особый смысл. Но видно, начинает понимать, что фашистам даже такая игра в демократию не по нраву, поэтому пробует на ходу перестроиться. Сам напрашивается на переговоры с гестапо и СД, обещает фашистам помощь в очищении Полесья от советских партизан.
— Откуда такие сведения?
Глаза Лунькова хитровато прищурились.
— Как мне помнится, — продолжал он, — подпольный Центр советовал нам не сторониться местного населения, а, напротив, заводить больше друзей на Полесье. Наш командир Николай Носенко хорошо помнит этот совет и требует от нас строжайшего его соблюдения... Фашисты, конечно, не отталкивают от себя и Бульбу с его сечевиками, но все-таки отдают предпочтение повстанцам. Оккупантов больше устраивает «повстанческая армия». В сформированных кое-где подразделениях УПА имеется много немецкого вооружения, вплоть до минометов. Вы, может быть, думаете, что оно захвачено в боях с фашистами? Ничуть не бывало. То немцы снабжают националистов. Продажные эти бандеровцы похлеще бульбовцев...
— Ну это-то мне известно, Иван Саввич, — перебил я Лунькова. — Вы прежде о националистах лишь в книжках читали, а мне приходилось бороться с ними еще в те годы, когда тут хозяйничали паны. Да и после тоже...
Луньков виновато махнул рукой.
— Просто из головы вылетело, что вы здешний... Но знаете, среди бульбовцев и бандеровцев многие верят сказкам о непримиримости националистов к фашистским оккупантам. Однако нам частенько приходилось видеть совсем иное: на одном конце села располагается немецкий гарнизон, на другом — банда УПА. Те и другие делают вид, что не замечают друг друга. Оружие УПА, несомненно, получает от немцев. Что же касается трений между националистическими бандами, бульбовцами, бандеровцами и другими, то тут одна видимость. Их разногласия не имеют особого значения. В основном все ограничивается перебранкой и взаимными упреками. Бульба поносит бандеровцев за то, что те якобы оттеснили на задний план его сечевиков, а бандеровцы называют бульбовцев не иначе как слюнтяями и трусами. Только и всего. Некоторая часть сечевиков уже вливается в УПА. Как видно, националисты повсюду делают ставку на «повстанческую армию». Их главари взяли курс на военизацию, пытаются подмять под себя все население. Бандиты закладывают в лесах тайные базы, имеют в селах свою агентуру, распихивают, куда только могут, головорезов из своей «службы безопасности». На все это нельзя закрывать глаза. Националисты могут принести нашим людям еще немало бед... Но вот одного я не понимаю, — развел руками Луньков. — Наши разгромили фашистов под Сталинградом, теперь лупят их почем зря на других фронтах. Думаю, уже не долго ждать, когда и в Западную Украину вернутся советские войска. На что же в таком случае рассчитывают националисты?
— Несколько месяцев назад бандитские главари были твердо убеждены, что фашистская Германия выиграет войну, а значит, и останется их опора — оккупационный режим, — сказал я Лунькову, отвечая на его вопрос. — Гитлеровцы и теперь еще не склонны признать свое поражение. А главари националистов, живя умом своих хозяев, тоже, очевидно, тешат себя надеждой, что у фашистов и после Сталинграда хватит сил сломить Красную Армию. Возможно, кое-кто из руководителей ОУН чувствует шаткость положения на фронте, но куда же сейчас им отступать? Слишком далеко они зашли. Вот и прут дальше той же дорогой, потому что крепко связаны с гитлеровцами одной веревочкой. Весь их расчет — авантюра, Иван Саввич.
— Ох и кровавая же это авантюра, — покачал головой Луньков. — Бандеровцы науськивают украинцев на поляков, немцы подстрекают поляков против украинцев. Всюду резня. Ведь до чего доходит: если в семье отец поляк, а мать украинка, бандеровцы режут отца и детей; если мать полька — режут детей и мать. В селах рассказывают, что националисты иной раз принуждают отцов рубить головы собственным детям... А к нам в отряд поляки и украинцы приходят вместе. Отряд вырос вдвое. Но пока еще не хватает оружия, мало боеприпасов. Еще хуже с медикаментами: нет ни бинтов, ни лекарств, чтобы лечить раненых.
Я спросил Лунькова, не слышали ли в их отряде о деде Ковпаке, который будто бы прошел по Полесью чуть ли не с партизанской армией.
— Не только слышали, а и видели ковпаковцев, — оживился Иван Саввич. — Большая сила. Армия не армия, но крупное соединение. Как ураган, пронеслись ковпаковцы по Полесью, сметая на своем пути мосты, фашистские гарнизоны, железнодорожные составы. Немцы распространили слух, что Ковпак — генерал царской армии, закончил в Берлине академию генштаба. Врут, гады. Люди говорят совсем иное: дед Ковпак, мол, генерал, да не тот: он не то рабочий, не то колхозник с Полтавщины. Нам довелось встретиться лишь с небольшим ковпаковским отрядом, который шел в арьергарде. Дали нам ковпаковцы немного патронов, гранат и махнули дальше, куда-то аж к самой Бессарабии. Кроме ковпаковцев в Полесье бьют немцев и другие партизанские отряды. Много наслышались мы об Иване Федорове и о партизанах Мисюры. Поговаривают, будто недавно в Полесье прилетал на самолете депутат Верховного Совета СССР, проводил совещание коммунистов во Владимирецком районе, Ровенской области. Правда это или выдумка, не берусь утверждать, но слухи такие ходят.
Наш дядя Юрко установил отношения с лейтенантом Алексеем Шитовым. Отряд у Шитова небольшой, но боевой, снаряжен хорошо и вооружен как следует, кажется, даже имеет связь с нашими по ту сторону фронта. Лейтенант не против того, чтобы принять и наш отряд под свое командование, обеспечить оружием. Но дело в том, что он готовится в поход на белорусское Полесье. Нам будет трудно поддерживать оттуда связь с Ровно, далековато. Вот потому Носенко и послал меня к вам, чтобы узнать на этот счет мнение подпольного Центра. Приказал обо всем вам доложить и сразу возвращаться, чтобы поспеть до ухода отряда Шитова. Говорил ли Носенко с Шитовым, чтобы тот помог ровенскому подпольному Центру связаться с Большой землей, не знаю, но вот что просил обязательно сообщить, когда посылал меня к вам. Скажи, говорит, Новаку или Луцю, что в ближайшее время выйдет из Полесья, а может, уже вышел отряд полковника Медведева, который держит путь в сторону Ровно.
— Отряд полковника Медведева, говорите? — переспросил я Ивана Саввича. — Не эти ли партизаны называют себя «медведями»?
— Точно, они, — улыбнулся Луньков. — На Полесье народ их так окрестил.
— Если Носенко имел в виду тех самых «медведей», то они уже тут, совсем недалеко, в Цуманских лесах. С ними у нас, можно сказать, состоялось первое свидание. Один из их командиров обещал прислать к нам в ближайшие дни своих представителей. Вам что-нибудь известно об этом отряде? Верно говорят, что он послан сюда из Москвы?
Луньков ответил не сразу. Отпил из чашки несколько глотков уже остывшего чая, закурил и лишь после этого сказал, как бы извиняясь за недостаточную осведомленность:
— Самому мне с партизанами из отряда Медведева встречаться не доводилось. Сообщаю лишь то, что велел передать вам товарищ Носенко. Ну а насчет слухов... Всякое говорят. Будто отряд этот не совсем обычный, не такой, как другие. Крупными диверсиями не увлекается, бои ведет лишь в случаях крайней необходимости, людьми тоже не стремится обрастать. Очень подвижный и маневренный отряд. Об этом все говорят. Националисты боятся «медведей» как огня. Немцы тоже предпочитают не связываться с ними. А вот о том, из Москвы ли прибыл полковник Медведев со своими бойцами в здешние края или еще откуда, сказать не могу, не знаю...
Хотя Иван Саввич просил не задерживать его в городе, я все же вынужден был предупредить партизанского связного, что несколько дней ему придется подождать. Прежде чем принять решение объединяться ли отряду дяди Юрко с отрядом лейтенанта Шитова, нам было крайне важно дождаться представителей полковника Медведева, узнать, имеют ли они связь с командованием Красной Армии и сколь продолжительное время собираются оставаться в Цуманских лесах. Контакт с партизанами, их поддержка были нам необходимы как воздух. Утратив такой контакт, мы лишились бы надежного прикрытия, на которое каждый из нас рассчитывал в случае возможных осложнений, угрозы провала, неожиданных ударов со стороны врага.
Заметив, что Лунькова не только не обрадовала, а даже огорчила перспектива ожидания, я попытался успокоить его:
— Думаю, что вам, Иван Саввич, придется задержаться в Ровно недолго, потом опять вернетесь в отряд. Нам нужно кое-что выяснить, уточнить перед тем, как дать ответ Носенко. И еще: на то, что лейтенант Шитов отказался сообщить о нас на Большую землю, мы не в обиде...
— Я и не говорил, что он отказался сообщить, — возразил Луньков. — Может, Носенко даже не просил об этом лейтенанта Шитова. О чем беседовали между собой командиры, нам, рядовым, не все велено знать.
— Просил или не просил, безразлично. Не так все просто. Если Шитов даже имеет связь с нашими по ту сторону фронта, он не может, не должен передавать им непроверенные данные. Представьте себя на его месте. Встретили вы в лесу командира небольшого партизанского отряда. Тот заявляет: радируйте, дескать, в Москву, что в Ровно действует подпольная организация! Может у вас возникнуть сомнение? Безусловно. Особенно если учесть, что подпольщиками называют себя и бандеровцы, и бульбовцы, и всякая иная националистическая шваль. Допускаю, что Носенко учел все эти обстоятельства и не заводил с Шитовым разговора на такую тему. И он по-своему прав. Впрочем, не исключен другой вариант. Может, у Шитова тоже нет никакой рации...
— Да, — задумчиво протянул Иван Саввич. — Но вам-то, подпольщикам, от этого не легче.
— Конечно не легче. А что поделаешь? Война многое повернула не так, как бы хотелось.
Луньков некоторое время молчал, полузакрыв глаза. Потом что-то вспомнил, нахмурил лоб.
— Тут еще такое дело, Терентий Федорович, — сказал он. — Хочу предупредить вас кое о чем. Может, я ошибаюсь, но полагаю, что сказать не вредно. Еще когда я на «Металлисте» работал, была там в бухгалтерии одна женщина, Дроздова ее фамилия. Я обратил внимание, что к ней часто заходили на работу люди, не имевшие никакого отношения к заводу. Да и вела себя эта женщина как-то неспокойно. Я подумал было, что Дроздова подпольщица. Справился о ней у товарищей. Нет, говорят, Дроздову в подпольную группу мы не привлекали. Тогда решил поинтересоваться ею поближе. Познакомился. Примерно через неделю свела она меня с двумя парнями. Они тоже из военнопленных, но уж очень неосмотрительные. Сразу стали меня агитировать, чтобы присоединился к ним, начал бороться против немцев. Назвали несколько фамилий своих друзей, по их словам, активистов подполья, сообщили, что тайком проводят совещания, листовки против фашистов пишут и разбрасывают на улицах, даже протоколы собраний ведут... Я еще тогда хотел доложить о Дроздовой и этих парнях руководителю своей подпольной группы, да не успел — мы ушли в лес. Сейчас вот снова вспомнил. Вы поинтересуйтесь, Терентий Федорович. Может, ребята те до сих пор в городе. Надо подсказать, чтобы поосторожнее были. А то далеко ли до беды...
— Это хорошо, что вы предупредили, товарищ Луньков. Фамилия женщины Дроздова, говорите? Проверим, попытаемся разыскать ее. Листовки кроме наших в Ровно действительно время от времени появляются. А вот кто их пишет, мы пока не знаем... Спасибо за предупреждение!..
* * *
Посланец от полковника Медведева появился в городе гораздо раньше, чем мы предполагали.
Уже на следующий день после моего разговора с Иваном Саввичем Луньковым, в шестом часу вечера, в небольшом сквере, что в самом центре города, остановился молодой человек в старом, потертом пиджаке и серой фуражке со сломанным козырьком. Несколько минут он с интересом рассматривал установленный на высоком пьедестале трехметровый памятник покойному советскому генералу Богомолову, войска которого в 1939 году освобождали город Ровно от пилсудчиков. Трудно было понять, как случилось, что немецкие оккупанты и местные националисты не снесли этот памятник, но так или иначе он уцелел. Молодой человек обошел вокруг гранитной фигуры с видом знатока, затем обратился к сидевшей неподалеку на скамейке женщине:
— Прошу прощения, пани. Вы случайно не знаете, кто создатель этого памятника?
— Знаю, — ответила женщина. — Его автор — скульптор Комаровский.
— Покорно благодарю, пани! — поклонился парень.
— Не за что благодарить, молодой человек. Вы попросили назвать автора памятника, я ответила, только и всего, — сказала женщина, встала и медленно пошла по Дорожке к выходу из сквера. Немного погодя в ту же сторону зашагал и молодой человек.
Сообщая незнакомке пароль, партизан Трихлебов не догадывался, что короткие фразы, которыми он обменялся с женщиной, вовсе не случайный набор слов. Для встретившей его женщины они были воспоминанием о самом дорогом и близком. Памятник советскому генералу Богомолову создал ее муж, поляк Комаровский, известный в Ровно до войны скульптор и архитектор. Скульптора Комаровского уже не было в живых, он погиб в борьбе с оккупантами, а она, его жена Любовь Комаровская, выполняла первое в своей жизни задание коммунистического подпольного Центра — встречала у подножия памятника партизана-связного.
С того вечера, как Любовь Комаровская проводила на одну из наших городских явок молодого человека в фуражке со сломанным козырьком, Иван Иванович Луць длительное время не появлялся на фабрике. Для тех, кого «главный бухгалтер» интересовал по делам службы, он «тяжело заболел», о. чем свидетельствовала необходимая в подобных случаях официальная справка врача. Для тех же, кто мог случайно встретить Луця в лесу под Цуманью и заинтересоваться его личностью, он находился «в командировке» с целью «заготовки шерсти и щетины в селах», что подтверждалось выданным ему дирекцией фабрики командировочным предписанием. Такой же документ имел и Трихлебов, который провожал Ивана Ивановича к месту расположения партизанского отряда полковника Медведева.
В пути и в отряде Луць пробыл ровно неделю. В город возвратился с большим рюкзаком за плечами: принес несколько мин и противотанковых гранат, два пистолета системы «вальтер» с запасом патронов, большую пачку газет «Правда» и «Красная звезда». Когда партизанские подарки были осмотрены и спрятаны в надежное место, Иван Иванович стал подробно рассказывать о своем путешествии, о беседах с командиром и комиссаром партизан. «Главный бухгалтер» был возбужден и взволнован, глаза его светились неподдельным счастьем, казалось, он побывал в сказочном царстве, умылся там живой водой, и теперь его лицо излучало все то, что он видел, слышал, к чему еще вчера прикасался. Я любовался вдохновенностью своего друга, завидовал ему и слушал его рассказ, боясь пропустить хоть слово.
— Командир отряда Дмитрий Николаевич Медведев и комиссар Сергей Трофимович Стехов всецело за то, чтобы поддерживать с нашим подпольным Центром постоянный контакт, — докладывал Луць. — Они проявили большой интерес к собранным группой Шкурко разведывательным материалам, обещали все, что важно, передать в Москву. Просили усилить сбор разведданных о немецко-фашистских войсках. Отряд охотно примет товарищей, которых подпольный Центр сочтет необходимым отправить в лес, к партизанам. В настоящее время им крайне нужны медикаменты и медработники. Партизаны будут благодарны, если мы сумеем переправить в лес также некоторое количество соли, мыла, табаку, несколько комплектов гражданской одежды. В свою очередь они могут передать нам для нужд подпольной организации определенную сумму немецких оккупационных марок, будут доставлять в город боеприпасы, взрывчатку, советские газеты и журналы...
Еще в то время, когда Иван Иванович Луць находился в отряде, полковник Медведев распорядился создать в Оржевском лесу, в десяти километрах от Ровно, «маяк», или, говоря проще, пункт связи с подпольщиками. На «маяке» будет постоянно находиться группа партизан, которые в любое время дня и ночи смогут встретить связных подполья, принять доставленные ими разведданные. Луць предложил создать еще один «маяк» на хуторе близ села Городок, в доме Иосифа Чиберака. Командование отряда согласилось с его предложением. На случай нарушения этих каналов связи в Оржевском лесу оборудован тайник, который может служить своеобразным почтовым ящиком для обмена информацией и различными материалами между отрядом и подпольным Центром. Всей работой по организации связи будет заниматься Трихлебов. На него возложена обязанность периодически менять пароли, инструктировать связных, заботиться о том, чтобы они в случае необходимости имели возможность отдохнуть. Не менее важно было и то, что отряд принял на себя охрану «маяков».
За деловитой оперативностью, с какой медведевцы откликнулись на наше предложение об установлении контакта между подпольным Центром и партизанами, чувствовалась твердая и опытная рука. Слушая сообщение Луця, я даже подумал: «А было ли неожиданностью для командования отряда появление наших связных? Может, полковник Медведев заранее знал о существовании ровенского подполья, а появление в отряде Настки Кудеши и Иосифа Чиберака лишь ускорило ход событий?»
В этом своем предположении я утвердился еще больше, когда Луць доложил:
— Командир и комиссар отряда просили меня узнать, сможет ли отлучиться на некоторое время из города руководитель подпольного Центра. Было бы неплохо, сказали они, если бы ему самому удалось побывать в ближайшие дни в отряде. Хорошо бы, дескать, кое о чем посоветоваться, вместе обдумать некоторые вопросы. Да и вообще личное знакомство, мол, не помешает. Я ответил, что передам их приглашение и что такая встреча, очевидно, вполне возможна... Хотя в отряде мне не говорили, а сам я не допытывался, — продолжал Луць, — но по всему видно, медведевцы собираются на продолжительное время закрепиться в районе Ровно. Потому, видимо, партизанское начальство и решило обсудить некоторые вопросы лично с руководителем подполья. Так что, Терентий, настала твоя очередь побывать в лесу, а для этого, может, придется тоже сказаться на некоторое время «тяжело больным».
Теперь уже не было нужды задерживать в городе Ивана Саввича Лунькова. Мы решили сообщить дяде Юрко — Николаю Носенко, что не возражаем против слияния его отряда с отрядом лейтенанта Шитова. Вместе с тем я попросил Лунькова передать командованию партизан нашу просьбу: по возможности информировать подпольный Центр о боевых делах тех товарищей, которые начали свой партизанский путь в Ровно.
И эта просьба не осталась безответной. Позже мы получили с различными «оказиями» несколько сообщений о действиях партизанского отряда.
Часть четвертая
Кровь за кровь!
1
Сергей Трофимович Стехов махнул рукой в сторону купавшихся в тусклом сиянии лунной ночи хат. Видневшееся на пригорке село, деревья, раскинувшийся вокруг зеленый луг казались залитыми полупрозрачной, застывшей синевой.
— Вперед! — негромко звучит команда.
Партизаны дружно, как один, поднимаются и, чуть пригнувшись, бегут в направлении села. В их руках холодно поблескивают стволы автоматов. Я бегу рядом со Стеховым, стараясь ни на шаг не отставать от комиссара отряда. Ноги мягко погружаются в зеленый ковер, наполненный густым ароматом трав. От быстрого бега и волнения бешено колотится сердце.
— В селе старайтесь держаться в тени, — бросает мне Стехов на ходу. — Вовсе не обязательно, чтобы вас видели тут вместе с нами. Понятно?
Я молча киваю. В правой руке у меня пистолет, в левой граната. Крайние хаты села будто сами наступают на нас, все отчетливее вырисовываясь на синеватом фоне неба.
Неожиданно из-за кустов раздается истошный крик:
— Стой! Кто идет?
В ответ гремит отрывистая автоматная очередь. И тут же тишину ночи раскалывают взрывы гранат, длинная пулеметная трель, сотни выстрелов.
Из хат выскакивают люди в белом. Поднятые внезапной партизанской атакой с постелей, бандеровские головорезы мечутся по дворам в одном белье. Некоторые возвращаются в хаты, остальные, беспорядочно отстреливаясь, отступают за сараи.
Разрозненные выстрелы бандитов почти не причиняют вреда партизанам, и они, непрерывно ведя огонь, поливая пулями дорогу и дворы, широкой цепью продвигаются вперед.
Пулеметная и автоматная стрельба слышится и на противоположном конце села. Там прочесывает улицы и дворы еще одна партизанская группа, предусмотрительно посланная комиссаром отряда в обход, для нападения с тыла.
Стехов бежит рядом, размахивая маузером. Впереди раздаются крики, стоны, мелькают и внезапно исчезают фигуры в белом, бросившиеся было наперерез партизанам. У плетня, в стороне от дороги, несколько убитых бандеровцев. Рядом с ними раненый; припав спиной к плетню, он зажимает рану на животе руками и истошно кричит.
Десятки пуль, чиркнув по земле, поднимают над дорогой облачко пыли. Стехов отталкивает меня к стене овина, следом отскакивает туда же сам, подносит руку к глазам. Рука в крови. Это разрывная пуля, скользнув по маузеру, задела мелкими осколками пальцы комиссара.
Стрельба постепенно стихает. Лишь кое-где во дворах гремят одиночные винтовочные выстрелы, да левее нас, из темнеющего в саду сарая, строчит ручной пулемет.
Но вот оттуда слышатся взрывы гранат. Сразу наступает тишина.
Партизан Борис Сухенко, тяжело дыша, подбегает к Стехову, докладывает:
— Пленных взяли, товарищ комиссар, человек пятнадцать...
— Где они?
— Вон там, их ребята к магазину сгоняют.
Я вместе со Стеховым бегу к деревянному зданию без окон, на которое указал Сухенко. У стены толпятся бандиты. Их окружают партизаны с автоматами. Вид у пленных жалкий. Многие в одних кальсонах, босые — не успели одеться. Сейчас, кажется, они ничем не напоминают тех головорезов, которые, возможно, еще недавно рыскали по окрестным селам, жгли, убивали, грабили.
Удар партизан был внезапным и стремительным. Разместившаяся на ночь в селе банда оказалась застигнутой врасплох, не успела опомниться. Повсюду натыкаясь на партизанские пули, неся потери, бандеровцы быстро сообразили, что село окружено. Оставался единственный выход — сдаться в плен. Правда, кое-кому из бандитов удалось все же прорваться через партизанскую цепь и удрать. Наиболее отчаянные, вроде тех, что засели в сарае и отстреливались до последней возможности, были уничтожены. Остальные побросали оружие и с поднятыми руками вышли на дорогу.
Я стараюсь пробиться к пленным поближе. Хочется посмотреть на их лица.
— Ты кто такой? — спрашивает Стехов, подходя к парню в грязной вышитой рубашке и касаясь его груди забинтованной рукой.
— Я — я... из Тютьковичей. Крестьянин я, сирота... Пас у хозяина коров. — Парень дрожит, словно его трясет лихорадка.
Комиссар подходит к другому, низкорослому, с заросшим густой щетиной лицом мужчине лет сорока, который, щурясь от света электрического фонаря, левой рукой придерживает сползающие кальсоны, а правой торопливо и мелко крестится.
— Тутошний я, милостивый пан, — говорит он, не ожидая вопроса. — Принудили меня взять зброю... Не хотел я этого позорища, ей-богу, не хотел... Заставили...
У меня жена, дети... Хата моя вон там, — указал он на край села.
Остальные — из окрестных сел. Почти все неграмотные. Так вот оно каково «войско», именуемое «Украинской повстанческой армией»! Этим, что толпились сейчас у стены магазина, было приказано круглосуточно патрулировать берег Горыни, задерживать всех, кто попытается пройти из города в лес или из леса в город. Две ночи они провели в засаде. Потом их «старшого» куда-то вызвали по начальству, а заменивший его «друг командир» напился самогонки. Воспользовавшись этим, повстанцы решили бросить все к чертовой матери, вернуться в село и отоспаться. Достаточно оказалось небольшого подразделения партизан, чтобы за полчаса рассеять, разгромить бандеровских боевиков.
Мне не терпится поговорить с пленными, чтобы понять, как и почему они оказались в банде националистов. Однако, следуя совету комиссара, стараюсь держаться в тени, не мозолить глаза плененному «войску».
По настроению Стехова и собравшихся к магазину партизан чувствую, они готовы распустить пленных по домам: пусть идут, пусть помнят эту лунную тревожную ночь, пусть проклинают бандитских главарей, принудивших их подставлять головы под партизанские пули! В том, что пленным ничего не грозит, я был уверен. Комиссар Стехов не такой человек, чтобы мог поступить с этими обманутыми, забитыми людьми несправедливо! Хотя и немного времени пробыл я в партизанском отряде, однако успел понять главное: командир отряда, а особенно комиссар Стехов — люди твердые и душевные, строгие, но справедливые.
И я не ошибся. Обращаясь к пленным, Стехов спокойно, не повышая голоса, заговорил:
— Крестьянами вы себя называете, трудовыми людьми? Верю, что среди вас, оставшихся после боя в живых, нет ни помещиков, ни кулаков. Но если вы трудовые люди, крестьяне, так защищайте свою землю от фашистов, от оккупантов! А вы куда полезли? К бандеровцам, к бандитам, которые заодно с фашистами вас же и грабят, у вас же отнимают последний кусок хлеба. Знаете ли вы, что такое «Украинская повстанческая армия», или УПА, как сокращенно называют свое бандитское войско ваши главари-националисты? Плохо знаете, хотя догадаться вовсе не трудно. Вокруг кишмя кишат фашисты, немцы. Почему же оуновские «други командиры» не ведут вас биться с ними? Почему вместо этого науськивают вас на советских партизан? Поразмыслите над этим, глупые головы! Обвели вас националисты вокруг пальца и в одну упряжку с фашистами поставили. Эх вы, боевики! Советские войска громят оккупантов на фронте, многие ваши земляки на переднем крае и тут, в тылу врага, не жалеют своей жизни за свободу. А вы на кого замахиваетесь? На народ руку подняли, на своих же отцов, матерей, братьев, сестер. Хотите, чтобы дети ваши по гроб жизни тянули на себе чужеземное ярмо, гнули спины на немцев помещиков. Поснимать бы с вас штаны да всыпать так, чтобы неделю сесть не могли!.. Жаль, что нет у нас на это ни времени, ни желания... Вот ты, чего крестишься? Думаешь, расстреляем? На черта ты нам сдался. Мы с фашистами воюем, а не с такими болванами, как ты. Смотреть на тебя и на всех вас тошно. Но вот что запомните крепко: еще раз попадетесь, разговор будет иной. На войне не шутят. А сейчас — марш по домам! Убитых не забудьте подобрать и похоронить, о раненых позаботьтесь. И уж если еще раз возьмете в руки оружие, то направляйте его против немцев оккупантов и против главарей-националистов, которые мечтают превратить вас в своих хлопов. Советую каждому зарубить это на носу, пока не поздно...
Ночной бой, в котором мне довелось принять участие, не входил в планы партизанского отряда, а тем более в мои собственные. Все случилось неожиданно. Когда время моего пребывания в отряде подходило к концу, когда все уже было обговорено, согласовано, условлено и я должен был возвращаться в Ровно, разведчики донесли командованию отряда, что на пути к городу, в районе Хотина и Тютьковичей, появились гитлеровцы, а бандеровские банды выставили свои секреты на берегу Горьши и возле сел, что примыкают к лесному массиву. Разведчики, как видно, хорошо знали обстановку.
Дмитрий Николаевич Медведев развернул карту, объяснил мне, где путь особенно опасен. Потом, с минуту подумав, добавил:
— Придется дать вам провожатых, товарищ Новак, на случай, если напоретесь на банду националистов. Хотя документы у вас вроде надежные, но и с ними не желательно попадать в лапы бандеровцев. Идти вам придется вот через это село. Тут путь самый удобный и менее опасный. В селе размещается отряд бандеровцев, которым приказано патрулировать берег Горыни. По нашим сведениям, отряд небольшой. Пошлем с вами два взвода автоматчиков. Поведет их Сергей Трофимович. Удар по бандитам надо нанести на рассвете, когда особенно крепкий сон... Впрочем, это не ваша забота. Стехов знает, как поступить: ему не впервой. Вы держитесь возле комиссара, и, полагаю, все будет в порядке. Передавайте привет ровенским товарищам. Желаю успеха!
...За селом, в котором час назад гремели выстрелы, мы со Стеховым пожали друг другу руки. Сергей Трофимович повел автоматчиков обратно в лес, к месту расположения отряда, а мой путь лежал в противоположном направлении — на «маяк», к хутору старого Иосифа Чиберака под Городком. Сопровождать меня дальше комиссар выделил трех партизан.
Удаляясь от Горыни знакомыми тропами, я вспоминал недавние беседы с Медведевым, Стеховым, вечера у лесных костров, ночи в землянках среди неугомонных партизанских шутников, которые все время подначивали друг друга, всячески приперчивая и присаливая различные случаи из боевой жизни отряда. Передо мной снова и снова возникали открытые лица партизан, их приветливые взгляды, пилотки, родные красноармейские шинели, автоматы, пулеметы, закопченные дымом котелки.
Для бойцов отряда я был связным из Житомира, прибывшим в лес по делам, известным только командованию. И потому партизаны ни о чем меня не расспрашивали, казалось, не проявляли ко мне никакого интереса. Но я все время чувствовал тепло сердец этих отважных ребят, прошедших не одну сотню километров с оружием в руках по оккупированной врагом советской земле и принесших сюда, под Ровно, частицу нашего, советского светлого мира. Угощая меня партизанским кулешом, махоркой или папиросой, предлагая укрыться шинелью или послушать новую фронтовую песню, они, близкие и родные мне люди, возможно, даже не догадывались, что каждая проведенная вместе с ними минута была для меня огромным счастьем. С ними в лесу я отдыхал от всего пережитого, чувствовал себя словно на седьмом небе — уютно и уверенно, хотя их боевые будни тоже никак нельзя было назвать спокойными и безмятежными.
Вместе с командиром и комиссаром мы подготовили короткий отчет для ЦК партии о деятельности ровенской подпольной организации. Во время передачи отчета по рации в Москву я обратил внимание на невысокую смуглую девушку, быстро и уверенно работавшую ключом; она показалась мне знакомой. После сеанса радиопередачи мы разговорились. Да, я не ошибся. Это была Марина Ких, бывшая швея, комсомолка-подпольщица из Галичины. Осенью 1939 года я впервые увидел ее во Львовском оперном театре, на Народном Собрании, где она, как депутат, выступала с яркой, пламенной речью. Потом Марина уехала с делегацией Народного Собрания в Москву, чтобы передать Чрезвычайной сессии Верховного Совета СССР ходатайство своих земляков о принятии Западной Украины в родную семью Украинской Советской Социалистической Республики. Другая группа депутатов, в числе которой находился и я, была приглашена в Киев, на прием в Центральный Комитет Компартии Украины.
Увидев Марину в лесу, в отряде полковника Медведева, я как бы невольно вспомнил те радостные, незабываемые дни. Вспомнил почему-то и о курьезе, который случился со мной тогда в Киеве. На длинном столе в приемном зале ЦК КП(б)У, где проходила встреча депутатов Народного Собрания с руководителями партии и правительства Украинской республики, стояли вазы с апельсинами. На своем, тогда еще не очень большом веку я съел немало картофеля (вареного и печеного), а вот цитрусовых пробовать не приходилось. Я взял из вазы апельсин и, не очистив, стал жевать. Заметив мою «промашку», один из секретарей ЦК подсел ко мне, ободряюще подмигнул и, стараясь не смутить гостя, потихоньку очистил для меня апельсин от кожуры.
Мимолетное, случайное воспоминание в тот миг еще больше согрело мне душу. Когда я рассказал Марине про тот случай, она долго по-девичьи звонко смеялась.
* * *
К деятельности нашей разведывательной группы, возглавляемой Федором Шкурко, полковник Медведев проявил особый интерес. Дислокация немецких воинских частей, подразделений фельджандармерии в районе Ровно и в самом городе, гитлеровские склады, базы, аэродромы, гаражи, тыловые штабы, организации и ведомства, подчиненные рейхскомиссариату, службы полиции СД, гестапо, различные административные и вспомогательные учреждения — все это очень заинтересовало и командира отряда, и комиссара. Медведев удивился, услышав, что управление немецкой фирмы «Бендера», которая контролировала добычу угля в Донбассе, размещается в Ровно, в доме между Ростовской и Школьной улицами; с неменьшим удивлением он поднял брови, когда узнал, что такое неказистое по названию предприятие, как фабрика чурок на углу улиц Боженко и Коцюбинского, поставляет топливо для немецких газогенераторных машин; быстро переглянулся со Стеховым, когда я сказал, что самолет гаулейтера Эриха Коха обычно приземляется на аэродроме, расположенном возле села Тынное.
— И часто летает гаулейтер? — спросил полковник.
— Нам удалось зафиксировать два вылета.
— Каким образом вы это установили?
— Путем наблюдений за личным шофером Коха. Если он утром выходит из квартиры с чемоданчиком, значит, повезет гаулейтера на аэродром.
— Ваши товарищи следят за аэродромом?
— Аэродром находится всего в шести километрах от города, вправо от шоссе Ровно — Дубно. Мы ведем за ним постоянное наблюдение еще с весны прошлого года. Этим по нашему заданию занимается Федор Кравчук, бывший секретарь Ровенского горкома комсомола. Он руководит подпольной молодежной группой в Грушвице. Неподалеку от аэродрома, в одной крестьянской усадьбе, трудится бывший военнопленный, известный нам по фамилии Морев. Связной Кравчука Александр Володько регулярно получает от Морева сведения обо всем, что происходит на аэродроме, и передает их Федору Шкурко, о котором я вам уже говорил.
— А не было случаев, чтобы Эриха Коха видели в городе? — спросил Дмитрий Николаевич.
— Нет, на улицах города наши товарищи его ни разу не видели. Если он и выезжает из своей резиденции, то в закрытом бронированном «хорхе», в сопровождении танкеток и мотоциклистов. Во время таких поездок немцы усиливают патрулирование. Как нам известно, в Ровно гаулейтер живет не постоянно. Большую часть времени проводит, вероятно, в Германии.
— В Восточной Пруссии, в Кенигсберге, — уточнил Медведев. — Там его вторая резиденция.
Командир и комиссар отряда старались узнать как можно больше подробностей о пребывании Эриха Коха в Ровно. И это мне было понятно. Зловещая личность высокопоставленного нациста привлекала внимание каждого советского патриота, находившегося в ту пору в тылу врага, особенно на Волыни. Вполне естественным был интерес к Коху и у командования партизанского отряда, имевшего (я уже знал об этом) специальные задания разведывательного характера.
Несколько позже мне станет известно и то, что командование отряда вовсе не случайно проявляло усиленный интерес к одному из главарей фашистского рейха. У чекиста Медведева имелись свои, конкретные соображения в отношении обер-президента и гаулейтера Восточной Пруссии, начальника Цеханувского и Белостокского округов Польши, рейхскомиссара Украины, генерала СА Эриха Коха. В осуществлении этих планов, тогда еще мне неизвестных, в скором времени предстояло принять самое непосредственное участие и ровенскому партийному подполью.
После разговора о гаулейтере в штабной партизанской землянке мы вместе с Дмитрием Николаевичем Медведевым вышли прогуляться на лесную поляну. Был поздний вечер, тихий и задумчивый. В лесу — ни малейшего шороха. Слышался лишь треск партизанских костров. Дым от костров стелился по земле, перебивая запахи трав и лесных цветов. Дремали столетние дубы, сплетавшиеся друг с другом где-то в вышине своими кронами. Мягко белели березки, как и огни костров, вкрапленные в густые сумерки леса и подчеркивавшие его первозданную красоту.
— Чудесные у вас тут места, товарищ Новак, — задумчиво произнес Дмитрий Николаевич, останавливаясь и как бы прислушиваясь к скрытой от человеческих глаз таинственной жизни вечернего леса. — Погорынье, волынская земля... Знаете, как в древности славяне называли реку Горынь? По имени бога красоты и весеннего цветения Яра — Ярынью... До войны я все собирался приехать сюда в отпуск, на отдых — с охотничьим ружьем, с рюкзаком и удочкой. А вышло по-иному, пожаловал с пулеметами и автоматами. И по Горыни не девичьи венки, а трупы плывут...
Полковник Медведев стоял от меня в двух шагах — высокий, по-военному подтянутый, в хорошо сшитом командирском обмундировании со знаками различия. На его продолговатое, с правильными чертами лицо падали розовые отблески огней, полыхавших за деревьями, возле партизанских чумов. Он совсем не был похож на партизана-лесовика, каким его рисовало до прихода в отряд мое воображение.
— У нас с вами сразу установилось полное доверие, — снова заговорил Медведев. — Вас это не удивляет? Без примеривания, без прощупывания, сразу полная откровенность. Такое не часто встретишь, если рядом гестапо. Не так ли? Надеюсь, вы понимаете, что это вовсе не от нашей с вами доброты душевной.
— Догадываюсь.
— Да, о ровенском партийном подполье нас предупредили с Большой земли. Об этом позаботились товарищи, которые в свое время оставили вас в Ровно для организации подпольной работы. Могу сообщить еще одну новость. Насколько мне известно, сюда вскоре должен прибыть секретарь обкома Василий Андреевич Бегма. Где будет находиться подпольный обком, в каком районе, этого я не знаю, но Бегма будет на Ровенщине. Возможно, он уже где-то тут.
— Дмитрий Николаевич! — схватил я Медведева за руку. — Мне недавно передавали, будто во Владимирецком районе состоялось совещание коммунистов-партизан и что на нем выступал депутат Верховного Совета СССР. Может, это он, Бегма, и был? Как я раньше не догадался! Ну конечно же он, секретарь нашего обкома, ей-богу, он...
2
В Гощанском районе, являвшемся обширной плантацией сырья для сахарных заводов, на многих участках не взошла свекла.
Если бы обязанности районного агронома исполнял там не Иван Кутковец, а кто-либо другой, то крайсландвирт Кригер, не задумываясь, обрушил бы весь свой гнев на агронома. Но Иван был у фашистского сельскохозяйственного коменданта вне подозрений. Кригер, вероятно, не допускал даже мысли о том, что в гибели посевов виноват этот старательный молодой человек, зарекомендовавший себя в глазах крайсландвирта с самой лучшей стороны.
Молодой «агроном» пользовался влиянием и среди местных крестьян. Во многих случаях он был незаменимым советчиком Кригера и консультантом по делам, казалось бы, очень далеким от агрономии. Он, например, убедил крайсландвирта в том, что украинские националисты, пользуясь благосклонным отношением к ним оккупационных властей, грабят крестьян, чем наносят материальный и моральный ущерб великой Германии.
Не отличавшийся большим умом Кригер имел весьма смутное представление о сущности политических взаимоотношений между украинскими националистами и его соотечественниками — немецкими оккупантами. Он знал и умел одно: выкачивать из входивших в сферу его влияния сел и хуторов всевозможное продовольствие, чтобы солдаты фюрера могли вдоволь есть и пить. Поэтому соображения агронома насчет националистов показались Кригеру весьма разумными: зачем позволять грабить крестьян каким-то туземцам, если можно все забрать для нужд рейха! Руководствуясь этой нехитрой идеей, он нередко ставил националистам подножку, не позволял им, в частности, забирать у крестьян скот. Конечно, не из жалости к местным жителям, а в надежде конфисковать скот для армии фюрера. Как ни парадоксально, но крестьяне в известном смысле были довольны мерами, проводимыми Кригером при помощи небольшого, но хорошо вооруженного гощанского гарнизона. Дело в том, что немцев оккупантов они могли перехитрить, в случае необходимости упрятать скот так, что иноземцы не смогут его найти. А от своих, местных головорезов-националистов, ничего не спрячешь: им известны все тайники.
В неудаче с посевами сахарной свеклы районный сельскохозяйственный комендант поначалу обвинил было участковых агрономов. Однако Иван Кутковец растолковал крайсландвирту, что-де участковые агрономы — люди проверенные, работают честно, дело свое знают, к «новому порядку» относятся лояльно. Свекла же не взошла по простой причине: плохая весна, заморозки, короче говоря, стихийное бедствие, капризы природы. И с этим ничего не поделаешь. Подобные случаи не раз бывали в этих местах и прежде.
Не успел гощанский крайсландвирт Кригер очухаться от одной неприятности, как на него обрушилась другая напасть: в районе начался падеж коров, свиней, овец, которых так ревностно оберегал сельскохозяйственный комендант от захвата бандеровцами. Еще недавно фашистские заготовители почти каждую неделю угоняли из Гощи гурты крупного и мелкого рогатого скота, отправляли на фронт вагоны, загруженные свиньями. Теперь же стало твориться что-то непонятное: коровы, телята, овцы, свиньи дохли в пути десятками. Этим по-своему воспользовались и многие крестьяне. Они угоняли здоровый скот в лес, прятали там, а немецким заготовительным командам отвечали: подохли, мол, коровы и свиньи — эпидемия.
Кригер вызвал к себе районного ветеринара Матвея Куцина. При разговоре крайсландвирта с ветврачом в качестве переводчика присутствовал Иван Кутковец. Он неплохо знал немецкий язык, что тоже сыграло определенную роль в сложившихся у него с Кригером отношениях.
Немец стучал кулаком по столу, кричал на Куцина, а тот стоял перед ним и молчал. Когда Кригер несколько сбавил тон, успокоился, ветеринарный врач, человек уже немолодой, опытный специалист, сказал:
— Я, господин Кригер, еще месяц назад написал вам специальный рапорт, в котором указывал, что в районе появились случаи заболевания ящуром. Ящур — болезнь инфекционная, быстро распространяется, если вовремя не принять меры. К сожалению, вы, господин комендант, не обратили внимания на мое письменное предупреждение. И вот результат — эпидемия. Этого можно было бы избежать.
— Какое предупреждение? Когда вы писали? — в бешенстве закричал Кригер, брызжа слюной. — Вы что, считаете крайсландвирта дураком? Переведите ему, господин Кутковец, что в гестапо он заговорит по-иному. Там его научат, как надо беречь собственность рейха...
— Я писал вам рапорт, господин комендант, — стоял на своем Куцин. — Передал лично господину Дулю.
— Кому? Дулю? — опять заорал Кригер. — Любопытно. Имейте в виду, если рапорт не будет найден, то вам придется отвечать головой.
Крайсландвирт долго копался в разложенных на столе папках и в конце концов, к немалому своему удивлению, обнаружил в одной из них рапорт Куцина. Написан он был, правда, не месяц назад, хотя на нем и стояла дата месячной давности, а значительно позже, в самый разгар эпидемии ящура, когда скот уже невозможно было спасти, причем написан по совету и под диктовку Ивана Кутковец. Вложить бумажку, датированную задним числом, в одну из папок на столе сельскохозяйственного коменданта было не так уж сложно. Районный агроном имел свободный доступ в кабинет своего шефа и не раз подвергал ревизии всевозможные директивы, которые получал Кригер от вышестоящего начальства. Да что бумаги! Иван сумел позаимствовать у Кригера даже офицерский «вальтер», напоив как-то немца до потери сознания.
Крайсландвирт передал рапорт Куцина для перевода. Кутковец слово в слово перевел содержание документа, назвал дату, когда он был написан, стал ждать, что произойдет дальше. Кригер с досадой стукнул по столу пресс-папье, отпустил в адрес своего бывшего помощника Дуля, недавно отправленного на фронт, обойму проклятий, а ветеринару приказал убираться вон.
Кутковец нагнал Куцина возле ветлечебницы, соскочил с велосипеда, пошел рядом, удовлетворенно произнес:
— Кажется, пронесло. Рапорт сделал свое дело. Теперь господину крайсландвирту ничего не остается, как винить самого себя.
— Ну что, зверствует господин сельскохозяйственный комендант? — спросил Куцин.
— Вовсю кроет Дуля. Сперва кричал, что, дескать, негодяй Дуль запустил канцелярию, вовремя ни о чем не докладывал, потом стал вопить: «Дуль не только путаник, но и вредный элемент. Он умышленно не сказал о рапорте ветеринара. Его следовало бы отправить не на фронт, а в концентрационный лагерь».
— За что он так ненавидит своего бывшего помощника?
— Они все время грызлись. А тут еще случай такой произошел. Нахлестался как-то Кригер до положения риз и... в общем, потерял пистолет. Когда проспался, решил, что пистолет украл Дуль с целью скомпрометировать его, Кригера, перед начальством, чтобы самому занять должность крайсландвирта. Ну а дальше, чтобы опередить Дуля, Кригер настрочил на него донос. Дуль угодил на передовую... Черт с ними, пусть грызутся. Я поехал в поле, Матвей Павлович. А вам советую недельку-другую не попадаться на глаза Кригеру. Пусть остынет...
Людей, подобных Матвею Павловичу Куцину, всем сердцем преданных Советской власти, готовых бороться с врагом не щадя жизни, но действовавших подчас незаметно, втихомолку, Иван Кутковец умел распознавать быстро и безошибочно. По мере возможности и необходимости он привлекал их к подпольной работе, к участию в диверсиях, но при этом всегда строго придерживался правил конспирации: если трое знают друг друга как подпольщики, для любого четвертого они обыкновенные служащие оккупационной администрации.
Партийное подполье в Гощанском районе возникло еще в сорок первом году. Патриоты действовали осторожно и умело. Фашистским агентам, несмотря на их усердие и старание, ни разу не удавалось напасть на. след подпольщиков. Без жертв, правда, не обошлось. Несколько товарищей погибли, но опять-таки не потому, что потерпели провал: их по-предательски, из-за угла убили местные националисты.
Возглавив поначалу небольшую подпольную группу в Гоще, Иван Кутковец весной 1943 года был уже общепризнанным руководителем нескольких таких групп в селах Синев, Русивель, Симонов, Стадники, Бабин. Вместе с рясниковскими подпольщиками, которые не только не ослабили активности после гибели Прокопа Кульбенко, а, напротив, стали действовать смелее, распространили свое влияние на села Горбов, Дроздов, Горинград, гощанцы создали широко разветвленную нелегальную организацию, охватывавшую фактически всю территорию двух районов. Там не было ни одного населенного пункта, где бы подпольщики не вели подрывную работу, направленную против оккупантов. И заслуга в этом принадлежала районному «агроному» Ивану Кутковец.
Пользуясь доверием крайсландвирта Кригера, Кутковец устроил некоторых подпольщиков на должности участковых агрономов. «Агрономами» стали, в частности, недавний артиллерист Владимир Соловьев, лейтенант-общевойсковик Василий Савченко, Павел Ковшар, Поликарп Белоус. В сельскохозяйственной науке они, конечно, были не сильны, зато должности участковых агрономов предоставляли им неограниченную возможность общаться с людьми, налаживать знакомства и связи с бежавшими из немецкого плена и осевшими в селах, на хуторах, в фольварках бойцами и командирами Красной Армии.
Ранней весной сорок третьего года немцы разместили на постой в Гоще подразделение так называемых «легионеров», сформированное из военнопленных, бывших советских бойцов-армян.
В ту пору, после поражения под Сталинградом, немецко-фашистское командование особенно рьяно пыталось слепить своеобразные «национальные» формирования из военнопленных, надеясь впоследствии использовать их для борьбы с партизанами, возможно, даже послать на фронт.
Однако советских людей, насильно одетых во вражеские мундиры, отнюдь не прельщала перспектива служить фашистам.
Гощанские подпольщики установили с некоторыми легионерами связь. Те сразу же попросили помочь им переправиться в лес, к партизанам, чтобы снова включиться в вооруженную борьбу против немецких оккупантов. Кутковец обещал помочь в этом, но попросил легионеров обождать с уходом в лес, пока немцы выдадут им оружие: какие же, дескать, партизаны без оружия!
Не меньше чем оружие подпольщикам нужны были бланки различных документов оккупационных властей. Районный агроном настойчиво искал доступ к таким документам. Наконец ему удалось познакомиться со счетоводом Раисой Столяр и сыном гощанского учителя Георгием Сытем, которые работали в районной управе. После нескольких откровенных бесед Раиса и Георгий согласились доставать для подпольщиков незаполненные бланки аусвайсов, арбайтскарт и других удостоверений, введенных немцами для населения на оккупированной территории.
Впоследствии гощанцы регулярно снабжали аусвайсами как наш подпольный Центр, так и отряд полковника Д. Н. Медведева. Соответствующим образом оформленные (одна из подпольных групп имела в своем распоряжении пишущую машинку с немецким шрифтом), скрепленные поддельными подписями и фальшивой печатью с орлом, такие документы позволяли разведчикам партизан и нашим связным из сел и районов регулярно бывать в городе, не опасаясь ареста или провала.
Одновременно подпольные группы, руководимые Иваном Кутковец, делали все возможное, чтобы в какой-то мере оградить жителей от грабежей гитлеровских интендантов, сборщиков налогов, сельскохозяйственных заготовительных команд — всей той саранчи, которая налетала на села и беспощадно опустошала их. Подпольщики на свой лад перетасовывали списки крестьян, вносили путаницу в учет посевных площадей, уничтожали запасы фуража, объявленные немецкой собственностью. Когда считали необходимым, морили скот, лошадей, чтобы народное добро не доставалось оккупантам. Для скрытия от крайсландвирта действительного количества собранного на полях района зерна, сахарной свеклы и других сельскохозяйственных культур Иван Кутковец вместе с участковыми агрономами в устных и письменных докладах Кригеру в несколько раз завышали площади «вымокших», «выгоревших» и «вымерзших» посевов.
Короче говоря, дело пока шло неплохо. Одно лишь выводило Ивана Кутковец из себя: крайсландвирт прилип к нему, как репей к шубе. Чуть ли не ежедневно приглашал в поездки по селам, используя агронома в качестве переводчика, загружал разнообразными хозяйственными поручениями. Не успеет Кутковец вырваться на час-другой, чтобы встретиться с товарищами, посоветоваться о делах подполья, об осуществлении какой-либо очередной операции, как посыльный Кригера уже разыскивает «пана агронома».
«Дружба» Ивана с крайсландвиртом, с одной стороны, давала ему много преимуществ, как руководителю подполья, с другой — связывала его по рукам и ногам. Поэтому Кутковец все чаще задумывался над тем, чтобы передать оперативное руководство кому-то из товарищей, кто меньше был приметен в районе.
И такая возможность вскоре представилась. Чтобы рассказать, как это произошло, придется вернуться несколько назад.
* * *
Осенью сорок второго года, глубокой ночью, сторож городского кладбища в Ровно Николай Самойлов услышал робкий стук в окно.
Сторожка, в которой жил Самойлов, стояла неподалеку от Киевской автострады. В дождливую осеннюю погоду местность вокруг выглядела особенно уныло и неприветливо — могилы, кресты, склепы, голые, темные от дождя деревья... До сторожки часто доносились глухие звуки выстрелов, от которых словно в испуге позвякивали плохо закрепленные в рамах стекла: это гитлеровцы убивали по ночам советских людей...
За долгие месяцы «службы» на кладбище в период оккупации Николай Иванович уже привык к осторожным ночным стукам в окно или в дверь: к нему часто приходили гости, посыльные Федора Шкурко. В таких случаях Самойлов, не спрашивая, кто пришел, открывал дверь, приглашал ночного посетителя в свою хибару, принимал от него свернутую вчетверо бумажку или цигарку-самокрутку и быстро провожал пришельца в ночь.
Кладбищенский сторож был членом подпольной организации и хранителем ее секретов, если можно так сказать, своеобразным архивариусом. Он входил в группу разведки. На него была возложена обязанность беречь как зеницу ока в надежном тайнике добытые подпольщиками секретные документы немецко-фашистского командования и оуновцев, зашифрованные разведданные, списки агентов гестапо, СД и бандеровской «службы безопасности». Принимал Самойлов на хранение и другие не менее важные документы. Словом, он берег все, что невозможно было удержать в памяти и что приходилось фиксировать на бумаге. Кое-какие документы из почти ежедневно пополнявшегося подпольного архива предполагалось хранить до возвращения на Ровенщину советских войск. Они должны были сыграть свою роль в будущем, когда настанет срок предъявить фашистским разбойникам и бандитам-националистам грозный счет за все их злодеяния. В фонде Самойлова имелось немало и таких материалов, которые мы использовали в процессе практической деятельности подпольных групп, а также готовили для передачи за линию фронта.
Время от времени наведывался в сторожку Самойлова и наш главный разведчик Федор Шкурко. Перечитывал, систематизировал накопившиеся за десять — пятнадцать дней материалы, вносил в них дополнения. Потом Шкурко и Самойлов с лопатами в руках осторожно пробирались между могилами к самому отдаленному склепу в углу кладбища, откапывали большую стеклянную бутыль. Подпольный «сейф» проглатывал еще один сверток бумаг. Заткнутую притертой пробкой посудину Шкурко и Самойлов опять укладывали на прежнее место, засыпали землей, сверху прикрывали мраморной плитой с металлическим кольцом посредине. Уже две такие посудины с бумагами, за которые дорого бы заплатил враг, берег как зеницу ока хранитель нашей подпольной канцелярии.
Всех своих ночных посетителей, которых направлял в кладбищенскую сторожку Федор Шкурко, Николай Иванович знал в лицо. Фамилий, правда, не спрашивал, но каждый раз определял по стуку — свои.
В этот раз в окно постучали несколько по-иному, как-то уж очень робко, неуверенно. Тем не менее Самойлов набросил на плечи пиджак, вышел в сени, открыл дверь. Шумел дождь. От ветра стонали деревья. Возле окна, держась за стену, стоял высокий мужчина в изодранном, заляпанном грязью красноармейском обмундировании. Он шагнул было к двери, но пошатнулся, едва не упал. Сторож поддержал его неестественно легкое тело.
В комнате Самойлов зажег лампу, при ее колеблющемся свете оглядел неожиданного ночного гостя: он напоминал выходца из могилы. Казалось, только кожа обтягивала его широкие скулы, высокий лоб, ввалившиеся щеки. С гимнастерки и брюк под его босые, посиневшие от холода ноги стекали грязные ручейки воды.
Жадно глотая похлебку из поставленной Николаем Ивановичем на стол миски, незнакомец торопливо рассказывал, как несколько часов назад вырвался из ровенского лагеря смерти. Бежать помогла похоронная команда, состоявшая из таких же, как он, обреченных на смерть военнопленных. Товарищи посоветовали ему притвориться мертвым, уложили на повозку вместе с трупами и вывезли за лагерные ворота.
Так, будучи живым, а вернее сказать, полуживым, советский командир-артиллерист Владимир Соловьев угодил на кладбище.
Несколько дней Николай Иванович прятал его у себя, потом с верным человеком, приезжавшим в Ровно на базар, переправил в село Мятин, под Гощу, к своим друзьям. Немного оправившись в Мятине, Соловьев перебрался в Колесники, где местные крестьяне приютили уже не одного военнопленного. Устроился там на какую-то случайную работу.
Колесниковские крестьяне держались дружно, в обиду себя не давали. Местный староста не то побаивался их, не то действовал с определенным расчетом, но, зная о симпатии своих односельчан к «восточникам», выдавал бежавшим из плена справки как постоянным жителям Колесников. Получил такой документ и Владимир Соловьев.
Человек грамотный, культурный, а главное — общительный, он быстро нашел общий язык с колесниковцами. К нему шли за советами, как лучше перехитрить оккупантов, чтобы припрятать от них зерно или скот. Многим он помогал писать различные прошения в гощанскую управу.
Позже Соловьев стал наведываться в соседние села, заводил знакомства с окружениями и бежавшими из немецкого плена советскими военнослужащими, застрявшими на Ровенщине, с местными сельскими парнями. Постепенно собрал вокруг себя людей, с которыми можно было, не кривя душой, поделиться мыслями, поговорить о том, как навредить оккупантам, с чего начать борьбу. Кое-кто из его новых друзей обзавелся оружием, начал по ночам охотиться на особенно вредных полицаев. В Колесниках и окрестных селах стали появляться листовки, звавшие на борьбу с оккупантами.
Иван Кутковец некоторое время приглядывался к Владимиру Соловьеву, прислушивался к тому, что говорили о нем люди. Потом Кутковец и Соловьев встретились, побеседовали. О подпольной работе, правда, не было сказано ни слова, зато Кутковец сразу предложил бывшему командиру-артиллеристу должность участкового агронома в селе Симонов.
Городской житель, никогда не имевший дела с сельским хозяйством, Соловьев высказал было сомнение: справлюсь ли? Но Кутковец успокоил: была бы голова на плечах, а остальное приложится.
И действительно, высокая культура, образованность, природная любознательность, общительность помогли Соловьеву довольно быстро войти в курс дела, усвоить некоторые наиболее простые агрономические премудрости. Многое узнал он от своего шефа, районного «агронома». Ну а кое в чем поднаторел, тоже став агрономом, на практике, ежедневно встречаясь и беседуя с сельскими дядьками, охотниками потолковать с умным человеком о хлеборобском труде.
Вскоре Ладымер Пылыпович, как называли крестьяне двадцативосьмилетнего москвича, стал в Симонове уважаемым человеком, добрым советчиком, а одновременно и активным членом гощанского подполья.
А Ивану Кутковец между тем все реже удавалось выбираться в Ровно: крайсландвирт Кригер почти не отпускал его от себя.
Однажды, встретившись на фабрике валенок со мной и Иваном Ивановичем Луцем, Кутковец решительно заявил:
— Прошу, товарищи, освободить меня от руководства подпольными группами.
— Почему? — насторожился Иван Иванович.
— Трудно мне, — признался Кутковец. — Слишком частые встречи с одними и теми же людьми, с бывшими членами КПЗУ, комсомольцами могут вызвать подозрение у гестаповских шпиков. Как районный агроном, я у всех на виду, особенно у крайсландвирта Кригера. Приметит что, не сносить мне головы, а главное — за мной другие люди стоят. Ведь Кригер видит, с кем я чаще всего встречаюсь...
— Это надо обмозговать, — задумчиво произнес Луць.
— Да что там обмозговывать, Иван Иванович, — снова горячо заговорил Кутковец. — Сейчас у наших подпольщиков по горло дел, а я все время торчу возле Кригера, как привязанный. Из него я, конечно, стараюсь выкачать все, что можно. Ну а для руководства подпольными группами совсем не остается времени. У нас теперь двадцать девять подпольщиков, целая организация. Надо хотя бы раз в неделю встречаться с каждым из руководителей групп, подсказывать, каким кулаком куда бить, в какое колесо палки вставлять. Я, к сожалению, такой возможности не имею. Поймите меня правильно: я вовсе не хочу, чтобы страдало общее дело...
— Да разве же мы не понимаем! — горячо сказал Луць. — Не тебе одному трудно. Недавно была тут у нас Ольга Солимчук. Невозможно ей стало оставаться в селе. Бандеровцы пронюхали кое-что о ней и приговорили ее заочно к смерти. Пришлось отправить Ольгу к партизанам, в отряд Медведева. Теперь вот ты. Понять тебя нетрудно, Иван, но что делать. Ты хорошо знаешь гощанское подполье, тебе там все знакомо, а придет новый человек, ему надо будет начинать с изучения людей, обстановки. Не угаснет ли пламя? Вот что тревожит.
— Не угаснет, Иван Иванович, — уверенно заявил Кутковец. — Есть достойная замена. Я уж как-то говорил вам о Соловьеве. Парень что надо. Знает теперь обстановку не хуже меня.
— Думаешь, справится?
— Уверен, что справится. Коммунист. Имеет высшее образование, до войны был аспирантом Московского нефтяного института. Воевал. В плену был, в лагере смерти. Бежал. Короче говоря, светлая голова и не из пугливых. К людям хороший подход имеет. Деды гощанские и те при встречах кланяются ему. Да что там говорить! На человека посмотреть надо.
— Ну что ж, посмотрим, потом будем решать, — сказал я.
— Где и когда будете смотреть? — повеселевшим голосом спросил Кутковец.
— А когда Соловьев может приехать в Ровно?
— Он здесь, со мной. За углом тут ждет, недалеко от фабричных ворот. Позвать? Я мигом. Говорят, куй железо, пока горячо, вот и я так, — заторопился Кутковец.
— Зови. Познакомимся с ним, поглядим.
Так состоялась наша встреча с бывшим командиром-артиллеристом Владимиром Соловьевым. Несколько дней спустя подпольный Центр утвердил его руководителем подпольных групп Гощанского района, Иван Кутковец стал заместителем Соловьева.
3
Хутор Николая Титовича Ханжи жался к пригорку между селами Басов Кут, Тынное и Дворец. Добраться до него можно было только через Басов Кут. Отсюда к хутору вела узкая, ненаезженная дорога, а вокруг — топь, залитые водой луга.
Но мы шли на нашу загородную явку другим путем — напрямик, через болото. Эту еле заметную в траве «семейную» тропку Николай Титович показал нам еще прошлым летом. По ней путь из города до хутора гораздо короче, а главное — тропа через болото мало кому была известна, что оберегало наших людей от нежелательных и опасных встреч.
Ночь была тихой и теплой, даже немного душной. Над болотами поднимался негустой туман, пахло гнилой травой. По сторонам шуршала осока, на все голоса квакали лягушки. Изредка где-то далеко впереди подавал басовитый голос пес Кудлай, верный страж хутора Николая Титовича.
Мой спутник Николай Поцелуев уверенно шагал впереди: болотная тропа была ему хорошо знакома. И все же время от времени он оступался в воду, чертыхаясь, выбирался на сухое место, негромко предупреждал меня, где лучше пройти.
Утром на хутор прибыли Федор Кравчук из Грушвицы и Александр Гуц из Клеванского района. Осторожный Кравчук, придерживаясь установленного порядка, решил переждать день на хуторе. То же посоветовал и Гуцу: мол, без крайней необходимости появляться на фабрике валенок не следует. Они-то и послали Николая Титовича в город, чтобы тот через Поцелуева передал на фабрику, что им крайне необходимо видеть меня.
Я не стал назначать товарищам свидания в городе, а в сопровождении политрука сам отправился на хутор. Встреча с Кравчуком и Гуцем интересовала меня не меньше, чем их самих.
Подпольный Центр принял решение сообщить всем руководителям групп в городе и селах, что кое-кого из подпольщиков надо срочно переправить в партизанский отряд. Необходимость такого решения диктовалась тем, что подпольная организация слишком разрослась, стала громоздкой. Среди коммунистов, комсомольцев было немало опытных, закаленных участников революционной борьбы, принадлежавших ранее, в период пилсудчины, к КПЗУ, КСМЗУ и другим прогрессивным западноукраинским организациям. Именно против них в первую очередь строили свои козни бандиты-националисты. Над некоторыми из старых революционеров, борцов за свободу, нависла грозная опасность: бандеровские тайные агенты следили за ними, выжидая удобного случая, чтобы учинить зверскую расправу.
И все-таки гораздо большее беспокойство вызывали у нас новички, которых в подпольных группах становилось с каждым днем все больше. Ветераны подполья имели определенный навык нелегальной деятельности, были более осторожны и осмотрительны, строже соблюдали режим конспирации и тем самым гораздо тщательнее оберегали от провала не только себя, но и организацию в целом. Что же касается новичков, в том числе многих недавних военнослужащих, то они, не обладая опытом подпольной борьбы с врагом, подчас вели себя крайне неосторожно, рвались к открытым схваткам с оккупантами. Это было благородное, патриотическое стремление, но в условиях подполья его далеко не всегда можно было признать целесообразным и благоразумным.
Принимая решение о переброске некоторого числа подпольщиков в лес, в партизанский отряд, мы имели в виду и еще одно немаловажное обстоятельство. Чрезмерное разбухание подпольных групп в ряде случаев лишало нас возможности осуществлять необходимый контроль за их практической деятельностью, что могло привести к нарушению правил конспирации. Отсюда возникала опасность проникновения в ряды подполья вражеских элементов, тайных агентов оуновцев и даже доверенных гестапо.
Чтобы избежать этих опасных последствий, подпольный Центр по согласованию с командованием партизанского отряда полковника Медведева решил заблаговременно принять необходимые меры: переправить в лес вместе с семьями не только отдельных ветеранов подпольной борьбы, над которыми нависала непосредственная угроза расправы со стороны бандеровцев, но и значительное число молодых патриотов, главным образом бежавших из фашистского плена бойцов и командиров Красной Армии.
Встреча на хуторе представляла удобный случай, чтобы лично ознакомить Кравчука и Гуца с решением подпольного Центра. Кроме того, из недавнего сообщения руководителя грушвицких комсомольцев, присланного в Ровно со связным, нам было известно, что комсомольцы готовят нападение на бандеровских верховодов, которые должны были собраться в ближайшее время в одном из сел на тайное совещание. Мне хотелось подробнее расспросить Федора Кравчука о плане дерзкой вылазки и ее основных участниках, предупредить о мерах предосторожности.
Когда до хутора Николая Титовича Ханжи оставалось примерно полкилометра, Поцелуев неожиданно спросил меня:
— Переводчица из гестапо вам сегодня не снилась?
— Почему она должна мне сниться? — недоуменно пожал я плечами. — Вы что, опять видели ее в кино?
— Нет, — ответил Поцелуев, повернувшись ко мне лицом. — Кино для нее кончилось навсегда.
— Опять вы, Николай Михайлович! Почему не доложили прежде? — сказал я недовольно. Однако тут же подумал, что не вправе упрекать Поцелуева: ведь совсем недавно в кинотеатре я и сам не прочь был расправиться с предательницей, во всяком случае, не возражал против выстрела, который готовился произвести политрук.
— Нет, Терентий Федорович, в этот раз мне похвастаться нечем, — махнул рукой Поцелуев. — Честное слово. Все очень чисто оформил Миша Анохин прошлой ночью. Он за этой красоткой целых две недели ходил по пятам. Узнал, где она живет. Выследил, что за ней частенько по ночам приезжал мотоциклист из гестапо. Видно, для перевода при допросах требовалась. Ну вот, Михаил и решил воспользоваться этим. Ему помогал Вася Конарев из фирмы «Бендера», шофер, тот самый, что вывозил из города в лес партизан дяди Юрко. Ночью они сняли крышку с канализационного люка. Рассчитали точно. Как раз по этому месту всякий раз проезжал мотоциклист, мчался обычно во весь дух. Так было и вчера. Переднее колесо мотоцикла с разгону влетело в люк, немец и переводчица стукнулись головами о кирпичную стену. Оба насмерть. Чтобы не было лишних разговоров, ребята даже пистолет у мотоциклиста не взяли. Машина Конарева стояла в соседнем переулке. Вскочили друзья в кабину, дали газ — ну и след их простыл. Все шито-крыто. Сам немец виноват. За мотоциклетную катастрофу на улице подпольщики не отвечают. Такое со всяким может случиться...
Едва мы вошли в хату Ханжи, как навстречу мне торопливо поднялся Федор Кравчук и, даже не поздоровавшись, спросил:
— Он у вас? Вы с ним говорили?
— Кто «он»? С кем я должен был говорить? — в свою очередь спросил я.
— Да парнишка, маленький такой, лет тринадцати...
Вместе с Федором на меня выжидательно смотрел и Гуц, вероятно уже знавший со слов Кравчука о таинственном мальчишке.
— Рассказывай, Федор, в чем дело. Что за мальчишка? Откуда? Почему он должен быть у нас? И не спеши, не горячись. Давай все по порядку, — присаживаясь к столу, на котором стояла небольшая керосиновая лампа, сказал я.
Несколько минут, не перебивая, я слушал взволнованный рассказ Федора Кравчука. Узнал такое, что вмиг вытеснило из головы и гестаповскую переводчицу, и мысли о готовившемся нападении грушвицких комсомольцев на главарей-бандеровцев, и многое другое.
...Два дня назад в Грушвице появился незнакомый подросток. Долго ходил по улицам села, что-то высматривал, заглядывал людям в глаза, будто искал знакомых. Уже под вечер, когда Кравчук по каким-то своим делам шел от хаты, где жил, в противоположный конец улицы, незнакомый паренек остановил его, спросил: «Как ваша фамилия, дядя?» Федор ответил. «А имя как, отчество?» — продолжал расспрашивать паренек. Федор ответил и на этот его вопрос. Тогда паренек огляделся кругом и назвал Кравчуку пароль. Но какой пароль! Давнюю, почти забытую фразу, с которой к Федору приходили связные лет шесть назад, еще при пилсудчиках.
Сперва руководитель грушвицких комсомольцев подумал, что мальчик от кого-то из его старых друзей случайно услышал эту фразу и просто решил поиграть в таинственность. Однако, присмотревшись к парнишке ближе, порасспросив его кое о чем, понял, что тому вовсе не до забав. Уставший, с серым от пыли худым лицом, в помятых, облепленных колючками самотканых брючишках и таком же пиджачке, он, видимо, не одну ночь провел под стогами. Кравчук привел мальчика к себе, дал умыться. Накормил. Парнишка назвался Петькой.
— Сообщил, что пришел из Владимирца, — продолжал рассказывать Кравчук. — В разведку его послал дядька Порфирий. Приказал во что бы то ни стало разузнать, где находится Терентий Новак. Порфирий сказал своему посланцу, что узнать о вашем местонахождении можно скорее всего в Гоще. Туда поначалу Петька и направился. Целый день бродил по селу, узнал-таки, что вы в Ровно, на фабрике валенок. Из Гощи двинулся в город. На фабрику его не пустил сторож. Да Петька и сам, когда услышал, что вы работаете директором, испугался, не захотел с вами встречаться. Кроме старого пароля Порфирий сообщил пареньку на всякий случай несколько адресов: покойного Прокопа Кульбенко в Рясниках, Ольги Солимчук в Гоще и мой тоже. Ольгу Солимчук он, разумеется, не встретил. В Рясниках узнал о смерти Кульбенко. После этого пришел ко мне...
Я слушал Федора, и воспоминания вели меня в недалекое прошлое. Вспомнилось простое, ничем не примечательное лицо Порфирия, владимирецкого коммуниста, его привычка покашливать при разговоре, взвешивать каждое слово, прежде чем сказать что-либо. Вместе с Порфирием мы некоторое время находились в одной камере, когда меня схватили польские жандармы и бросили в тюрьму. Познакомился же с ним я гораздо раньше. Через него мы, гощанцы, в ту пору поддерживали связи с коммунистами и комсомольцами Полесья. Должен был знать Порфирия и Кравчук, хотя, возможно, не встречался с ним лично.
Значит, Порфирий по-прежнему во Владимирце. Что он делал в течение почти двух лет оккупации? Чем занимался? Почему только теперь решил искать пути сближения с давними товарищами по борьбе? Откуда ему стало известно, что я не эвакуировался в свое время, не ушел на восток вместе с отступавшей Красной Армией, а остался здесь, на оккупированной территории? Может, это его первая попытка выяснить, кто уцелел из старых друзей?
Между тем Федор продолжал:
— Спрашиваю я паренька: «С каким делом, с каким заданием послал тебя Порфирий на розыски Терентия Новака?» Петька поначалу мялся, не очень доверчиво смотрел на меня исподлобья. Вижу, хочет что-то сказать паренек, да опасается. Потом решился: «Дядько Порфирий велел, если я сумею разыскать Новака, передать, что к нему, дядьке Порфирию, значит, приехал в гости Василий Андреевич и очень интересуется здоровьем Терентия Федоровича...»
При последних словах Федора я рывком поднялся, чуть не опрокинув скамейку. Кравчук, видно, волновался не меньше меня.
— Дальше я не мог выудить из мальчишки ни слова, — закончил он, тоже вставая. — Вижу, у него глазенки слипаются. Сомлел парнишка. Уложил я его спать. Решил, как только начнет светать, двинемся мы вместе с ним к вам в Ровно. Побежал к Лукашу Мовчанцу предупредить, что завтра отлучусь на день в город. Когда вернулся, гляжу, нет паренька в хате: удрал. Я думал, может, он все-таки к вам направился, ведь при разговоре я намекал ему, что хотя вы и директор фабрики, но это, дескать, не страшно, так надо, и Василий Андреевич будет рад, когда узнает, что Терентий Новак жив и здоров. А выходит, не был у вас Петька? Не иначе сразу во Владимирец подался. Ведь дело свое он сделал, все, что ему Порфирий наказывал, выполнил...
Сначала упоминание Лунькова о совещании коммунистов Владимирецкого района, на котором будто бы выступал депутат Верховного Совета СССР. Затем разговор с полковником Медведевым о возможном прибытии на Ровеншину секретаря обкома партии. И наконец, этот мальчишка. Теперь у меня не было никаких сомнений. Да, во Владимирце находится не кто иной, как Василий Андреевич Бегма, секретарь обкома партии!
В те минуты меня и моих друзей отделяло от секретаря обкома немалое расстояние. Чтобы добраться во Владимирец, надо было преодолеть вражеские заслоны. Но сам факт появления в тылу врага, на оккупированной Ровенщине депутата Верховного Совета, секретаря обкома, мысль о том, что партия, ее Центральный Комитет направили опытного партийного руководителя, одного из государственных деятелей в захваченные фашистами районы, наполняли меня, рядового бойца-коммуниста, чувством безграничной радости и такой гордости, которую невозможно передать словами.
«Пусть все то, что сделано и делается нами в Ровно, лишь малая капля в океане общих усилий народа, несущего на своих плечах неимоверную тяжесть жестокой войны, — размышлял я. — Пусть скромен наш вклад в борьбу с врагом! Пусть так. Но то, что мы сделали и продолжаем делать в логове врага, мы выполняем честно, как подобает коммунистам, патриотам. И пока мы живы, пока бьются наши сердца, мы будем по-прежнему твердо стоять на указанном нам рубеже. Мы — простые советские люди. Не всем нам выпало счастье учиться, получить образование. Университетами для многих из нас были тюрьмы панской Польши, фашистские концентрационные лагеря. Может, мы не все умеем, не все нам удается делать так, как бы хотелось. Мы продолжительное время были солдатами, лишенными возможности докладывать командованию о своих боевых делах и спрашивать совета. Мы не получали приказов, действовали по велению сердца и своей совести. И несмотря ни на что, мы остаемся честными бойцами! А это — главное».
Теперь, окончательно убедившись в том, что секретарь обкома Василий Андреевич Бегма здесь, на оккупированной врагом Ровенщине, я всем своим существом понял, почувствовал, какое это огромное событие для советских патриотов, ни на час не прекращавших борьбы с врагом в его тылу.
Ни я, ни мои друзья еще не знали и не могли знать, будет ли создан на территории области подпольный обком партии. Но логика подсказывала, что с прибытием секретаря обкома многое изменится, многое станет яснее, что рядом с нами, видимо, возникнет боевой подпольный штаб, от которого к городам и селам области потянутся живительные ручейки. Сотни, а возможно, тысячи мужественных людей почувствуют себя не бойцами-одиночками, а воинами организованных, сколоченных подразделений в составе могучего, общенародного фронта борьбы с фашизмом на временно оккупированной советской земле, фронта, руководимого Коммунистической партией. Мы, разумеется, понимали, что секретарь обкома Бегма тоже простой советский человек, мне даже было известно, что по профессии он рабочий-литейщик. Но за ним стояли Центральный Комитет партии и Верховный Совет — высший орган власти великого Советского государства. Он, Бегма, был их полномочным представителем.
Незаметно летят годы. Неудержимый бег времени все дальше и дальше отделяет нас от бурных и волнующих событий тех дней. Время делает свое дело. То, что когда-то казалось необычайным, сейчас, отстоявшись, уже не удивляет. Наверно, происходит это потому, что теперь, оглядываясь на прошлое, ясно понимаешь: так и должно было быть. Но ни годы, ни десятилетия не в состоянии погасить в памяти самое дорогое, что озаряло наше бытие в тяжелую пору войны. Всякий раз, когда я вспоминаю то утро, что брызнуло лучами солнца в маленькие окна домика на болоте, мое сердце начинает биться учащенно. Оно, то утро, осталось для меня навсегда весенним не только по времени года, а прежде всего потому, что это было утро самых волнующих переживаний.
Весть о прибытии секретаря обкома партии казалась нам высшей наградой за все, что каждый из нас пережил, вынес, вытерпел: за муки коммуниста Александра Гуца, потерявшего семью, смотревшего в лицо смерти; за испытания политрука Николая Поцелуева, тело которого не раз рвали овчарки, за грозно ревущий перестук колес эшелона, из которого он прыгал, почти голыми руками проломив пол вагона; за фронтовые раны Федора Кравчука, за его мужество и самоотверженность, проявляемые в тылу врага; за незаметный, повседневный подвиг беспартийного крестьянина Николая Титовича Ханжи, в любое время дня и ночи радушно встречавшего на пороге своей хаты подпольщиков, коммунистов, комсомольцев, прекрасно сознавая, какой дорогой может оказаться расплата за это гостеприимство...
Мы до самого рассвета совещались, а вернее, обменивались мнениями. Возможно, предполагали мы, Петька не первый связной Василия Андреевича Бегмы. Может, были и другие, но не смогли добраться в Ровно. Следовательно, нам нельзя ждать. Надо самим попытаться установить контакт с секретарем обкома. И сделать это следует как можно скорее. Тем более что теперь мы уже знали примерные координаты Бегмы. Даже если его нет во Владимирце, все равно путь ясен. Нужно разыскать Порфирия. Уж он-то наверняка знает, где можно встретиться с секретарем обкома.
Больше всех горячился Федор Кравчук. Стал доказывать, что поскольку-де не сумел удержать у себя Петьку, связного секретаря обкома, и не смог у него узнать больше подробностей о месте пребывания Василия Андреевича Бегмы, то только ему, Федору, и надлежит довести дело до конца.
— Я сегодня же готов отправиться во Владимирец, — убеждал он нас. — Разыщу там Порфирия и с его помощью встречусь с секретарем обкома.
— Ты, Федор, как спичка. Загорелся: я пойду, я пойду. Допустим, ты немедленно отправишься во Владимирец. А как быть с выполнением операции, которую ты сам задумал и столько времени готовил со своими ребятами? — охладил его пыл Поцелуев. — Значит, боевую операцию против бандеровской сволочи можно сорвать? Так, что ли, по-твоему? Без тебя-то ведь в этом деле обойтись нельзя, сам должен понять. Все нити в твоих руках. И срывать операцию нельзя. Как упустить возможность, не ударить по бандитским главарям, когда они сойдутся вместе? Так что ни о каком походе во Владимирец не думай. Тебе надо быть вместе со своей группой. Я тоже пойду с тобой. Мне поручено проверить, ознакомиться на месте, как вы подготовились к налету на бандитских главарей, ну и помочь, конечно.
Политрук выразительно посмотрел на меня, явно надеясь заручиться поддержкой. Кравчук пытался сказать что-то еще, но его перебил Гуц.
— Уж если надо идти во Владимирец, то никому другому, как мне, — сказал он. — Во-первых, я лично знаком с Василием Андреевичем. Перед войной он много раз бывал в нашем районе. Во-вторых, Порфирия тоже знаю, хорошо помню еще по ровенскому процессу над польскими и украинскими коммунистами. Значит, не потребуется играть в кошки-мышки. И, в-третьих, на связь мне ходить доводилось, имею в этом деле кое-какой опыт. Прошу поручить задание мне.
— Думаю, что Александр Романович прав, — сказал я. — Мне кажется, самое разумное — послать на встречу с Бегмой именно Гуца. Однако надо будет еще подумать, посоветоваться. Задание ответственное, решать с кондачка нельзя. Операцию против бандеровцев откладывать не будем. Ты, Федор, и Поцелуев сейчас же отправляйтесь в Грушвицу, займитесь там бандитскими главарями. Действуйте осторожно, без ухарства. Горячка тут ни к чему. Мы с Александром Романовичем пойдем в город. Все ясно?
— Ясно, Терентий Федорович! — ответил за себя и Кравчука Поцелуев.
— Ну, значит, до новой встречи! — Я пожал руку Кравчуку, потом простился с Поцелуевым и Ханжой.
* * *
Вечером мы вызвали Федора Шкурко, поручили ему разыскать Сергея Борко, нашего агента в оуновском гнезде, выяснить, имеет ли он возможность узнать пароли и сигналы бандеровцев на ближайшие дни. Дело в том, что бандеровцы в последнее время стали наряду с паролями пользоваться еще условными сигналами, чтобы легче было перехватывать подозрительных с их точки зрения людей.
На следующий день Шкурко сообщил: разговор с Борко состоялся, пароли ему выведать нетрудно и сам Борко готов идти с Гуцем в качестве провожатого.
Теперь оставалось познакомить Александра Гуца с его напарником и продумать все детали похода связных во Владимирецкий район.
4
Бухгалтера Дроздовой, о которой рассказал мне Иван Луньков, на «Металлисте» не оказалось. Однако вскоре удалось разыскать ее в ведомстве господина Бота, в промотделе гебитскомиссариата. Она занимала там скромную, неприметную должность счетовода.
Завязать с ней знакомство удобнее всего было Луцю. Ему приходилось время от времени наведываться к финансистам промотдела. Несколько раз он находил различные поводы, чтобы побывать в бухгалтерии, присматривался к молодой, худощавой женщине, сидевшей за столиком в дальнем углу комнаты. Она выполняла техническую работу, не имевшую непосредственного отношения к фабрике валенок. Причин обратиться к ней по служебным делам у Луця не нашлось. От него, однако, не ускользнуло, что с работы Дроздова возвращалась обычно одна, и Иван Иванович решил встретиться с ней на улице.
Встреча внешне выглядела случайной. Луць вежливо поклонился Дроздовой. Она тоже узнала своего коллегу с фабрики валенок.
— Как чувствуете себя на новом месте, пани Дроздова? — осведомился Иван Иванович.
— Почему на новом? Я давно работаю в бухгалтерии промотдела.
— Разве? Но прежде вы, кажется, были бухгалтером на «Металлисте»?
— Да, была.
— А не помните ли вы одного человека, он тоже работал на «Металлисте», в мастерских? Луньков его фамилия.
— Нет, не помню, — отрезала Дроздова, заметно волнуясь. — А в чем дело?
— Да так, пустяки. Луньков попросил меня передать вам привет и велел кланяться ребятам, что работали вместе с вами.
— Каким ребятам?
— Я-то откуда знаю? Вам, видно, известно каким. Луньков так и сказал.
— Выдумываете вы все, господин Луць, — пожала плечами молодая женщина. — Много было военнопленных на «Металлисте», разве всех упомнишь.
— Но вы все-таки не забыли, что Луньков из пленных? — продолжал Луць. — Нехорошо от знакомых отказываться.
Дроздова вроде совсем безразлично спросила:
— А где он сейчас, этот Луньков?
— По-моему, в лесу, в партизанах, — приблизившись к Дроздовой, тихо сказал Иван Иванович. — Не так давно я случайно встретил его в городе. Одет как-то не совсем обычно. Очень похоже, что из леса пришел.
Женщина принужденно засмеялась:
— Вы, господин Луць, говорите страшные вещи. Имейте в виду, никакого Лунькова я не знаю и знать не хочу. Партизаны меня не интересуют. До свидания.
Мне сюда, — кивнула она головой и свернула в один из глухих переулков.
Два наших товарища, как было условлено заранее, следили за ней, потом доложили: распрощавшись с Луцем, Дроздова, не заходя домой, заспешила к электрошколе, располагавшейся в полуподвальном помещении на главной улице города. Через полчаса вышла оттуда в сопровождении заведующего школой Дубчака. По пути они о чем-то оживленно разговаривали.
Дубчака, высокого молодого мужчину с темными, зачесанными назад волосами, я немного знал: как-то, воспользовавшись своим положением директора фабрики, заходил к нему, просил устроить в электрошколу сына одной нашей подпольщицы. Другой раз встретился с ним в приемной Бота. Заведующий электрошколой произвел на меня впечатление человека замкнутого, не очень разговорчивого. Чего-нибудь иного, что характеризовало бы Дубчака полнее, я, как ни силился, вспомнить не мог.
Дроздова знакома с Дубчаком. Возможно, она поспешила к нему, чтобы сообщить о разговоре с Луцем? А может, просто стечение обстоятельств? Но как бы там ни было, заведующего электрошколой не следовало выпускать из поля зрения. И Дроздову тоже.
После первого разговора Дроздова вдруг сама стала искать встреч с Иваном Ивановичем. Однажды приходила даже на фабрику будто по бухгалтерским делам. К сожалению, Иван Иванович отсутствовал. Потом как бы случайно она встретила его на улице, прошла рядом с ним два или три квартала. Все время осторожно пыталась повернуть разговор к теме первой их беседы — о Лунькове, о советских военнопленных. Поняв, что женщина явно зондирует почву, интересуется настроениями своего собеседника, Иван Иванович решил пойти ей навстречу. Будто между прочим сказал, что удивляется тому, как неразумно ведут себя некоторые люди: во всем стараются угодить немцам. А ведь еще неизвестно, удержатся ли тут оккупационные войска. Что оно будет дальше, конечно, сказать трудно, но положение на фронте у немцев шаткое, хотя они и обещали покончить с русскими этим летом.
— Откуда вы знаете, как идут дела на фронте? — спросила Дроздова. — До фронта-то ой как далеко.
— Из газет знаю, — спокойно ответил Луць.
— Читаете «Волынь»? — В голосе женщины послышались нотки иронии.
— Нет, зачем же. Я читаю «Правду».
— Это опасная шутка, господин Луць.
— Почему шутка? Я говорю вполне серьезно. Недавно ездил в село. Вижу, у дороги что-то белеет. Соскочил с велосипеда, подобрал газету, развернул — «Правда», совсем свежая, не иначе как с самолета сброшена. Ну кое-что и вычитал из нее.
— И вы не боитесь говорить мне об этом?
— Не боюсь. Вы ведь не побежали доносить на меня, когда я сказал, что встречался с человеком, который, очевидно, является партизаном.
Дроздова осторожно взяла Ивана Ивановича за локоть:
— Скажите, а куда вы девали ту... газету?
— Как вам сказать?.. — неопределенно проговорил Луць.
— Очень прошу, господин Луць, дайте ее мне, хоть одним глазом взглянуть...
— Если вы желаете, будьте любезны. — Луць сунул руку во внутренний карман пиджака. Дроздова испуганно прошептала:
— Только не здесь, не на улице. Это опасно. Зайдемте на минуту ко мне. Я живу рядом.
Дома Дроздова с жадностью стала читать сводку Советского информбюро. В ее глазах заблестели слезы. Прочтя сводку, она попросила Ивана Ивановича хотя бы на один вечер оставить ей газету.
— Но это опасно, — предупредил Луць. — Настоящая советская газета. Тут шутки плохи. Увидит кто-нибудь ее у вас, знаете, что может случиться? С меня, как говорится, взятки гладки, а вам будет плохо.
— Никто не увидит, господин Луць, не беспокойтесь. Я завтра же верну газету. Специально зайду на фабрику. Это ничего. Ведь у нас одинаковая профессия. У бухгалтеров всегда могут быть какие-то общие дела...
Иван Иванович оставил «Правду», но предупредил, что специально заходить на фабрику Дроздовой не надо: газету она может вернуть как-нибудь в другой раз.
Товарищи из группы Федора Шкурко, наблюдавшие за домом, где жила Дроздова, сообщили, что ни в полицию, ни в гестапо она не ходила. Но вскоре после того, как ушел Луць, опять посетила электрошколу. Задержалась там минут пятнадцать, потом вернулась домой.
Луць уверял, что теперь следует ожидать появления листовок. И чутье опытного подпольщика не подвело его. Через день по всему городу были расклеены небольшие листки, напечатанные на пишущей машинке под немецкую копирку зеленого цвета. В них почти дословно пересказывалось содержание сводки Советского информбюро, опубликованной в номере «Правды», который Луць передал Дроздовой. Полицаи ругались, отгоняли прохожих, ножами соскребали листовки с забора возле кинотеатра, со стеклянных витрин магазинов, с афишных тумб.
Играть дальше в прятки не было необходимости. Настало время поговорить с Дроздовой откровенно. Но нас несколько смущала немецкая копировальная бумага. Чтобы окончательно убедиться, что листовки написаны и размножены подлинными советскими патриотами-подпольщиками и не являются гестаповской приманкой, мне пришло в голову провести еще один эксперимент.
Паренек, за которого я в свое время хлопотал перед Дубчаком, учился теперь в электрошколе. Его матери, входившей в группу Марии Жарской, мы поручили сходить к директору школы и попросить у него официальную справку, свидетельствующую о том, что ее сын действительно учится.
Справку женщина получила, принесла ее Луцю. Когда Иван Иванович положил мне на стол принесенный ему документ и сорванную с забора листовку, я невольно схватился за голову: листовка и справка были напечатаны на одной и той же служебной пишущей машинке, видимо находившейся в электрошколе. «Неужели товарищи не понимают, что сами себе роют могилу, в любой момент могут потерпеть провал? Достаточно гестаповцам проверить пишущие машинки, сличить шрифт, имея в руках текст листовки, и беды не миновать!»
Необходимо было срочно, не теряя времени, предупредить Дроздову и ее друзей. После работы Луць пошел на квартиру к счетоводу промотдела гебитскомиссариата и встретил там... Дубчака. Отбросив всякую дипломатию, даже не назвав себя, не познакомившись с заведующим электрошколой, он положил на стол листовку и, кивнув на нее, спросил:
— Ваша работа?
На лице Дубчака не дрогнул ни один мускул.
— Допустим, — сказал он. — Что дальше?
— Дальше будет хуже.
— Почему? — иронически усмехнулся заведующий электрошколой. — Если будет худо, то не только нам. Вам тоже. Эта вещичка почти дословно перепечатана из газеты «Правда», которую вы вручили Дроздовой. Поэтому поговорим лучше о другом. Вы — главный бухгалтер фабрики валенок. Работаете, прямо скажем, на немцев. А у них, кажется, на фронте «положение шаткое». Это — ваши слова. Ведь так? — продолжал Дубчак. — Не находите ли вы, пан бухгалтер, что сейчас самое время подумать о том, что мы — советские люди и обязаны бороться с врагом?
Выслушав Дубчака, Луць попросил Дроздову на некоторое время выйти из комнаты, оставить их наедине. Как только хозяйка квартиры ушла, Иван Иванович достал из кармана справку, что передала нам подпольщица из группы Жарской. Заведующий электрошколой медленно поднялся со стула, встревоженно спросил:
— Как попал к вам этот документ?
— Вот что, дорогой электрик, — негромко проговорил Луць. — Только что я услышал от вас нечто интересное. Теперь прошу выслушать меня. Как могли вы, с виду человек умный, не сообразить, что для гестапо достаточно сличить вот такие две бумажки — и всему конец? Надо же додуматься до такого: печатать листовки на служебной машинке! Вы понимаете, что делаете? Теперь второе. Почему хозяйка этой квартиры, безусловно тоже причастная к размножению и распространению антифашистских листовок, доверчиво принимает из рук почти незнакомого человека, работающего на немцев, как вы изволили сказать, советскую газету «Правда»? Потом идет к вам в школу, где печатаются листовки. А представьте себе такое: газету ей, в целях провокации, подсунул агент гестапо и пошел за ней следом. Возможно это? Вполне возможно. Но Дроздова даже не оглянулась, чтобы проверить, не тянется ли за ней «хвост». Впрочем, если бы она вела себя и предусмотрительнее, все равно расклеенные на следующий день по городу листовки выдавали ее и вас с головой. Все совершенно ясно и без слежки, без «хвостов». — Сделав небольшую паузу, Луць продолжал: — Мы, Дубчак, делаем одно общее дело. Мне неизвестно, кто вместе с вами ведет подрывную работу против гитлеровцев, кто вами руководит, но прошу вас передать своим товарищам, что подпольный Центр категорически предупреждает: подобные эксперименты с листовками к добру не приведут.
— Подпольный Центр?! — теперь, кажется, выдержка оставила Дубчака, у него даже голос изменился. — Какой подпольный Центр? Где доказательство, что он существует, и какое отношение имеете к нему вы?
— Мне бы сперва хотелось узнать, кем на самом деле являетесь вы, Дубчак?
— Кто я? — Иван Иванович не успел и глазом моргнуть, как в руке Дубчака блеснул пистолет. — Я — Могутный. Знакома вам такая фамилия? Нет. Ну и ладно, — продолжал Дубчак, повышая голос и направляя пистолет на Луця. — А вот кто ты, фашистская сволочь, и за сколько тебя купили в гестапо, в этом мы сейчас разберемся!..
— Давно бы так, — спокойно сказал Луць. — А теперь спрячьте свой «вальтер». Он ни к чему. И вот что: сегодня же уберите из помещения электрошколы пишущую машинку, на которой размножали листовки. Зеленую копирку тоже, всю, до последнего листа. Это приказ! Теперь поговорим о доказательствах..!
* * *
Дубчак, судя по всему, не был ни легкомысленным, ни бесшабашным человеком. Луць вовсе не собирался в чем-то поучать его, навязывать ему свои мысли, свои формы и методы подпольной работы. Наблюдения, проведенные в последние дни, подсказывали ему, что Дубчак-Могутный возглавляет группу смелых и решительных людей, но кое-кто из них не отличается осторожностью, действует с отчаянной прямолинейностью и, как видно, недооценивает врага. Луць не мог отнестись к этому равнодушно. Ближе познакомившись с заведующим электрошколой, он взял инициативу в свои руки и с присущей ему решительностью стал помогать руководителю неожиданно открытого нами параллельно действующего подполья покрепче затягивать ослабленные узлы конспирации...»
О, если бы мы сами во всем придерживались тех правил, продиктованных рассудительной осмотрительностью, о которых напоминали другим! Если бы мы умели так же хорошо замечать собственные промахи, какие видели со стороны у других! Сколько бы сохранили чудесных людей, настоящих героев!
Я говорю это вовсе не в упрек Ивану Ивановичу Луцю. Мертвых не укоряют. Да и вряд ли можно было в чем упрекнуть Ивана Луця. Я говорю это себе, говорю живым: своему сыну, который только выходит на самостоятельный жизненный путь, говорю сотням и тысячам наших сыновей и дочерей, всей нашей славной молодежи. Бдительность и рассудительная осмотрительность никогда не ржавеющее оружие в борьбе с любым противником.
Подпольная организация, возглавляемая заведующим электрошколой, оказалась довольно многочисленной. В среде подпольщиков руководитель организации был известен под кличкой Могутный. Созданные им боевые группы патриотов действовали на «Металлисте», на почте, в ряде городских оккупационных учреждений и контор. Члены боевых групп время от времени выпускали листовки, в том числе обращения к солдатам вермахта на немецком языке, портили в гаражах немецкие автомашины. С помощью двух врачей, входивших в организацию, подпольщики оборудовали в одном из домов на окраине Ровно тайный госпиталь, где лечили советских бойцов и командиров, бежавших из фашистского плена. Для тех из ровенчан, которых гитлеровцы намеревались вывезти в Германию, члены организации изготовляли подложные документы.
Настоящее имя Дубчака-Могутного — Павел Михайлович Мирющенко. Родом он был из Донбасса, а в предвоенные годы жил во Львове.
Я встретился с ним в Ровно, в доме № 29 по улице Первого мая, в хибарке шофера Васи Конарева. В ту пору Павлу Мирющенко было лет двадцать семь. Молодой, не по возрасту сдержанный в разговоре и в то же время энергичный в делах, он сразу понравился мне своей неподдельной искренностью и трезвым взглядом на те пробелы, которые волновали возглавляемую им организацию.
При встрече со мной Павел Михайлович рассказал много интересного о себе, о первых шагах своей подпольной деятельности. С большим трудом ему удалось устроиться на работу в электрошколу. Вскоре после этого он связался с четырьмя военнопленными, отпущенными из лагеря и работавшими на «Металлисте». Так образовалась небольшая подпольная группа. Сперва решили заниматься исключительно диверсиями. Подожгли за вокзалом деревянный барак, приспособленный оккупантами под склад военного обмундирования. Склад, правда, не сгорел, пожар успели погасить, зато участники операции чуть не поплатились жизнью: гестаповцы долго преследовали их с собаками-ищейками.
В тот день члены группы Мирющенко поняли, что небольшой горстке людей без широких связей в городе долго не продержаться и многого не сделать. Стали заводить новые знакомства, искать единомышленников. В результате возникло несколько подпольных групп, которые действовали самостоятельно, хотя многие из подпольщиков лично знали Могутного.
Похлопывая крепкими жилистыми руками по подлокотникам старого кресла, которое каким-то чудом оказалось в каморке Конарева, Павел Михайлович говорил:
— Кое-чего не учли наши товарищи и я тоже. Взять хотя бы пишущую машинку. Кажется, элементарно, а не подумали, чем это пахнет. И Дроздова вела себя неосторожно. Человек она хороший, член партии. Дал я ей задание перейти с «Металлиста» в промышленный отдел гебитскомиссариата; сумела устроиться. Теперь мы имеем полную картину того, что творится на предприятиях. А вот осмотрительность, осторожность... Недостает ей этого, сам вижу. Да не только ей. Все мы пока что в этом деле первоклассники. Один наш товарищ как-то приходит ко мне и говорит: можно завербовать немецкого офицера. Интересуюсь, что за немец, откуда у товарища уверенность, что с офицером можно найти общий язык. Подпольщик, выкладывает оргументацию: немец, мол, антифашист, сразу видно, потому что каждый вечер нашу «Катюшу» на мандолине играет и ребенка, дочку хозяина квартиры, шоколадом угощает. — Мирющенко пригладил волосы, улыбнулся. — Конечно, протоколов заседаний мы не вели и партийных взносов не собираем. Тут Луньков преувеличил. Но конспираторы из нас пока что неважные.
— Будем вместе выправлять положение, — сказал я. — Ваших людей, которые работают в немецких учреждениях или на заводах и находятся на подозрении или просто по своему характеру не подходят для подпольной работы, предупредите, чтобы были готовы к отправке в партизанский отряд. У нас тоже есть такие товарищи. Но имейте в виду, это должны быть хорошо проверенные, надежные люди.
— Вы имеете связь с партизанами? — не без удивления спросил Мирющенко.
— Да, имеем. Вы тоже познакомитесь с ними. Сможете даже передать в Москву коротенький отчет о деятельности своей подпольной организации. Думаю, Центральному Комитету ВЛКСМ будет интересно узнать, что бывший комсомольский работник из Львова не сидит без дела во вражеском тылу. Теперь о наших дальнейших взаимоотношениях. Будем поддерживать только личную связь. Вы знаете меня, я — вас. Еще в курсе дела будет Луць. И все. Создавать для связи иные промежуточные звенья нецелесообразно, да и опасно.
— А если нам вообще объединиться?
— Мы и так объединены. Работу выполняем одну. Если же подходить к этому делу с организационной стороны, то в объединении нет необходимости. У вас установились свои связи, у нас свои. Практически слияние ничего не даст, возникнут только осложнения. Мы будем согласовывать наши действия, особенно если возникнут планы крупных диверсий. Потребуется вам в чем-либо помощь — говорите, не стесняйтесь. Для начала возьмите вот эти бумажки, наверное, понадобятся. — Я положил перед Мирющенко пачку оккупационных денег, спросил: — Имеется ли в организации оружие?
— Не богаты, — ответил он.
— Дадим вам гранаты, пистолеты, несколько мин. Будете получать советские газеты. Все это передаст Луць. И дальше будем поддерживать контакты через него. За критику извините, но выводы прошу сделать. Дроздову предупредите, что с Луцем она теперь встречаться не должна. Разве что в крайнем случае. Квартира, где мы сейчас находимся, пусть будет известна только вам.
— Как хорошо, что мы с вами встретились, — сказал Мирющенко. — Теперь на душе спокойнее. Ну а что касается критики, то я тоже не хочу оставаться в долгу. Вы назначили мне свидание, мы ведем разговор, делимся мыслями о таких вещах, что если бы узнали, скажем, в гестапо... Вам не кажется, что вы тоже рискуете?
— Чем именно?
— Вдруг я вовсе не тот человек, за которого себя выдаю? Такое может случиться?
— Случиться может все, что угодно, — согласился я. — Но в данный момент я не рискую. Вы именно тот, за кого себя выдаете. Правда, не назвали своей довоенной должности во Львове, сказали просто: был комсомольским работником. Я могу уточнить: вы работали во Львове первым секретарем Ленинского райкома комсомола. Не так ли?
Какую-то минуту Мирющенко внимательно смотрел на меня. Хотя в его взгляде и мелькнуло беспокойство, но он не выдержал и рассмеялся.
— Да! Но, черт побери... Как вы узнали? Не секрет?
— Никакого секрета. Помните девушку, по фамилии Ких?
— Маринку Ких? Комсомолку, ту, что была в числе организаторов демонстраций безработных в тридцать шестом году? Да ее весь Львов знает!
— Весь Львов знает ее, а она знает вас. Марина сейчас в партизанском отряде. Мы спросили ее, слышала ли она во Львове о товарище, которого зовут Павлом Мирющенко. Она ответила, что знает вас, и подтвердила ваши приметы. Как видите, свет велик, а разминуться в нем трудно.
5
— Все в ажуре, — сказал Иван Талан, придавливая в пепельнице окурок сигареты. — Господин Ляйпсле и на этот раз остался доволен. «Карош валянка, карош», — передразнил Талан немца. — Настроение у интенданта отличное, из чего делаю вывод, что первая партия протравленной обуви проскочила благополучно. Если бы и эта так прошла, считай, пронесло.
С партией валенок, полученной на фабрике немецким интендантом минувшей зимой, в самом деле все обошлось благополучно. Хотя нашим товарищам на железной дороге и не удалось запутать исходный адрес груза, немцы, однако, не предъявили претензий ни фабрике, ни гебитскомиссариату. Случилось это, очевидно, потому, что отгруженные в первый раз валенки не дошли до солдат, поскольку близилась весна, а залежались где-нибудь на складах, ожидая следующего сезона. Второй приезд господина Ляйпсле, а тем более сегодняшний, третий, меня нисколько не волновал: летом зимняя обувь гитлеровцам ни к чему, а до зимы ждать долго. До будущих холодов много воды утечет, и еще неизвестно, где тогда окажутся господин Ляйпсле и те, для кого он получал на фабрике валенки.
Талан стоял в кабинете возле моего стола. Из окна на него падал яркий свет. Его старенький костюм выглядел как-то необычно. Я подошел к парню вплотную, присмотрелся: пиджак Талана, брюки, рубашка, даже сапоги были густо усеяны маленькими дырочками, словно к одежде кто-то прикасался тысячами раскаленных иголок.
— Что это? — спросил я. Талан отвернул полу пиджака, внимательно осмотрел, потом перевел взгляд на голенища сапог и зло выругался. Тут уж и я понял, в чем дело. Кислота... Иван все время имел дело с кислотой, она-то и превратила одежду парня в сплошное решето.
— Скорей удирай с фабрики. Хотя нет, погоди! Спрячься где-нибудь тут и сиди до вечера, не высовывай носа. Нельзя в таком виде тебе появляться в городе.
Вспомнив недобрыми словами господина Ляйпсле, немцев вообще и всякие кислоты, Талан пошел к двери. На пороге едва не столкнулся с Луцем. Иван Иванович был явно взволнован.
— Самойлов зачем-то просит тебя немедленно приехать в сторожку на кладбище, — сказал он, проводив взглядом громко хлопнувшего дверью Талана. — Только что был Генка, сын Федора Шкурко. Наверно, что-то случилось...
— Где твой велосипед?
— В будке Михала. Возьми гранаты.
Я вынул из ящика стола две лимонки, сунул их в карман. Быстро вышел на фабричный двор. Вывел из проходной за ворота фабрики велосипед Луця.
Неподалеку от кладбищенской сторожки меня поджидал Федор Шкурко. Над его головой шумели высокие деревья. Все кругом утопало в зелени. Рядами поднимались над землей бугорки могил. Молчаливо и таинственно темнели кресты. Какая-то старуха во всем черном стояла на коленях возле одной из могил и дрожащими руками зажигала светильник.
Мы со Шкурко зашли в сторожку. В углу за столом сидел Николай Самойлов и курил, разгоняя рукой дым. На кровати лежал незнакомый мне молодой мужчина. Он был раздет до пояса. Шея у него плотно обмотана марлей, сквозь которую проступила кровь.
— Кто это?
— Сергей Борко...
Я смотрел на Федора Захаровича, на Самойлова, на раненого и ничего не мог понять. Как мог очутиться в сторожке на кладбище Борко, если он с Александром Гуцем несколько дней назад отправился во Владимирец на розыски секретаря обкома партии?
Я никогда не встречался с Борко, не видел его, когда он был крепким и здоровым. И только теперь, глядя на него, понял, почему оуновцы дали ему кличку Цыган. У него были черные как смоль кудрявые волосы, темные большие глаза, на побледневших щеках выступала тоже черная густая щетина.
Рана была вроде не очень опасной. Шкурко сказал, что пуля задела шею неглубоко и прошла навылет. Но раненый Борко шел пешком от самого Деражно. Шел, замотав простреленную шею обрывком рубахи. Когда подошел к Ровно, ему стало совсем плохо. Немного отлежался под стогом сена. Ночью едва успел постучать в окно знакомой сторожки и тут же потерял сознание.
Он боролся со смертью из последних сил, пытался удержать жизнь, которая медленно и неумолимо покидала его. Закинув назад руки, Сергей держался за спинку кровати, стараясь подняться и сесть. Однако ето пальцы бессильно скользили по металлу, пот заливал лицо, обильно проступал на груди. Борко умирал.
Самойлов подошел к кровати, потом, обернувшись ко мне, тихо проговорил:
— Недавно был врач, один из наших, работает в немецком Красном Кресте. Сказал, спасти невозможно.
Если бы немного раньше. Теперь поздно. У него заражение крови.
Когда Самойлов втаскивал раненого в сторожку, менял повязку, Борко не мог разговаривать. Несколько позже сознание ненадолго вернулось к нему. Он обрывисто, бессвязно стал рассказывать, что произошло, то и дело обращаясь к Самойлову, как в бреду: «Ты слышишь, Николай? Слышишь?» Склонившись над раненым, Самойлов долго и терпеливо слушал, и постепенно перед ним вырисовывалась картина трагического события под местечком Деражно.
Держа направление на Владимирец, Александр Гуц и Сергей Борко шли преимущественно в ночное время. Идти днем было опасно: по дорогам всюду разъезжали на мотоциклах патрули фельджандармерии. Гуц и Борко двигались степью и перелесками, держась поближе к селам и хуторам. Сел они не боялись. Несколько раз их останавливали бандеровские заставы, однако пароль, который произносил Борко, действовал магически. Бандиты пропускали их без задержки. На одном из хуторов станичный дал им даже подводу. Ездовым был мальчик-подросток, всю дорогу он дрожал от страха и всхлипывал. Они отпустили мальчика с подводой километрах в десяти от Деражно, дальше двигались пешком. В Деражно пришли поздно вечером.
На окраине местечка встретили двух верховых. Опять выручили пароль и условный сигнал: один бандеровец, буркнув «Слава Украине!», не останавливаясь, поехал дальше и исчез в темноте за деревьями. Второму, вероятно, ехать было некуда, он спешился, вытащил кисет, угостил Гуца и Борко самосадом. Из-за угла крайней хаты появились еще несколько бандитов. Вдруг один из них завопил: «Что ты с ними раскуриваешь? Это же большевики из Деревянного. — И кинулся к Гуцу. — Я его, комиссара, знаю!» Бандеровец, державший за повод коня, засмеялся: «Ты что, Сыч, сдурел? Они же пароли имеют и сигнал знают». Но Сыч уже вцепился Гуцу в плечо. Александр с силой ударил его локтем в лицо, крикнул Сергею «Беги!» и попытался выхватить пистолет. Однако на него сразу набросились несколько бандитов. Сергея сбили ударом приклада на землю, он упал, выронив в бурьян «вальтер». Тут же вскочил, вспомнил о гранате, но бросить ее не мог: в клубке тел, что переплелись на земле, был и Александр Гуц. На Борко набросились сзади, пытались скрутить руки. Он отбивался ребристой лимонкой, как кастетом, кому-то раздробил зубы. Затем оттолкнул бандеровца-конника, вскочил в седло. В последний момент увидел, что связанного Гуца бандиты волокли в сад.
Сергей скакал в степь. Позади гремели выстрелы. Вдруг конь под ним рухнул на землю, захрипел. Сергей свалился, почувствовав острую боль в шее: пули настигли коня и седока одновременно.
Продолжая стрелять из карабина, к Борко приближался верховой. Вероятно, тот самый, что сначала проехал мимо, а теперь вернулся. Притаившись за убитым конем, Сергей подпустил всадника на близкое расстояние, бросил гранату — и конь и бандит свалились замертво, иссеченные осколками.
Превозмогая боль, Борко прополз немного вперед, взял карабин убитого бандита. Шея у Сергея совсем онемела, ему трудно было повернуть голову, кровь заливала спину, текла на грудь. Немного отлежавшись, Борко снял рубаху, разорвал ее, как мог, перевязал рану и двинулся назад, в сторону Ровно.
В магазине подобранного им карабина было всего два патрона. Сергей бросил карабин в болото — с двумя патронами не навоюешь. Села он теперь обходил: хорошо зная бандеровские повадки, догадывался, что деражненские бандиты уже успели предупредить своих в окрестных селениях.
Сколько времени добирался Борко до Ровно, он не помнил, не мог помнить, потому что в пути несколько раз терял сознание. Но он во что бы то ни стало хотел дойти до города, предупредить подпольщиков, чтобы не ждали Александра Гуца. И дошел.
Борко был еще совсем молодым: двадцать пять — двадцать шесть лет от роду, не больше. Откуда он, где родился, где вырос, где оставил родных и близких — на Сумщине или Киевщине, на Днепропетровщине или Харьковщине, — этого мы не знали. Никто из нас не знал и его настоящей фамилии. Сергеем Борко он стал в Ровно. Фамилию и имя ему придумал Федор Шкурко, наш подпольный «паспортист». Известно лишь то, что он был военнослужащим, сражался с врагом на фронте, попал в плен, бежал из лагеря военнопленных под Острогом, пришел к нам, добросовестно, по-солдатски честно выполнял задания подпольного Центра, действуя в самом логове врагов-националистов.
Мы похоронили его ночью. Под развесистыми кленами на ровенском городском кладбище вырос еще один земляной холмик — могила безымянного бойца незримого фронта, солдата Родины.
Другой наш связной, Александр Романович Гуц, коммунист тридцати двух лет, погибший от рук бандитов-националистов, не оставил после себя и могильного холма. Где он был убит бандеровцами — в Деражно или каком другом селе, где похоронен — этого мы так и не смогли узнать.
* * *
Взрыв гранаты, брошенной Сергеем Борко в бандеровского конника неподалеку от Деражно, несколько дней спустя эхом отозвался на железнодорожной магистрали. Немецкий воинский эшелон с вооружением, двигавшийся в сторону фронта, неподалеку от станции Оженин внезапно окутался огнем и дымом. Две прицепленные к нему цистерны с бензином извергли пылающий вихрь, пламя которого перекинулось на вагоны и платформы. Машинист увеличил скорость, пытаясь погасить пожар, но он забушевал еще сильнее. Горели зенитные установки на открытых платформах, горело вооружение мотомеханизированного немецкого полка, взрывались боеприпасы. Две магнитные мины (мы теперь регулярно получали их из партизанского отряда полковника Медведева), прикрепленные к цистернам Артемом Зацаринным на станции Здолбунов, сделали свое дело. Лишь немногим гитлеровцам из охраны эшелона удалось спасти свои шкуры.
Уничтожение эшелона всполошило и перепугало шефа немецкой военно-транспортной службы Киевско-Волынской зоны полковника Арвица. Он издал несколько панических приказов, требуя от своих подчиненных усиления охраны станций и железнодорожных путей.
В тот же день, когда догорал фашистский воинский эшелон, на городскую почту в Ровно были сданы три тяжелые посылки для отправки в Германию. Одну из них, судя по адресу, четко выведенному готическими буквами, должна была получить некая Берта Оттенбах в Берлине, другую — Фриц Гулль во Франкфурте-на-Майне, третью — Марта Вельт в Гамбурге.
На первый взгляд эти два события не имели между собой ничего общего. Немецкие офицеры и солдаты размещавшихся в Ровно команд и подразделений, чиновники рейхскомиссариата, всевозможных оккупационных учреждений, промышленных фирм, торговых контор ежедневно приносили и привозили на почту сотни обшитых полотном ящиков, в которых посылали в Германию украинский шпик, смалец, сахар, мед — все, что вызывало у их родных, посаженных на строго нормированный паек, восторг, восхищение и вожделенную зависть к «богатствам жизненного пространства на Востоке».
Три тяжелые посылки для отправки в рейх, как и многие другие перед тем, быстро принял и оформил молодой почтовый служащий в очках. Потом он незаметно отделил их от остальных и с первой же машиной отправил на вокзал. Почтовый служащий — член подпольной организации Павла Мирющенко — не имел ни малейшего желания долго задерживать посылки на почте, так как Иван Иванович Луць загодя предупредил, что в каждый из трех фанерных ящиков вложено по десятикилограммовой мине с самовзрывающимся механизмом, которые должны были сработать ровно через сорок восемь часов.
Спустя несколько дней городскую почту в Ровно плотным кольцом оцепили гестаповцы. Офицер с черепом на рукаве приказал всем почтовым служащим оставаться на месте, а нескольким солдатам вскрывать посылки.
Ящики и пакеты, мешки и саквояжи с четко выписанными адресами на немецком языке заполняли почти все помещение, где принимались посылки, штабелями высились в проходах между столами и за служебной конторкой приемщика. Работа затянулась до поздней ночи, однако никаких результатов не дала: в выпотрошенных посылках ничего, кроме продуктов и вещей, награбленных гитлеровцами у местного населения, гестаповцы не обнаружили. А еще через день почтовое начальство получило строжайший приказ: тщательно проверять любые отправления весом более килограмма, независимо от того, кому они адресованы и от кого приняты.
О судьбе вагонов, в которых были отправлены в дальний путь наши «подарки», десятикилограммовые мины, мы узнали примерно через неделю. Новый знакомый Луця, приемщик посылок, сообщил, что где-то на территории Польши произошло два железнодорожных крушения. Причина — внезапные взрывы в прицепленных к паровозам почтовых вагонах. Больших подробностей узнать не удалось, но уже по тому, как забегали, засуетились гестаповцы, нетрудно было понять, что посылки-мины причинили оккупантам большие неприятности.
— Железнодорожники говорят (им это хорошо известно, поскольку связь по всей линии действует безотказно), что во время крушений погибло около двух десятков немецких солдат, сопровождавших эшелоны, — добавил приемщик посылок, рассказывая Луцю о результатах диверсии.
Из Грушвицы в Ровно вернулся Николай Поцелуев. Я встретился с ним на одной из наших явок. Политрук, сильно прихрамывая, опираясь на палку, прохаживался по комнате.
— Отчего ты опять захромал, Николай Михайлович? — спросил я.
— Да так, — ответил он, немного смутившись. — Видно, снова напоминает о себе ушиб — результат прыжка из вагона.
— Так ли? А ну-ка задери штанину, посмотрю.
— Нечего смотреть, Терентий Федорович. Каюсь, царапнуло малость, — тут же признался Поцелуев. — Сам виноват. Кравчук сказал: «Надо еще раз их гранатой», а я пожалел лимонку. Когда мы ворвались в хату, где совещались бандеровские главари, один из них был еще жив. Вот он и клюнул меня из парабеллума, пуля задела коленку. Успел выстрелить, гад. Единственный пострадавший — это я, остальные все целы и невредимы. Словом, дело сделано. У бандеровцев появилось теперь несколько вакантных руководящих должностей. Бандитское собрание было разгромлено за пятнадцать минут. Заседали они в хате. Во дворе поставили двух часовых. Их мы сняли без выстрела. Дальше все шло без лирики. Кровь за кровь — тут веселого мало. Девушка там одна, комсомолка, увязалась было с нами. Я ее отправил обратно. Молоденькая совсем, зачем же ей душу травмировать? Ударили поначалу в окна из трех автоматов. В хате крик, погас свет. Потом туда же две гранаты. И конец. Между прочим, на совещании присутствовали Батура и Птаха, те, что за Кульбенко охотились. Видел я их обоих, уже мертвых. Батура, как удалось выяснить, бывший Львовский студент, учился, говорят, вместе со Степаном Бандерой. Вот его пистолет, — Николай положил передо мной на стол черный парабеллум.
С минуту Поцелуев рылся у себя в карманах, выкладывая на стол их содержимое.
— А это, по-моему, еще более любопытная вещичка. Взгляните-ка, — протянул он мне небольшую книжечку в твердой обложке — удостоверение на имя офицера имперской службы безопасности Йозефа Коле и письмо в надрезанном конверте, с карандашными пометками на полях. — Любопытно, не правда ли? Оказывается, вместе с главарями оуновцев заседал и немец. Одет в гражданское, в модный и, видно, дорогой костюм. И Кравчук обратил на это внимание. Оуновцы кто в чем, а этот в наглаженных брюках, белой рубашке, при галстуке. На фотографии, что наклеена в удостоверении, он, как видите, в парадном мундире, при всех регалиях...
Действительно, с маленькой карточки на меня смотрел немецкий лейтенант в форме СД. Глаза чуть прищурены, в них затаенная, презрительная усмешка. Где я видел этого офицера? Ага, кажется, вспомнил.
— Николай Михайлович, а ну-ка посмотри, возможно, узнаешь старого знакомого?
Поцелуев стал сосредоточенно рассматривать карточку офицера. Смотрел минуту, другую... Потом лицо его оживилось — узнал. На фотокарточке был не кто иной, как спутник покойной переводчицы из гестапо, которого мы с Николаем видели в кинотеатре.
В памяти всплыл разговор с Иваном Оверчуком из Рясников. По его словам, бандеровские главари в Антополе встречались с представителем гощанского гестапо. Теперь новое сборище в Грушвице, и опять на нем присутствует офицер СД.
Личность Йозефа Коле, тем более убитого, сама по себе не вызывала у меня интереса. Не имело значения и то, откуда он прибыл на сборище бандитских главарей, из Гощи или Ровно. Важно было другое: бандеровцы укрепляли свои контакты с фашистской службой безопасности, вели тайные переговоры с офицерами СД. Тут было над чем пораскинуть умом.
Последняя встреча с Вернером Беером
1
Каратели, которыми командовал генерал СС Пиппер, начали блокировать подступы к Цуманскому лесу. В окрестностях Ровно сновали летучие отряды эсэсовцев и жандармов. По дорогам носились танкетки, грузовики с солдатами, мотоциклисты. Заскакивали в села, производили в некоторых хатах обыски. Повсюду усилились ночные патрули.
Стало очевидно, что фашистские генералы и оберсты из резиденции гебитскомиссара пронюхали через своих агентов, что где-то совсем недалеко от Ровно группируются партизаны и что с каждым днем у народных мстителей крепнут связи с городом.
В Ровно участились облавы. Жандармы и полицаи врывались в квартиры, проверяли документы поголовно у всех горожан, задерживали и отправляли в тюрьму подозрительных. Одновременно производилась чистка оккупационных учреждений. Почти всех украинцев и русских, работавших в рейхскомиссариате: шоферов, машинисток, официанток, даже уборщиц немцы заменяли на фольксдейче. На бирже труда появились какие-то юркие типы, по всем признакам шпики. Среди шефов городских предприятий замелькали немецкие фамилии: тоже шла замена. Украинских и русских служащих различных административных и торговых ведомств тщательно проверяли офицеры гестапо. За многими была установлена полицейская слежка.
Как-то утром ровенчане увидели на центральной городской площади четыре виселицы. Ветер раскачивал висевшие на них трупы. Кто они, эти неизвестные мученики? За какую провинность повесили их фашисты? Об этом населению города объявлено не было.
Над Ровно все больше сгущались зловещие тучи. Но, несмотря ни на что, борьба продолжалась.
...С наступлением темноты в небольшой сквер, к памятнику генералу Богомолову, подходили по одному, по два мужчины, молодые парни. Тихо называли сидевшему с безразличным видом на скамейке усатому дядьке пароль и торопливо исчезали в лабиринте неосвещенных соседних улиц и переулков. Там, в заранее условленных местах, они собирались в группы по семь-восемь человек, и наши связные Георгий Татаринов, Василий Ворон, Федор Корнеев, Артем Зацаринный (последнего пришлось срочно отозвать из Здолбунова, потому что тамошние гестаповцы уже взяли его на прицел) провожали их на «маяки» к Иосифу Чибераку или в Оржевский лес. А оттуда партизанские проводники Михаила Трихлебова вели их дальше, в лагерь партизанского отряда полковника Д. Н. Медведева.
Так продолжалось несколько ночей. Иван Луць докладывал мне:
— Итоги, в общем, такие. В партизанский отряд переправлено около двухсот человек местных жителей, а также окруженцев и бывших пленных, бежавших из лагерей. Среди них двадцать восемь подпольщиков. В целом пока все обошлось благополучно — почти все товарищи добрались до леса и теперь находятся в безопасности. Во время переправы через Горынь иногда не обходилось без перестрелок. Националисты пытаются контролировать берег реки. Правда, партизаны не раз давали бандеровским заслонам по зубам. Это охладило пыл бандитов, и теперь они действуют с оглядкой, с опаской, но все же при случае стремятся перехватывать людей, идущих из города к лесу.
К медведевцам направлено несколько врачей. Виталий Захаров из Тучина передал партизанам комплект хирургических инструментов и некоторые медикаменты. Все это его ребята добыли в немецком госпитале. Кроме того, в лес отправлены медицинские инструменты, которые наши товарищи взяли в городе, на складе немецкого Красного Креста. Шофер Гриша Ломакин, приятель Василия Конарева, отвез партизанам на грузовике семьдесят пар валенок. Сейчас-то валенки в лесу не нужны, не по сезону, но кто знает, сколько времени ребятам придется еще партизанить? Одним словом, пригодятся. Виталий Захаров собирается обеспечить партизан еще и шерстяными свитерами. Он передал мне со связным, что в Тучине на трикотажной фабрике можно добыть несколько десятков, а может, даже и сотен свитеров. Просит прислать приемщика, спрашивает, как переправить свитера в лес. Полагаю, ему надо помочь.
Иван Иванович набил самосадом трубку, которую за последнее время почти не вынимал изо рта, не спеша прикурил.
— Полковник Медведев, думаю, останется доволен нами. Все, что он просил, мы подбрасываем партизанам. Может, правда, не в таком количестве, как хотелось бы. Да что поделаешь, не все сразу... В оружии и боеприпасах отряд, по-моему, не нуждается: достаточно получает с Большой земли. А что касается людей... Людей мы будем посылать в лес столько, сколько надо. В ближайшие дни переправим еще человек двадцать подпольщиков. Тогда, считай, все, кому в Ровно грозит арест, будут в безопасности.
Я посмотрел на часы. На четырнадцать ноль-ноль у меня была назначена встреча с Федором Шкурко. Иван Иванович надел свою широкополую черную шляпу, еще раз прикурил погасшую трубку, направился к выходу.
— Пойду пройдусь по цехам, — сказал он. — Ну, а ты, «пан директор», если кто будет спрашивать, конечно, в промотделе?
— Разумеется. Срочный вызов к господину Боту! — улыбнулся я в ответ. — Впрочем, время еще имеется. Посижу часок тут, потом пойду к тете Саше.
Только успел Луць открыть дверь моего директорского кабинета, как через порог перешагнул высокий молодой человек в выгоревшей, полинявшей гимнастерке. С ног до головы он был покрыт пылью: пыль серела на его старой кепке, припудривала лицо, шею, руки, не говоря уж об одежде. Я едва узнал Владимира Соловьева, москвича-геолога, командира-артиллериста, ставшего теперь агрономом и недавно принявшего от Ивана Кутковец руководство подпольными группами в Гощанском районе.
Поздоровавшись, Соловьев жадно выпил подряд два стакана воды, вытер вспотевший лоб, сунул в карман ставший сразу грязным носовой платок. Опять потянулся к графину с водой, виновато сказал:
— Жара страшная... Кутковец дал мне пароконную бричку. Гнал я во весь опор. К вечеру надо успеть вернуться, чтобы в селе не хватились лошадей. Тут такое дело, товарищи...
Соловьев примчался в город, чтобы сообщить о трудном положении, в котором неожиданно оказались связанные с подпольщиками армяне из расквартированного в Гоще подразделения «восточных легионеров». Утром им выдали оружие, боеприпасы, сухой паек. После этого немецкий офицер предупредил, чтобы легионеры готовились в дальний путь. Куда, он не сказал, но они вскоре каким-то образом сами узнали: был получен приказ перебросить их с Украины во Францию.
— Среди легионеров я знаю лично восемнадцать очень хороших ребят, которые давно рвутся в лес, к партизанам, — продолжал Соловьев. — Хотелось, правда, чтобы пришли они не с пустыми руками, а с оружием, вот и выжидали. Теперь наконец оружие получили, но самих их собираются угнать за тридевять земель. Может, все-таки успеем переправить их в лес? — вопросительно посмотрел он на меня. — Ребята хорошие, честное слово. Не подведут!
— Когда легионеры должны уйти из Гощи? — спросил я.
— Думаю, не позже завтрашнего дня.
— Сможете вы взять в бричку еще одного человека?
— Конечно. Бричка двухместная, можно даже и втроем устроиться.
— В Гощу поеду я, — сказал Луць, подходя к столу.
— Нет, Иван, ты останешься на фабрике. Поедет другой товарищ.
— Пустое ты говоришь, Терентий. У меня сейчас неотложных дел нет, выведу я хлопцев к самому партизанскому лагерю.
— Нет, — повторил я. — Поедет Татаринов. Я, вероятно, застану его вместе со Шкурко у Александры Венедиктовны.
Луць недовольно сосал погасшую трубку.
О том, чтобы переправить в партизанский отряд тех легионеров, о которых с большой похвалой отзывались гощанские подпольщики, мы уже имели договоренность с Дмитрием Николаевичем Медведевым. Хотя легионеры согласились, вольно или невольно, надеть вражеские мундиры, мы все же считали, что не имеем права лишать их возможности смыть с себя в боях с врагом черное пятно. Теперь все зависело от того, чтобы как можно быстрее отправить в Гощу кого-либо из подпольщиков, знающих дороги к партизанскому «маяку». Впереди была целая ночь. Возможно, легионерам удастся исчезнуть из гарнизона и с помощью нашего проводника добраться к месту расположения партизан.
Главная надежда была у меня на Георгия Татаринова. Если застану его вместе со Шкурко у Александры Венедиктовны, тогда все обойдется, как надо.
Я быстро зашагал на Скрайнюю улицу. Дверь открыла Александра Венедиктовна. В большой, чистой комнате со старинной мебелью я увидел Федора Шкурко, о чем-то беседовавшего со своим неразлучным другом, помощником, связным, «адъютантом» Георгием Татариновым, широкоплечим, улыбчивым и на первый взгляд казавшимся несколько беспечным юношей.
Георгий, или Жора, как мы все его называли, начал войну красноармейцем, участвовал в боях, раненый попал в плен. Из лагеря под Ковелем немцы время от времени направляли команды военнопленных под присмотром эсэсовцев на ремонт дороги. Однажды, воспользовавшись тем, что охранники зазевались, Татаринов бежал. Однако вскоре его схватили полицаи. Одному из них было поручено отвести беглеца в фельджандармерию. По пути Жора неожиданно напал на шуцмана, застрелил его из его же карабина и снова бежал.
В Ровно, случайно встретившись на улице с Федором Шкурко, он рассказал ему о себе все или почти все. Федор помог Жоре устроиться на работу, в целях проверки поручил ему несколько хотя и не столь важных, но все же опасных заданий. Жора блестяще выполнил их. С прошлого года Татаринов стал постоянным «адъютантом» Шкурко, а вернее, одним из надежнейших и смелых исполнителей многочисленных заданий нашего главного разведчика. Жора много раз ходил на связь в Тучин — к Виталию Захарову, в Шпанов — к Сергею Зиненко, в Клевань — сначала к Александру, а потом к Максиму Гуцу. Переправлял через Горынь к партизанам подпольщиков и военнопленных. В ночь под Новый год выстрелом из парабеллума он уничтожил немецкого мотоциклиста. Недели через две после этого прикончил гестаповского шпика. Словом, на Жору Татаринова можно было положиться. Ему-то я и поручил немедленно отправиться с Владимиром Соловьевым в Гощу.
После того как Соловьев и Татаринов выехали из Ровно, мы со Шкурко занялись составлением очередного разведывательного донесения для передачи в Москву, уверенные, что с легионерами теперь вопрос решен: к вечеру Татаринов будет на месте и сделает все необходимое, чтобы выполнить наше задание.
Случилось, однако, непредвиденное. Немцы решили вывезти легионеров из Гощи на сутки раньше, нежели предполагал Соловьев. Еще когда он ехал на бричке в Ровно, навстречу ему прогромыхали несколько пустых немецких грузовиков. Руководитель гощанского подполья даже не подумал о том, что эта колонна автомашин направлялась именно за легионерами. А между тем в тот самый час, когда мы с Соловьевым заканчивали на фабрике разговор об их переброске в лес, легионеры были уже в городе, на станции Ровно, грузились в эшелон, стоявший как раз напротив вокзала.
Если бы минут через десять или пятнадцать после отъезда Соловьева и Татаринова я посмотрел в окно, то непременно увидел бы свою сестру Устину, пробежавшую мимо домика Чидаевых в сторону вокзала. Но ни я, ни Шкурко в окно не смотрели: мы выполняли очень важную работу, и нам было не до наблюдений за улицей. Устину мы не видели.
Как и почему она оказалась в Ровно? Что неожиданно привело ее в город?
Все выяснилось позже. Гощанские подпольщики, убедившись, что легионеров увозят раньше, чем предполагалось, решили немедленно послать в Ровно второго своего гонца. Выбор пал на Устину. Прихватив с собой хозяйственную сумку, она выбежала на автостраду, остановила ехавший в город грузовик. За десяток яиц шофер грузовика доставил девушку в Ровно на Хмельную улицу. Но на фабрику ее не пустили. «Пана директора нет, и, когда он будет, неизвестно», — объявил ей сторож Михал. Кроме меня, никого из подпольщиков в городе Устина не знала. Не видя иного выхода, она побежала на железнодорожную станцию. Легионеры к тому времени уже погрузились в эшелон, а командир подразделения, немецкий капитан, и с ним еще два офицера ушли в буфет выпить пива. Оставив эшелон на унтер-офицеров, назначенных из самих же пленных армян, гитлеровцы были уверены, что ничего не случится.
Тем временем Устина пробралась на перрон. Многие легионеры узнали знакомую девушку — их подразделение довольно продолжительное время находилось в Гоще, к тому же Устине по поручению руководителя подпольной группы приходилось не раз разговаривать с некоторыми из них. Из открытых окон вагонов ей стали махать руками, что-то кричали. Заметили ее и те, что решили перейти к партизанам. Один из них вышел из вагона, подбежал к Устине. Она отвела его в сторону, тихо спросила:
— Когда отправляетесь?
— Скоро. Как только подадут паровоз. Передайте своим, что мы до последней минуты ждали их представителя, чтобы узнать путь в лес, в партизанский отряд.
— Если ждали, действуйте, пока не поздно. Пусть товарищи, которые решили перейти на сторону партизан, выходят с оружием из вагонов. Поведешь их в город. Я буду ждать на улице. Только быстрее. Дорога каждая секунда.
Минут через пять на перроне построились в две шеренги семнадцать легионеров с винтовками за плечами и подсумками на ремнях. Восемнадцатый скомандовал: «Прямо! Шагом марш!» — и небольшая колонна бодро зашагала к выходу с перрона.
Из вагонов кричали:
— Куда? Куда вас несет? Скоро отправляемся.
— Идем, куда приказано, — ответили им.
Никто не попытался задержать уходивших. Строем вышли они с пристанционного перрона. Так же, не нарушая строя, прошагали вслед за Устиной несколько кварталов по городу. А она вдруг растерялась. Девушка не очень хорошо ориентировалась в Ровно. Куда вести людей дальше? Взяв инициативу в свои руки, Устина поняла, как трагически может закончиться ее затея. Если быстро подадут паровоз и немецкие офицеры вернутся в свой вагон, они тут же узнают об исчезновении группы солдат. Тогда, считай, конец! Поднимется тревога. Беглецам не уйти!
Лихорадочно обдумывая, что делать дальше, девушка беспомощно оглядывалась по сторонам, как бы ища выход из создавшегося положения. Неожиданно повернула в какой-то глухой переулок. Легионеры двинулись за ней.
— Вот что, ребята, — сказал она. — Теперь все будет зависеть от вас самих. Идите в Тютьковичи. Это сюда, — кивнула она в направлении села. — Пока не выйдете из города, нигде не останавливайтесь, не задерживайтесь. В Тютьковичах немцев нет, я знаю точно. Заходите в крайние хаты и ждите, старайтесь не попадаться на глаза фашистским прихвостням. Придет человек, скажет: «Я от Устины». Это и будет тот, кто вам нужен. До села недалеко. Лишь бы немцы не хватились, не организовали погоню...
— Ничего, девушка. Живы будем — не помрем! — ответил один из легионеров. — Теперь мы с оружием, в руки фашистам просто не дадимся. Может, еще и с тобой встретимся! Прощай! Передавай привет товарищам!
Сестру я увидел возле фабричных ворот. Ее лицо было бледным и заплаканным. Молнией мелькнула мысль: «Что-то случилось дома!» Но Устина, не дав мне вымолвить ни слова, быстро рассказала, в чем дело. Вместе с ней мы побежали на Скрайнюю улицу, в домик Чидаевых. Шкурко там уже не было. Бросились на квартиру к Николаю Поцелуеву. Встретили его возле дома: он куда-то собирался ехать на велосипеде. Я в нескольких словах объяснил, что произошло на вокзале. Надо помочь людям, иначе может случиться беда!
Солнце уже клонилось к закату, когда Николай Поцелуев выехал на своем стареньком велосипеде за город. Его раненая нога тупо ныла, но он изо всех сил жал на педали, одновременно прислушиваясь, не раздадутся ли впереди выстрелы. Однако вокруг было тихо: за легионерами, видимо, пока не гнались. Тишину городского предместья нарушал лишь скрип возвращавшихся с базара подвод.
Отъехав от городской окраины, Николай увидел впереди двух солдат в немецких мундирах с винтовками. Они стояли в стороне от дороги и с заметной тревогой посматривали на оставшийся позади город. Поравнявшись с солдатами, Поцелуев притормозил велосипед: чуть подальше, в придорожном кустарнике, он заметил расположившихся на привал смуглых парней, тоже в серо-зеленых мундирах и с винтовками.
«Они!» — решил политрук. Двое у дороги подозрительно поглядывали на него. Николай, держа на всякий случай руку с гранатой в кармане, спросил:
— Не в Тютьковичи ли идете, служивые?
— А ты, дорогой, кто такой? Почему спрашиваешь?
— Я от Устины!
— Вот хорошо! — обрадованно проговорил один из часовых. — Вот спасибо! — Обернувшись в сторону товарищей, отдыхавших в придорожных посадках, он крикнул: — Скорее сюда. Человек от Устины приехал!
Легионеры быстро построились в походную колонну.
— Все на месте? — спросил Поцелуев. — Разговоры потом. А сейчас слушай мою команду... Вперед! Шагом марш!
Уверенный командирский тон светловолосого мужчины с велосипедом сразу ободрил сникших было беглецов. Они быстро зашагали по дороге. Поцелуев решил вести их в направлении села Городок, на «маяк» к старому Иосифу Чибераку. Все больше удалялись от Ровно. Вырвавшись из-под надзора гитлеровцев, люди спешили навстречу своей новой, партизанской судьбе. Каждый понимал, что вывезенные фашистами в далекую Францию, на чужбину, они надолго, возможно, навсегда оказались бы оторванными от родной земли: опозоренные, изменившие своему отечеству, никому не нужные, растворились бы песчинками в водовороте войны. Теперь эти люди шли к своим, к партизанам, чтобы снова, как и до плена, с оружием в руках сражаться против немецко-фашистских оккупантов.
Впереди, на освещенной лучами заходящего солнца дороге, показался немецкий грузовик с солдатами. Легионеры приумолкли, не ломая строя, продолжали шагать дальше.
Было маловероятно, что ехавшие на машине гитлеровцы имели приказ перехватить беглецов. Грузовик мчался не из города, а в город. Значит, не погоня. И он наверняка проскочил бы мимо. Ведь ничего подозрительного не было. Группа солдат, одетых в немецкую военную форму, с немецким же вооружением, могла быть и усиленным патрулем, направлявшимся в село, и небольшим отрядом, посланным в помощь эсэсовцам или полицаям для прочесывания леса... Впрочем, трудно сказать, что могли подумать ехавшие навстречу группе недавних легионеров немцы, особенно сидевший в кабине грузовика унтер-офицер. За них решил Поцелуев. Человек огневого характера, он не мог упустить такой, даже не очень подходящий момент, чтобы не напасть на гитлеровцев.
Не останавливая группы, Николай приказал: как только до машины останется двадцать — тридцать шагов, быстро с обеих сторон дороги залечь в кюветы, приготовиться к открытию огня.
Грузовик был уже рядом. Солдаты с привычной военной четкостью расступились, попадали в кювет. Поцелуев, не теряя ни секунды, оттолкнул от себя велосипед, взмахнул рукой, бросил в кузов гранату и тут же прижался к земле. Раздался взрыв, а вслед за ним прогремели восемнадцать винтовочных выстрелов. Потом еще, еще... Грузовик завилял, сошел с дороги и, наклонившись набок, остановился. Отстреливаться оказалось некому. Лишь один гитлеровец успел бросить гранату с длинной ручкой. Она волчком завертелась на сухой земле. Невысокий, худощавый легионер схватил ее, замахнулся, чтобы швырнуть обратно, но в этот момент граната взорвалась. Обходя убитого товарища, остальные бросились к машине. Поцелуев — тоже. Быстро подобрали автоматы. Вокруг грузовика валялись трупы вражеских солдат. Из кабины слышались стоны смертельно раненного немецкого унтер-офицера.
«Если мотор не поврежден, можно будет продолжать путь на грузовике, быстрее и безопаснее», — подумал Поцелуев. Вытащив из кабины труп водителя, а вслед за ним и умиравшего унтер-офицера, Николай нажал на стартер. Мотор чихнул, но не завелся. Попробовал еще — опять то же самое. Тогда политрук извлек из-под сиденья заводную ручку, бросил ее одному из легионеров. Тот догадался без слов, что надо делать. Однако мотор по-прежнему не заводился.
Где-то поблизости дробно застучал пулемет «шмайсер». К месту происшествия со стороны Шпановского сахарного завода бежали немцы из взвода охраны, а также с десяток полицаев. Они явно стремились отрезать группе путь к лесу, спешили занять выгодную позицию у возвышенности, отделявшей дорогу от лесного массива.
Окончательно убедившись, что грузовик не завести, Поцелуев поджег его и повел свой небольшой отряд на врага. Легионеры продвигались к возвышенности короткими перебежками, будто на учении, попеременно прикрывали друг друга огнем из винтовок и только что захваченных автоматов. Поцелуев воочию убедился, что имеет дело со смелыми, видавшими виды ребятами.
И все же прорваться к лесному массиву оказалось нелегко. Немцы и полицаи не жалели патронов. Откуда-то с фланга, не переставая, бил невидимый «шмайсер». Бежавший рядом с Николаем круглолицый, приземистый юноша споткнулся, упал лицом вниз, скошенный свинцовой струей. Потом ранило еще двоих. Парень с темными усиками, раненный разрывной пулей в живот, приставил к своей груди немецкий автомат и нажал на спусковой крючок. Второго, раненного в голову, товарищи подхватили под руки и поволокли за собой, а он что-то кричал на родном языке, очевидно, просил, чтобы оставили его, не задерживались.
Наконец потеряв еще одного бойца, поредевшая группа Поцелуева достигла леса. Немцы и полицаи из Шпанова не решились преследовать ее дальше. Постреляв издали, они вернулись на завод.
С наступлением темноты легионеры на скорую руку вырыли штыками в лесу могилу. Первым положили в нее бойца, раненного в голову. Он умер. Затем сюда же принесли трупы еще троих.
На хутор Иосифа Чиберака Поцелуев привел свою «команду» во втором часу ночи.
2
Не зная, что происходит за городом, возле Шпановского завода, мы с Луцем старались выяснить у Устины как можно больше подробностей о побеге легионеров.
— Кто видел тебя на перроне? — спросил я сестру.
— Как, кто видел? Многие видели из вагонов...
Устина испуганно смотрела на меня, чувствуя, что за этим вопросом кроется что-то угрожающее, но еще не понимая, почему я и Луць так встревожены.
— Им известно, что ты из Гощи? — продолжал я спрашивать сестру.
Сестра утвердительно кивнула.
— Не удивляйся, Устина, что мы до всего допытываемся, — вмешался в разговор Иван Иванович. — Тут такое дело. Тебя видели легионеры, которые остались в вагонах. Видели они и то, что после твоего появления группа их земляков ушла со станции. Хорошо, если эшелон сейчас уже в пути, и немцы офицеры перед его отходом не успели ничего узнать о побеге. Это — лучший, но маловероятный вариант. Мы не гарантированы и от худшего. Может, гестаповцы уже начали розыск? Им ведь нетрудно узнать, что беглецам помогла девушка из Гощи. Возможно, кто-нибудь из оставшихся в вагонах легионеров назвал даже твое имя. Этого будет достаточно, все остальное они быстро разнюхают сами. Копнут дальше — и до Терентия доберутся. Тем более что он уже, наверно, взят на заметку после выхода из тюрьмы. Так веревочка и потянется. Понимаешь, в чем дело?
— Понимаю, — едва слышно проговорила Устина. — Ой какая я дуреха, какая дуреха... Что ж теперь делать?
— Пока запомни одно: ты приезжала на вокзал провожать своего знакомого легионера, ну жениха, что ли, — по-прежнему строго сказал я. — Об остальном мы подумаем.
Некоторые предупредительные меры предприняли в тот же вечер. Вынесли с территории фабрики нашу «типографию». Переправили на одну из конспиративных квартир радиоприемник, газеты и листовки. Сожгли обработанные кислотой валенки, убрали с чердака, где орудовал Иван Талан, бутылки с едкой жидкостью. Оставалось еще решить: появляться мне завтра на фабрике или с сегодняшнего же вечера перейти на нелегальное положение? Иван Иванович категорически настаивал, чтобы я больше не возвращался в директорский кабинет. Сошлись на том, что до прояснения обстановки я на несколько дней скажусь «больным». Устину отправили в Гощу. Она должна была предупредить об опасности всех подпольщиков, с которыми поддерживала непосредственную связь.
Ночь прошла в тревоге. Я провел ее у шофера Васи Конарева. Клетушка, которую он занимал, была когда-то хлебным ларьком. Конарев приспособил ее под жилье, под свою «дачу», как он говорил. Сбитая из теса, с одним маленьким окошечком, халупа своей лицевой стороной выходила на улицу Первого мая. Она заросла вокруг бурьяном и почти всегда была заперта на замок. Вася Конарев, как шофер, часто надолго уезжал из города вместе со своим шефом, имевшим какое-то отношение к добыче угля, но ключ от «дачи» всегда лежал под кирпичом у порога. Впрочем, он мог оставлять «дачу» и открытой, поскольку, кроме ржавой койки и обшарпанного старинного кресла, в ней ничего не было.
Спал я плохо. Все время беспокоила какая-то тревожная мысль. Теперь, проснувшись, я продолжал напряженно думать о том, что же меня так взволновало, помимо вчерашнего случая с легионерами. И вдруг вспомнил: на фабрике, в директорском кабинете, в ящике стола остался незаполненный бланк немецкого аусвайса, один из тех, которыми теперь постоянно снабжали нас гощанские подпольщики. На аусвайсе была наклеена фотокарточка Николая Поцелуева. В спешке я забыл передать этот документ Федору Шкурко для заполнения. Если гитлеровцы придут на фабрику с обыском, они непременно обнаружат бланк аусвайса и фотография политрука попадет в гестапо. Немедленно будет объявлен розыск Поцелуева.
Поспешно одевшись, я побежал на Хмельную улицу. Еще издали увидел, фабричные ворота чистые. Со сторожем Михалом у меня была договоренность: если во время моего отсутствия на предприятии что-либо случится и заходить туда станет опасно, он сделает на воротах несколько мазков желтой краской.
На фабрику спешили рабочие; скоро должен был начаться трудовой день. Я сразу прошел в директорский кабинет. Через минуту злосчастный бланк аусвайса был у меня в руках. Я тут же сжег его, а пепел выбросил за окно.
Скрипнула дверь. На пороге стоял Луць, смотрел на меня с гневом и упреком.
— Какого черта? — громким шепотом проговорил он. — Ты что, ребенок? Или жить тебе надоело? Чего тебя сюда принесло?
— Сейчас, сейчас ухожу, Иван. Не ругайся, нужно было. Может, и тебе, Иван, не следует тут оставаться?
— Мне? Почему? Не вижу для этого никаких причин. В случае чего за поступки пана директора я не несу ответственности. Я — главный бухгалтер, служащий, которого принял на фабрику еще бывший ее шеф пан Косач. Только и всего. С паном Новаком у меня были лишь служебные отношения. Чем он занимался, кроме своего директорства, меня это не касается... Ну а сам ты вот что: закрывай кабинет и уходи. Вечером встретимся.
Я окинул взглядом кабинет. Теперь меня здесь ничто больше не удерживало, можно было уходить. Посмотрел на часы — без четверти девять. За окном сквозь пелену не развеявшегося еще над лугом утреннего тумана вдали виднелось здание, где размещался рейхскомиссариат. Почему-то подумалось: «Там ли сейчас гаулейтер или в отъезде?»
Дверь кабинета, чуть скрипнув, открылась опять. На пороге появился пан Смияк, холуй шефа промышленного отдела гебитскомиссариата Бота. Он был чем-то взволнован, вошел не постучавшись, забыл даже поздороваться. Увидев его, я зло выругался про себя. Из-за этого националиста, возможно, придется задержаться на фабрике, что никак не входило в тот момент в мои планы.
Опережая Смияка, не дав ему заговорить первым, я развел руками:
— Мне очень жаль, пан Смияк, но вынужден оставить вас на пана Луця. Срочно нужно быть в городе по очень важному личному делу. Прошу извинить...
— Какие могут быть сейчас личные дела, господь с вами? — взмолился Смияк, драматически воздев руки к потолку. — Скажите спасибо, что я успел застать вас. С минуты на минуту сюда, к вам на фабрику, приедет сам гебитскомиссар. Слышите? Будет осматривать предприятие. Господин Бот приказал мне предупредить вас, чтобы все было наготове, все блестело. Пан Луць! Что вы стоите? — повернулся он к Ивану Ивановичу. — Бегите в цеха, чтоб там был полный порядок. А вы, пан Новак, даже не побрились сегодня. Ай как нехорошо, как непохоже на вас. В такой день, и вы не побрились. Ну а на фабрике все в норме? Не подведете? — Смияк нервничал, суетился, часто выглядывал в окно. Луць, продолжая стоять возле двери, с едва скрываемым волнением мял свою черную шляпу. Мне тоже было не по себе. Однако ничего не поделаешь: время упущено, придется смириться с этой непредвиденной задержкой.
После того как Луць отверг предложение Смияка втихую сбывать валенки, помощник и переводчик Бота относился к нам с Иваном Ивановичем строго официально, всем своим видом показывал, что не намерен быть запанибрата. Однако на его отношение к нам мне было ровным счетом наплевать. Я ругал себя лишь за то, что не покинул фабрику на несколько минут раньше, и проклинал Вернера Беера, которому именно теперь вздумалось «осчастливить» нас своим визитом.
Ждать его приезда пришлось недолго. Под директорским столом тревожно и предостерегающе звякнул электрический звонок: это сторож Михал, заметив приближавшихся сановных гостей, подал мне сигнал тревоги.
— Что такое? — вздрогнул от неожиданности Смияк.
— Ничего особенного. Меня просят зайти в цех, — сказал я и тут же услышал резкий звук автомобильной сирены на фабричном дворе.
Смияк вскочил, суетливо одернул свой элегантный пиджак.
— Это машина господина гебитскомиссара. Идемте быстрее, пан Новак! — дрожащим голосом проговорил он.
Вернер Беер стоял возле «оппель-адмирала» серо-стального цвета, слушал Бота, который что-то говорил ему, показывая рукой в глубину фабричного двора, где зеленели молодые яблоньки и груши. В прошлом году, когда проводились посадки, кое-кто из рабочих бросал на меня презрительные взгляды: старается, мол, директор, даже сад для немцев разводит. Как мне хотелось сказать им тогда: «Вы не правы, друзья! Вовсе не для немцев расцветет наш сад. Немцам не век тут хозяйничать. Настанет время, когда и следа их не останется. А сад будет цвести. Может глядя на эти яблони и груши, вспомнят тогда люди и о нас, помянут нас добрым словом. Обязательно помянут».
Два солдата, охрана гебитскомиссара, молча стояли с автоматами у ворот, парясь на солнцепеке в своих суконных мундирах. Доктор Беер на этот раз тоже был в военном, в форме оберштурмбаннфюрера СС. Черный как жук, с круглым, очень подвижным лицом, он энергично прохаживался по фабричному двору, с интересом заглядывал во все уголки, забрасывал меня множеством вопросов. Потом ходил по цехам, стреляя вокруг темными глазами. Тут же спрашивал, сколько обуви изготовила фабрика из полученного в прошлом году сырья. Обращаясь к рабочим, интересовался, не вредит ли их работа здоровью. Говорил спокойно, все время улыбался. Сочувственно качал головой, глядя на двух женщин, переставлявших с одного места на другое тяжелый бак с водой.
Тот, кто не знал оберштурмбаннфюрера Беера несколько ближе, наверное, ни за что не поверил бы, что этот невысокий, смуглый, галантный немец с манерами интеллигентного человека всего несколько дней назад собственноручно расстреливал за железнодорожным полотном советских военнопленных, добивал из пистолета раненых. Кто не знал доктора Беера и впервые слышал его невозмутимо спокойный, добродушный голос, видел его приветливую улыбку, мог подумать, что он представляет собой приятное исключение в среде эсэсовских бандитов и убийц. Глядя на него, трудно было даже представить, что Бееру доставляло громадное наслаждение посещать городскую тюрьму, где он с каким-то сатанинским вожделением полосовал плеткой заключенных. Вернер Беер был поистине двуликим чудовищем из страшной сказки: на людях, при дневном свете, напяливал на себя маску добропорядочной пристойности, а ночью, в темноте, упивался человеческой кровью.
Усаживаясь после осмотра фабрики в машину, он сказал мне:
— Фабрика должна работать, как хороший часовой механизм. Я видел в цехах несколько престарелых рабочих. Это не годится. Надо заменить их молодыми. Я видел, что во время работы некоторые разговаривают между собой, мужчины курят в цехах. Это непорядок. На первый раз делаю вам замечание. Если что-либо подобное повторится, все будут лишены продовольственного пайка. Так и передайте рабочим.
Переводя эти слова гебитскомиссара, Смияк терся возле «оппель-адмирала», надеясь, что господин Беер удостоит его чести, разрешит сесть в машину. Однако оберштурмбаннфюрер даже не глянул на переводчика, словно его и не было.
Сигналя, шофер осторожно вывел машину с Беером, Ботом и солдатами охраны за ворота, предупредительно открытые Михалом. Там «оппель-адмирал» развернулся и, набирая скорость, понесся в сторону гебитскомиссариата. Я облегченно вздохнул, опять посмотрел на часы: Беер и его свита пробыли на фабрике ровно сорок минут. Теперь надо побыстрее отделаться от Смияка. А он, как назло, не отставал от меня ни на шаг, давал различные указания. Видно, ему очень хотелось побыть в роли начальства: с ним, Смияком, дескать, шутки плохи, он — представитель промотдела, чуть ли не правая рука господина Бота. Волей-неволей пришлось вернуться в кабинет. Смияк уселся на диване и, казалось, не собирался оставлять меня в покое.
— Вы должны понять, пан Новак, что немцы придают сейчас особое значение нашей местной промышленности, — разглагольствовал он. — Фабрика валенок — одно из наиболее заметных предприятий в системе центральбюро. Ваша продукция...
— Наша продукция, — прервал я Смияка, — нужна зимой. Если доктор Беер уделяет ей столь большое внимание, то, очевидно, немецкая армия собирается продолжать войну в морозы и в этом году. Или, может, я ошибаюсь?
— Возможно, все возможно, пан Новак. Война действительно затянулась. Однако силы большевиков иссякают с каждым днем. Полагаю, предстоящая зима будет решающей. Не верю, чтобы наступление принесло русским какие-либо преимущества. Конечно, временных успехов они достигнут. Но это же агония, сопротивление обреченных!..
— Извините меня за неосведомленность, пан Смияк. Я не очень разбираюсь в военных делах. Но вы говорите, русские ведут наступление. Значит, это не большевистская пропаганда?
Смияк замялся, хотел что-то сказать еще, но в этот момент за дверью послышался тяжелый топот сапог. Помощник Бота быстро повернул голову в сторону двери. Моя ладонь легла на рукоятку пистолета в кармане. И все же за тот короткий миг, пока не открылась дверь, я успел подумать: «Если немцы пришли за мной, если в приемной гестаповцы, почему же Михал не подал сигнала?» Хотя я все время ждал появления гестаповцев, но еще не верил, что они уже за дверью.
И все же это были гестаповцы. Их было трое: офицер с хорошо знакомым мне ромбиком СД на рукаве и два солдата в черных мундирах с автоматами. Первой в проеме двери появилась фигура офицера. Увидев меня и Смияка, он отпрянул было назад, но затем быстро перешагнул через порог. Его спутники замерли у двери словно монументы, заученным движением положив руки на автоматы. Почему-то я прежде всего обратил внимание не на лица, а на руки вошедших: на пальцы двоих у двери, резко выделявшиеся на матово-синем металле, на руки офицера, в которых он держал пучок ромашек, вероятно только что сорванных на лугу, подступавшем к самой фабрике.
Смияк с независимым видом продолжал сидеть на диване, курил сигарету. Я стоял чуть в стороне, возле стола. Самоуверенная поза Смияка, его дорогой костюм, а также мое небритое в тот день лицо, вероятно, ввели немецкого офицера в заблуждение. Он подошел к Смияку, наклонился и грубо ткнул ему в лицо букетик ромашек:
— Ты есть шеф фабрика? Штеен ауф, вонучий свинский морда! Мы есть гестапо.
Ошарашенный столь внезапным и бесцеремонным обращением, помощник Бота с перепугу онемел, не смог произнести ни слова. Его губы беззвучно шевелились. Вытаращенные на немца глаза наполнились ужасом.
— Я... я... господин офицер... — забормотал он.
— Герр гауптман, — быстро подошел я к офицеру. — Вы ошиблись. Вам нужен директор фабрики? Будьте любезны, пойдемте со мной, я покажу вам его кабинет. Тут рядом.
Офицер нахмурился, удивленно пошевелил белесыми бровями, кивнул в сторону Смияка:
— Он не есть Ньо-вак? Кто он есть?
— Служащий гебитскомиссариата. Пойдемте, пожалуйста, герр гауптман. Я покажу вам, где директор.
Офицер приложил два пальца к козырьку фуражки, молча вышел за дверь. За ним, будто тени, выскользнули автоматчики в черных мундирах. Выходя последним, я мельком взглянул на Смияка. В кармане у меня был пистолет, я мог в любой момент выхватить его и стрелять немцам в спину: сначала автоматчикам, потом офицеру. Но я находился на территории предприятия, где работали десятки людей. Если убить гестаповцев, фашисты будут мстить нашим людям, многих расстреляют, повесят. Нет, это слишком дорогая цена за трех оккупантов!.. Идя по коридору, уже впереди немцев, я лихорадочно думал о Смияке: «Если он быстро опомнится от испуга, подаст голос, тогда конец!» Но он так и остался сидеть на диване, точно окаменев от неожиданности и страха. Видимо, до его сознания еще не дошло, что же происходит на самом деле.
Проводив немцев по коридору к выходу, я показал офицеру на соседний трехэтажный дом, вплотную примыкавший к территории фабрики и имевший выход на ее двор.
— Там кабинет шефа предприятия, герр гауптман. На втором этаже.
Дом, на который я указал гестаповцам, казался с фасада вполне приличным, даже довольно внушительным по тем временам для Ровно и вполне мог сойти за помещение дирекции фабрики. Внутри же его какие-то предприимчивые дельцы изготовляли из сахарной свеклы вонючий мармелад.
Офицер снова приложил два пальца к фуражке, сказал что-то автоматчикам, затем они все трое быстро зашагали к нашим соседям-мармеладчикам. Капитан на ходу с торопливой деловитостью вынимал из кобуры парабеллум.
Несколько рабочих, безмолвно наблюдавших эту сцену, вероятно, кое-что смекнули, но делали вид, что их совершенно не интересует происходящее. Луць из глубины двора подавал мне какие-то знаки, кивая на проходную. Я бросился за ворота. Там стоял сторож Михал, держа наготове велосипед.
— Уезжайте быстрее, пан директор, — сказал он.. — Плюньте мне, старому дурню, в глаза... Не успел предупредить. Только по нужде за забор побежал, а они — как из-под земли...
Не слушая оправданий нашего добряка Михала, я вскочил на велосипед и помчался от фабрики валенок, чтобы больше туда не возвращаться. С этого момента я переходил на нелегальное положение.
3
К лету сорок третьего года Ровно уже порядком утратил тот искусственно-приглаженный вид, который оккупанты пытались придать израненному войной городу, сгоняя на расчистку развалин местных жителей и используя для той же цели команды советских военнопленных из лагеря. Изменился, скорее, даже не внешний вид города: его зеленый наряд и видневшиеся повсюду разрушения оставались прежними. Потускнели сами завоеватели-оккупанты. Немецкие офицеры и солдаты, чиновники различных ведомств и учреждений, гестаповцы и жандармы, а вместе с ними и их прихвостни — полицаи, фольксдейче, предатели — день ото дня становились все более хмурыми и озабоченными. Нет, они вовсе не подобрели, напротив, зверствовали с еще большим остервенением, чем год или полгода назад, но теперь стремились тщательнее заметать следы своих преступлений. Иные, посообразительнее, начинали даже заигрывать с ровенчанами.
Хотя фронт находился еще далеко от Ровно (жестокие бои шли где-то в районе Орла и у Азовского моря); хотя немецко-фашистские армии после разгрома под Сталинградом все еще пыжились удержаться; хотя геббельсовские трубадуры дни и ночи верещали по радио, писали в газетах о начале нового грандиозного наступления групп армий «Центр» и «Юг»; хотя они предрекали неминуемую гибель большевистским дивизиям на Курском выступе, — тем не менее в глубоком тылу гитлеровских войск с каждым днем все ощутимее чувствовалось — это бравада. Даже по нацистским газетам и геббельсовским радиопередачам при более внимательном их анализе уже нетрудно было сделать вывод, что гигантская битва, достигшая своего апогея на берегах Волги, вступила в новую фазу, в фазу начала краха военной машины третьего рейха.
Если в июле и первой половине августа 1943 года гитлеровцы еще хорохорились, разглагольствовали в газетах и по радио о «массированных ударах», якобы наносимых «доблестными армиями фюрера» по «истекающим кровью советским войскам» на курском направлении, то начиная со второй половины августа «победные» реляции стали звучать все реже, а затем совершенно прекратились. Из принимаемых по радио сводок Советского информбюро мы ежедневно узнавали о сотнях уничтоженных вражеских танков и самолетов, о тысячах убитых немецких солдат и офицеров, о сокрушительном разгроме бронированных фашистских армад на Курской дуге, об освобождении Орла, Белгорода и множества других крупных населенных пунктов, о том, что Красная Армия продолжает громить врага, отбрасывая его все дальше на запад.
Оккупанты, разумеется, были осведомлены обо всем этом не хуже нас. И далекий западноукраинский город, превращенный фашистами в один из важнейших центров оккупационного режима на Украине, под влиянием событий на фронте постепенно менял свой облик. Если прежде в нем размещался преимущественно карательно-полицейский аппарат, являвшийся органической принадлежностью, обязательным придатком оккупационных учреждений, то теперь, когда военные действия велись уже на территории Украины, в Ровно стали расти, как грибы, всевозможные военные представительства, тыловые штабы. Город все больше заполнялся офицерами различных служб гитлеровской армии, зримыми и незримыми нитями связывавших между собой две взаимодействующие силы нацистской тоталитарной системы: военно-милитаристскую и оккупационно-грабительскую. Вместе с тем Ровно, куда сходились концы и потрепанные обрывки всевозможных буржуазно-националистических центров, становился основным пристанищем многих псевдоукраинских деятелей оуновской закваски.
Когда на улицах города загремели выстрелы и ровенчане заговорили о неуловимом партизане Грачеве[11], который (это видно было по результатам) ставил своей целью уничтожение высокопоставленных фашистских бонз, мы сначала не имели понятия, кто действовал под этой фамилией. Но, теряясь в догадках относительно личности таинственного мстителя, восхищаясь его отчаянно-смелыми действиями, члены подпольного Центра да и многие рядовые подпольщики понимали, что это не просто акты справедливой мести ненавистным палачам и насильникам. Пистолетные выстрелы неизвестного героя, первой жертвой которых стал имперский советник финансов генерал Гель, были сделаны не только во имя расплаты и мщения. Мы понимали, что тут дело гораздо глубже. Уничтожение военных, политических и экономических фюреров из окружения гаулейтера Эриха Коха, державших в своих руках отнюдь не второстепенные рычаги нацистского механизма на оккупированной территории, имело целью (в этом мы не сомневались) расшатать кровавый механизм, вывести из строя главные его узлы. Эта игра, как говорится, стоила свеч.
Прошло немного времени после уничтожения генерала Геля, и полковник Медведев предложил подпольному Центру общими усилиями, совместно с партизанами его отряда, готовить покушение на самого гаулейтера Эриха Коха. Члены подпольной организации немедленно приступили к делу. Особенно обрадовало это задание Федора Шкурко. Он удовлетворенно потирал руки: наконец-то пришло время готовить операцию, о которой он много размышлял, ради которой давно собирал, систематизировал, накапливал различные сведения, касавшиеся личности гаулейтера.
Прежде всего следовало обдумать, где удобнее напасть на фашистского ставленника, где подкараулить его. Проникнуть в апартаменты его резиденции или встретить Коха во время прогулки в городе, казалось делом невозможным.
— Он, гад, когда находится в городе, почти не высовывает носа из рейхскомиссариата, — говорил Шкурко, водя карандашом по старой, изрядно потрепанной карте города Ровно, составленной еще польскими картографами и добытой где-то нашим «архивариусом» Николаем Самойловым. — Ну а в здание рейхскомиссариата не пробьешься: кругом эсэсовцы, овчарки, вдоль забора несколько рядов колючей проволоки. Что же остается? Во-первых, подъезд рейхскомиссариата...
— Тоже нереально, — прервал рассуждения Федора Николай Поцелуев. — Чтобы выследить Коха, нашим людям придется не одни сутки, может, и не одну неделю наблюдать за подъездом. А охрана там сам знаешь какая: один-два раза пройдешь мимо, на третий получишь пулю. Можно, конечно, устроить засаду, разместить небольшую боевую группу где-нибудь поблизости. Но тоже все сложно. Пока наши, приметив Коха, кинутся к его машине, охрана успеет всех перестрелять, а гаулейтер сядет в свой бронированный «хорх» и уедет.
— Пожалуй, верно, — согласился Шкурко. — И все же боевой пост напротив рейхскомиссариата, вот тут, — Шкурко указал кончиком карандаша место на карте, — установим как резерв. Дальше мы имеем такую картину. Допустим, Кох направляется на аэродром, что в районе села Тынное. Его личный шофер Гранау, следуя своей привычке, как всегда, выйдет в тот день из квартиры с чемоданчиком. Мы заминируем шоссе на выезде из города по пути к аэродрому. Тогда возникает вопрос: успеет ли наш товарищ, прежде чем к тому месту подъедет «хорх» гаулейтера, предупредить дежурных подрывников?
— А зачем предупреждать подрывников? — спросил я. — Машина, на которой ездит Кох, хорошо всем известна. Подрывники сами увидят ее, к тому же она проследует, как всегда, с эскортом. Хотя гаулейтер и осторожничает, но на грузовике или на каком-нибудь там БМВ он не поедет — чин не позволяет.
— Ну что ж, будем считать этот пункт заслуживающим внимания. — Шкурко поставил на карте чуть заметный крестик. — Теперь еще один вариант. Кох едет в специальном вагоне по железной дороге. Полотно заминировать нетрудно. Ждать возле полотна сложнее: подрывников могут заметить.
— Подрывникам вовсе нет необходимости сидеть у железнодорожного полотна и ждать подхода поезда, — вставил Поцелуев. — От станции поезд проходит почти через весь город. На этом отрезке пути и можно установить мину.
— Николай Михайлович прав, — поддержал я Поцелуева. — Хорошо бы заложить у фабрики валенок мину с электровзрывателем. Провод можно подвести к рубильнику в фабричной проходной, где постоянно находится сторож Михал.
На карте появился новый крестик.
Поскольку теперь мне не нужно было ежедневно спешить на фабрику, я имел возможность вплотную заняться разработкой плана покушения на гаулейтера, вместе с Федором Шкурко побывать непосредственно в тех местах, где предполагалось установить «сюрпризы» для имперского комиссара. Минирование железнодорожного полотна, тянувшегося через луг по низине и проходившего неподалеку от фабрики валенок, не представляло большой сложности. Нашли мы подходящее место и на шоссе, связывавшем город с аэродромом: решили заложить взрывчатку в проложенную под дорогой бетонированную трубу для водостока. Солидный заряд мог поднять на воздух не только машину, но и несколько метров шоссе.
Вскоре Федор Шкурко сообщил, что шоссе заминировано и возле трубы для водостока, сменяя друг друга, постоянно дежурят подрывники во главе с Артемом Зацаринным. Установили наши товарищи мину и на железнодорожном полотне. Сдвоенный провод-шнур был протянут от нее в проходную фабрики, где по-прежнему бессменным дежурным оставался Михал. Теперь бронепоезд, в одном из вагонов-коробок которого, по сведениям Шкурко, прежде несколько раз выезжал из города Эрих Кох, можно было взорвать в любой момент: достаточно соединить концы провода — и доставленная из партизанского отряда электромина сделает свое дело. Все зависело лишь от того, когда имперский комиссар вздумает выехать из города и какой вид транспорта изберет для своего очередного вояжа.
Тем временем другая группа подпольщиков, возглавляемая Михаилом Анохиным, готовила еще одну диверсионную операцию — поджог фабрики чурок.
Для вывода из строя этой, казалось бы, ничем не приметной фабрики у нас имелись веские причины. Мне и другим подпольщикам приходилось нередко видеть на улице Коцюбинского, где находилась фабрика, огромные вереницы газогенераторных машин, ожидавших очереди на получение горючего. Экономя бензин для фронта, гитлеровцы перевозили большую часть грузов в тылу на газогенераторных автомобилях. Фабрика чурок служила для них своего рода заправочной станцией. Аккуратно напиленные из определенных сортов дерева, связанные в небольшие пачки, чурки использовались не только на месте, в пределах Ровенской области, но и грузились в вагоны для отправки в другие временно оккупированные области Украины, а возможно, и в Германию. Насколько большое значение немцы придавали этой фабричонке, видно было хотя бы из того, что ее продукцией распоряжалось не интендантство, а военно-инженерное управление вермахта. Охраняли предприятие шестеро немецких солдат и унтер-офицер. Если говорить откровенно, охраняли плохо: часовой не всегда находился даже у фабричных ворот. Зато в караулке можно было постоянно слышать пьяный смех, песни, звуки губной гармоники, а то и женский визг: солдат частенько посещали кригсфрейлейн (молодые немецкие телефонистки из расположенного неподалеку узла связи).
Михаил Анохин и его четыре друга, вооруженные гранатами и пистолетами, прихватив канистру бензина, подобрались к фабрике ночью со стороны улицы Боженко. Время было позднее, не ожидавший никаких неприятностей часовой, прохаживаясь возле ворот, беспечно насвистывал веселую мелодию. Жора Татаринов справился с ним быстро и без шума.
Немцы охранники, находившиеся в караулке, оказались застигнутыми врасплох, не сразу даже сообразили, что стряслось. Поднятые в одном белье с постелей, они тупо смотрели на вооруженных подпольщиков. Увидев Татаринова, который все еще держал в руке эсэсовский кинжал, пронзительно завизжали две растрепанные кригсфрейлейн.
— Цыц, стервы! — гаркнул на них Анохин, и телефонистки смолкли, кутаясь в шинели.
Территория фабрики почти сплошь была завалена сухой древесиной. Десятки тонн чурок, уложенных в многометровые штабеля, заполняли весь двор. Анохин облил бензином сложенные в распилочном цехе доски, опилки, стены, а оставшееся горючее выплеснул на штабеля.
Фабрика вспыхнула как спичка. Огромное пламя, поднявшись вверх, осветило спящий город. Где-то в центре прогремели выстрелы патрулей, тревожно загудели сирены пожарных машин. Но к моменту прибытия пожарников все было охвачено пламенем, а еще через час на месте бывшей фабрики чернели лишь раздуваемые ветром, светившиеся огнем кучи пепла.
Подпольщики во главе с Михаилом Анохиным, прихватив с собой автоматы и винтовки охранников, благополучно выбрались за город и к рассвету прибыли на «маяк» к Иосифу Чибераку. Там они оставили захваченное оружие, а с наступлением темноты возвратились в Ровно.
Рассказывая мне и Поцелуеву об успешно проведенной операции, Анохин возбужденно размахивал руками, строил планы новых диверсий.
— Чурки — ерунда, — говорил он. — Достаточно оказалось одной спички — и от фабрики остались обгорелые головешки. Вот чугунно-литейный завод или «Металлист» — иное дело!..
— А ты разве и на «Металлисте» побывал? — улыбаясь, спросил Поцелуев. — Там я что-то не заметил пожара.
— Не был я ни на «Металлисте», ни на чугунно-литейном, — отрезал Анохин. — И смеяться нечего. Я о чем говорю? Надо все сжечь к чертовой матери, чтобы от немецких фабрик и мастерских в городе не осталось следа. Вот я о чем...
Было видно, что удача на фабрике чурок до предела взбудоражила Анохина: он готов был жечь, крушить все подряд. Пришлось разъяснить подпольщику, что уничтожение всех промышленных предприятий в городе — бессмыслица. Правда, пока и литейный завод, и «Металлист», и другие предприятия работают на немцев, на оккупантов. Но Красная Армия наступает. Уже недалеко время, когда она будет в Ровно. Зачем же крушить все подряд? Потом-то самим придется восстанавливать разрушенное! Наша задача иного плана. Во время бегства фашистов из Ровно надо постараться сохранить оставшиеся предприятия, не дать немцам уничтожить их. Задача эта не менее сложная и ответственная, чем диверсии, и к ее выполнению тоже необходимо тщательно готовиться.
4
Выпустив меня буквально из рук, гестаповский офицер (об этом потом рассказывали товарищи) быстро сообразил, что его провели. В доме мармеладчиков гитлеровцы пробыли всего несколько минут, потом, как разъяренные псы, бросились назад, в бывший мой директорский кабинет. Однако там уже никого не было. Успел удрать и пан Смияк, вероятно сообразивший, что новая встреча с гестаповцами не сулит ему ничего хорошего; допросов, а может, и ареста ему не избежать, и, кто знает, чем все кончится!
Гитлеровцы произвели в кабинете тщательный обыск: взломали сейф, перерыли все бумаги. Ничего заслуживающего внимания, однако, не обнаружили. Затем покопались в ящиках стола и бухгалтерских книгах Луця, побывали в подвале, на чердаке, в цехах. И опять ни листово-к, ни советских газет, ни шрифта, ни типографской машины — никаких компрометирующих документов или предметов! По всей вероятности, ниточка, протянувшаяся ко мне через сестру Устину после побега легионеров, была единственной уликой. О том, что фабрика валенок долгое время являлась штабом городской подпольной организации, в ведомстве майора Йоргенса не догадывались.
Но так или иначе, моему директорству, а значит, и легальному пребыванию в Ровно пришел конец. Я, как Терентий Новак, уже не существовал: Федор Шкурко изготовил для меня документы на чужое имя. Ежедневно приходилось менять квартиры, перекочевывать с одной явки на другую; их к тому времени у нас имелось около двадцати в различных концах Ровно. На улицах старался появляться как можно реже, да и то лишь по вечерам: в городе меня многие знали, в любой момент можно было встретиться с каким-нибудь предателем, оуновцем, шефом предприятия или сотрудником промотдела гебитскомиссариата. Помимо хозяев давних конспиративных квартир, существовавших уже год-полтора, мне охотно давали приют молодые подпольщики. На улице Ожешко, в доме 58, меня радушно встречал Виктор Васильевич Жук, мужчина лет тридцати пяти на вид, работавший в каком-то оккупационном учреждении и одновременно принимавший активное участие в подпольной деятельности; на улице Коперника, в доме 28, я находил убежище в квартире Любови Комаровской, жены польского скульптора и архитектора; на улице Кирова, в доме 45, передо мной всегда гостеприимно открывала дверь своей комнаты молодая подпольщица Раиса Митченко; от Лизы Гельфонд, жены командира Красной Армии, занимавшей с детьми небольшую квартирку на улице Димитрова, в доме 54, я перебирался в дом 10 по Ростовскому переулку, где жила подпольщица Елена Дмитриева-Васильева, оттуда — на Тетовую улицу, в дом 17, к Полине Калининой или на улицу Первого мая, тоже в дом 17, к Татьяне Крыловой. Не раз доводилось ночевать в больнице пригородного села Тютьковичи, где работал подпольщик Василий Убийко, у преподавателя нашего института Евтихия Назаренко, на Литовской улице, в доме 3, у Люси Милашевской или у проживавшей неподалеку учительницы с Житомирщины Галины Гниденко, которую война забросила в Ровно и наделила не по годам суровой сосредоточенностью...
Разные это люди и по возрасту, и по характеру. Галина Гниденко, например, была прямой противоположностью Люси Милашевской, веселой, непоседливой, острой на язык дочери бывшего управляющего помещичьим имением близ Гощи. Лиза Гельфонд и Вера Макарова, первая с тремя, вторая с двумя малышами, были женщинами смелыми, отчаянными, никогда не унывавшими, хотя жилось им очень трудно. Молодые хозяйки подпольных явок, как небо от земли, отличались от внешне робкой старушки Александры Венедиктовны Чидаевой или от осторожной и сообразительной тринадцатилетней девчушки Вали Подкаура. Их было много, наших сестер и братьев, матерей и бабушек, таких разных по годам, по взглядам на жизнь, но одинаково ненавидевших фашистских захватчиков и ради борьбы с ними готовых на любые жертвы. Простые и скромные наши помощники и помощницы подвергали себя огромной опасности и не раз сами оказывались на краю гибели. Протягивая в тяжелую минуту руки мне и моим друзьям, вынужденным жить в городе на нелегальном положении, они как бы прикрывали нас собой от врага, и мы, кому выпала доля остаться в живых, до конца дней своих будем низко склонять головы перед их негромким и порой незаметным мужеством.
Однажды во время очередной массовой облавы в городе мне пришлось, словно затравленному, метаться из стороны в сторону в поисках выхода. Спрятаться в городе не было возможности. Незадолго до того у меня в руках взорвался запал противотанковой гранаты, поранило ладони, обожгло лицо. Попадись я в таком виде на глаза гестаповцам или жандармам — не миновать беды. Стискивая от боли зубы, я все же сумел выбраться проходными дворами и глухими переулками в пригород, в район села Дворец. Постучал в окно первой же хаты небольшого хуторка. Дверь открыл незнакомый мужчина. В хате вместе с ним были его жена и четырехлетняя дочка. Я не мог сказать им правду о себе и назвался советским парашютистом, отбившимся от своей группы. Ни хозяин хаты, ни его жена не стали ни о чем расспрашивать. Помогли мне вымыть обожженные руки и лицо, сделали перевязку, накормили, оставили у себя на ночь. Утром хозяин сам вызвался сходить в город, узнать, закончилась ли облава, сняли ли немцы заставы на улицах. Незнакомый человек сделал все возможное, подвергая себя и свою семью смертельной опасности, чтобы помочь «советскому парашютисту» и тем самым внести свой скромный вклад в борьбу с оккупантами. Уже прощаясь с этой гостеприимной семьей, я случайно прочитал на прибитой к стене хаты дощечке: «Осип Григорьевич Пилипчук». Не будь этой дощечки с надписью, я, возможно, до сих пор и не знал бы фамилии своего спасителя, человека, возможно, не из самого боевого десятка, но, несомненно, подлинного советского патриота.
Моя нелегальная жизнь мало чем отличалась от той, что была знакома мне с юных лет, со времен пилсудчины. Блуждание по явочным квартирам не являлось для меня чем-то новым, к чему требовалось привыкать. И все же жить нелегально в оккупированном немцами городе было намного труднее и опаснее, чем во времена пилсудчиков. А может, мне просто так казалось, потому что я стал старше и ушла в прошлое присущая юности самонадеянность. Но как бы там ни было, одно оставалось бесспорным: требовалось во всем соблюдать исключительную осторожность, прежде всего избегать опасных встреч. Если еще недавно, будучи директором фабрики валенок, я все время думал, не поставили ли гитлеровцы где-либо капкан, то теперь тревожило другое. Слух о том, что директор фабрики оказался не то партизаном, не то советским разведчиком, распространился по городу молниеносно. Любой фашистский прихлебатель, опознав меня, непременно поспешит позвать жандарма или полицая. Я постоянно носил в карманах две-три гранаты и заряженный трофейный пистолет.
Как-то мне потребовалось побывать на явочной квартире подпольщицы Татьяны Крыловой, куда Настка Кудеша должна была принести ротатор. Дом, в котором жила Крылова, находился неподалеку от здания редакции газеты «Волынь». У доски объявлений, на которой обычно вывешивались различные приказы городской немецкой комендатуры, толпились люди. Они что-то читали и негромко переговаривались. Убедившись, что среди них нет знакомых мне людей, я тоже подошел к доске объявлений. На ней были наклеены листовки, напечатанные на бледно-розовой немецкой бумаге обычного, казенного, формата, в точности похожие на объявления комендатуры. Очевидно, ни полицаи, ни сотрудники «Волыни» не заметили подмены. Листовки, в которых сообщалось об итогах разгрома гитлеровских войск на Курской дуге, по всей вероятности, были наклеены здесь, в самом центре города, минувшей ночью. Автор листовки рассчитал точно, замаскировав сводку Советского информбюро под объявления комендатуры.
Я почти не сомневался, что это работа Настки. Мысленно решил при встрече пожурить ее за то, что она напечатала и расклеила листовки, ничего не сообщив предварительно подпольному Центру. Однако на квартире у Крыловой я вместо Настки встретил Луця.
Новости, которые он сообщил, были неутешительными. Связь с партизанским отрядом полковника Медведева почти прекратилась, так как немцы и банды националистов блокировали Цуманский лес. Несколько дней назад группа товарищей во главе с нашим проводником Георгием Татариновым при попытке пробраться к партизанам натолкнулась на берегу Горыни на банду оуновцев. Лишь двоим — Татаринову и еще одному бывшему военнопленному — удалось уйти, переплыть реку, а шестерых бандиты схватили и после допроса утопили. Следующей ночью из Ровно к партизанам направилась группа в составе восемнадцати человек. Провожал ее Виталий Захаров, руководитель тучинских подпольщиков. За рекой и эта группа подверглась внезапному нападению бандеровцев. Несколько человек погибли. Бандитам удалось живым схватить Виталия Захарова. Ему скрутили руки, один из сечевиков поволок подпольщика на допрос. К счастью, находившиеся на «маяке» партизаны знали, что из города должно прибыть пополнение. Услышав стрельбу, они бросились на помощь нашим товарищам. Огнем из автоматов уничтожили пять или шесть бандеровцев. Остальные бандиты разбежались кто куда, бросив на берегу Горыни связанного Захарова. Виталию просто повезло, наверно, он родился под счастливой звездой. Тащивший его на допрос сечевик, прежде чем бежать, выстрелил в пленника из винтовки почти в упор и промахнулся. Партизаны развязали Захарова, предложили ему остаться вместе с другими в отряде, но он не согласился, той же ночью вернулся в город, ждет теперь нового задания.
И без того нечасто улыбавшиеся глаза Луця в этот раз были особенно строго сосредоточенными. На лбу Ивана Ивановича залегли глубокие морщины. Говорил он отрывисто, глуховатым, словно простуженным голосом:
— У нас опять набралось около сорока человек, которых необходимо переправить к партизанам. Это, главным образом, военные, бежавшие из фашистского плена или отпущенные немцами из лагеря на работу в город. Проводить их в лес надо как можно быстрее. Сам знаешь, в городе творится черт те что: всюду полно немцев, прибыл новый отряд жандармов. Есть подозрение, что гестаповцы готовятся произвести очередную поголовную проверку населения. Шкурко пытается выяснить, в чем тут дело, но пока узнать ничего не удалось. Короче говоря, выводить в лес пленных надо немедленно, иначе немцы снова упрячут их в лагерь. А тут эта блокада...
Многое из того, что рассказывал мне Луць, я знал и сам. Немцы действительно готовили какую-то крупную операцию. Но дело, вероятно, не могло ограничиться только поголовной проверкой документов у горожан и обысками в их квартирах. Скорее всего, гитлеровцы собирались нанести одновременный удар по подпольщикам в Ровно и по партизанам в лесу. Если до сих пор отряды генерала Пиппера ограничивались блокированием и контролем дорог, то теперь, по некоторым имевшимся у нас сведениям, фашисты собирались прочесывать лесной массив в зоне расположения отряда Медведева.
— Полковник, конечно, наверняка знает о концентрации сил карателей в Ровно, — сказал я. — Но и мы, Иван, не должны зевать. Надо во что бы то ни стало восстановить связь с медведевцами, регулярно информировать их о положении в городе. — Луць молча кивнул. — И вот еще что. Беспокоит меня отсутствие связи с Бегмой. Не удалась наша первая попытка, необходимо снова послать кого-то во Владимирец.
— Я тоже так думаю, — согласился Луць. — Немцы с каждым днем чувствуют себя все беспокойнее. Красная Армия наступает. Мы не можем, конечно, знать, скоро ли придут сюда наши войска, но готовиться к этому надо. Ты правильно как-то говорил Анохину, что настанет время, когда нам придется спасать промышленные предприятия города от разрушения самими оккупантами. Думаю, что такое время уже не за горами. Немало встанет перед нами и новых задач. Так что установить сейчас связь с секретарем обкома очень важно. И мне кажется... — Иван Иванович сделал небольшую паузу, раскурил погасшую трубку. — И мне кажется, Терентий, лучше всего это может сделать Настка. Она, сам знаешь, женщина смелая, настойчивая, и умом ее бог не обидел — любого вокруг пальца обведет. Сумела разыскать партизан из отряда Медведева, разыщет и секретаря обкома. У нее рука легкая. Я уже говорил с ней. Она хоть сегодня готова отправиться в путь. Вернее, она сама вызвалась пойти во Владимирец, и я согласился...
Что я мог ответить на это предложение? Сказать, что Настке грозит опасность, что немцы и бандеровцы, как гончие псы, рыщут по дорогам и пройти будет трудно? Он знал это и без меня. Известно было Ивану и то, что за последние два года совместной подпольной работы в тылу врага Настка, как и сам Луць, стала для меня самым близким другом. В нашей дружбе мы не делали друг другу скидок, не высказывали вслух ни сочувствия, ни жалости. Молча сносили удары судьбы, потому что встретились, сошлись на окутанной дымом пожаров, пропитанной кровью наших людей земле не для обоюдных воздыханий, а для беспощадной и решительной борьбы с врагом.
— Настка предлагает сделать так, — продолжал Иван Иванович. — Сначала отведет из города к партизанам тех товарищей, о которых я говорил. Дорогу она знает. Потом, прямо из отряда, не возвращаясь в Ровно, пойдет во Владимирец.
— Даже так?
— А ты что, против?
Нет, я не был против, но и не торопился согласиться. В голосе Луця, которого я всегда понимал с полуслова, настроение которого угадывал даже по тому, как он сосал свою трубку, мне послышались то ли невысказанная тревога, то ли непривычная для него грусть. В тот момент я не знал, что над этой близкой и дорогой мне семьей нависла смертельная угроза. Предлагая послать Настку на розыски секретаря обкома, Луць имел в виду, что она не только выполнит задание подпольного Центра. Он хотел спасти жену от возможного, почти неизбежного ареста, избрав для этого не менее опасный путь. Он любил Настку большой, чистой любовью и был уверен, что она не согласится оставить его одного, не уйдет вместе с другими в партизанский отряд. Прекрасно понимая это, Иван Иванович с болью в сердце и предложил ей это трудное задание, лишь бы Настка на некоторое время исчезла из Ровно. Такой выход он считал единственно правильным.
Знай я все это, непременно поддержал бы предложение Луця, уговорил бы Настку уйти в партизанский отряд. Но Иван Иванович в тот момент не сказал мне, что гестапо уже следит за его квартирой. А я считал, что мы обязаны прежде всего уберечь Кудешу от явной опасности, с которой был сопряжен поход во Владимирец. И потому дать свое согласие воздержался.
* * *
Еще до того, как немцы и бандеровцы блокировали Цуманский лес, как прервалась связь с партизанами, Федор Шкурко передал через связных полковнику Медведеву подробную справку о наиболее видных гитлеровских генералах и офицерах СС, находившихся в тот период в Ровно. Список, разумеется, был неполный. Собрать абсолютно точные данные о всех немецких сановниках было просто невозможно, так как происходили частые замены: одни приезжали в город, другие уезжали. Тем не менее многие имена и адреса могли заинтересовать Дмитрия Николаевича.
В справке значились, в частности, фамилия и приметы генерала Кицингера, командира авиационной части, дислоцировавшейся в районе Ровно. Самолеты-разведчики и легкие бомбардировщики, входившие в состав этой части, почти постоянно гудели над зеленым морем лесов Волыни и Подолии, обстреливали села, забрасывали бомбами лесные участки. Взаимодействуя с наземными войсками СС, с отрядами фельджандармерии и полицией СД, воздушные пираты доставляли партизанам много неприятностей.
Фигурировал в нашей справке и другой, не менее зловещий фашистский генерал — заместитель гаулейтера Герман Кнут, специализировавшийся на ограблении местного населения. Ему были подчинены склады так называемого «пакет-аукциона», размещавшиеся на улице Легионов. Сюда чуть ли не со всей территории оккупированной Украины гитлеровцы свозили наиболее ценное награбленное имущество: дорогие ковры, меха, тюки хромовой кожи, картины выдающихся художников, рояли и пианино, хрусталь, фарфор — все то, что спецкоманды мародеров отнимали у советских людей, захватывали в музеях, школах, магазинах. Всякую мелочь, вроде металлических и пластмассовых портсигаров, флаконов с одеколоном и духами, перочинных ножей, шерстяных носков, на складах «пакет-аукциона» упаковывали в посылки и отправляли на фронт солдатам в качестве «подарков фюрера». Настоящие же ценности захватывала фашистская верхушка. Грели тут руки и гаулейтер Эрих Кох, и его заместитель Герман Кнут, и ровенский гебитскомиссар Вернер Беер, и десятки других чинов. Одни из них отправляли домой, в Германию, целые вагоны с награбленным имуществом, другие вывозили что поценнее в чемоданах. Когда, например, Вернер Беер уезжал в очередной отпуск, ему доставили на вокзал двадцать восемь туго набитых всякими дорогими вещами саквояжей.
Не забыли мы включить в список и такую колоритную личность с генеральскими лампасами, как генерал Капустянский. Местные оуновцы почему-то именовали его «пан генерал-хорунжий», хотя он носил припорошенный перхотью обычный немецкий мундир со знаками различия генерала вермахта, висевший на нем, как на чучеле. Капустянского часто можно было видеть на Восточной улице, где в одном из помещений, превращенных в конюшню, он держал с десяток выездных и верховых лошадей. Этот одряхлевший авантюрист, несмотря на напускную фанаберию и генеральские регалии, больше походил на старого, неопрятного дьячка из захудалого прихода. Тем не менее пригретый не столько фашистским генштабом, сколько ведомством Геббельса, он настырно претендовал на роль «равноправного» партнера гитлеровцев в борьбе против советского государства, всеми правдами и неправдами добивался у немецко-фашистского командования разрешения создать так называемые «национальные», а проще говоря, антисоветские вооруженные формирования из числа предателей, изменников и других отщепенцев, отдавших душу и тело оккупантам. И если в первый период войны бредовые идеи престарелого националиста в немецком мундире о создании антисоветских формирований на территории Украины, видимо, не очень интересовали немецко-фашистское командование, то теперь, когда Красная Армия развернула мощное наступление, гитлеровские генералы были готовы пойти на авантюристическую сделку с «генерал-хорунжим».
Перечислялись в справке и другие деятели рейхскомиссариата, а также фашистские приспешники из националистов рангом пониже. По нашему мнению, командованию партизанского отряда полковника Медведева могли пригодиться подобные данные.
С каждым днем у нас накапливалось все больше сведений о передвижении немецко-фашистских войск. Гитлеровские пехотные и механизированные полки, колонны боевой техники дни и ночи двигались на восток. Теперь в кладбищенской сторожке, сменяя друг друга, постоянно дежурили подпольщики из группы Федора Шкурко. Они довольно точно подсчитывали, сколько вражеских войск и техники продвигалось ежедневно по Киевской автостраде. Чаще всего по шоссе проносились тяжелые дизели с пехотой, колонны автомашин, тянувшие артиллерийские системы и минометы, целые автопоезда цистерн с горючим и грузовиков с прицепами, заполненными ящиками со снарядами.
Разведчики Федора Шкурко регулярно записывали все, что замечали на автомагистрали: и количество машин, и характер грузов, и опознавательные знаки на автомобилях — бубновые тузы, летящие орлы, прыгающие олени и другие эмблемы немецких воинских частей.
Под непрерывным наблюдением подпольщики держали и железную дорогу. На восток теперь двигались эшелоны не только с солдатами и боевой техникой, но и вереницы открытых платформ со щебнем, бетонными надолбами, бумажными мешками с цементом. Иногда такие «гражданские» эшелоны делали непродолжительные остановки в Ровно или на станции Здолбунов, чтобы загрузить паровозные тендеры углем, доставлявшимся сюда из Катовицкого угольного бассейна. Нашим товарищам удалось установить, что щебень, цемент, бетонные надолбы немцы направляли главным образом на железнодорожные станции в район Приднестровья. О цели таких перевозок догадаться было нетрудно: гитлеровцы подбрасывали строительные материалы в места будущих фортификационных оборонительных сооружений.
Добываемые нами сведения о военных перевозках, несомненно, представляли значительный интерес для командования Красной Армии. Однако передать их за линию фронта у нас не было возможности. Фашистские каратели и их подручные из УПА с каждым днем все плотнее блокировали Цуманский лес, где располагался партизанский отряд полковника Медведева. Несмотря на все усилия, нашим связным не удавалось пробиться к партизанам. Посланные на связь с ними четыре подпольщика не вернулись: вероятно, по пути в лес их схватили либо немецкие жандармы, либо бандиты из отрядов националистов.
Именно в эту трудную пору и направилась к медведевцам Настка Кудеша. Как всегда, поздно вечером в заранее условленном месте собрались товарищи, которых она должна была проводить к партизанам. В группе было одиннадцать человек. Вместе с ними Настка вышла из Ровно во втором часу ночи. Напечатанные на папиросной бумаге сведения о передвижении войск противника, которые необходимо было вручить полковнику Медведеву для передачи за линию фронта, она аккуратно зашила в подкладку ватника. Вместе с группой военнопленных Настке предстояло пройти опасный и трудный путь до партизанского отряда, а оттуда уже одной пробираться во Владимирец.
5
Руководитель гощанских подпольщиков Владимир Соловьев часто наведывался в город. «Командировки» в Ровно, длившиеся иногда по двое — трое суток, устраивал ему районный «агроном» Иван Кутковец. Вовремя одной из таких «командировок» Соловьев вместе с Поцелуевым организовали неподалеку от рейхскомиссариата засаду, чтобы подкараулить гаулейтера и забросать его «хорх» гранатами. Хотя это был дерзкий и опасный вариант охоты за Эрихом Кохом, однако при благоприятных обстоятельствах он мог принести положительный результат. Из засады за подъездом рейхскомиссариата поочередно вели наблюдение три молодых подпольщика. Время от времени по улице, которую в случае выезда не мог миновать «хорх» гаулейтера, с лимонками и пистолетами в карманах прохаживались москвич-аспирант и политрук. Мы хорошо знали, что Кох в городе, однако из своей резиденции он теперь почти не выезжал. Видно, загадочное убийство имперского финансового советника доктора Геля, старого нациста, присланного в Ровно из Берлина с большими полномочиями, еще больше насторожило и без того осторожного гаулейтера.
После уничтожения Геля на страницах немецких газет и националистической «Волыни» почти неделю публиковались некрологи и скорбные телеграммы сочувствия семье покойного от различных фашистских заправил. Геля называли ближайшим сподвижником самого фюрера, посвятившим свою жизнь «национал-социалистской партии», много сделавшим «для укрепления величия третьего рейха и утверждения основ «нового порядка» в Европе». Гитлер посмертно наградил финансового советника Рыцарским крестом. Цинковый гроб с телом убитого с воинскими почестями проводили на самолете в Германию.
Не успело имя доктора Геля сойти с газетных страниц, как город облетела новая весть: взрывом гранаты не то убит, не то тяжело ранен возле своего особняка правительственный президент и политический комиссар при рейхскомиссариате Украины Пауль Даргель. По этому поводу в Ровно быстро распространились самые невероятные слухи. Некоторые «очевидцы» утверждали, будто гранату в Даргеля бросил один из трех советских бойцов, бежавших из фашистского плена, что эти бойцы якобы захватили у немцев бронеавтомобиль и разъезжают на нем по городу. Другие говорили, что Даргель погиб вовсе не от взрыва гранаты, а от мины, которую положил в портфель высокопоставленного чиновника его же адъютант. Третьи оценивали происшедшее более трезво и считали, что убийство правительственного президента и политического комиссара не иначе как дело рук партизан: сначала, дескать, партизаны нападали на фашистов в селах, на дорогах, а теперь дошла очередь и до гитлеровских заправил в городе.
Иван Луць пробрался под вечер на «дачу» шофера Конарева с кипой свежих немецких газет.
— Вот читай, Терентий, тут есть кое-что интересное, — сказал он, передавая мне газеты.
Материалами о покушении на Даргеля были заполнены целые страницы. В статьях, корреспонденциях и даже в некрологах содержались угрозы в адрес «еврейско-большевистских элементов», которым, как утверждали авторы, не избежать суровой кары за посягательство на жизнь «верных сынов немецкой нации»...
Почти следом за Луцем на «дачу» пришел Николай Поцелуев.
— Уверен, что гранату в Даргеля бросил кто-нибудь из медведевцев, — твердо сказал он, перелистывая немецкие газеты. — Насчет захвата броневика, это, конечно, вымысел. А вот то, что гестаповцы после взрыва гранаты будто бы гнались за какой-то легковой машиной, умчавшейся за город, похоже на правду. Об этом многие говорят. Здорово, ничего не скажешь. Можно только позавидовать ребятам. Сначала одного гробанули, потом другого. Правда, я что-то не совсем понимаю тактику этих смельчаков. Если полковник Медведев решил взять на прицел самого Коха, то стоило ли сначала уничтожать Геля и Даргеля? Гаулейтер не дурак, догадается, чем тут пахнет, будет еще осторожнее. Попробуй после этого, выследи его! По-моему, не следовало бы начинать с Геля и Даргеля. Так можно спугнуть главную птицу...
— Нет, Николай Михайлович, все правильно, — возразил Луць. — Пока подвернется случай, чтобы уничтожить Коха, придется долго ждать. Да и вообще может произойти, что он уйдет от расплаты. Уж очень хитер и осторожен, негодяй. Ну а если так, зачем упускать возможность прихлопнуть его приближенных? Нет, все правильно. Эти двое тоже кое-чего стоят. Пусть дрожат теперь за свою жизнь остальные фашистские главари, а вместе с ними и гаулейтер. — Луць с минуту помолчал, задумчиво провел рукой по гладко выбритой щеке, раскурил трубку и негромко добавил: — Тут вот какое дело, друзья. У меня самого сейчас положение не лучше, чем у гаулейтера. За мной, как я полагаю, гестаповцы установили слежку.
— Давно? — едва сдерживая волнение, спросил я. — Почему до сих пор молчал?
— Несколько дней назад. Не говорил потому, что сначала сам хотел убедиться. Теперь точно знаю: гестапо. Подселили ко мне в соседнюю комнату какого-то типа из фольксдейче. Сразу видно, шпик. Следит за каждым моим шагом. Как только я в дом, он тут как тут, начинает заводить всякие разговоры. Интересовался, почему не видно моей жены. Я ответил, пошла, мол, в село, навестить родичей, а он говорит: «Напрасно вы, пан бухгалтер, отпустили жену в такое время. Придут немцы проверять документы, что вы им скажете? Не время теперь по гостям ходить, родичей навещать...» Словом, подозрительный тип. Во все сует свой нос.
— Может, надо познакомиться с ним поближе да убрать его к чертовой матери? — как обычно, горячо проговорил Поцелуев.
— Убрать можно, но не в этом дело, Николай Михайлович, — возразил я Поцелуеву. — По-моему, Ивану Ивановичу надо немедленно бросать свою бухгалтерию и переходить на нелегалку. Немедленно, сегодня же. Слышишь, Иван? — повернулся я к Луцю.
— А почему, собственно, бросать бухгалтерию? — произнес он спокойно. — Бросить, конечно, нетрудно. Но я уже говорил тебе, не вижу в этом надобности. Что в том, если директор фабрики оказался подпольщиком, бежал от гестаповцев? Я всегда могу доказать, что с директором, кем бы он ни был, у меня не существовало никаких отношений, кроме служебных. Пан Новак, мол, был шефом предприятия, а я всего лишь счетный работник, служащий. От шефа мне и самому много раз попадало: орал на меня так, что в ушах звенело. Это все могут подтвердить. Так что бросать бухгалтерию нет пока необходимости. Кстати, ни Беер, ни Бот после твоего исчезновения на фабрике не появлялись. Не распорядились даже, кому замещать директора. Короче говоря, по службе у немцев ко мне не может быть никаких претензий. Я даже так думаю: если бы в истории с армянами-легионерами не была замешана Устина, гестаповцы не пришли бы и за тобой.
— Пусть так, но ты же сам говоришь о слежке. Значит, тебя в чем-то подозревают. Иначе зачем гестаповцы подселили к тебе этого фольксдейче?
— Что они выследят, еще неизвестно! А бросать бухгалтерию мне сейчас нельзя, понимаешь, нельзя! Предположим, уйду я с фабрики. Туда будут приходить наши товарищи, особенно из районов. Тебя нет, меня нет. Придут раз, другой — никого. Ну и считай, связь оборвалась. Пока удастся снова восстановить ее, много воды утечет. А теперь каждый день дорог.
— Вместо вас, Иван Иванович, можно оставить на фабрике кого-нибудь другого. Есть же там подпольщики. Вот через них товарищи из сел и будут поддерживать связь с подпольным Центром, — вставил Поцелуев.
Луць отрицательно покачал головой:
— Нет, Николай Михайлович, это не выход из положения. Связные из сел знают Терентия и меня. Кого бы мы ни оставили на фабрике, с незнакомым человеком они разговаривать не станут: мы сами предупреждали их об этом. Ведь у любого нового товарища не напишешь на лбу: заменяет, дескать, Новака и Луця в подпольных делах. Покрутится связной туда-сюда да и назад, в село. Где он будет нас искать? На явочных квартирах? Но о наших городских явках знают лишь единицы, а с фабрикой связаны десятки. Как ни крути, пока мне надо оставаться на фабрике. Конечно, при встречах со связными я подскажу, куда обращаться в следующий раз, ну хотя бы к тебе, Николай Михайлович, на склад утильсырья. Пока не скажу всем новый адрес, с фабрики на Хмельной не уйду. Нет никакого расчета делать это...
Позже я часто думал: была ли логика в рассуждениях Ивана Ивановича Луця? Да, конечно была. Он умел убеждать, умел доказать свою правоту не криком, не разговорами о долге и обязанности, а именно логикой. Но жизнь, тем более жизнь и борьба в тылу врага, не всегда можно было уложить в схему логических рассуждений. От нависшей над Луцем опасности нельзя было так просто отмахнуться, не считаться с нею. В конце концов, и сам Луць понимал, что, несмотря на его, казалось бы, убедительные доводы, ему не следовало больше оставаться на фабрике. Понимали это и я, и Николай Поцелуев. Почему же мы не настояли на своем? Почему не уговорили его немедленно уйти с фабрики? Тогда нам казалось, что Иван Иванович прав. И он остался на фабрике. Это была непоправимая ошибка — моя, Поцелуева, самого Луця. Но разве мы могли думать, что за нее впоследствии придется расплачиваться столь дорогой ценой!..
Во время разговора я обратил внимание, что Поцелуев явно взволнован, хотя и пытается казаться спокойным. Да и его неожиданное появление на «даче» не сулило добрых вестей — это я понял еще раньше. По-прежнему, листая немецкие газеты, он то и дело украдкой хмуро поглядывал на меня, словно хотел сообщить неприятную новость. Наконец я не выдержал, спросил:
— Что еще у тебя, Николай?
— Да так, — замялся было он, потом решительно встал, прошелся взад-вперед. — Плохое скажу, Терентий Федорович, очень плохое для вас. Сколько ни молчи, от этого легче не будет. Час назад я разговаривал с Володей Соловьевым. Он в городе, заходил ко мне. В Гоще плохо...
— С сестрой? — вырвалось у меня.
— Нет, Устине удалось скрыться. Отца вашего схватили жандармы. Соловьев говорит, Устина предупреждала его об опасности. Последние дни он не ночевал дома, прятался. Выследили сельские полицаи, схватили, передали жандармам. Вчера его привезли под конвоем сюда, в ровенскую тюрьму...
6
Хотя у нас в городе было немало явочных квартир, большую часть времени я проводил на «даче» Васи Конарева. Тут я никого не стеснял своим присутствием, чувствовал себя независимым, а главное — никого, кроме себя, не подвергал опасности. Когда город окутывали предвечерние сумерки, на «дачу» пробирался кто-нибудь из моих друзей. Обычно это были либо Луць, либо Шкурко, либо Поцелуев. Они приносили с собой краюху хлеба, огурцов или несколько вареных картофелин в мундире, рассказывали об обстановке в городе, докладывали о сообщениях, поступавших со связными из сельских подпольных групп. Тут же мы договаривались о заданиях, которые следовало дать тем или иным подпольщикам. Иногда заходил на «дачу» и ее «хозяин» — Вася Конарев, рассказывал о своих поездках по области, о том, что доводилось ему слышать в районах о партизанах, о диверсиях на железнодорожных линиях, а также о зверствах гитлеровцев и националистов.
Днем я обычно не выходил: показываться на улицах Ровно было рискованно. По ночам первое время тоже оставался на «даче», прислушиваясь в темноте к писку мышей, доедавших по углам остатки моих обедов и ужинов.
Лишь спустя несколько дней я отправился к тете Шуре. Туда чаще всего заходили связные подпольных групп, а порой и сами их руководители. С наступлением темноты, выбирая переулки поглуше, я зашагал к домику Чидаевых.
За углом каждого дома можно было столкнуться с жандармским патрулем, из любого подъезда вслед за окриком «Халы!» могла прогреметь короткая автоматная очередь. Я старался не думать об этом, но никак не мог отделаться от тревожных мыслей. Город казался огромным капканом, готовым захлопнуться от каждого неосторожного шага.
Правую руку я все время держал в кармане брюк, сжимая рукоятку пистолета. Осторожный стук собственных шагов заставлял непрестанно прислушиваться. Вот где-то за темными, словно застывшими домами раздается чужая речь. Значит, туда нельзя. Впереди мелькает, ползет по стене тусклый кружочек света от карманного электрического фонаря. Туда тоже нельзя: не иначе как полицаи. Коротко, как удар молота, гремит одиночный выстрел в районе железнодорожной станции. Протяжным гудком врывается в ночь крик паровоза.
В конце затемненной улицы вижу три силуэта. Отступаю назад, притаившись, прячусь за ствол каштана.
Тяжело ступая, по тротуару безмолвными тенями проходят три немца в касках. Откуда-то доносится шум автомобильных моторов.
Удачно прохожу еще один квартал. Возле забора светятся огоньки сигарет, доносится смех, чужая речь. Опять прячусь в тени — надо выждать. Нет, тут не пройти. Придется в обход. Всюду немцы. Их почему-то сегодня особенно много в городе. Или мне это только кажется?
Наконец-то улица Скрайняя. Небольшой одноэтажный домик. Перед окнами на веревке белеет тряпка: не то старое полотенце, не то наволочка. Значит, в квартире чужих нет, можно заходить. Тетя Шура знает, в любой момент может прийти кто-нибудь из подпольщиков: белая тряпка перед окнами — своеобразный сигнал-пароль.
Пробираюсь к окну. Тихо скребу пальцами по оконной раме, потом иду к двери. Александра Венедиктовна открывает немедленно В коридоре тихо шепчет:
— Никак, ты, Терентий?
— Я, тетя Шура.
— Ну проходи, проходи, сынок. Давненько ты у нас не был. Я уж думала, забыл совсем.
В комнате тихо, уютно. Пахнет цветами и свежевыстиранным бельем. После «дачи» кажется, будто я попал в родную отцовскую хату, в которой не был целых два года. Александра Венедиктовна угощает меня не очень сытным ужином, потом заботливо стелет постель, приговаривая:
— Отдохни, сынок, намаялся, верно. А у нас тут пока тихо, спокойно.
Лежу на мягкой постели, но никак не могу заснуть. Из темных углов к сердцу подступает тоска. Не дают покоя мысли об отце.
Эх, отец, отец... Вот и снова пришли к тебе тяжкие дни, каких немало испытал ты с тех пор, как мы, твои дети, стали коммунистами! Немного хорошего в жизни видели мы с тобой, отец. Сколько пришлось тебе вытерпеть только из-за меня одного, твоего сына, твоей опоры на старости лет. Били тебя и польские шуцманы, и жандармы, и сыщики «двуйки». Не однажды стоял ты перед воротами тюрьмы с узелком — передачей для сына. Не раз гнали тебя от этих ворот с руганью, с тумаками в спину: «Вон отсюда, собачья кровь, быдло!» Но ты снова возвращался к обитым железом воротам, стоял, ждал, никогда не унижаясь до поклонов, до угодливой улыбки тюремщикам. Ты знал тогда и знаешь теперь: не пристало отцу коммуниста заискивать перед господами, кланяться им, выпрашивать у них прощения для сына. И ты не один такой. Мать моего друга, гощанского коммуниста, бывшего при пилсудчиках секретарем подпольного райкома партии Гриши Гапончука, так и умерла у тюремных ворот, не дождавшись разрешения перед смертью посмотреть на сына хотя бы сквозь тюремную решетку. А разве легче было в ту пору родным Оли Солимчук, Прокопа Кульбенко, Александра Гуца, Федора Кравчука, отцам и матерям подпольщиков, членов Коммунистической партии Западной Украины, которых польские жандармы по нескольку лет держали в казематах? Разве не переживали они за своих детей так же, как переживал ты за меня, отец?
Все мы, сыны и дочери партии, всегда оставались для вас детьми. Вы несли свою боль, свое горе всюду за нами. Ваша любовь и ваше терпение согревали нас в подвалах сырых казематов, на холодных нарах камер-одиночек. Простите нас! Мы стали коммунистами в трудное время. Мы хотели одного: чтобы людям лучше жилось на свете. И если самим вам было порой еще тяжелее, то не осудите нас за это. Ведь мы плоть от плоти вашей, кровь от крови вашей, и дух ваш, бунтарский испокон веков, перелился в наши сердца, поднял нас на борьбу против несправедливости и угнетения.
Перед войной, после установления Советской власти в нашем крае, зажили было и мы, и вы вместе с нами по-человечески. Да недолгим было счастье. Война все перевернула, и опять болью и тревогой наполнились ваши сердца за нас, ваших сыновей и дочерей, вступивших в жестокий поединок с иноземными захватчиками...
Где ты теперь, отец? Не в той ли самой тюремной камере, в которой не раз и мне самому приходилось коротать дни и ночи? И помочь тебе я ничем не могу. Увидимся ли мы еще с тобой, отец?..
Бессонная ночь тянулась очень долго. А на рассвете тревожный шепот Александры Венедиктовны:
— Вставай, сынок, быстрей вставай! Дом окружают немцы...
Я выхватил из-под подушки две лимонки и пистолет, босиком подбежал к окну. На траве и деревьях сверкала роса, освещенная первыми лучами солнца. Вдоль улицы, на расстоянии нескольких метров друг от друга, стояли, словно статуи, фигуры в светло-синих шинелях — немецкие жандармы. На тесном дворе, примыкавшем к домику Чидаевых, гитлеровцы устанавливали на треноге пулемет.
«Донос? Предательство? Не может быть! Об этой явке знают только самые близкие друзья», — мгновенно мелькнуло в мозгу. Мысль о том, что кто-то мог указать немцам явку на Скрайней, самому вдруг показалась нелепой. Я внимательнее присмотрелся к жандармам, возившимся у пулемета. Немцы вели себя так, будто их совсем не интересовал домик, двор которого они избрали местом для огневой позиции. Один из них, указывая рукой на привязанную к забору козу, что-то говорил, остальные громко хохотали. Жандармы, стоявшие на улице, тоже вроде не собирались врываться к Чидаевым. «Нет, тут что-то не то, они не намерены окружать дом».
Я обернулся к хозяйке квартиры, чтобы успокоить ее. Александра Венедиктовна, бледная как полотно, испуганно металась по комнате. Потом выскочила в сени, позвала меня. Из сеней был ход на чердак.
— Лезь, сынок, наверх, быстрее лезь, — почти крикнула она. — Там тайник увидишь, я в нем прятала соседей-евреев... С той стороны дома, над крыльцом. Отодвинешь доски и пролезай. Не забудь закрыться опять, чтобы ничего не было заметно. Там они тебя не найдут...
Чердак был низкий. На противоположную сторону пришлось пробираться пригнувшись. К домику, вероятно уже после постройки, было приделано крытое крыльцо. Я раздвинул запыленные тесины и очутился на маленьком, опутанном паутиной чердачке, где невозможно было выпрямиться, даже стоя на коленях. Аккуратно закрыл лаз. Вспомнил, что как раз подо мной — комната соседей Чидаевых. Они фольксдейче. Надо быть осторожным, не шевелиться. Кое-как примостился, припал глазами к щели. Отсюда хорошо было видно почти всю улицу. На ней синели жандармские шинели. Казалось, они везде — и на дороге, и во дворах, и в подъездах домов. Гражданских — ни одного человека.
Вскоре я понял, что происходит. Гитлеровцы действовали с точным расчетом. Одни из них контролировали улицу, другие, разделившись на группы, проверяли квартиры: в городе шла очередная массовая облава.
Солнце, поднимаясь над горизонтом, с каждой минутой все сильнее нагревало железную крышу. Стало жарко, как возле раскаленной печки. Мучила жажда. Снизу, со двора, доносились голоса немцев. Скучая от безделья, они, было похоже, рассказывали анекдоты и громко смеялись.
Примерно во втором часу дня где-то неподалеку захлопали пистолетные выстрелы. Вслед за тем послышались частые автоматные очереди. Один за другим прогремели взрывы гранат. Прислушавшись к начавшейся перестрелке, я без труда определил, что она велась в противоположном от фабрики валенок конце Хмельной улицы. В том районе у нас не было явок, и это несколько успокоило меня.
Пальба между тем не утихала. Снова раздались взрывы гранат. Зататакал крупнокалиберный немецкий пулемет. Стрельба то прекращалась, то разгоралась вновь. Так продолжалось почти до вечера.
Наступили сумерки. С приближением темноты у меня росла надежда на спасение. Однако обыски в квартирах ближних домов все еще продолжались. Участвовавшие в облаве жандармы неумолимо приближались к домику, в котором жили Чидаевы. Наконец прямо подо мной, на крыльце, послышалась немецкая речь, рассохшиеся доски пола заскрипели под сапогами жандармов.
К мужским голосам присоединился женский: это соседка Чидаевых, жена фольксдейче, гостеприимно приглашала жандармов к себе домой на чашку кофе.
Я лежал затаив дыхание. Извлек из кармана и положил рядом лимонки, пистолет. Мозг непрерывно сверлила мысль: «Что бы ни случилось, живым в руки не дамся. Буду отбиваться до последней возможности». Одновременно ругал себя, что так несвоевременно покинул «дачу» Конарева, причинил столько неприятностей семье Чидаевых. «Если немцы обнаружат меня, провалится явка. Жандармы наверняка устроят здесь засаду. В их ловушку могут попасть и Луць, и Шкурко, и Поцелуев, и другие товарищи».
Гитлеровцы, пройдя в квартиру фольксдейче, явно не торопились покидать ее. Видимо, хозяйка угощала их не одним только кофе. Через открытую на крыльцо дверь до меня доносились все громче звучавшие голоса и смех. В эти минуты я нестерпимо возненавидел соседку Чидаевых, которая (я это отчетливо слышал) весело и непринужденно болтала с гитлеровцами.
И все же именно она, не подозревая об этом, оказала мне огромную услугу. Считая, как видно, лишним тщательно осматривать дом, в котором проживали фольксдейче, жандармы не стали производить обыска в квартире Чидаевых, а лишь мельком осмотрели комнаты. Потоптавшись затем с минуту у крыльца, они направились в соседний дом. Однако выбираться из укрытия было еще невозможно: немцы с пулеметом оставались во дворе. Я просидел в своем закутке до полуночи, пока тетя Шура, поднявшись на чердак, не сказала, что все посты на улице сняты. Александра Венедиктовна мелко крестилась дрожащей рукой. За этот день, длинный, как год, в ее волосах прибавилось немало седин.
Поздно ночью на явку, в квартиру Чидаевых, пришел Лунь. Увидев меня, облегченно вздохнул. Минут через пять появился Шкурко. Он успел уже узнать некоторые подробности о результатах проведенной жандармами облавы.
Никто из городских подпольщиков в раскинутые гитлеровцами сети не попал. Но жандармам удалось схватить связного из Грушвицы, комсомольца Андрея Володько. Накануне облавы Володько пришел в город с очередным донесением от Кравчука. Встретился с Поцелуевым. Тот проводил его ночевать на склад утильсырья. Утром Андрей, не подозревая о начавшейся облаве, направился в Грушвицу и внезапно наткнулся на жандармов, окружавших соседний со складом квартал.
В кармане у Володько были граната и пистолет ТТ. Услышав «Хальт!», он выхватил пистолет и выпустил обойму в жандармского офицера, а сам бросился в огород. Поначалу немцев, вероятно, ошеломил дерзкий поступок подпольщика. С криками: «Партизанен, партизанен!» они столпились вокруг убитого офицера. За эти несколько десятков секунд Володько успел добежать до небольшого сада, а оттуда через заднюю калитку заскочил во двор соседнего дома. Парня с пистолетом в руке увидел в окно живший в доме полицай. Предатель выстрелил из винтовки и ранил связного в голову. Когда прибежали немцы, Андрей попытался выдернуть кольцо из гранаты, но на это у него не хватило сил. Жандармы бросили истекавшего кровью комсомольца в машину и повезли в гестапо.
Рассказал Федор и о схватке на Хмельной. Когда жандармы ворвались там в один из домов, два молодых парня встретили их огнем из пистолетов. Стреляли почти в упор и у самого порога уложили четырех гитлеровцев. Остальные отпрянули назад, но брошенные парнями гранаты догнали их. В этот момент к дому подъехал грузовик с новой группой жандармов. В его кузов сразу же полетела лимонка. Взрыв разметал сидевших в машине гитлеровцев.
Фашисты решили действовать осторожнее. Вызвав подкрепление, они окружили дом с засевшими в нем смельчаками, стали обстреливать его из крупнокалиберного пулемета.
Силы были далеко не равными. К тому же у парней, находившихся в доме, вскоре кончились патроны и гранаты. Один из них погиб сразу, как только немцы открыли огонь из пулемета. Другой, раненный, встал во весь рост у двери, закричал, размахивая пистолетом без патронов:
— Живым не возьмете, гады! Партизаны в плен не сдаются!
Фашистский пулеметчик выпустил длинную очередь.
Через несколько дней нам стали известны имена героев: это были Николай Куликов и Василий Галузо, разведчики из партизанского отряда полковника Медведева.
Взрывы на улицах
1
Рабочий день закончился. Луць посмотрел в окно. На дворе моросил мелкий дождь. Зеленый ковер луга, подступавшего почти к самой фабрике, казался тусклым, окутанным сероватой пеленой. Иван Иванович закрыл на ключ ящик письменного стола, снял нарукавники, набил самосадом трубку, обернулся к своей помощнице по бухгалтерским делам, польке по национальности, перебиравшей за соседним столом какие-то бумаги.
— Пани Агнесса, надеюсь, не собирается задерживаться в конторе до ночи? Нет? Ну и хорошо. На сегодня достаточно. Можете идти домой.
— Благодарю, пан бухгалтер. Мне осталось совсем немного. Вот только подошью последние документы.
— До свидания, пани, до завтра! — кивнул Луць и вышел из помещения.
За воротами фабрики он едва не столкнулся с высоким худощавым мужчиной в сером шерстяном костюме. Иван Иванович окинул незнакомца безразличным взглядом и, как всегда, неторопливо зашагал по улице. В голову лезли тревожные мысли. В окрестностях Ровно дни и ночи снуют жандармские патрули. Тяжелую пору переживает партизанский отряд полковника Медведева; связи с ним по-прежнему нет. Эсэсовские каратели прочесывают Цуманский лес. Гитлеровцы бросили против партизан танки и артиллерию. На северо-западе от Клевани уже несколько дней продолжаются бои. Ни от Настки, ни от товарищей, с которыми она ушла к медведевцам, нет никаких вестей...
Услышав позади шаги, Луць оглянулся и снова увидел высокого мужчину в сером костюме. «Следит или случайно оказался попутчиком?» Иван Иванович насторожился, замедлил шаг.
Мужчина быстро нагнал его, поравнявшись, негромко сказал:
— Не спешите. Нам надо поговорить.
— Пожалуйста! Заходите завтра в контору предприятия к девяти утра, — ответил Луць.
— У меня срочное дело, — продолжал обладатель серого костюма. — Я ждал вас несколько часов. Где мы можем поговорить?
Луць недоуменно пожал плечами, с привычной для бывалого подпольщика внимательной настороженностью присматриваясь к незнакомцу. На вид ему было не больше двадцати пяти. Обветренное, прокаленное солнцем лицо, за стеклами очков светятся пытливые карие глаза. Однако очки кажутся лишними, ненужными. Да и новый, дорогой костюм на мужчине, видимо, с чужого плеча: рукава пиджака явно коротки, брюки — тоже. По всему видно, человек надел костюм совсем недавно и чувствует себя в нем непривычно. Все это Иван Иванович моментально определил наметанным глазом.
— Извините, уважаемый, но рабочий день у меня закончился. О делах я не привык разговаривать на улице. Приходите завтра на фабрику, — повторил он. — К тому же вот-вот начнется ливень. До завтра!
— А вы, оказывается, бюрократ, товарищ Луць, — чуть прищурив в улыбке глаза, совсем тихо сказал незнакомец. — Кстати, я приехал с Полесья, — добавил он как бы между прочим. — У нас там невозможно достать крепкого самосада. Может, дадите щепотку своего? Бумага у меня имеется.
Луць неторопливо обернулся к молодому мужчине, продолжавшему шагать рядом, встретился взглядом с его карими выжидательно-требовательными глазами и ответил, казалось бы, ничего не значащими словами:
— Вряд ли понравится вам моя махорка, уважаемый. Я не люблю крепкого самосада, примешиваю побольше корешков.
Между тем это был ответ на пароль. Именно так и должен был ответить Луць на просьбу связного из партизанского отряда дяди Юрко одолжить щепотку махорки. Значит, молодой человек — очередной посланец Николая Носенко, командира ровенского партизанского отряда. Он пришел в Ровно к подпольщикам из-за Сарн, почти от самой границы с Белоруссией.
Луць и связной, теперь уже как добрые друзья, направились в небольшую закусочную на Школьной улице, сели за стоявший отдельно в углу столик, заказали по чашке кофе. За соседним столом, громко переговариваясь, время от времени прикладывались к кружкам с пивом три немецких солдата. Хозяйка закусочной, пожилая женщина с крашеными волосами, почти непрестанно крутила ручку старого патефона, с шипением тянувшего одну и ту же мелодию: «Ой, за гаем-гаем, гаем зелененьким...»
— Когда вы пришли в город? — тихо спросил Луць связного.
— Два дня назад. Сразу идти к вам не решился. Знакомился с обстановкой.
— А откуда у вас это? — кивнул Иван Иванович на серый пиджак.
— Вы о костюме? — улыбнулся посланец партизан. — Переоделся. В ватнике опасно. Есть тут, в городе, у меня друзья. Они одолжили на время костюм. У них я и остановился.
— Ясно... Ну а как там наш дядя Юрко поживает?
— Дядя Юрко жив и здоров, хлопцы его — тоже, — отхлебнув кофе, произнес связной. — Работают хорошо, дел у них хватает... У меня к вам письмо, — добавил он после небольшой паузы и быстро сунул в карман пиджака Луця серый конверт. — Там написано, кому его надо вручить. Из письма узнаете, по какому делу я пришел. Послезавтра вечером, в шесть часов, встретимся за этим же столиком. Скажете мне все, что нужно. Я запомню. И вот еще что передайте товарищам. — Он снизил голос до шепота, искоса глянул на сидевших за соседним столом немцев. — Передайте товарищам, что ваша связная, которую вы недавно послали к нам, погибла. Убили ее в лесу...
Пальцы Луця непроизвольно скомкали край скатерти. Лицо сделалось бледно-серым.
— Что с вами? — встревожился связной.
— Не обращайте внимания. Сердце. Это после ранения. Сейчас пройдет, — через силу проговорил Иван Иванович. — Так о ком это вы сказали? О какой связной?
— Фамилии я не знаю. Молодая чернявая женщина. Она была у нас во Владимирце, а когда возвращалась назад, в Ровно, ее схватили в лесу не то жандармы, не то бандеровцы. После этого меня и направили к вам.
— Постойте. Вы пришли с паролем дяди Юрко, — с трудом преодолевая разлившуюся по телу слабость, прошептал Луць. — Кто же вас послал? Разве не Носенко?
— Нет. Послал меня Василий Андреевич. И письмо от него. Знаете такого?
— Знаю, конечно, знаю, — придерживаясь рукой за стену, Луць с отсутствующим взглядом поднялся из-за стола. — Пойдемте на улицу, здесь душно...
* * *
Я держу в руках письмо. Снова и снова перечитываю его, стараюсь запомнить каждую фразу, написанную мелким почерком Василия Андреевича Бегмы.
«Дорогой Т.! Пишу тебе не впервые. Предыдущие письма не дошли. Очень жаль. Мне известно, что вы тоже предпринимали попытки связаться со мной, посылали своих товарищей. Их подвига Родина не забудет. Последний ваш посланец — Н. была у меня. Вместе с вами печалюсь о ней. Это — мужественная женщина. О ее судьбе тебе подробно расскажет податель этого письма.
Еще раньше, до прихода П., я получил добрую весть от дяди Юрко. Он находится сейчас неподалеку от нас, в «хозяйстве» известного тебе Ш. От него я узнал, как связаться с вами.
На днях обком принял решение: тебе поручено возглавить подпольный горком партии. Надеюсь, что на этом ответственном посту ты сделаешь все, что нужно, исходя из наших общих задач. Главное сейчас — создать надлежащую обстановку в городе, который находится у врага на особом политическом положении. Формы борьбы меняйте в соответствии со складывающейся ситуацией. Переход к открытым действиям необходимо согласовывать со спецификой и характером организации. Одновременно прошу самым активным образом вести работу в направлении, начатом вами после встречи с полковником М. Я был у него в отряде и договорился, что вашу корреспонденцию будут мне переправлять без задержки. Имейте в виду: этот участок очень интересует наших военных, и не только военных товарищей. Но не теряйте чувства реальности: люди для нас дороже всего.
Мы наладили выпуск печатной газеты — органа обкома партии и партизанского штаба. Очень обидно, что регулярная доставка ее к вам связана с огромными трудностями, но мы будем эти газеты вам присылать. В ближайшие дни выйдет листовка-обращение подпольного обкома партии к населению оккупированной Ровенщины. Будем пытаться переправить несколько сот экземпляров вам.
Не забывайте и о таком важном моменте. Дела на фронте позволяют предполагать, что фашистские войска будут отброшены (в течение этого года) на сотни километров. Имеются сведения, что враг планирует массовый вывоз населения оккупированных западных областей, особенно молодежи, в Германию. Приготовьтесь к этому. Используйте все возможности, чтобы помешать фашистам осуществить свой варварский план на Волыни. Все, что можно, надо сберечь от уничтожения, в первую очередь людей. Города это касается в такой же мере, как и сел. Товарищи в селах, связанные с вами, пусть подумают, как лучше, эффективнее организовать саботаж, дать отпор фашистским вербовщикам. Разъясните всем коммунистам, что партия приказывает им, как солдатам, проявить в этом деле максимум инициативы, стойкости и мужества. Спасение тысяч советских людей от неволи и рабства на чужбине — наш прямой, ответственный долг.
И еще один вопрос. Стало известно, что отдельные партизанские отряды и группы за последнее время идут на переговоры, на компромисс со всякого рода бандитско-националистическими элементами. Подобные действия надо расценивать как близорукость и политическую незрелость. ОУН и УПА принесли нашему народу столько горя и слез, что о каких-либо компромиссах с их главарями, о нейтралитете не может быть речи. Руководство националистических вооруженных банд давно с потрохами продалось немецким фашистам. По отношению к рядовым членам ОУН и УПА проявляйте твердую, обдуманную рассудительность. Когда можно обойтись без жертв, избегайте кровопролития, однако никаких скидок и никакого прощения не может быть тем, кто совершает преступления против народа. Неплохо было бы еще раз разъяснить все это рядовым бандеровцам, бульбовцам и мельниковцам в листовках. Если имеется возможность и позволяет обстановка, напечатайте такие листовки и распространите в селах.
Крепко обнимаю. Привет всем товарищам. До встречи в свободном от оккупантов Ровно!
В. Б.»
На загородной явке, в домике Николая Ханжи, в этот раз присутствовали Мария Жарская, Федор Шкурко, Николай Поцелуев, Федор Кравчук, Владимир Соловьев, Иван Луць — все оставшиеся в живых члены подпольного Центра. Я смотрел на близких мне боевых друзей и, помимо воли, думал о погибших. Когда-то Иван Иванович сказал, склонившись над безжизненным телом бабушки Ксении: «Первая жертва в нашей организации...» Теперь в наших рядах не было Виталия Поплавского, Прокопа Кульбенко, Александра Гуца, Сергея Борко и многих других. Не стало Настки Кудеши, никогда не унывавшей, не страшившейся никакой опасности, верной нашей подруги и боевого товарища, которую все мы любили за доброе сердце, за мужество, за беззаветную преданность общему делу.
Я перевел взгляд на Луця. Худой, узкоплечий, похожий на подростка, он за последние дни как бы стал еще меньше ростом, придавленный свалившимся на него горем, о котором (мы это знали) он не станет кричать, никому не пожалуется на свою судьбу. За внешней суровостью и сдержанностью моего друга скрывалось нежное, любящее, чувствительное сердце, полное неизбывной печали. Только тот, кто очень близко знал Ивана Ивановича, мог в полной мере понять и достойно оценить его выдержку. Каких неимоверных усилий стоило ему вот так сидеть рядом с боевыми товарищами, говорить о делах и ни взглядом, ни одним словом не показать, что происходит у него на душе!
Никто не видел, как умирала Настка. Мало что было известно об обстоятельствах ее смерти и связному Василия Андреевича Бегмы. Он рассказал мне обо всем, что произошло, в нескольких словах.
Разведчики областного партизанского штаба, возглавляемого секретарем подпольного обкома, узнали от местных жителей, что молодая женщина, по внешнему описанию похожая, как определил командир разведгруппы, на связную ровенских подпольщиков, схвачена в лесу не то жандармами, не то националистами. Что с ней произошло потом? Куда ее увезли? На эти вопросы никто из крестьян ответить не мог. Тогда Василий Андреевич приказал трем партизанским группам прочесать лесной массив в районе предполагаемого пути, по которому Настка должна была возвращаться в Ровно. Ее труп партизаны обнаружили на следующий день на лесной поляне. Руки Настки были связаны за спиной, тело во многих местах обожжено. Вероятно, Кудешу долго мучили, пытали, прежде чем прострелили ей грудь очередью из автомата...
Горестным молчанием встретили весть о гибели Настки члены подпольного Центра. Мария Жарская не выдержала, зарыдала. К ней подошел Луць, взял ее за руку, негромко произнес:
— Не надо, Маша, плакать. Она не любила слез. Да и собрались мы сюда не для того...
Он сказал то, что нужно было сказать; мы действительно собрались не затем, чтобы оплакивать Настку — слезами горю не поможешь. Заседание подпольного Центра, в состав которого накануне был введен Владимир Соловьев, я созвал для того, чтобы ознакомить товарищей с письмом секретаря обкома и наметить план дальнейших действий в новой обстановке, в условиях предстоявшего изгнания немецких оккупантов с Ровенщины.
Убедительными вестниками того, что пора очищения волынских земель от иноземных пришельцев уже не за горами, были так называемые «беженцы» из восточных областей, число которых росло день ото дня. Заслышав гром канонады советской артиллерии, подгоняемые страхом ответственности за совершенные преступления, фашистские прихвостни заранее, опережая отступавшие под мощными ударами советских войск полчища оккупантов, спешили удрать на запад. В самом Ровно и в окрестностях города все чаще появлялись нагруженные до предела мешками, тяжелыми ящиками, сундуками пароконные подводы, на которых восседали вместе со своими домочадцами бывшие полицаи, бургомистры, старосты и всякая иная сволочь. Изголодавшимися хищниками набрасывались они на пригородные хутора и села. Фашисты не заботились о своих холуях, не обеспечивали их ни продовольствием, ни транспортом, ни ночлегом, но и не препятствовали их разбою. Недавние помощники оккупантов, разбойники и бандиты по натуре, еще более озверевшие от неудач гитлеровских войск на фронте, завшивевшие в кочевых таборах, обремененные семьями, награбленными пожитками и безнадежностью, они с ожесточением обирали крестьян, отнимали у них все, что могли, лишь бы набить утробу. Между «беженцами» и крестьянами окрестных деревень вспыхивали яростные стычки: местные жители дорогой ценой спасали от предателей и изменников скот, хлеб, одежду.
В городе начали свертываться некоторые гражданские и военные оккупационные учреждения. В сторону вокзала из центра города то и дело проносились нагруженные вместительными чемоданами и ящиками, аккуратно обшитыми белым полотном, грузовики, в кабинах которых ехали офицеры и их перепуганные фрау. Подъезжая к вокзалу, они со страхом поглядывали на зияющие черной пустотой проемы окон и разрушенную стену пассажирского зала.
Недавний взрыв на вокзале был действительно делом рук партизан. Его осуществил работавший в городе и хорошо известный нам разведчик медведевского отряда Михаил Шевчук, оставивший в пассажирском зале мину замедленного действия.
Взрыв произошел поздно вечером, в тот самый момент, когда в Ровно только что прибыл эшелон с пополнением для фронта. В результате взрыва на всей территории станции погас свет. В темноте дико вопили раненые гитлеровцы. Жандармские железнодорожные патрули открыли беспорядочную стрельбу на перроне. Из вагонов эшелона стали выпрыгивать немецкие солдаты.
Паника охватила вскоре весь немецкий гарнизон города. Воинские части и подразделения полиции СД были приведены в боевую готовность. В квартирах ровенчан вновь, уже в который раз, начались повальные обыски. На улицах усиленные патрули и переодетые гестаповцы чуть ли не на каждом шагу останавливали горожан, придирчиво проверяли документы, многих задерживали, отправляли в тюрьму.
В Ровно имелось немало достойных нашего внимания объектов: несколько тыловых штабов, офицерские кафе и столовые, «пакет-аукцион», кинотеатры. Чтобы выполнить задание подпольного обкома — «создать в городе надлежащую обстановку», а проще говоря, активизировать диверсионную деятельность, наносить по фашистам и их прихвостням чувствительные удары, нам требовались мины, гранаты, взрывчатка. Всем этим располагали партизаны за Горынью, по ту сторону застав карателей-немцев и секретных дозоров националистов, перекрывавших все тропы и дороги. Мы тогда еще не знали, чем закончится очередная карательная экспедиция эсэсовцев, жандармов и полицейских против партизан, однако не сомневались, что отряд полковника Медведева, значительно выросший за последние месяцы, имевший в своем составе уже сотни бойцов, непременно выстоит, отобьет вражеские атаки. Вместе с тем мы прекрасно понимали, что в дни боев партизаны не могут, как прежде, направлять в город своих посланцев, подбрасывать нам, подпольщикам, все необходимое для осуществления диверсий. Чтобы вновь наладить контакт с медведевцами, нам самим следовало предпринять решительные меры. Поскольку одиночкам-связным не удавалось пробраться за Горынь, подпольный Центр поручил Николаю Самойлову и Виталию Захарову организовать одновременный поход к месту расположения медведевцев нескольких вооруженных групп по параллельным маршрутам. Одна группа должна была пробиваться в направлении села Хотин, другая — в направлении Оржева, третья — через Клеванские леса.
Федор Шкурко ознакомил членов подпольного Центра с донесением, которое только что было получено через связного от брата Александра Гуна, Максима, действовавшего в качестве нашего секретного агента в штабе клеванских оуновцев. Несколько дней назад мы дали Максиму задание выявить главарей бандеровской «службы безопасности», которые охотились за нашими связными и другими товарищами, направлявшимися из города к партизанам, устраивали секретные засады на лесных тропах. В своем донесении Максим Гуц сообщил клеванский адрес сотенного УПА Могилы и кратко перечислил его бандитские «заслуги». Могила, как говорилось в донесении, месяц назад прибыл откуда-то из-под Дрогобыча и теперь руководит всеми «акциями» по уничтожению «большевистских агентов» и сочувствующих им местных жителей. Сотенный вполне оправдывает свою мрачную кличку или фамилию, ведет себя как настоящий палач. Он собственноручно утопил в Горыни четырех советских бойцов, бывших военнопленных, которых пытался провести в партизанский отряд Георгий Татаринов: навесил им на шеи веревки с тяжелыми камнями и столкнул в реку. Двух тяжело раненных бойцов, захваченных бандеровской бандой, по приказу Могилы прикручивали проволокой к дереву До тех пор, пока стальная нить не перерезала обоих.
Федор Кравчук попросил поручить ему лично заняться бандеровской «службой безопасности» и, в частности, сотенным Могилой. Шкурко предложил направить вместе с Кравчуком в Клеванский район небольшую группу подпольщиков из города. Однако Кравчук категорически запротестовал:
— Пусть со мной пойдет Николай Поцелуев. Этого достаточно, — сказал он. — Тут не количеством надо брать, а хитростью. Всюду немцы, засады бандеровцев. Пойдешь группой, могут накрыть, а вдвоем с политруком мы сделаем все, что нужно.
С его доводами пришлось согласиться.
2
Однажды ночью подпольщики, наблюдавшие с чердака соседнего дома за резиденцией имперского комиссара Эриха Коха, стали свидетелями поразившего их зрелища: с небольшого спортивного стадиона, расположенного неподалеку от здания рейхскомиссариата, прямо с места, без разбега поднялся необычный самолет. С минуту он черным коршуном повисел над деревьями, затем, тарахтя мотором, исчез в темном небе.
Понимая, что таинственная ночная птица вовсе не случайно выпорхнула чуть ли не из подъезда резиденции гаулейтера, старший группы наблюдателей Михаил Яремчук, едва дождавшись рассвета, побежал к Федору Шкурко, чтобы сообщить о случившемся. У Шкурко Михаил застал Луця. Подробно доложил о том, что видел ночью.
— Такие летательные аппараты у немцев имеются, — сказал Иван Иванович, выслушав рассказ Яремчука. — Называются они геликоптерами. Я как-то видел один такой на железнодорожной платформе в Здолбунове.
— А я еще ночью подумал: не удрал ли на этом голикуп... геликоптере сам Кох из Ровно? — проговорил Яремчук.
— Вполне возможно. Я даже уверен, что улетел именно он, — твердо сказал Шкурко.
— Почему так полагаешь? — спросил Луць. — Пока ничего не известно.
— А вот почему. Незадолго до вас ко мне заходил разведчик из Тынного Морев. Он тоже видел этот самолет без крыльев. По словам Морева, дело было так. Еще с вечера на аэродром, что возле Тынного, приехали два генерала с охраной. Потом появились несколько рот эсэсовцев и окружили аэродром. Морева все это заинтересовало. Он продолжал наблюдать. Часа в два ночи на освещенной прожекторами аэродромной площадке приземлился геликоптер. Немцы, толпившиеся возле машин, кричали «Хайль!», а минут через сорок, уже перед рассветом, в небо поднялся скоростной бомбардировщик, личный самолет Эриха Коха, и взял курс на запад. Вывод ясный — удрал, гад...
Мы вели наблюдение за двумя возможными маршрутами следования гаулейтера: за железной дорогой и шоссе Ровно — Тынное. Кох же избрал третий, не предусмотренный нами путь. Таким образом, отпала необходимость дежурства подпольщиков возле рейхскомиссариата и у заминированного шоссе. Луць приказал снять оба поста.
Удрученный неудачей, Михаил Яремчук вернулся к рейхскомиссариату, где оставил товарищей, распустил свою группу и направился домой, чтобы успеть перекусить перед началом рабочего дня. Работая в немецком гараже, он зарекомендовал себя человеком аккуратным и исполнительным. Свернув на Дубновскую улицу, Михаил увидел большую автомашину с крытым металлическим кузовом, стоявшую под деревом у тротуара. «Наверно, гестаповская душегубка?» — подумал он сначала, но, подойдя ближе, понял, что ошибся. Над закамуфлированным кузовом автомобиля торчала выгнутая полудугой решетчатая рама радиоантенны. Через открытую настежь заднюю дверь было видно, что в кузове установлена сложная аппаратура, за столиками сидели солдаты с наушниками. Антенна-решетка над крышей кузова медленно вращалась, как бы прислушиваясь и приглядываясь ко всему, что происходило вокруг.
«Пеленгатор! Вот оно что!» — догадался наконец Яремчук. Ему уже приходилось видеть подобную машину: ее пригоняли на ремонт в автомастерские. Знал Михаил и о том, что вражеские пеленгаторы причиняют немало хлопот партизанским радистам, засекая места расположения их раций. Об этом не раз говорили связные из отряда полковника Медведева.
Когда автомашина с пеленгатором поступила в ремонт, Михаил намеревался надолго вывести ее из строя. Однако не смог этого сделать: в гараже всегда многолюдно, постоянно торчат немцы — механики и водители. К тому же ремонтировали машину сами гитлеровцы, никого из местных рабочих к ней не подпускали.
Теперь всего в нескольких шагах от Яремчука снова стоял пеленгатор. «Не удалось тогда, может, попробовать сейчас!» — быстро прикинул он, оглядываясь вокруг. Утренняя улица казалась еще спящей, пустынной, нигде ни души. Шофер пеленгатора, прикрыв лицо пилоткой, дремал в кабине. Радисты были заняты своим делом, им не до наблюдений за улицей. Самое время... Михаил подошел ближе, неожиданно выхватил из кармана противотанковую гранату, предназначавшуюся для гаулейтера, и с силой бросил ее в открытую дверь кузова, а сам отскочил за угол дома.
Раздался взрыв. От пеленгатора во все стороны полетели обломки железа и дерева. Сидевшего у самой двери гитлеровца с наушниками взрывом отбросило на тротуар... Где-то пронзительно загудела полицейская машина: к месту взрыва спешили немцы.
Поглядев еще раз на изувеченный пеленгатор, Михаил нырнул в ворота соседнего двора, с ходу перемахнул через невысокий забор, выбрался на соседнюю улицу и спокойно, будто ничего не произошло, зашагал к своему дому. Наскоро умывшись, съел несколько холодных картофелин и, как всегда, вовремя пришел в гараж.
После обеда, когда Михаил начал монтировать очередное автомобильное колесо, к нему подошел Василий Конарев. Он только что приехал откуда-то из-за города и поставил свой грузовик на яму для профилактического осмотра. Попросив у приятеля закурить, Конарев тихо сказал:
— После работы загляни ко мне на «дачу». Ключ у порога под кирпичом. Ясно?
— Как дважды два. А ты тоже туда придешь?
— Нет. Мой шеф, чтоб ему провалиться, дохнуть мне не дает. Сейчас смотаюсь на часок домой, по дороге забегу к нашим, скажу, что предупредил тебя, и опять в рейс. Во Львов пузана повезу.
В конце рабочего дня, сложив в ящик инструменты и Обтерев ветошью руки, Яремчук, не заходя домой, сразу же отправился на «дачу» Конарева. Разыскал ключ, открыл дверь полуразвалившейся хибарки, закурил, сел на койку, стал ждать. Он привык к неожиданным вызовам. Знал: если вызвали, кто-то должен обязательно прийти. На город неторопливо опускались летние сумерки, близился комендантский час, но Яремчук терпеливо ждал. Наконец за стеной послышались осторожные шаги. В хибарку вошел Луць.
— Оружие при тебе, Михаил? — поздоровавшись, спросил он.
Яремчук утвердительно кивнул: пистолет он всегда носил при себе.
— Спать этой ночью, вероятно, не придется, — продолжал Иван Иванович. — Стемнеет, пойдем с «визитом» к одному мерзавцу, бывшему коменданту полиции Крупе. Знаешь такого? — Яремчук опять молча кивнул. — Ну коли знаешь, тем лучше. Разговор предстоит серьезный. Кстати, ты еще не забыл польский язык? Может, понадобится при разговоре, хотя пан Крупа и по-украински изъясняется вполне прилично: не первый год в наших краях болтается, я его знал, еще когда был мальчишкой. Сегодня мы навестим его под видом польских офицеров.
После того как немцы прогнали Франца Крупу с должности коменданта украинской вспомогательной полиции и он стал рядовым шуцманом, мы стали было забывать о существовании австрийца. К тому же он куда-то надолго исчезал. Луць, правда, все еще хранил взятую у Крупы расписку на деньги, якобы переданные ему польской контрразведкой. Но выжать из него, казалось, было уже нечего. Для нас Франц Крупа как бы перестал существовать. А между тем он был жив и неожиданно напомнил о себе новыми кровавыми делами.
Вернувшись после продолжительного отсутствия в Ровно, старый провокатор и агент-двойник опять принялся за разбойничье ремесло, на котором давно набил руку. Как стало известно, теперь он орудовал в зондеркоманде СД: вместе с головорезами майора Йоргенса чуть ли не каждую ночь расстреливал в урочище Выдумка советских патриотов — заключенных ровенекой тюрьмы.
И все же подпольный Центр заинтересовали тогда не ночные кровавые поездки Крупы в урочище Выдумка, хотя за участие в расстрелах заключенных австриец заслуживал самой суровой кары. Луць решил навестить его по другому поводу.
В ровенской тюрьме томился попавший во время облавы в руки гестаповцев связной грушвицких подпольщиков Андрей Володько. Многое знал он о подпольной деятельности Федора Кравчука, Николая Поцелуева, своих товарищей по молодежной группе в Грушвице. Были известны ему и некоторые городские явки. Андрей был еще очень молод, поэтому нам приходилось думать о том, как поведет себя юноша на допросах, очутившись с глазу на глаз с гестаповскими палачами. Не вытянули ли гестаповцы из него под пытками каких-либо признаний, грозивших всей организации. Эти сведения мы и решили получить от Франца Крупы. Кроме того, теплилась надежда, что, припугнув австрийца разоблачением его бывших связей с польской контрразведкой, мы сможем вызволить Андрея Володько из тюрьмы.
Узнав от Луця о цели «визита» к Францу Крупе, Яремчук с мрачной решимостью сказал:
— Мы из этого гада всю душу вытрясем, если начнет крутить!
Михаил вырос и до войны постоянно жил в Грушвице, знал своего односельчанина Андрея Володько с пеленок и готов был пойти на все, чтобы выручить его из беды.
Когда совсем стемнело, Луць и Яремчук задворками, минуя патрулей, пробрались к затемненному особняку, в котором по-прежнему жил австриец. Возле особняка, у калитки палисадника, Ивана Ивановича и Яремчука встретил Михаил Анохин.
— Дома? — коротко осведомился Луць, кивая в сторону особняка.
— Дома, — лаконично ответил Анохин.
— Под градусами?
— Кажется, так, а вообще-то, черт его знает.
— Аптекарь тоже у себя?
— Да. Минут за десять до комендантского часа вернулся откуда-то вместе с женой.
Анохин остался во дворе, чтобы вести наблюдение. Луць и Яремчук поднялись на крыльцо особняка. В одном из окон первого этажа виднелась едва заметная полоска света. Иван Иванович, придерживаясь за выступ подоконника, постучал пальцами по стеклу. Полоска света мгновенно исчезла: в комнате либо погасили лампу, либо плотнее задернули штору. Минуту спустя кто-то, шаркая ночными туфлями, прошел по коридору, прислушиваясь, остановился у двери.
— Открывайте! Гестапо! — властно приказал Луць.
Дверь открыл аптекарь. Отстранив его, Луць и Яремчук прошли в коридор. Михаил включил электрический фонарик, деловито помахал пистолетом, негромко сказал:
— Тихо, господин аптекарь. Идите к себе. Вас это не касается. Вы ничего не видели, ничего не слышали. Ясно?
Аптекарь мгновенно скрылся в своей квартире.
Знакомые Луцю по прежнему «визиту» ступени лестницы вели на второй этаж. Квартира, занимаемая Крупой, оказалась закрытой. Иван Иванович при свете фонарика попытался открыть замок отмычкой, но безрезультатно: австриец, как видно, закрылся на засов или крючок. Луць осторожно постучал. Никто не ответил. Иван Иванович постучал сильнее. За дверью послышался шорох, затем хриплый бас со злостью прорычал:
— Какого черта вам надо, господин Чигирь?.. Я уже сплю.
— Придется встать, господин Крупа! — по-польски проговорил Луць.
— Кто там?
— Поручник Витольд.
Некоторое время за дверью было тихо. Слышалось лишь поскрипывание койки.
— Господин Крупа, вы заставляете меня долго ждать в темноте. Это невежливо с вашей стороны! — насмешливо произнес Иван Иванович и... тут же отскочил от двери, оттолкнув к стене Яремчука. Он сделал это потому, что услышал характерное клацанье пистолета.
— Убирайтесь вон, большевистские выродки!.. Мне не о чем с вами разговаривать! — разъяренно заорал австриец.
Один за другим из-за двери прогремели три выстрела. Из пробитой пулями доски во все стороны брызнула щепа.
— Стреляй! — бросил Луць Яремчуку и, прижимаясь спиной к стене, несколько раз нажал на спусковой крючок своего «вальтера». Михаил, отходя по лестнице вниз, тоже послал почти всю обойму в дверь квартиры австрийца. На первом этаже истерично закричала женщина, жена аптекаря. В коридор влетел Анохин с парабеллумом в руке.
— Назад! — столкнул его со ступенек лестницы Луць.
— Так его не возьмешь! Забаррикадировался, отстреливается, гад проклятый! — выпалил Яремчук. — Сейчас бы гранату, жалко, что не захватили...
В городе, в двух или трех кварталах от особняка, затрещали автоматные очереди. По-прежнему слышались истошные крики аптекарши. В соседних домах стали просыпаться люди. Где-то трелью заливался свисток жандарма или полицая, сзывавшего патрульных в район ночной перестрелки.
Луць, Яремчук и Анохин, выскочив из особняка, перемахнули через забор и побежали по узким, темным переулкам, стараясь как можно дальше уйти от опасного места.
— Меня все же царапнуло, — тяжело дыша, произнес на бегу Яремчук, зажимая правой рукой левую чуть выше локтя.
— Так чего ж ты не сказал? — остановился Луць. — Надо перевязать!
— Потерплю! — отмахнулся Яремчук. — Задело не сильно. Сам только сейчас почувствовал.
Три силуэта промелькнули мимо большого деревянного дома, свернули за угол и исчезли, словно растворились в синеватом тумане тревожной ночи. А к особняку, в котором жил Франц Крупа, подъехала машина с жандармами...
* * *
За два дня до неудачного ночного «визита» Луця, Яремчука и Анохина к австрийцу в ровенской тюрьме был расстрелян мой отец.
Федор Захарович Шкурко, сообщивший мне эту трагическую весть, считал не случайным бурное поведение Крупы, который начал отстреливаться, услышав голос знакомого «польского офицера». Бандит из зондеркоманды наверняка уже знал, что меня разыскивает гестапо, и, по всей вероятности, хорошо понял, кем я был на самом деле. Понял негодяй и то, что пришло время, когда гестапо в любой момент может получить сведения о давних преступных связях немецкого шпиона Франца Крупы с польской контрразведкой. Поэтому спокойный голос «поручника Витольда», который снова появился в его квартире, прозвучал для старого хищника как смертный приговор.
Так это было или иначе, но после ночного «визита» подпольщиков Франц Крупа исчез из Ровно. Напрасно товарищи из группы Федора Шкурко почти неделю наблюдали за двухэтажным особняком, чтобы подстеречь австрийца. Он не появлялся. Скорее всего, после той ночи матерый бандит убедился, что пощады ему не будет, и скрылся в надежде затеряться в хаосе войны, среди катившихся все дальше на запад «беженцев».
Наши опасения насчет того, что схваченный во время облавы тяжело раненный Володько не выдержит гестаповских пыток, оказались напрасными. Андрей до последнего вздоха остался верным долгу советского патриота. Несмотря на жесточайшие пытки, он не сказал фашистским палачам ни слова и умер как герой.
3
Набросив на плечи френч, сотенный Могила с гитарой в руках вышел во двор, присел на старую колоду и, перебирая струны, гнусаво запел:
Украина-мать
Кличет нас восстать...
Время двигалось к полуночи. В небе серебрился диск луны. Настроение у сотенного было веселое, даже можно сказать, возбужденно-лирическое. Только что он отпустил двух своих подручных, агентов «службы безопасности», с которыми совещался больше часа. Не обошлось, конечно, без выпивки. В окруженной тополями хате вертлявая Варька, его новая «подруга», готовила ужин. В этой хате, что приткнулась на самой околице Клевани, Могиле все нравилось — и Варька, и сад, и Варькина мать, добрая, приветливая старуха. Сотенный в последнее время частенько наведывался сюда.
Бренчала гитара. Голос Могилы время от времени срывался на хрип: сказывались частые выпивки. Круглым пятном белело в тени его невыразительное, обросшее рыжеватой щетиной лицо.
Федор Кравчук притаился за кустом совсем рядом, при желании он мог бы дотронуться до плеча бандеровца. Возле Федора — политрук Поцелуев с неизменным парабеллумом в правой руке. Поцелуеву ничего не стоило выстрелить без промаха почти в упор в сотенного Могилу. Но бандеровский главарь нужен был подпольщикам живой, а не мертвый.
— Кончай песню! Бросай гитару! Прямо по тропинке — вперед! И не вздумай оглядываться! — прозвучал за спиной Могилы незнакомый, по-военному строгий голос.
Сотенный торопливо вскочил с колоды. С его плеч соскользнул на землю суконный френч:
— Что вы, хлопцы? — испуганно залепетал бандит. — Вы откуда? Чего вам от меня надо? Я вас не знаю...
— Зато мы тебя хорошо знаем, гад! Николай, пошарь в его карманах, обыщи: не прячет ли он там чего? — продолжал Кравчук, обращаясь к Поцелуеву.
Поцелуев извлек из кармана широких галифе сотенного новенький «зауэр».
Федор приказал бандиту идти по тропинке вниз, в огороды. Сотенный покорно зашагал, сразу примирившись с мыслью, что от этих двоих не удерешь. Он хорошо знал, что такое парабеллум, приставленный почти к самой спине: чуть шевельнешься, попытаешься шагнуть в сторону — и конец.
Кравчук и Поцелуев привели бандеровца в небольшой запущенный сад на южной окраине села, принадлежавший прежде одному из местных советских активистов, хату которого бандиты спалили еще в первые дни войны. В зарослях бурьяна возле размытого дождями пепелища уцелел лишь глубокий погреб, выложенный кирпичом. Это глухое место указал подпольщикам Максим Гуц.
— Ну вот мы и пришли, — с подчеркнутым спокойствием произнес Кравчук, будто давно собирался именно здесь мирно побеседовать с сотенным о неотложных делах. — Теперь поговорим. Мешать, кажется, никто не будет. Итак, сотенный Могила, нам нужны адреса членов вашей «службы безопасности», всей клеванской группы, которая взаимодействует с твоей сотней. Не тяни кота за хвост, называй адреса, фамилии. На этом и кончим разговор.
Могила деланно засмеялся.
— Ишь чего захотели — адреса! Зря стараетесь, паны-товарищи. Никаких адресов не получите!
— В идейного бандита играешь, гад! — сурово проговорил Кравчук. — Ты же весь в людской крови. Если всю ее, пролитую по твоей вине, собрать вместе, ты, как щенок, захлебнешься. Тоже мне, в герои лезет... Сейчас мы твои судьи, а наши свидетели — трупы утопленных тобой в Горыни советских бойцов. А сколько замученных в других местах! Всех не сочтешь... Повторяю: нужны фамилии и адреса членов «службы безопасности». Молчишь? Ну что ж, поговорим по-иному. Один такой бандит вроде тебя поначалу тоже кочевряжился, а потом все сказал. Про то, что ты по ночам у Варьки бываешь, тоже он сообщил... Лезь в погреб, бандитская тварь! — повысил голос Федор. — Николай, приготовь веревку. Будем кончать, если не хочет говорить.
Под землей пахло плесенью и гнилой капустой. Было темно, как в склепе. Поцелуев зажег свечу. Могила повел глазами и вдруг замер, уставившись в одно место: в сыром, затянутом плесенью углу погреба из-под кучи лохмотьев торчали сапоги. Больше ничего не было видно — все покрывало какое-то грязное тряпье. Не отводя от сапог налитых животным страхом глаз, сотенный зашатался, оперся о скользкую стену. Его стошнило.
— Не надо... Все скажу... все! — хрипло простонал он.
— Ну вот. Давно бы так. Говори. Буду записывать. — Кравчук вынул из заднего кармана брюк небольшой блокнот. — Николай, подойди со свечой поближе. Ни черта не видно...
Допрос закончился быстро. Могила назвал несколько фамилий и адресов, Федор записал их. После этого Поцелуев прошел в угол погреба, отбросил в сторону лохмотья. Под ними оказался... полуистлевший сноп соломы.
— Кишка у тебя тонка, пан националист, героя из себя корчить. Чучела испугался, бандит, а над людьми глумиться не боялся! — с нескрываемой злостью и презрением сказал Николай.
Сотенный затравленно озирался по сторонам. Его руки и ноги мелко дрожали. Придерживаясь за мокрую от плесени стену, он опустился на колени, гнусаво запричитал:
— Я все сказал... Жить хочу... Отпустите, буду делать, что прикажете... Вам буду служить... Не пожалеете... Смилуйтесь, товарищи...
— А ну, гнида, подымись с колен! Хоть перед смертью не ползай и не канючь, как гадина! Товарищами нас называешь!.. Не смей произносить этого слова, бандитская тварь! Нет у нас таких товарищей. Палачей, предателей, изменников вроде тебя мы будем уничтожать как бешеных собак... За все злодеяния, какие ты совершил, помогая фашистам, — смерть! Иного не может быть. Молись своему богу, сотенный Могила!
Федор Кравчук отошел к стене. Глухо прогремел пистолетный выстрел...
Той же ночью Кравчук и Поцелуев побывали в нескольких домах, по адресам, которые сообщил Могила. Встречи подпольщиков с членами бандеровской «службы безопасности» не отличались ни продолжительностью, ни многословием...
* * *
В последующие дни банды националистов все еще продолжали контролировать берега Горыни, устраивать засады. Бродили по-над рекой дозоры УПА. От их пуль погибли подпольщики с Бабинского сахарного завода Павел Строков и Александр Володько, пытавшиеся переплыть реку, чтобы пробраться к партизанам.
И все же удары, нанесенные Кравчуком и Поцелуевым по бандитской верхушке, оставили свой след, заметно дезорганизовали цепь вражеских заслонов, нарушили их строй. Одной из наших вооруженных групп удалось через Оржев пробиться к партизанам. Отряд полковника Медведева, в свою очередь, основательно потрепал некоторые эсэсовские части, принимавшие участие в карательной экспедиции и блокировании леса. Теперь у нас вновь появилась возможность поддерживать контакт с медведевцами.
Были восстановлены «маяки» на хуторе в районе села Городок и под Оржевом. Мы, как и раньше, стали более или менее регулярно отправлять в штаб медведевского отряда для передачи за линию фронта донесения с разведданными. Группа Федора Шкурко заработала с прежней интенсивностью. Начал переправлять к партизанам часть своих людей Павел Мирющенко. Вместе с тем по договоренности с командованием партизанского отряда он послал в Винницу члена своей организации Григория Федоровича Калашникова для установления связи с тамошним подпольем, о котором полковник Медведев получил первое, еще расплывчатое, неясное, но интересное сообщение.
Через Ивана Ивановича Луця Павел Мирющенко передал, что ему необходимо поговорить со мной, вместе обсудить некоторые вопросы. Я согласился на встречу. В подвале электрошколы Мирющенко и его друзья еще до нашего первого знакомства оборудовали небольшой тайник с хорошо замаскированным входом. В нем и состоялась на этот раз наша непродолжительная беседа.
— Немцы отступают. Близится время, когда побегут и из Ровно, — сказал Мирющенко. — Впрочем, кое-кто из них уже удирает, — добавил он. — Какие у вас соображения насчет нашей дальнейшей деятельности?
— Подпольный обком партии дал конкретные указания, что необходимо делать.
— Как? Вы имеете связь с обкомом?! — воскликнул Мирющенко.
— Да. Несколько дней назад получили от секретаря обкома письмо. Он советует заранее подготовиться к охране наиболее важных промышленных объектов в городе от возможных попыток немцев разрушить их. Для гитлеровцев в Ровно надо создавать невыносимую обстановку, а также всеми мерами противодействовать вывозу советских людей в Германию. И еще: никаких компромиссов с ОУН или УПА. Такова основная суть указаний обкома.
— Понятно, — задумчиво протянул Мирющенко. — Сегодня же скажу нашим врачам, чтобы усилили «выбраковку» тех, кому грозит вывоз в Германию. Пусть побольше выдают справок о всяких болезнях и немощах... Я полагаю, нам надо как-то скоординировать и действия диверсионного характера, — продолжал заведующий электрошколой после короткой паузы. — Мы тут на днях прикидывали, что можно предпринять. В первую очередь думаем заняться бензоцистернами на станции. Держим на примете почту и телеграф, а также немецкий узел связи, что напротив сгоревшей фабрики чурок.
— Ну что ж, объекты, заслуживающие внимания, — ответил я. — В таком случае наши группы займутся другими «целями», чтобы не тратить время и силы на одно и то же. Со дня на день мы ожидаем из партизанского отряда мины и взрывчатку. Как только «гостинцы» поступят, поделимся с вами по-братски. Через два дня под вечер заходите в домик на улице Первого мая, где мы встречались первый раз. Думаю, к тому времени мы кое-что уже получим. Как настроение у ваших товарищей?
— Настроение боевое. Многим подпольщикам удалось благополучно переправиться в лес. В городе осталось человек пятнадцать, не больше. Наше основное ядро. За этих я спокоен.
— Если придется туго, запомните адрес, товарищ Мирющенко: село Городок, хутор Иосифа Чиберака. Ведите людей туда. Там наша ближайшая к партизанам явка. Хутор Иосифа Чиберака. Запомните? — повторил я.
— Запомню. Спасибо!
Павел проводил меня до выхода. Мы попрощались.
Над городом висела серая, по-осеннему холодная пелена дождя. Дул порывистый ветер, покрывая рябью грязные уличные лужи. Проносившиеся мимо машины обдавали прохожих брызгами. По тротуарам неярко освещенной Гитлерштрассе время от времени проходили немцы в мокрых, блестевших от дождя плащ-накидках...
Я свернул в темный переулок и поспешил на склад утильсырья, к Поцелуеву, куда должны были прийти Федор Шкурко и Иван Луць.
Сторож склада, худой старик лет шестидесяти, предупрежденный заранее Поцелуевым, беспрепятственно пропустил меня во двор. Под навесом грудились кучи всевозможного тряпья, костей, жестяного хлама, а среди двора, прямо под открытым небом, высились кипы бумаги, в основном книг. Их по приказанию немцев свезли сюда изо всех библиотек города и окрестных сел. Они мокли под дождем, расклеивались, превращались в хлам.
— Любуетесь делами представителей «цивилизованной» нации? — послышался сзади голос Николая Поцелуева. — Тут, Терентий Федорович, можно найти все, что за многие века создал человеческий гений: книги Пушкина и Шевченко, Толстого и Гейне, Достоевского и Шекспира, учебники и детские сказки. Много редких, старинных изданий, которые хранились в костелах. Иногда ночью зажгу плошку, читаю. Сердце обливается кровью, когда подумаешь, какие ценности пропадают. Ничего для фашистов нет святого...
— А нельзя ли спрятать, сохранить хотя бы часть наиболее ценных книг? — спросил я.
— Можно, конечно. И кое-что мы делаем. Вон, к примеру, наш сторож, — кивнул Поцелуев в сторону проходной. — Старик, больной, без палки шагу не может сделать, а своими руками горы книг переворочал. Отбирал произведения Ленина, несколько ночей подряд переносил на чердак. Я тоже туда кое-что снес. Потолок от тяжести прогнулся, боюсь, как бы не обрушился. Только бы уцелел склад, много книг сохраним... Идемте в помещение, Терентий Федорович, а то вы и так промокли до нитки. Дождь холодный, недолго и простудиться.
Мы вошли в большой деревянный амбар, чуть ли не до потолка заваленный отходами пеньки. Там было сухо и тепло. Поцелуев дал мне ломоть ржаного хлеба и головку лука. Я с аппетитом съел небогатый ужин и задремал. Разбудили меня появившиеся вскоре Луць и Шкурко.
— Из Шпанова приходил Сергей Зиненко, — сообщил Луць и вытащил из кармана трубку и зажигалку, намереваясь закурить, но Поцелуев молча указал на сухие, как порох, отходы пеньки, и Иван Иванович спрятал трубку в карман. — Приходил Зиненко, говорю, — продолжал он. — Позавчера Сергей вместе с бывшим лейтенантом-связистом Захаровым, однофамильцем нашего тучинского товарища, уничтожили цистерну конопляного масла. Лейтенант, правда, немного обжегся, но масло все-таки немцам не досталось... Это так, к слову. Главное — в другом. Зиненко беспокоится, как быть с заводом? Завод продолжает работать на полную мощность, немцы вагонами вывозят сахар. Зиненко еще прошлой зимой предлагал сжечь предприятие. Потом шла речь о том, чтобы уничтожить, вывести из строя наиболее ценное оборудование. Задержка была за взрывчаткой. Я тогда предложил Зиненко мину. Он повертел ее в руках, убедился, что она противопехотная, сказал, что ею главный вал машины не перебьешь. Одним словом, вышла тогда задержка, а теперь Сергей и сам отказался от взрыва. Завод, говорит, надо сберечь. Придут наши — пригодится. Он прав. Об этом же и Василий Андреевич Бегма пишет. Зиненко имеет новый, по-моему, неплохой план. Сейчас на заводе начали кагатовку свеклы. Всего, как говорит Сергей, будет закагатовано тысячи полторы тонн. Махина! Сергей берется сохранить кагаты в целости до прихода Красной Армии. По этой части у него имеется опытный консультант — кагатник Каленик. Мужик, говорит, честный, не подведет. Ну а с заводом так. Разыскал Сергей одного специалиста-химика из военнопленных. Тот советует засахарить воду в паровых котлах. Сахар отложится на паропроводах, затвердеет. Сколько после этого ни нагревай котлы, нужной температуры не нагонишь. Производство сахара сократится раз в пять-шесть. А поскольку среди немцев на заводе нет настоящих мастеров-сахароваров, о подлинной причине плохого нагрева котлов никто не догадается. Все можно свалить на низкую калорийность угля. Таким образом завод «заморозится», сырье и предприятие будут целы, разумеется, при условии, если подпольщикам удастся сохранить завод от взрыва самими немцами при отступлении из Шпанова. Об этом тоже Сергей подумал. В Шпанове работают более ста бывших бойцов и командиров Красной Армии из военнопленных. Если их организовать и вооружить — ребята отстоят завод, не дадут немцам взорвать его...
Федор Шкурко, слушая Луця, то и дело озабоченно вздыхал.
— Я, к сожалению, ничего хорошего сообщить не могу, — сказал он, как бы извиняясь. — Всюду облавы. Жандармы и полицаи хватают людей на базарах, на улицах, сажают в машины, везут на станцию для отправки в Германию. Да и с востока подходят один за другим эшелоны с молодежью. С местными-то немного проще. Врачи выдают парням и девушкам справки о нетрудоспособности, о всяких там заболеваниях. В этом принимают участие даже те медики, которые никогда не были связаны с подпольем. Гражданские больницы в городе переполнены: под видом тяжелобольных заразными болезнями, прежде всего сыпняком, врачи, по существу, прячут там молодежь от угона на фашистскую каторгу. Много фальшивых документов выдаем людям и мы, вовсю используем бланки аусвайсов, которые добывают для нас гощанцы. В результате в эшелоны попадают в основном лишь те, кого немцы хватают на улицах. А вот с транзитными поездами, в которых фашисты увозят молодежь из восточных областей, дело обстоит хуже. Тут мы бессильны что-либо предпринять. Вагоны опутаны колючей проволокой, тщательно охраняются. Да и эшелоны в Ровно останавливаются не больше как на три — пять минут...
Докладывая обо всем, что могло интересовать меня, Луця и Поцелуева, Федор Шкурко одновременно протирал чистой тряпкой пистолетные патроны. Наполнил обойму, вставил в парабеллум, засунул пистолет во внутренний карман пиджака, тяжело вздохнул и, ни на кого не глядя, продолжал:
— Плохие вести из Корца. Там, на мосту, националисты убили руководителя молодежной подпольной группы Аврама Быстрецкого. Выстрелили прямо в лицо, гады. Нашли у парня в кармане газету «Правда», прикололи ее булавкой к трупу: дескать, знайте, за что убили. Жаль, ни разу не удалось встретиться с Аврамом. Зиненко говорит, чудесный был парень, смелый и умный... В Бабине несколько дней назад полицаи из СД схватили Ивана Подгорного, того, что подорвал немецкий дизель с прицепом. Вот такие дела, товарищи... В Тучине тоже гестаповцы напали на след подпольщиков. К счастью, тучинские товарищи своевременно узнали об этом. Виталий Захаров вовремя вывел из села всех своих людей, пришел с ними в Ровно. Позавчера мы переправили их к партизанам. В числе тучинских подпольщиков два фельдшера и военный врач Алевтина Щербинина. Для медведевцев хороший подарок. Им сейчас, после боев с карателями, медики вот как нужны, — Шкурко провел ребром ладони по горлу. — Я вот еще что хотел сказать. Виталию Захарову надо, по-моему, запретить возвращаться в Тучин. Опасно и нет особой необходимости. Он там оставил хорошо законспирированную тройку. Люди знают, что делать. Виталия следует приспособить к другому делу. Теперь у нас вновь наладилась связь с партизанами, имеется группа связных. Вот Захарову и надо бы возглавить их, стать старшим. По-моему, такое задание ему по плечу.
— Парень твердый. Путь на «маяки» знает как свои пальцы — не раз водил туда людей. В бою тоже не струсит, — поддержал Иван Иванович предложение Шкурко.
Оба они очень хорошо знали Виталия Захарова, поэтому у меня не было никакого повода возражать против назначения руководителя тучинских подпольщико» старшим группы связных.
Шкурко протянул мне небольшую, свернутую вчетверо бумажку:
— Вы просили, Терентий Федорович, подготовить план здания «Ристунгинспекцион». Я тут кое-что набросал.
— Хорошо. Посмотрим. А что, там по-прежнему собираются немцы?
— Каждый вечер. С чисто немецкой аккуратностью приходят к двадцати двум ноль-ноль.
Луць и Шкурко недолго задержались на складе утильсырья. Мы договорились, что встретимся следующей ночью у сестер Подкаура, и они ушли.
На бумажке, которую передал мне Федор Шкурко, был не очень умело начерчен карандашом план старого военного городка на улице Парижской Коммуны, в одном из корпусов которого размещался так называемый «Ристунгинспекцион Украина» — крупный тыловой штаб, где обычно допоздна засиживались офицеры. Примерное расположение казарм в военном городке было мне известно. Начертить план я попросил Шкурко лишь для того, чтобы наверняка знать, в каком из корпусов собираются по вечерам офицеры со штабными картами. На плане Федор отметил крестиком десятый корпус, к которому, судя по чертежу, вплотную примыкал парк. Поцелуев взял у меня бумажку, повертел в руках и недовольно насупил брови: объект, мол, важный, но попробуй разберись по этим мудреным загогулинам, что к чему.
— Знаешь что, политрук! — обратился я к Николаю. — Давайте-ка сами сходим в военный городок, собственными глазами посмотрим на этот чертов «Ристунгинспекцион». Тут совсем недалеко. Погодка тоже подходящая, не так уж много шляется по улицам патрулей. Дождь наверняка загнал их под крыши.
— Правильно. Надо самим посмотреть, Так вернее, — согласился Поцелуев.
Шлепая по лужам и осторожно всматриваясь в темноту (не наткнуться бы внезапно на гитлеровцев), мы глухими переулками быстро добрались до военного городка. Подошли со стороны обнесенного высоким забором парка. Отсюда десятый корпус, несмотря на густую темень, был виден довольно ясно. На фоне стены на втором этаже чернели квадраты четырех больших окон.
Я приподнял обшлаг мокрого рукава пиджака, посмотрел на светящийся циферблат часов: они показывали половину двенадцатого ночи. Поздновато мы пришли. Еще час назад в этих окнах был свет, в зале за длинным столом сидели немецкие офицеры, поочередно высказывали свои соображения чопорному генералу, занимавшему председательское место в конце стола. Такую картину не раз наблюдали Федор Шкурко и его разведчики.
Корпус с тыла не охранялся. Часовой стоял лишь у входа, а чуть дальше улица была перегорожена шлагбаумом, возле которого прохаживались солдаты с винтовками. У всех водителей и пассажиров машин, проезжавших мимо «Ристунгинспекцион Украина», они придирчиво проверяли документы.
— Ну как, политрук? — кивнул я на десятый корпус.
— Подобраться нетрудно, — тихо ответил он, понимая без слов, о чем идет речь. — Забор старый, полусгнивший. Выломать в нем пару досок — раз плюнуть. Яремчук считает: достаточно одной противотанковой гранаты, чтобы выпотрошить эту контору.
— Что ж, пожалуй, он прав. Только надо ему сказать, чтобы предварительно потренировался. Окна второго этажа довольно высоко от земли. Промахнется, отскочит граната от стены, шарахнет под ногами — и конец. Надо, чтобы без промаха.
— Точно. Потренироваться придется, — согласился Николай.
4
Группа связных во главе с Виталием Захаровым доставила в город из партизанского отряда мины и гранаты. С Захаровым и Шкурко я встретился на квартире сестер Подкаура. Виталий доложил:
— Часть боеприпасов мы оставили на «маяке» у Иосифа Чиберака. Несколько мин сдали на хранение Николаю Ханже, одну взял Луць, сказал, что спрячет на фабрике валенок.
— Вот этого не следовало бы делать, — вставил Шкурко. — С фабрикой покончено. Там нельзя держать ничего компрометирующего, тем более мину.
«Федор прав, — подумал я. — Надо обязательно сказать Ивану».
В комнату вошла маленькая хозяйка квартиры Валя. Я спросил у нее, нет ли чего перекусить, заботясь больше не о себе, а о Виталии, который выглядел утомленным и наверняка был голоден.
— Картошка есть, дядя Терентий, и кофе с сахаром, — как всегда немного смутившись, ответила Валя. — Ксеня днем посылала меня на базар, а там такое поднялось — просто ужас. Налетели жандармы, стали хватать людей, запихивать в машины... Хорошо я успела купить картошку до облавы...
По-взрослому подвязав фартук, Валя принесла из кухни и поставила на стол миску с вареным картофелем, большой кофейник, тарелку с сахаром.
— Ого, сколько сахару! — удивился Шкурко. — Тоже с базара?
— Нет, там такого не продают, — рассудительно пояснила Валя. — Скажете тоже: с базара!.. Сахар нам приносят из Бабина дядьки, те, что на ночь под подушки бомбы кладут. Каждый раз говорят: «Корми, Валя, наших хлопцев. Хлеба нет, пусть больше едят сахара, полезно». Вы ешьте на здоровье!
Под окнами послышались шаги. Захаров вскочил со стула, сунул в карман руку. Валя с детской наивностью успокоила:
— Не бойтесь. То дядя Иван.
— А ты почему знаешь? — спросил Виталий.
— Я всегда его по шагам узнаю.
Валя пошла открывать дверь. Она не ошиблась: в комнате вслед за ней появились Луць и Соловьев, оба хмурые, сосредоточенные.
Минут сорок назад они в квартире Луця рассматривали мину, переданную Ивану Ивановичу Захаровым. Мина была новой, необычной конструкции, вмонтирована в небольшой удобный для переноса чемоданчик. Знакомясь с подарком партизан, друзья негромко обменивались короткими замечаниями. Вдруг за стеной, у соседа-фольксдейче, послышался приглушенный кашель.
Иван Иванович не стал скрывать от нас своих опасений.
— Возможно, сосед кое-что слышал. Стена тонкая, не капитальная...
Я едва сдержал себя, чтобы не отругать Луця. Старый подпольщик, опытный конспиратор — и вдруг такая беспечность!
— Николай Михайлович, — обратился я к Поцелуеву, — приходилось вам видеть соседа Луця?
— Да. Иван Иванович как-то показывал его мне.
— Тогда вот что: сейчас же идите к нему. Найдите любой повод, назовитесь кем хотите, хоть самим Гитлером, но обязательно побывайте в его квартире, узнайте, что этот тип представляет собой, чем занимается. Поинтересуйтесь его документами. Как это сделать, не мне вас учить, сами знаете. Только побыстрее. Понятно?
— Все ясно, Терентий Федорович. Иду, — отозвался Поцелуев, натягивая на ходу потертое пальто.
— Я тоже пойду с Николаем, — поднялся Шкурко.
На меня вопросительно посмотрел Соловьев. Я кивнул. Они втроем вышли на улицу.
Валя отправилась в кухню. В комнате остались мы с Луцем.
— Какого черта, Иван, ты держишься за свою квартиру? О чем думаешь? Дожидаешься, чтобы твой сосед-фольксдейче подвел тебя под монастырь?
Лицо Луця оставалось неподвижным. Он закурил трубку, подошел к окну. Я впервые заметил на его висках седину. И вдруг догадался: он все еще ждет Настку, знает, что ее нет, и все-таки ждет.
— Она не придет, Иван. Напрасно ты мучишься и подвергаешь себя опасности, — сказал я, понимая, что слова мои жестоки и, может быть, не совсем уместны; но Луць был моим другом, и я не мог не напомнить ему о суровой правде. — Тебе страшно оставить дом, потому что думаешь: вдруг вернется Настка, вместо тебя встретит в квартире гестаповцев. Пойми, Иван, она больше никогда не вернется. Тут не может быть счастливой ошибки. Ее видели мертвую, видели наши люди. Оттуда не возвращаются...
Луць молчал. Это было тяжелое, невыносимо тяжелое молчание. Где-то неподалеку прогремел выстрел. Вздрогнув от неожиданности, Иван Иванович глянул на меня из-за плеча, глухо проговорил:
— С квартирой я распрощался, больше туда не вернусь. «Хвост» за собой таскаю. Вот какое дело. С фабрикой тоже, видно, придется кончать. Почти все связные, которые знали фабрику как явку, уже побывали у меня. Теперь они туда больше не придут. Новое место встречи с товарищами из районов — сторожка Самойлова на кладбище. Об этом ты знаешь. Не хотелось мне оставлять фабрику так, за здорово живешь. Надо бы хоть чесальные машины и моторы вывести из строя. Но теперь поздно. Если мой сосед по квартире агент гестапо и подслушал наш сегодняшний разговор с Соловьевым, то наверняка уже успел донести. А раз так, за мной ночью придут. Гестаповцы не любят ждать. Не застанут дома, завтра чуть свет на фабрику пожалуют. Выходит, как ни крути, а на фабрику возвращаться нельзя.
— Решение разумное, Иван. Впрочем, подождем ребят. Может, выяснится что-нибудь новое.
Вскоре возвратились Поцелуев и Соловьев. Соседа Лудя подпольщики не застали дома. Квартира оказалась закрытой на замок. Мину в чемоданчике Поцелуев забрал и принес с собой.
— А где Шкурко? — спросил я Николая.
— Он распрощался с нами на улице, сказал, что ему надо встретиться с Дубовским из Красного Креста.
— За фольксдейче, к которому вы ходили, надо следить, Николай Михайлович! — тоном приказа сказал я Поцелуеву. — Поручаю это вам вместе со Шкурко. Выясните, кто он, куда ходит, с кем водит знакомство. Марии Жарской передайте, чтобы любым способом распространили на фабрике валенок слух, будто Иван Иванович тяжело заболел и когда выйдет на работу, неизвестно.
5
С каждым днем оккупанты чувствовали себя в Ровно все неуютнее и неувереннее.
На ровенских городских предприятиях едва теплилась жизнь. Почти полностью прекратилась работа на мебельной фабрике, на «Металлисте», на кафельном заводе, на деревообрабатывающей фабрике, на складе лесоматериалов. Несмотря на угрозы репрессий, рабочие не выходили в цеха, разбегались: одни спешили в села, другие — в лес, к партизанам.
Еще недавно немецкие военные чиновники провожали из Ровно в Германию лишь свои семьи. Теперь же они и сами сидели на чемоданах, готовые в любой момент бежать из города. Германская военная машина все больше чадила, и в этом чаду самим немцам с каждым днем становилось труднее дышать.
Возле десятого корпуса военного городка постоянно толпились офицеры, о чем-то возбужденно спорили. На примыкавших к казармам улицах появились таблички-указатели с буквой «К» на силуэте белого лебедя. Солдаты в стальных касках, дежурившие у шлагбаума, перегораживавшего улицу Парижской Коммуны, с еще большей тщательностью проверяли документы у всех, кто направлялся к «Ристунгинспекцион Украинэ».
Поцелуев, Яремчук и Николай Ханжа еще засветло пробрались в парк, примыкавший к десятому корпусу, и вели наблюдение. По-осеннему быстро стемнело. На стенах казарм затанцевал неровный свет фар проезжавших мимо машин. Трещали мотоциклы. С наступлением темноты на противоположной стороне от входа в десятый корпус появился часовой. Он прохаживался под самыми окнами здания.
— Позавчера его тут не было.
— Придется действовать по-другому, — объявил Поцелуев. — Ты, Николай, останешься у забора, — повернулся он к Ханже. — Если что, отвлечешь фашистов огнем. Мы с Яремчуком попытаемся поближе подобраться к часовому. Как только я выстрелю, бросай, Михаил, гранату в окно. Главное, чтобы часовой не открыл стрельбу раньше. Иначе немцы зададут нам перцу.
— Черт с ними. Лишь бы до окна добежать, — пробурчал Яремчук, вытаскивая из-за пояса тяжелую противотанковую гранату. — Пошли, политрук. Сколько там на твоих часах?
— Без пяти десять.
— Генерала бы не проворонить...
Осторожно раздвигая кусты, Поцелуев и Яремчук приближались к часовому, который по-прежнему неторопливо прохаживался возле стены. Поцелуев слегка толкнул локтем Яремчука, тщательно прицелился... Падая, часовой ударился спиной о выступ фундамента.
Яремчук метнулся к стене дома. Поднялся во весь рост, отвел в сторону руку, и граната, пробив двойные стекла рамы, полетела на второй этаж, в увешанный штабными картами зал.
Николай Ханжа, наблюдавший за всем, что произошло, от забора, уверял потом, что граната упала прямо на стол перед генералом. Но вряд ли он мог увидеть такую подробность. Просто ему хотелось, чтобы было именно так. Где взорвалась граната — на столе или под столом, — не имело значения. Важно другое. Мощный взрыв потряс здание, донесся и до «дачи» Васи Конарева, в которой я ночевал. Затем в районе улицы Парижской Коммуны началась беспорядочная винтовочная и автоматная стрельба. Она продолжалась с полчаса, то затухая, то разгораясь с новой силой. Я с тревогой прислушивался к выстрелам: «Удалось ли ребятам уйти?» В третьем часу ночи в узкую дверку «дачи» постучали. Я открыл. У порога, едва держась на ногах, стоял Николай Поцелуев. Я помог ему войти, запер на крючок дверь, включил электрический фонарик. Николай был без фуражки. Одна штанина до колена разорвана. На подбородке политрука сочилась кровью глубокая, длинная царапина.
— Все живы? — спросил я. — Где Яремчук и Ханжа?
— Живы. Все живы. Ребята отправились на хутор, в Тынное, а я сюда, — сказал Николай и, пошатнувшись, схватился за спинку кресла.
— Ты что, ранен?
— Нет, — морщась от боли, покачал головой Поцелуев. — Этот гад рукояткой пистолета по голове стукнул. Аж в глазах мельтешит...
— Кто стукнул?
— Да этот... Как его? Фольксдейче, сосед Луця...
Я сначала ничего не мог понять. При чем тут сосед Луця? Ведь Поцелуев возглавлял операцию по разгрому штаба «Ристунгинспекцион Украинэ». Как он попал в квартиру фольксдейче?
Николай сел в старое кресло, попросил меня намочить тряпку, прижал ее левой рукой к затылку, а правой извлек из кармана какие-то бумаги:
— Вот, полюбуйтесь!
Печать с хищно расправившим крылья, держащим в когтях фашистскую свастику орлом. Мелкий готический шрифт. Удостоверение о том, что сотруднику полиции СД такому-то разрешается ношение оружия — пистолета системы «парабеллум» за номером 914859.
Николай, продолжая прижимать к затылку мокрую тряпку, не без удовольствия пояснил:
— Удостоверение фольксдейче. По всему видно, опытным шпиком был, особым доверием у немцев пользовался... Теперь насчет того, как я попал к нему. Помните, вы посылали меня с ребятами на квартиру к фольксдейче узнать, что это за тип? К сестрам Подкаура мы вернулись тогда вдвоем с Соловьевым, а Шкурко по дороге откололся от нас, сказал, что ему нужно встретиться с Иваном Дубовским из Красного Креста. На самом деле он отправился не к Дубовскому, а к зданию управления полиции СД. Федор рассчитал правильно: если фольксдейче подслушал разговор Соловьева и Луця, то непременно побежит к своим хозяевам с доносом. Так и случилось. Шкурко засек гада, когда тот выходил из управления полиции. Значит, донес. Вчера мне Федор рассказал все подробно... Ну, а дальше так. Разделались мы с «Ристунгинспекцион», Соловьев и Ханжа двинулись на хутор. Я хотел было к себе на склад пойти, потом передумал: решил по пути заглянуть к соседу Луця. Подхожу к дому, вижу, стоит этот голубчик возле калитки, прислушивается к пальбе на улице Парижской Коммуны. Подобрался я к нему из-за угла: «Руки вверх!» Сначала поднял, как увидел у меня парабеллум. Потом рванулся в сторону, успел выхватить из кармана пистолет. Я бросился за ним. Хотелось живьем взять гада, отвести на фабрику валенок (ночью там, кроме сторожа Михала, никого нет), допросить как положено, узнать, что он успел сообщить своим хозяевам о Луце. Только когда схватились мы, он саданул меня по затылку рукояткой пистолета. Как я на ногах устоял, сам удивляюсь. Пришлось стрелять...
— Кто из наших в последнее время бывал на квартире у Ивана Ивановича?
— Соловьев заходил, Шкурко наведывался, я раза два был, — перечислил Поцелуев.
— Вот это меня больше всего беспокоит, Николай Михайлович.
— А чего беспокоиться? Не фотографировал же нас фольксдейче. Адресов наших тоже не мог знать. Допустим, видел, приметил — один чернявый, другой блондин, третий такой-то. Что это даст гестапо и полиции СД? Ровным счетом ничего. Был у Луця сосед, теперь его нет. Мертвый шпик уже не опасен. Фашисты и без того давно за нами гоняются. Не даваться им в руки — вот и вся музыка. Иное дело Иван Иванович. Он находился у этого типа под боком. Хорошо, что вовремя ушел с квартиры. А всех нас, кто заходил к Луцю, — ищи ветра в поле!..
— Возможно, так, но все же лучше бы вам перебраться в лес, к медведевцам. Безопаснее. Что ни говори, а приметы тех, кто бывал у Луця, фольксдейче, наверно, сообщил гестапо.
— Ну и что из того? Вас гестаповцы знают как облупленного и разыскивают. Тоже опасно.
— Я, Николай Михайлович, на нелегальном положении. Меня схватить не так просто, а вы все четверо на службе, занимаете определенные должности. Вас в любое время могут сцапать.
— Хорошо, — с некоторым раздражением произнес Поцелуев. — Нам, говорите, надо уходить в лес, к партизанам. А сами-то вы почему в отряд не идете?
— Я не то что пошел, полетел бы к партизанам, если бы не должен был оставаться в городе.
— Ну если вам надо, то и нам тоже. Будем вместе, Терентий Федорович, пока возможно. Самое страшное теперь позади. Наши вон как наступают!.. Представляю, какие они теперь, наши ребята в гимнастерках с погонами! — продолжал политрук после паузы. — Мы в сорок первом отступали, кровавыми слезами плакали, но отступали, ничего не могли поделать. А они теперь так погнали фашистов, что от гитлеровской армии щепки летят. Сила! От Волги до Днепра прошагали! И дальше погонят, не остановятся. Теперь не остановятся!..
Он говорил о советских солдатах и офицерах, как о людях какого-то нового поколения, какого-то чудо-племени, которые сумели сделать то, чего не смогли сделать ни сам он, ни его товарищи в трудном сорок первом. Говорил, видимо не думая, что и он, политрук Николай Поцелуев, принадлежал к тому же самому племени.
6
Весь следующий день на улицах, примыкавших к военному городку, гудели моторы автомашин и мотоциклов. Убитых и раненых из десятого корпуса гитлеровцы вывезли еще ночью. Теперь на улицах суетились гестаповцы, жандармы, полицаи. Из окруженных плотным кольцом кварталов никого не выпускали. В квартирах горожан шли повальные обыски.
Шкурко сообщил, что возле магистрата выгружаются полевые подразделения войск СС. Все дороги на выезде из Ровно перекрыты патрулями. Возможны новые массовые облавы. Федор Захарович не советовал мне оставаться дальше на «даче» Васи Конарева.
— Только вот куда вам податься, сам пока не знаю, — привычно приглаживая волосы, говорил Шкурко. — Можно бы в Тютьковичи, в больницу к Убийко, да боюсь, не пройти туда сейчас. Легче добраться до хутора Николая Ханжи, только во время прошлой облавы немцы и там побывали. Есть еще одно надежное место. Возле вокзала живет мой хороший приятель Виктор Жук. Явка эта малоизвестная. Привокзальные улицы густо заселены немцами. Фашисты считают район вокзала благополучным, до сих пор там не было ни одного обыска...
Я знал квартиру семьи Жук. Еще будучи директором фабрики валенок, однажды ненадолго заходил туда.
Ночь была темной, ветреной. Временами накрапывал холодный дождь.
— Я провожу вас до вокзала, — предложил Соловьев.
Держа наготове пистолеты, мы быстро пересекли Гитлерштрассе, перебрались через железнодорожный переезд.
— А мина? — вдруг остановился Соловьев. — Мина-чемоданчик осталась на «даче» в тамбуре за дверью...
— Ладно, возвращаться не будем, — сказал я, секунду подумав. — Конарев поехал в Луцк, вернется дня через три-четыре. Даже если немцы обнаружат мину, ему ничего не грозит. Мало ли кто мог ее положить! Да и вряд ли жандармы будут обыскивать хибарку. Потом скажем Федору, он заберет чемоданчик.
Глухими переулками мы вышли к дому, в котором жила семья Жук. Вошли в переднюю. Хозяин и его молодая жена, ни о чем не расспрашивая, пригласили раздеваться. Мы с Владимиром переглянулись. У меня и Соловьева за поясами было по две гранаты. Как тут разденешься при женщине и двух малышах-мальчишках, которые с детским любопытством рассматривали незнакомых людей. Я жестом показал Виктору Жуку, что не могу снять плащ при детях. Догадавшись, в чем дело, Виктор выпроводил мальчиков в соседнюю комнату.
— А ее можете не стесняться, — кивнул он в сторону жены. — Она не из пугливых.
И в самом деле, молодая женщина абсолютно спокойно смотрела, как мы распихивали по карманам гранаты. Соловьев сразу повеселел. Квартира ему понравилась, и он остался ночевать вместе со мной.
Утром Виктор ушел из дома, долго не возвращался. Мы уже стали беспокоиться. Но часам к двенадцати хозяин квартиры вернулся с важной вестью: в городе идут разговоры о том, что ночью партизаны выкрали из особняка, что неподалеку от рейхскомиссариата, немецкого генерала. Эсэсовцы прочесывают многие кварталы. По улицам, в сторону тюрьмы, то и дело проносятся машины с арестованными. Немцы хватают всех подозрительных, производят обыски в квартирах, осматривают чердаки, подвалы. По всей вероятности, надеются, что партизаны не успели вывезти похищенного генерала за город и держат его где-нибудь в тайном укрытии.
Вечером Виктор сообщил еще одну ошеломляющую новость: в помещении так называемого «особого суда» выстрелом из пистолета убит главный фашистский судья на Украине Альфред Функ.
— Выкрасть генерала... Уничтожить оберфюрера СС Функа... Ничего не скажешь, смелые, отчаянные операции, — рассуждал вслух Соловьев. — Тут без участия Грачева не обошлось.
— Вы тоже слышали о Грачеве, Владимир Филиппович?
— А как же. С тех пор как был убит генерал Гель, наши товарищи часто вспоминают Грачева. Возможно, фамилия эта вымышленная, но одно ясно: партизаны не забывают о Ровно. В Гоще еще поговаривают о каком-то немце, будто бы причастном к уничтожению и Геля, и Даргеля, и кое-кого еще.
— Я тоже слышал об этом немце. Многие в городе утверждают, что гранату в Даргеля бросил немецкий офицер. Но сейчас всякое можно услышать. Попробуй разберись, где правда, а где вымысел. Когда начались разговоры о таинственном немце, будто бы убившем Даргеля, мы сообщили об этом в партизанский отряд. Полковник Медведев — человек опытный, пошлет своих разведчиков, разберется, что к чему. Правда, на наше сообщение о немце мы не получили никакого ответа, никакого задания. Может, полковник не принял это известие всерьез: все-таки слухи, и только. Словом, думай как хочешь...
— Такого бы немца пригласить на часок-другой в Гощу, — мечтательно проговорил Соловьев. — По тамошнему крайсландвирту Кригеру давно пуля плачет. За два года он столько бед причинил гощанцам! Десятки людей отправил в тюрьму за неуплату налогов и саботаж. Из кожи лезет, помогая карателям в борьбе с партизанами. Не знаю еще, что получится, а гощанские подпольщики настроены так: живым Кригера выпускать нельзя...
— Владимир Филиппыч, — прервал я рассуждения Соловьева. — Вы знаете какие-нибудь подробности насчет моего отца? Кто донес на него? Кто арестовал?
— Кое-что знаю, — утвердительно кивнул он. — С вашим отцом меня познакомил Иван Кутковец. С Устиной я тоже встречался — смелая, отчаянная девушка. Ну а насчет ареста вашего отца, тут националисты постарались. Они, как вы знаете, давно за ним охотились. Теперешний гощанский староста Карпюк, прожженный оуновец, скотина, каких поискать, с помощью полицаев выследил, где прятался Федор Антипович. Послал доносчика в город. Ну гестаповцы и налетели, схватили старика. Вместе с ним еще человек десять гощанцев арестовали, и все по указке националистов...
С наступлением темноты Соловьев ушел к Люсе Милашевской. Виктор Жук не отпускал его, но Владимир, засовывая за пояс гранаты и надевая плащ, решительно сказал:
— Нельзя мне больше оставаться у вас, Виктор Васильевич. Трое молодых мужчин в одной квартире — это обязательно насторожит жандармов, если заглянут сюда.
Облавы и обыски в городе не прекращались и на следующий день. Такой продолжительной облавы еще не бывало. Видно, гитлеровцы решили перетрясти «столицу» Украины до самого дна. Временами на улице гремели выстрелы, доносились крики. Мимо дома несколько раз проезжали машины с солдатами и жандармами.
Никто из товарищей ко мне не заходил. Впервые за многие месяцы я будто физически почувствовал гнетущую тоску. «Что с друзьями? Не схватили ли их гестаповцы при облаве? Почему не появляется Федор Шкурко?..» Вопросов много, один тревожнее другого, и никакого ответа.
На третий день, примерно во втором часу, в комнату, где я лежал на диване, заглянул Виктор Жук, сказал, что ко мне пришел какой-то мальчик. В передней у двери стоял Генка, сын Федора Шкурко.
— Как ты сюда попал, Генка? — встревоженно спросил я.
— Папа послал. Просил сказать, чтобы вы никуда не выходили. Немцев, дядя Терентий, в городе — сила. И на машинах, и на конях, и пеших. Только и слышно кругом: «Хальт! Хальт!» Сейчас возле кинотеатра какого-то человека застрелили... Еще папа наказал передать, чтобы вы не волновались. Те, кому грозила опасность, успели уйти в лес. А кто остался в городе, имеют надежные документы. Папа говорит, облава скоро кончится. Эсэсовцы уже подгоняют машины к магистрату, собираются уезжать. Как уедут, папа придет к вам, все расскажет.
— А ты-то как пробрался? Не останавливали тебя немцы?
— Я проберусь где угодно. Я с Карлом-фашистом вместе хожу.
— С каким Карлом?
— А вон у забора стоит, меня ждет.
Я глянул в окно и оторопел. У забора стоял и жевал яблоко мальчик лет двенадцати, Генкин ровесник, в зеленой форме гитлерюгенда. На рукаве у паренька отчетливо выделялась нашивка со свастикой.
— Настоящий немчик, — пояснил Генка. — Отец у него офицер. Они недалеко от нас живут, целый дом занимают. Мы с ребятами этого немчика Карлом-фашистом прозвали. По-нашему он ни бум-бум, зато с немцами лопочет здорово. Вот я его и таскаю с собой, когда мне нужно. Вы ничего плохого не думайте: немчику о своих делах я ни слова не говорю, да он ничего и не спрашивает. Ему бы только яблоко в зубы. За яблоко побежит со мной куда угодно, хоть на край света. С ним меня никто не останавливает, не задерживает — ни жандармы, ни эсэсовцы, ни полицаи... Ну я пошел, дядя Терентий, а то папа велел еще в три места зайти. Дотемна надо успеть. Да и Карл, наверно, заждался. На дворе холодно, а он незакаленный. Чуть что, ныть начинает: «Кальт, кальт...» Холодно, значит.
— Подожди, Генка, минутку, — остановил я направившегося к выходу мальчика. — Скажи отцу, что на «даче» остался чемоданчик, его надо спрятать. Не забудешь?
— Не забуду. На даче чемоданчик, его надо спрятать. Так вы, дядя Терентий, никуда не выходите! — еще раз напомнил Генка. Через минуту я увидел в окно, как он и Карл-фашист промелькнули мимо забора, затем исчезли в лабиринте пристанционных переулков.
В городе постепенно устанавливался обычный порядок. Выехали куда-то за пределы Ровно подразделения СС. На улицах стало меньше жандармов. Прекратились обыски. Из домов начали выходить люди. Переждав, лихое время в квартире Милашевской, ко мне наведался Соловьев и в тот же день ушел в Гощу. Я вернулся на улицу Первого мая.
Василий Конарев был уже дома. Он приехал из Луцка раньше, чем предполагал. Немецкая облава не обошла и его халупу. В «дачу» заходили два эсэсовца, все вокруг обшарили, сбросили с койки матрац, проверили у Конарева документы и ушли.
— Ты к тому времени уже успел спрятать мину? — спросил я Василия. — Где теперь чемоданчик?
— Какой чемоданчик?
— Разве Шкурко ничего тебе не говорил? Мы оставили тут небольшой такой чемоданчик с миной.
Конарев отрицательно покачал головой. Я заглянул за дверь. Чемодан-мина стоял на прежнем месте, в тамбуре. Я взял его, с нескрываемым укором посмотрел на Василия.
— Вот черт! Так можно было влипнуть за милую душу, — растерянно проговорил он. — А я ничего не знал... Хотя... подождите... Теперь припоминаю... Когда вернулся из Луцка, меня на улице встретила Жарская. «Хорошо, говорит, что ты дома. Спрячь побыстрее и понадежнее то, что у тебя осталось». Я сразу на «дачу». Посмотрел, все вроде в порядке, ничего подозрительного. Еще подумал тогда, что Мария просто так предостерегла меня: имеешь, мол, что-нибудь подозрительное, к чему немцы придраться могут, прибери. А оно вон что! Не усмотрел я, выходит. И эсэсовцы ничего не заметили. Просто чудеса!
— Из-за таких «чудес» головы можно было лишиться, Василий. Что же это ты, дорогой товарищ! Жарская тебя предупредила. Не случайно, наверно, встретила на улице. А ты даже не поинтересовался, о чем речь... И я тоже маху дал. Надо было вернуться за миной.
— Ну что теперь об этом толковать, Терентий Федорович! Обошлось — и хорошо. Я, конечно, виноват, недоглядел. Это — мне наука на будущее.
Чемодан-мину через несколько дней забрал Поцелуев. Поздно вечером он, Луць и Яремчук отправились к железнодорожному полотну. Остановились у второго переезда, метрах в трехстах от станции. На путях длинной цепочкой протянулся эшелон с бронетранспортерами на платформах. Луць перелез через металлическую ограду, подполз к железнодорожной колее, быстро заложил в песок под рельс чемоданчик и с концом шнура в руке тем же путем вернулся обратно, спрятался за углом кирпичной уборной. Поцелуев и Яремчук залегли чуть в стороне от него, готовые прикрыть Ивана Ивановича огнем пистолетов и гранатами. Несколько минут терпеливо ждали, пока тронется эшелон. Наконец паровоз дал сигнал, в темноте послышался перестук буферов, платформы тронулись. Набирая скорость, эшелон промчался вперед, а взрыва не последовало.
Поцелуев бросился за стену уборной. Луць стоял на коленях и наматывал на руку оборванный шнур.
— Такую добычу упустили! — с сожалением сказал Николай. — Как это он оборвался?!
— Сам не пойму, — ответил Луць, снова направляясь к железнодорожной колее.
Дополз он благополучно, извлек мину из-под песка. Пока открывал чемоданчик, чтобы посмотреть, почему не сработал заряд, его заметили немецкие офицеры, которые группой шли от станции. Человек на полотне железной дороги не мог не привлечь их внимания. Они стали стрелять. Однако Луць успел добежать до металлической решетки-ограды. Только когда перескакивал через нее, выпустил мину-чемоданчик из рук.
Поцелуев и Яремчук из своего укрытия открыли огонь из пистолетов по офицерам. От станции, стуча по асфальту подковами сапог, бежали жандармы. Затрещали автоматные очереди. В этих условиях нечего было и думать о том, чтобы спасти мину, валявшуюся на противоположной стороне решетки-ограды.
— Бежим! Тут рядом развалины. Можно укрыться! — крикнул Поцелуев и первый бросился за полотно железной дороги. Вслед за Николаем побежал Луць. Петляя между заросшими чертополохом руинами, подпольщики направились в сторону магистрата...
Яремчук задержался. Разрядив в темноту, в сторону приближавшихся голосов, обе пистолетные обоймы и метнув гранату, он кинулся к водокачке, чтобы оттуда проскочить к центру города...
Обозленные неудачей, Луць и Поцелуев не задержались в центре города, а сразу же отправились на шоссе Ровно — Дубно. Расчет был простой: сорвалась диверсия на железной дороге, может, удастся восполнить пробел на шоссе, тем более что мина, заложенная под асфальтом в водосбросной трубе, до сих пор не использована. По пути подпольщики вырезали метров семьдесят кабеля полевого телефона, соединявшего аэродром с городом. Осторожно подобрались к водосбросной бетонной трубе, подсвечивая электрофонариком, отыскали мину, присоединили конец кабеля к чеке взрывателя и залегли в стороне от дороги.
По шоссе время от времени с ревом проносились мотоциклы. В первом часу ночи проехал запоздалый обоз с дремавшими на передках военных фургонов ездовыми. Только под утро со стороны Дубно появилась колонна грузовых автомашин. Грузовики двигались с горы на большой скорости.
— Будем рвать?! — сказал Луць.
— Да, — подтвердил Поцелуев. — Как только головная машина подойдет вон к тому деревцу...
В этот раз осечки не произошло. Мина взорвалась под передним тяжелым грузовиком, осветив на миг остальные крытые брезентом машины. Вместе с глыбами бетона подброшенный вверх дизель перевернулся и свалился в болото. Следовавшая за ним машина с ходу влетела в яму и приподнявшимся кузовом перегородила путь всей колонне. Завизжали тормоза. Началась беспорядочная стрельба. Луць и Поцелуев, не задерживаясь, бросились по знакомой тропке к темневшему неподалеку кустарнику.
...Прикрывая огнем из пистолета и гранатой друзей, Яремчук был уверен, что успеет проскочить потом мимо водокачки в город. Но именно у водокачки подстерегала его опасность. Возле водонапорной вышки он почти вплотную столкнулся с двумя часовыми. Темноту прорезали автоматные очереди. Михаил отскочил в сторону, перемахнул через невысокий забор, потом через другой и оказался в небольшом дворике. Под навесом увидел два военных мотоцикла с колясками. Их водители, по всей вероятности, спали в доме. Часовых не было. У станции по-прежнему гремели выстрелы.
На долгие раздумья не было времени. Яремчук открыл ворота, выкатил один «цундап» на улицу. Вспомнил о задании, которое получил от Луця еще накануне, днем: пробраться в Грушвицу, встретиться там с Федором Кравчуком, выяснить, почему почти неделю не появлялся в городе связной грушвицких подпольщиков.
«В Грушвицу!» — решил Яремчук, включил мотор мотоцикла и стремительно понесся по ночным улицам, ослепляя светом включенной фары встречных патрульных. Михаил хорошо знал город. Работая шофером, он объездил все его закоулки, и вел мотоцикл уверенно, не сбавляя скорости даже на крутых поворотах. На выезде из Ровно выключил фару. С контрольно-пропускного пункта замигали фонариком, приказывая мотоциклисту остановиться. Яремчук на секунду вновь включил свет, увидел на шоссе двух немецких солдат в касках и дал полный газ... Позади бухнуло несколько выстрелов, но Михаил почти не слышал их — так громко гудел мотор мотоцикла и свистел в ушах ветер.
Еще издали Яремчук увидел над родным селом зловещее зарево. Добрая половина села Грушвица Вторая догорала. Над почерневшими, обожженными деревьями ветер поднимал клубы дыма и пепла. Там, где прежде стояли белые хаты, теперь тянулись к небу закопченные дымоходы печей. Отовсюду слышались надрывные, безутешные рыдания женщин. По бывшей улице куда-то брели старики, держа за руки детей. Поджав хвосты, выли собаки.
На выгоне, освещенном неровным светом догоравшей хаты, лежали трупы грушвичан.
Грушвицы Второй больше не было. Она превратилась в сплошное пепелище. Под уцелевшим от огня покосившимся забором Яремчук увидел знакомого старика, сидевшего в горестной позе с закрытыми глазами.
— Дед Трофим! Что тут произошло? Кто сжег село? — наклонился к старику Яремчук.
— Это ты, Михаил? — прошамкал беззубым ртом старый грушвичанин. — Как же тебя не убили? Они всех молодых поубивали. Вон там на выгоне лежат, — кивнул он седой головой. — И моих тоже всех: сына, невестку, двух внуков... Все там. Одного меня господь бог почему-го не сподобил...
— Кто убивал, дед? Кто поджигал? — нетерпеливо теребил старика Михаил.
— Немаки, сынок... Они, проклятые... Вчера вечером ворвались в село на машинах да мотоциклах... До полуночи зверствовали, потом укатили.
Под утро, разыскав Федора Кравчука, Михаил узнал от него некоторые подробности.
Грушвица Вторая с давних пор славилась своей непокорностью: в прошлом — пилсудчикам, а с первого дня оккупации — гитлеровцам. Многие жители поддерживали тесные связи с подпольщиками и партизанами. Бандеровские банды не раз пытались «утихомирить» село, которое наотрез отказывалось обеспечивать головорезов из УПА продовольствием, но безуспешно. Тогда националисты пошли на провокацию. Они сами убили трех старых немецких солдат-обозников, приезжавших за сеном, а в гестапо сообщили, что незадачливых заготовителей сена застрелили местные коммунисты-подпольщики. В село немедленно нагрянул отряд эсэсовцев. Фашисты расстреляли более сорока грушвичан, хаты спалили. В числе погибших при налете эсэсовского отряда оказался и двадцатидвухлетний комсомолец, член подпольной организации Ананий Серветник. До последней возможности он отстреливался из пистолета, а расстреляв патроны, бросился в охваченную пламенем скирду.
...Шкурко сообщил, что начались аресты проживавших в городе советских военнопленных. Причем дело обернулось гораздо хуже, чем мы предполагали: арестованных направляли не в лагерь, а в тюрьму и после допросов, как правило, расстреливали. Хотя многим бывшим бойцам и командирам Красной Армии уже удалось к тому времени переправиться с помощью подпольщиков к партизанам, однако немало их оставалось еще и в городе.
Вместе с Федором Шкурко мы принялись составлять листовку-обращение к военнопленным с призывом как можно быстрее уходить из города в окружающие леса, браться за оружие. В это время на квартиру-явку Татьяны Крыловой, где я жил уже вторые сутки, пришла Мария Жарская. Кинув на стол туго набитый черный портфель, она бессильно опустилась на стул и сдавленным голосом объявила:
— Ивана Ивановича... схватили гестаповцы...
— Что?! — Пораженные услышанным, мы со Шкурко одновременно бросились к Жарской. — Где? Когда схватили?..
— Час назад... На фабрике валенок...
— Как он туда попал? Зачем? Что там делал?! — закричал я, теряя самообладание.
Жарская, словно чувствуя себя в чем-то виноватой, с тревогой посмотрела на меня, подошла к столу, взяла портфель.
— Все из-за этих проклятых денег... Из-за них, — негромко сказала она. — Сгорели бы они вместе с фабрикой...
* * *
Луць появился в конторе фабрики неожиданно. Сел за стол, попросил свою помощницу Агнессу позвать в бухгалтерию Жарскую. Агнесса вышла. Несколько минут спустя появилась Жарская. Иван Иванович вытащил из-под тумбочки стола портфель, передал Марии, сказал, чтобы она быстро отнесла его в проходную к сторожу Михалу, а после работы забрала с собой.
В коридоре Жарская встретила направлявшихся в бухгалтерию двух мужчин в замасленных фуфайках. Мария узнала их — они работали в соседнем доме, где изготовляли мармелад, не раз заходили на фабрику и раньше. Ничего необычного в этом не было. Жарская спокойно пошла к проходной...
А дальше, как потом удалось установить, произошло следующее. Двое в замасленных фуфайках, постучавшись в дверь, вошли в бухгалтерию. Луць сидел за столом, объясняя что-то своей помощнице Агнессе, которая только что положила на стол «бухгалтеру» накопившиеся за время его отсутствия бумаги.
— Пан бухгалтер, — обратился к Ивану Ивановичу один из вошедших. — Говорят, вы теперь тут самое главное начальство. Мы ваши соседи. Если можно, одолжите литров десять машинного масла. У нас все вышло, а достать его сейчас, сами знаете, трудно.
Не успел Иван Иванович ответить, как в комнату вошел еще один посетитель, этакий сельский дядька, какие часто приезжали на фабрику, чтобы заказать пару-другую валенок из привезенной с собой шерсти.
— Насчет масла спросите у механика, — сказал Луць вплотную подступившим к нему «соседям» в замасленных фуфайках.
Однако его уже не слушали. Один из «мармеладчиков», схватив Ивана Ивановича за плечи, повалил вместе со стулом на пол, другой накинулся на него, стараясь, прижать к полу. «Сельский дядька» с профессиональной ловкостью выхватил из кармана металлические наручники.
Решив, что на пана бухгалтера напали грабители, Агнесса подбежала к двери, стала кричать, звать на помощь... В этот момент на фабричный двор въехала машина с гестаповцами. Переодетые агенты СД выволокли Луця в коридор.
Шеф «гехайме штатсполицай» майор Йоргенс в этот раз учел ошибку, допущенную его головорезами при попытке арестовать директора фабрики. Агенты гестапо из мармеладного цеха долгое время не спускали глаз с соседнего предприятия, терпеливо ожидая Луця. И он, к сожалению, появился.
На что рассчитывал Иван Иванович, идя на фабрику в столь опасное время? Скорее всего, на то, что его неожиданный визит в бухгалтерию займет так мало времени, что гестаповцы ничего не успеют пронюхать.
Иван решил во что бы то ни стало забрать из сейфа деньги, очень нужные в ту пору подпольному Центру. Но разве он не мог передать ключ от сейфа товарищам, продолжавшим работать на фабрике: хотя бы той же Жарской, Талану или другому подпольщику? Нет, не мог. Ключ, как объяснила Жарская, хранился у Агнессы, которая без разрешения «пана бухгалтера» никому бы его не дала.
В этом, кажется, и заключалась разгадка необъяснимого на первый взгляд поступка Ивана Ивановича.
Жарская открыла портфель, высыпала на стол тугие пачки рейхсмарок и оккупационных карбованцев. На самом дне портфеля оказался список гестаповских агентов — один из тех документов, которые мы не решались держать даже в «архиве» Николая Самойлова. Всего три странички, вырванные из ученической тетради, исписанные мелким, каллиграфическим почерком Луця! Они окончательно прояснили мучивший нас вопрос: Иван Иванович хранил этот список в тайнике бухгалтерии, о котором знал только сам, и, естественно, не имел права оставить его там.
Перечитывая список фашистских агентов, я мысленно перенесся в прошлое. Вспомнилась крепость-тюрьма в Люблине. Мрачная камера. Грязный, холодный как лед цементный пол. Окровавленного, избитого Луця охранники только что приволокли с допроса. Он лежит среди камеры на полу, и его губы шепчут: «Без партии, без борьбы цена моей жизни — нуль...» Это было в те дни, когда мы только что узнали о роспуске Коминтерном Польской коммунистической партии и Компартии Западной Украины. Иван Иванович Луць сказал тогда, что никто на свете не может лишить коммунистов веры в торжество марксистско-ленинских идей, непоколебимой убежденности, силы и воли к борьбе.
В мрачные дни фашистской оккупации Иван Иванович Луць был формально беспартийным, но он всегда оставался коммунистом: и тогда, в люблинской тюрьме-крепости, и тогда, когда его схватило фашистское гестапо. Я знал, был уверен: каким бы страшным, нечеловеческим пыткам ни подвергли нацисты моего друга и товарища, он до последнего вздоха останется коммунистом.
Перед рассветом
1
Сосед Николая Поцелуева работал слесарем в городском театре. Молодой человек, лет тридцати, он нравился политруку своим веселым нравом, независимостью суждений, а прежде всего тем, что не скрывал своей ненависти к оккупантам. То ли потому, что Игнат знал Николая как бывшего военнопленного, то ли просто грешил несдержанностью на язык, говорил он всегда то, что думал, не заботясь о возможных последствиях. Присматриваясь к Игнату, Поцелуев все больше убеждался: если немного пообтесать слесаря, то можно рассчитывать на его помощь. Одно лишь сдерживало политрука: Игнат любил выпить. Не то чтобы он был отпетым пьянчужкой, но все же выпивал довольно часто.
— Увлекаешься ты, друг, водочкой, — укорял его Николай. — Непонятно мне что-то, на какие доходы, пьешь. Много ли ты в своем театре зарабатываешь? Гроши. А водка, как известно, стоит недешево.
— Не на свои пью, угощают, — с добродушной улыбкой оправдывался Игнат. — Вон в доме напротив живет один чудной старик. Тоскует в одиночестве. Делать ему по вечерам нечего, потому и приглашает меня иногда пропустить за компанию рюмку-другую, а потом о жизни моей пропащей расспрашивает.
— Это почему она у тебя пропащая, жизнь-то?
— Потому, браток, что кувырком пошла. До войны я техникум закончил, на железной дороге мастером работал, люди меня уважали...
— За что? За то, что начальством был?
— Не в том дело. Мастер — начальство небольшое. Человеком я тогда был, вот что. А теперь кто? Хотя рабочий, слесарь, но в то же время вроде холуй фашистский. Пришли эти шкуродеры, сразу все рухнуло. Тошнит меня от них. Болтаются по театру, курят сигареты, крутят самодовольными рожами, как хозяева, ржут по-жеребячьи во время спектаклей... Ну вот. Смотрю я на них, гайки в унитазах закручиваю и думаю: холуй ты, Игнат, настоящий холуй. Потому с досады иногда и выпиваю со стариком. Все-таки легче на душе, когда пропустишь рюмку...
И хотя не нравилось Поцелуеву пристрастие Игната к спиртному, политрук не порывал отношений со слесарем, надеялся в конце концов привлечь его к активной борьбе против оккупантов.
Поцелуев давно задумал взорвать городской драмтеатр, посещали который главным образом гитлеровские офицеры, фельдфебели, сержанты, ефрейторы, иногда солдаты, а также ближайшие прихвостни оккупантов из городского начальства. Всем остальным вход туда был запрещен.
Беседы Поцелуева с Игнатом становились все более откровенными. В один из вечеров Николай прямо сказал:
— Хватит, Игнат, тянуть канитель. Человек, вижу, ты неплохой. Пора делом заняться.
— Смотря каким делом! — неопределенно протянул слесарь.
— А вот каким. Есть возможность гитлеряк попугать.
— Их, проклятых, бить, вешать надо, а не пугать.
— О том я и веду речь. Попугать так, чтобы клочья полетели.
Игнат согласился пронести мину в театр. Друзья договорились выбрать для взрыва такой момент, чтобы в театре были не обычные зрители, солдаты и офицеры, а фашистские верховоды. Словом, лучше всего дождаться, когда в зрительном зале будет проходить совещание. О подобных сборищах обслуживающий персонал театра обычно узнавал заранее: немцы предупреждали администратора, чтобы своевременно позаботился о наведении порядка. Электрики с особой тщательностью проверяли исправность проводки, выключателей и всевозможных сигнальных устройств, уборщицы всюду наводили лоск, какие-то типы из «остпропаганде» следили за тем, чтобы на сцене не забыли установить трехметровый портрет фюрера и вывесить знамена со свастикой.
Поцелуев принес к себе на квартиру мину замедленного действия с сорокавосьмичасовым заводом, пригласил Игната, стал его инструктировать, как обращаться с этой опасной «штукой». Нужно было точно рассчитать, чтобы взрыв произошел именно в то время, когда зал заполнят фашистские заправилы.
Выслушав политрука, Игнат отрицательно покачал головой:
— Нет, такая мина не подойдет. Нужна другая, чтобы ее можно было взорвать в любое время, когда потребуется. Дернул — и взрыв.
Николай объяснил: мину натяжного действия установить и снарядить гораздо труднее, и для самого Игната риск больше.
— Это уж моя забота, — сказал слесарь. — Ты принеси мне такую мину, а остальное беру на себя. Сделаю за милую душу. Приспособлю ее под сценой — там всегда пусто. А на сцене будут сидеть их «фюреры», генералы. Шнур я знаю, куда протянуть...
Дня через два Поцелуев передал Игнату мину натяжного действия. Тот принес ее в театр, доложил, что все подготовил и теперь будет ждать очередного шабаша гитлеровцев.
Уладив это дело и полностью положившись на Игната, Поцелуев приступил к подготовке еще одной диверсии, необходимость которой возникла неожиданно.
Разведчики Шкурко установили, что в город прибыл с важными полномочиями какой-то тип из самого Берлина. Это был немолодой, осанистый мужчина. Его не раз видели в окружении фашистских чиновников и военных. При нем постоянно находился переводчик: видно, «уполномоченный» не знал немецкого языка. Гитлеровцы распустили слух, будто этот человек — бывший партийный работник, добровольно перешел на их сторону, помог раскрыть в одном из городов большевистское подполье, а теперь работает специальным консультантом Геббельса. Вскоре, правда, выяснилось, что «уполномоченный» не кто иной, как доверенное лицо архипредателя генерала Власова, и в рейхскомиссариат Украины прибыл для вербовки командных кадров для так называемой «Русской освободительной армии» (РОА). Поселился он в особняке, неподалеку от дома, в котором жила Елена Евтихиевна Дмитриева-Васильева, подпольщица, хозяйка одной из явок.
Елена Евтихиевна, энергичная женщина лет тридцати восьми-сорока, в армии была военфельдшером. Попала в плен, некоторое время находилась в лагере.
Как только вырвалась из него, сумела быстро установить связь с подпольной организацией и уже больше года оказывала нам посильную помощь. Как медик, Дмитриева-Васильева была знакома со многими ровенчанами, проживавшими на одной с ней улице.
Узнав, что Николай Михайлович Поцелуев проявляет интерес к власовскому эмиссару, Дмитриева-Васильева через Лизу Гельфонд познакомила подпольщика с хозяйкой особняка, в котором поселился приезжий из Берлина.
Замысел политрука был прост: ночью пробраться в особняк, связать власовца, отвезти на машине, которую водил Вася Конарев, в лес, к партизанам, а оттуда самолетом переправить в Москву. Николай Михайлович подробно доложил о своем замысле мне, добавив при этом, что с Васей Конаревым он обо всем уже договорился.
— Хорошо. Дело стоящее, — одобрил я план Поцелуева. — Ночью попытаюсь встретиться с остальными членами подпольного Центра, определим точный срок проведения операции.
Попрощавшись, Поцелуев отправился домой, где его ждал Игнат.
— Фашисты готовят в театре какое-то совещание, — сказал он политруку. — Завтра вечером прислушивайся. Как грохнет мина, значит, полный порядок. Только потом уж обязательно помоги перебраться в лес. В городе после взрыва мне жизни не будет — заметут, гады, пикнуть не дадут. Сразу в лес, к партизанам, как условились...
— Ну что ж, за этим дело не станет. А ты, Игнат, опять, кажется, в бутылку заглядывал? — спросил Поцелуев своего соседа, почувствовав запах спиртного.
— Ерунда, — отмахнулся тот. — Выпил рюмку для храбрости, только и всего. До завтра, Николай!
Если бы Поцелуев поинтересовался, с кем и при каких обстоятельствах выпил Игнат рюмку для храбрости, то непременно принял бы меры предосторожности. Но Николай не спросил слесаря, с кем тот выпивал, о чем вел разговор со своим собутыльником.
А между тем часа за полтора до встречи с Поцелуевым Игнат, как не раз прежде, сидел за столом у «одинокого старика» — пана Гусарука, бывшего помещика и петлюровского есаула, давнего друга Шарапановского, украинца по рождению, предателя своего народа и фашистского холуя по положению. В Ровно старый хищник прибыл из Кракова в надежде при помощи оккупантов вернуть свое имение, завладеть им, сесть на шею местным труженикам-крестьянам. Немцы, однако, не очень торопились облагодетельствовать Семена Гусарука: своими просьбами вернуть ему имение он вызывал у гитлеровцев лишь брезгливые гримасы. Шестидесятипятилетний старик, ярый националист, почти четверть века болтавшийся в эмиграции, лютой ненавистью ненавидел Советскую власть.
И именно ему в припадке пьяной откровенности рассказал Игнат о предстоящем взрыве в театре. Намекнул также, что диверсию готовит не один, а вместе со своим соседом, замечательным парнем из военнопленных. Бывший петлюровский есаул, слушая разглагольствования Игната, щедро наполнял его рюмку самогоном, а сам, вероятно, уже прикидывал, какую пользу можно извлечь из пьяной болтовни слесаря. Теперь, кажется, представился случай доказать фашистам, что и он, их старый холуй Семен Гусарук, кое на что еще способен. «Серьезных услуг» немцы не забывают.
Проводив Игната, петлюровец надел пальто, вышел на улицу и, шаркая по асфальту подошвами когда-то модных штиблет, зашагал к зданию «гейхайме штатсполицай»...
...Николай Поцелуев возвращался домой поздно ночью. После встречи с Игнатом он еще раз побывал на явке у Дмитриевой-Васильевой и вместе с Лизой Гельфонд уточнил некоторые детали похищения власовского эмиссара.
Дом на улице Первого мая, в котором теперь снимал комнату политрук, находился на некотором удалении от тротуара. Палисадник перед ним был густо засажен кустами сирени и акации. Как всегда держа правую руку с пистолетом в кармане пальто, Николай прикрыл за собой калитку, оглянулся — нет ли «хвоста» — и сделал несколько шагов к крыльцу. Из-за кустов к нему метнулись темные фигуры. Кто-то крикнул: «Не стрелять! Брать живым!»
Поцелуев выстрелил первым. Один из нападавших со стоном упал. Политрук быстро повернулся, бросился к выходу, но тут путь ему преградил высокий гестаповец. Николай пальнул в него почти в упор, прыгнул в сторону, за что-то зацепился, упал, лежа сделал еще несколько выстрелов. Теперь стреляли и гестаповцы. Никто не знает, сам ли ранил себя в живот Поцелуев, пытаясь застрелиться, или задела его фашистская пуля, но он уже не поднялся.
Минуту спустя к палисаднику подъехала крытая машина. Гитлеровцы погрузили в нее два трупа в шинелях мышиного цвета, потом запихнули в кузов истекавшего кровью, потерявшего сознание политрука Красной Армии подпольщика Николая Михайловича Поцелуева, нашего боевого друга и товарища.
* * *
Как раз в это время мы с Владимиром Соловьевым пробирались на улицу Первого мая, чтобы сообщить Поцелуеву решение о сроке операции по похищению власовца.
— Стреляют! — сказал Владимир, когда мы остановились за углом одного из домов, пережидая, пока пройдет патруль. — Кажется, на Первого мая. Может, что с Николаем?
Выстрелы доносились действительно оттуда. Но в ту пору это было обычным явлением. По ночам в разных концах города часто вспыхивали перестрелки.
— Пошли, — сказал я. — Сейчас везде стреляют. Война.
К дому, где жил Поцелуев, мы приблизились со стороны двора: там был черный ход. Хозяйка дома, пожилая, полная женщина, встретила нас возле двери. Соловьев включил электрофонарик. Лицо у женщины было белее полотна, ее трясло как в лихорадке. Она не знала, что мы за люди, и на наш вопрос: «Дома ли квартирант» — не ответила. Потом, видно сообразив, что мы не из гестапо, отчаянно замахала руками:
— Бегите отсюда! Скорее бегите! Немцы только что увезли Николая. Может, он уже не живой... Я из окна все видела... Господи, что тут было, что было!..
Не знаю, каким образом удалось спастись от ареста слесарю из театра Игнату. Но только через несколько дней, поздно вечером, он появился на улице Первого мая, стал колотить кулаками в дверь квартиры Семена Гусарука, пьяно выкрикивая:
— Змея подколодная! Продал, гад, Николая! Задушу! Собственными руками задушу!..
Однако петлюровец не слышал этих угроз. Сделав свое черное дело, он тогда же исчез из города. А Игнат, протрезвев, вернулся к себе в комнату, собрал теплую одежду, надел сапоги, фуфайку, сказал хозяйке, что уходит в лес. В городе он больше не появлялся.
Гитлеровцы обнаружили заложенную в театре мину. После этого военный комендант гарнизона издал приказ, запрещающий устройство каких-либо массовых зрелищ для солдат и офицеров.
* * *
За неделю до ареста Луця гестаповцы схватили Федора Шкурко. Забрали его на квартире. Федор пришел домой под вечер. Вскоре нагрянули фашисты. Решив, что это очередная облава, Шкурко успел спрятать пистолет и предъявил гестаповцам свое фальшивое удостоверение тайного сотрудника СД. Но в этот раз документ не помог — офицер из СД оказался дотошным и обнаружил подделку.
Вместе с Федором Захаровичем увезли в тюрьму его жену и сына Генку, а на квартире оставили агентов. Вскоре в дверь постучали — пришел связной от Николая Самойлова. Увидев двух незнакомых мужчин, связной на секунду растерялся. Один из мужчин, придержав его за рукав, с таинственным видом сообщил, что-де хозяин вместе с семьей вынужден был срочно выехать из города. Связной, видимо, ничего не подозревая, поспешил к кладбищенской сторожке, чтобы доложить Самойлову о выезде Шкурко. Агенты гестапо отправились следом. Вместе со связным они арестовали в сторожке и Николая Самойлова.
А теперь вот схвачен и Николай Поцелуев...
Сколько же нас осталось в составе подпольного Центра? Всего четверо? Да, четверо: Владимир Соловьев, Федор Кравчук, я и Мария Жарская. Три коммуниста и комсомолка. Не богато.
Выходит, организация разгромлена? Нет! Нас стало меньше. Это верно. Мы понесли невосполнимые потери. Тоже верно. Но ведь не бывает такого боя, в котором не погибали бы солдаты. Несмотря ни на что, бой продолжался. Город, до предела заполненный врагами, озлобленными неудачами на фронте, по-прежнему оставался полем битвы неравных сил. Тысячи солдат, вышколенные жандармы с овчарками, мастера смерти — эсэсовцы, зондеркоманды, профессиональные шпики, полиция безопасности, уголовная полиция, специально обученные батальоны уничтожения, концлагерь, тюрьма СД, орудия пыток — все это направлено против нас, горстки подпольщиков, вооруженных лишь пистолетами и гранатами, вынужденных отказаться от своих собственных имен и фамилий, имеющих в карманах фальшивые документы, а в сердцах — жгучую, неугасимую ненависть к оккупантам!
По городу, не стихая ни на день, катилась волна репрессий и фашистского террора. После освобождения советскими войсками Киева, Житомира, Новоград-Волынского, Славуты и других больших и малых украинских городов, в преддверии неизбежной эвакуации из Ровно, гитлеровцы, точно затравленные шакалы, набрасывались на ровенчан. Жандармы, гестаповцы, полицейские по малейшему подозрению, а иногда и без повода хватали людей на улицах, в домах, в магазинах и немедленно отправляли в тюрьму. Каждую ночь — с вечера и до рассвета — гремели выстрелы. Арестованных расстреливали во дворе тюрьмы, в урочище Выдумка, на улице Белой. Оглушительно сигналя, то и дело проносились специальные грузовики, на которых фашистские разбойники вывозили за город трупы замученных и убитых. Всюду хозяйничала смерть.
Аресты подпольщиков Николая Поцелуева, Ивана Луця, Николая Самойлова, Федора Шкурко, Павла Мирющенко и многих других явились своеобразной данью разгулу фашистского террора. Любая самая незначительная ошибка, малейшая неосторожность вели к провалу. И все-таки борьба продолжалась.
Я созвал на одной из явок оставшихся на свободе членов подпольного Центра. Пришли Федор Кравчук, Мария Жарская и Владимир Соловьев, который теперь, после ареста Ивана Ивановича Луця, постоянно находился в городе и стал моим первым помощником.
Предупредив товарищей о необходимости с еще большей строгостью, чем когда бы то ни было, соблюдать правила конспирации и проявлять осмотрительность, я сообщил об известии, только что полученном через связного. Командир партизанского отряда полковник Д. Н. Медведев в силу сложившихся обстоятельств вынужден снять своих людей с «маяка» в лесу под Оржевом. Мы не знали, чем вызвано это решение, но каждый понимал, оставаться в такое время без поддержки из леса было просто невозможно. Без лишних слов договорились: в ближайшие дни я отправлюсь к медведевцам; руководство подпольем, в Ровно во время моего отсутствия будет осуществлять Владимир Соловьев.
2
Земля еще не успела как следует промерзнуть. Снежинки, падая на нее, быстро тают. Дует пронзительный, по-осеннему холодный ветер.
Со времени последнего совещания членов подпольного Центра прошло несколько дней. Стараясь не попасть на глаза жандармам и полицейским патрулям, я осторожно пробираюсь в пригород, оттуда — в село Тютьковичи. Там назначен сбор. Вместе со мной в партизанский отряд должна отправиться небольшая группа бывших военнопленных.
Почти час сижу в жарко натопленной квартире нашего связного Семена Залуцкого, ожидая проводника Василия Ворона. Наконец легкий стук в окно. Закутываю шею полотенцем, плотно застегиваю старое, видавшее виды пальто, выхожу во двор. В саду уже собрались все, кто должен уйти в лес. Проводник, не видя в темноте моего лица, встречает меня сердитыми вопросами:
— Ты кто? Из пленных? Рядовой? Командир?.. Чего мнешься? Отвечай!
Я не успеваю ответить, как он уже обращается ко всем сразу:
— Мои приказания выполнять без звука! Не отставать! Кто закурит, того по морде! Предупреждаю, чтобы потом не обижались. Никаких разговоров! У кого из вас автомат? Давайте сюда, а то с перепугу еще палить начнете. Все ясно? Теперь — за мной!
Местность проводник знает хорошо. Ведет нас полем, подальше от дорог, предусмотрительно обходя хутора. На остановки не щедр. Раза два объявляет в овражках пятиминутный привал, и снова в путь: «Не отставать! Не ловить ворон!»
«Молодец! — мысленно одобряю я действия проводника, поеживаясь от ветра. — С таким не пропадешь». Мне кажется, где-то поблизости уже должен быть «маяк». Но проводник еще более настораживается: между Горынью и лесом открытая местность. Невдалеке, на хуторе, лают собаки.
— Ложись! — приказывает Ворон.
Со стороны села Бегень слышится конский топот. Василий щелкает затвором автомата. Метрах в ста от нас галопом проносятся четыре всадника с винтовками за плечами.
— Бандеровцы, сволочи! — негромко бросает Ворон и поднимает группу.
Еще час крадущегося, настороженного ночного марша, и мы на лесном «маяке» под Оржевом. Среди деревьев белеет снег. Елки кажутся в темноте окутанными серебром. Метрах в двухстах от «маяка», в глубине леса, группа партизан. Командует ею Борис Черный. По сути, это передовая усиленная партизанская застава. Она не только охраняет «маяк», но вместе с тем служит базой для подрывников, которые уходят отсюда для проведения диверсий на железной дороге, на шоссе и в городе.
Партизаны угощают нас колбасой. Увидев меня в составе только что пришедшей группы, Василий Ворон с удивлением спрашивает:
— Неужели и вы шли с нами, Терентий Федорович?
— А как же! От самых Тютьковичей!
— Ночь, понимаете, хоть глаз выколи, ни черта не видно, — смущенно оправдывается он. — Если что не так, вы уж извините. Люди в группе сборные, а дорога, сами знаете, какая...
— Все было, как нужно, Василий. Спасибо!
Той же ночью на «маяк» вернулись из города человек пять партизан-разведчиков. Один из них был в мундире немецкого офицера. Выше среднего роста. Светлые, с рыжинкой волосы. Высокий лоб, серые, видно, не часто улыбающиеся глаза, крепкий подбородок. На вид человек интеллигентный, но несколько суровый, а может быть, чрезмерно сосредоточенный. Поверх офицерского френча на нем мокрый от тающего снега, прорезиненный плащ с пелериной. На поясе с левой стороны, на немецкий манер, черная кобура с пистолетом.
«Грачев? Непременно он, тот самый таинственный Грачев, о котором в городе ходят легенды!» При колеблющемся свете костра я с уважением и непередаваемым чувством восхищения смотрю на его собранную, ладную фигуру, на спокойное, задумчивое лицо с чуть выдающимися скулами. Невольно мысленно представляю разведчика на улицах Ровно, среди врагов, с которыми ему приходится встречаться, говорить, как с друзьями, играть роль гитлеровского офицера. Какую же надо иметь волю и выдержку, какие крепкие нервы, чтобы изо дня в день нести на себе подобную тяжесть!
Мы, подпольщики, нередко завидовали партизанам, как бойцам, имевшим возможность свободно, не таясь, высказывать свои мысли, с оружием в руках вступать в открытый бой с врагами, хотя и знали, что их жизнь сурова, трудна, что за каждым из них тоже по пятам ходит смерть, особенно в дни блокад, в дни боев с карателями. Теперь же, когда я увидел этого человека в чужом для него мундире немецкого офицера и сравнил его жизнь со своей, то невольно подумал: «Наверно, на его долю выпало самое трудное и самое опасное в нынешней борьбе с фашистами».
Трагично подчас могли скреститься пути патриотов в тайной войне, которую они вели в тылу врага. Ведь вовсе не исключено, что партизанский разведчик Грачев мог оказаться в зале «Ристунгинспекцион» в тот самый момент, когда подпольщик Яремчук бросил туда противотанковую гранату. Мог советский разведчик находиться и в составе группы вражеских офицеров на железнодорожном вокзале, когда Луць, Поцелуев и Яремчук вели по ней огонь из парабеллумов...
Я подошел к разведчику, поздоровался. Мы разговорились. Речь шла главным образом о положении в Ровно. Он почти ничего не рассказывал о себе, о диверсиях, но теперь я уже твердо знал, кто именно уничтожил Геля, кто бросил гранату под ноги Даргелю, кто стрелял из пистолета в верховного судью Функа. По всей вероятности, Грачев тоже догадался о том, какую роль приходилось играть в городе мне.
— Очень жаль, что мы с вами не встретились раньше в Ровно, — сказал он.
Для меня этот человек был Грачевым, и никем иным. О том, что гитлеровцы называли его Паулем Зибертом, а настоящая его фамилия Кузнецов, имя и отчество Николай Иванович, я узнал позже.
С «маяка» мы вместе отправились на основную партизанскую базу, продолжая в пути неторопливую беседу. Партизанский разведчик интересовался, казалось, не столь уж важными деталями быта и поведения некоторых высокопоставленных нацистских сановников в Ровно, я охотно отвечал на его вопросы.
Партизанский отряд располагался в густом сосновом лесу. Дмитрий Николаевич Медведев и Сергей Трофимович Стехов пригласили меня в один из штабных чумов.
— Обстановка в городе нам известна, — первым заговорил командир отряда. — Знаем мы и о том, что вам, подпольщикам, сейчас трудно, как никогда. Я доволен работой, которую мы провели вместе с вами: она принесла немалую пользу командованию Красной Армии. Расставаться, прощаться с вами нам тоже не хотелось бы, но мы — солдаты, Терентий Федорович. Получен приказ: отряд должен уйти в район Карпат. Красная Армия наступает, передовые советские части ведут бои уже на территории Ровенской области, но борьба на этом не кончается. Нам надо спешить дальше, на запад. Выход в рейд — дело нескольких дней. Задерживает нелетная погода. Перед рейдом мы ждем самолеты с Большой земли. Выступим, как только нам доставят боеприпасы...
Утром я написал очередной отчет обкому партии о положении и деятельности ровенского подпольного Центра, попросил полковника Медведева передать его через своих связных Василию Андреевичу Бегме.
— Ночью из Ровно к нам пришла еще одна группа товарищей, — сказал Дмитрий Николаевич. — Они сейчас отдыхают в комендантском чуме у Бурлатенко. Может, вы пройдете к ним, познакомитесь?..
Никого из вновь прибывших в отряд я не знал. Трое из них, как выяснилось, работали шоферами в фирме «Бендера», один — в фирме «Трунц». Владимир Соловьев распорядился переправить их к партизанам потому, что гитлеровцы приказали водителям вывозить имущество фирм на территорию Польши. В последний момент шоферам удалось вывести из строя груженные награбленным добром машины и поджечь гараж. К рассвету один из наших связных привел товарищей на «маяк».
Шоферы рассказали, что им пришлось в последние дни видеть в городе и окружающих селах. Всюду воинские части, штабы. Немцы продолжают насильно вывозить молодых мужчин и женщин, парней и девушек в Германию. В районах области дикие расправы над неугодными чинят оуновцы. Их банды из «службы безопасности» уничтожают целые села. Началась кровавая резня в сотнях УПА. Специальные группы бандеровской СБ расстреливают, а нередко рубят топорами рядовых стрельцов, которых в свое время обманом затянули в «повстанческую армию». Иначе говоря, националисты спешат замести следы.
— На одном хуторе под Александрией, когда шли сюда, мы такое видели, от чего волосы стали дыбом, — сказал пожилой мужчина с крупными, казалось, насквозь пропитанными машинным маслом руками. — Подходим к хутору, заглядываем в окно: в хате горит лампа, а никого нет. Входим — всюду кровь: на полу, на стенах. За печкой лежат порубленные женщина и двое детей. Видно, когда ворвались бандиты, женщина и дети забились в закуток, там их и застала смерть. Вышли из хаты, видим, к колодцу тоже кровавый след проложен. Посветили фонариком — из воды головы и руки торчат... Даже сейчас дрожь пробирает...
— Как подумаешь, что творят бандиты, сердце кровью обливается, — вступил в разговор молодой, темноволосый парень лет двадцати пяти, невысокого роста. — Позавчера я заезжал на своем грузовике в Грушвицу. Замордовали там бандиты моего друга Федю Кравчука и почти всех комсомольцев...
При упоминании фамилии Кравчука я, едва сдерживая дрожь в голосе, спросил:
— Что с Федором?..
Чернявый шофер удивленно посмотрел на меня:
— А то, что погиб Федор Кравчук, погиб как герой, замучили его оуновские бандиты. И комсомольцев тоже... Ты вот, товарищ, в лесу партизанишь. Может, не знаешь, как наши товарищи умирают там, где нет лесов. Так слушай. Мне в Грушвице об этом подробно рассказали. Ты, наверно, знал Федора, коль спрашиваешь о нем?.. Душевный он был парень, смелый, отчаянный. Говорят, еще при Пилсудском в партии состоял, а при немцах возглавлял в Грушвице комсомольскую группу, имел связь с подпольным комитетом в Ровно. Немало насолили комсомольцы и сам Федор оккупантам. За ним гонялись гестаповцы, но не могли взять. После того как немцы сожгли полсела, наступило вроде затишье. А тут вдруг дня через три банда националистов налетела. Снова началась резня. У них, у бандеровцев, списки были: кто где работал перед войной, кто состоял в партии, в комсомоле, кто колхозы организовывал. Бандит один, Иосиф Денищук его фамилия, всю эту «канцелярию» вел. Он же выследил, где прятался Федя Кравчук. Бандиты схватили его первым. Потом Лукаша Мовчанца, Степана Володько, Николая и Анну Лукашевичей — брата и сестру, Василия Володько, Машу Вакулюк. Связали комсомольцев, вывели за село, долго измывались над ними и всех скосили из автоматов. Федю Кравчука, когда уже рассвело, бандиты приволокли на сельскую площадь. При народе били его, переломали руки и ноги, выкололи глаза — все допытывались, чтобы признался, с кем из коммунистов поддерживал связь в Ровно. Но только ничего они не добились. «Палачи вы и предатели, продажные фашистские шкуры! Красная Армия уже близко, и всех вас, как слизняков, раздавит!» — крикнул Федор перед смертью. Люди слышали, как он говорил эти слова. Многие схватились за вилы, чтобы прогнать бандитов. Но вилами против автоматов и винтовок не очень-то навоюешь... Не добившись от Федора никакого признания, бандиты восемь раз пропороли ему грудь штыком и удрали из села...
В чуме минут пять стояла напряженная тишина. Было лишь слышно, как потрескивали корешки самосада в цигарках.
— Откуда вам известно, что Кравчук руководил подпольной организацией в Грушвице? — спросил я шофера.
— Об этом многие в селе знали, — ответил он. — А я с Федором давно был знаком. Когда вырвался из лагеря военнопленных, он устроил меня на работу к одному дядьке в село Тынное. Тогда же поручил следить за немецким аэродромом. Я следил, сообщал, Федору, что нужно. А после того как гаулейтер Кох улетел из Ровно, Федя посоветовал мне перебраться в город. В гражданке я был шофером. Кравчук где-то достал водительское удостоверение, ну я и устроился в гараж, на немецком грузовике работал.
— Ваша фамилия Морев?
— В Тынном был Моревым, в Ровно другую фамилию носил, а если по-настоящему, то я — Дрозд Семен Васильевич. А вы, простите, кто будете? — перейдя на «вы», спросил он.
— Слышал о Мореве, приходилось слышать, — не отвечая на вопрос Дрозда, проговорил я. — Когда все это случилось в Грушвице?
— Три дня назад, — ответил он после небольшой паузы. — Позавчера я ездил в Дубно, по пути завернул в Грушвицу, там и узнал о Федоре...
3
Линия фронта приближалась к Ровно. Бои шли на реке Горынь, всего в тридцати километрах от города. Сильно потрепанные в предшествующих боях гитлеровские моторизованные и танковые полки пытались еще удержаться, зацепившись за этот водный рубеж. Тем не менее фашистские верховоды уже понимали, что надежда на Горынь — несбыточная иллюзия, и готовились к дальнейшему отводу своих войск на запад. По всем дорогам от реки в район Ровно двигались немецкие тягачи и бронетранспортеры, грузовики и конные обозы, подразделения связи и эсэсовцы. На опушках лесов, в селах и на хуторах размещались всевозможные полевые штабы, заградительные отряды, госпитали.
Вражеские войска, казалось, были всюду. И спереди, и сзади, и по сторонам натужно ревели моторы, лязгали гусеницы танков, слышались команды, немецкая ругань, ржание лошадей.
Я с группой подпольщиков возвращался из отряда Медведева в Ровно. Мы медленно пробирались к городу среди наполненной тревожными звуками ночи. У каждого за спиной по тяжелому рюкзаку с толом, минами, гранатами и патронами.
Согласно документам, которые для нас специально изготовили в партизанском отряде, мы являлись сотрудниками СД и шли в город якобы для выполнения особого задания немецкого командования. Однако каждый из нас понимал, что больших надежд на этот бумажный камуфляж возлагать не приходилось. Фальшивые документы лишь на крайний случай, чтобы пустить пыль в глаза какому-нибудь лейтенанту или фельдфебелю, если они заинтересуются содержимым наших рюкзаков. Лучше же всего не встречаться с немцами.
Группа небольшая, нас всего пятеро. Те, что шагают рядом со мной по подмерзшему насту, — Георгий Татаринов, Дмитрий Мартынюк, Серафим Афонин, Александр Серов — тоже ровенские подпольщики, хотя до прихода в партизанский отряд я лично знал только одного из них, Татаринова. Совсем недавно они перебрались в лес, к партизанам, мечтали об открытых схватках с врагом, а теперь вновь добровольно возвращаются в город, чтобы участвовать в диверсиях против гитлеровцев.
Проникнуть в Ровно удается не сразу. На его окраине всюду заслоны из военных патрулей. Проходит больше часа, прежде чем мы нащупываем щель, в которую можно проскользнуть. Но вместе идти нельзя. Придется пробираться по одному. Договариваемся встретиться на квартире у сестер Подкаура и расходимся. Чуть согнувшиеся под тяжестью рюкзаков фигуры товарищей одна за другой растворяются в темноте.
Минут тридцать я петляю по темным ровенским переулкам, пока наконец подхожу к дому, где живет Александра Венедиктовна Чидаева. Возле него несколько грузовиков, между ними прохаживается часовой с автоматом. На двери квартиры Веры Макаровой, что по улице Леси Украинки, — замок, хозяйки нет дома. Запертой оказывается и квартира Полины Калининой на Тетовой улице. Пробираюсь в Ростовский переулок, в надежде найти приют в небольшой квартирке Елены Дмитриевой-Васильевой. Подхожу. Чуть в стороне темнеет силуэт бронетранспортера. И вдруг:
— Хальт!..
Бросаюсь в какой-то двор. Мимо развалин дома бегу в огород. Часовой, крикнувший «Хальт!», видно, не собирается преследовать меня. Отдышавшись, огородами бреду на Литовскую улицу. Вокруг будто тихо. Стучу осторожно в окно. Молчание. Стучу еще раз, погромче. Слышу, кто-то подошел к двери. Испуганный женский голос:
— Вам кого?
— Милашевская дома?
Пауза. Затем чуть слышный шепот:
— Больше сюда не приходите. Люсю забрали в гестапо...
Возле квартиры Евтихия и Веры Назаренко машины и патруль.
Ну что ж, остается «дача» Васи Конарева на улице Первого мая. Не раз выручало меня это пристанище. Немцам такая халупа ни к чему. Они и летом-то ни разу не использовали ее под жилье, а теперь и подавно.
Ключ на месте, под кирпичом. Открываю. В хибарке холодно, пахнет мышами, плесенью. В щель под дверью намело полоску снега. И все же после блужданий по степи, поисков пристанища в городе «дача» кажется уютной. Во всяком случае, тут не дует ветер, не бросает в лицо хлопья снега. Осторожно опускаю на пол рюкзак, а сам бросаюсь на койку, натягиваю на голову воротник старого пальто.
Будто всего на минуту закрыл глаза, а уже утро. Оно, однако, не приносит ясности. Кто из товарищей остался в Ровно? Где искать Владимира Соловьева? Куда исчезли хозяйки явок? Люся Милашевская арестована. А почему не оказалось дома ни Веры Макаровой, ни Полины Калининой? Может, их схватили немцы, увезли в Германию? А возможно, они сами оставили город, ушли в деревню, чтобы там переждать трудное время до подхода Красной Армии? Продолжает ли работать на фабрике валенок Мария Жарская? Каким образом разыскать Михаила Яремчука?.. Вопросы, вопросы. Голова от них пухнет, а ответов нет.
Прежде чем приступить к розыску товарищей, пытаюсь хоть немного сориентироваться, что происходит в городе. Осторожно приоткрываю дверь, прощупываю взглядом улицу Первого мая и соседние с ней — Коперника, Дворецкую, Проходную.
Отовсюду ползут машины, доверху забитые всевозможным домашним имуществом, ящиками, мешками. По мостовой грохочут подводы. Рядом с повозками понуро бредут мужчины. На подводах, среди подушек, одеял, свертков — женщины, дети. Это удирают местные фольксдейче, полицаи, старосты и иная околофашистская погань. По виду транспорта нетрудно определить, какое положение каждый из них занимал при оккупантах. Предателям более крупного масштаба удалось пристроиться на грузовиках. Те, что рангом пониже, удирали на подводах. А для всякой мелкоты не нашлось и подвод.
При взгляде на эту разношерстную толпу кажется, что в городе паника. Но это только кажется. Военная фашистская машина продолжает действовать хотя и не без перебоев, но довольно четко. На запад проносятся эшелоны. По городским улицам деловито снуют штабные «оппели», «мерседесы», БМВ, мотоциклы с колясками. Связисты в грязных шинелях и натянутых на уши пилотках разматывают катушки провода полевого телефона. По камням мостовой цокают подковы — на рысях проносится кавалерийский эскадрон. Как всегда, не спеша прохаживаются жандармские патрули в темно-синих шинелях, вооруженные автоматами...
Поздно вечером я пробираюсь на квартиру сестер Подкаура. Застаю там всех, с кем возвращался прошлой ночью из леса. Жора Татаринов рассказывает, что его и Александра Серова останавливали немцы, но все обошлось благополучно: все-таки пригодились удостоверения «сотрудников СД».
В квартире, как всегда, хозяйничает маленькая Валя. Старшей сестры Ксении нет дома: она на работе. Оказывается, ресторан, казино и столовые продолжают действовать. Обслуживают главным образом офицеров. Число столовых за последние дни даже увеличилось. Об этом сообщает Жора Татаринов.
Валя, увидев меня, обрадовалась. Но тут же лицо же как-то жалобно скривилось. Вытирая слезы, девочка выбежала из комнаты.
— Что с тобой, Валюша? Кто тебя обидел? — шагнул было я вслед за ней в кухню.
Татаринов положил мне на плечо руку:
— Не надо ее утешать, Терентий Федорович. Пусть поплачет... Это она по Маше Жарской и Вале Некрасовой... Их схватили гестаповцы...
— Когда? Как это случилось?
— Девочка подробностей не знает. Сказала только, что несколько дней назад к ней прибегала Лиза Гельфонд, вас спрашивала. От нее и узнала Валя, что Жарская попала в тюрьму. Валю Некрасову и Таню Крылову немцы схватили в одно время и будто вывезли в концлагерь за то, что они жены советских офицеров-коммунистов. Валя говорит, что Лиза Гельфонд знает, когда и при каких обстоятельствах взяли Марию. Лиза пыталась разыскать дочку Жарской и сынишку Некрасовой, но не нашла. Очевидно, забрали и малышей...
То, что сообщил Татаринов, было чудовищно, и на меня повеяло вдруг ледяным холодом отчаяния. Комната показалась на миг железной клеткой, из которой хотелось вырваться на волю. Но и там, за стенами, тоже клетка: весь город придавлен кованым сапогом оккупантов. Да, проклятая фашистская машина еще действовала. Расшатанная, обреченная на гибель, но не уничтоженная, она продолжала дробить, перемалывать тела и сердца людей. Сообщение Георгия Татаринова произвело гнетущее впечатление на всех, находившихся в комнате. Но мы не имели права на отчаяние и растерянность. Мы оставались живыми и обязаны были продолжать борьбу, отвечать врагу ударом на удар.
— У кого какие планы на ближайшие дни? — спросил я пришедших вместе со мной из лесу друзей.
— На мне штаб генерала Кицингера, — первым ответил Серов.
— Ясно. Татаринов?
— Я должен взорвать штаб на Школьной улице, но нужен кто-то для прикрытия. Одному не управиться.
— Я пойду с Георгием на Школьную, — сказал Мартынюк.
Серафиму Афонину я предложил остаться со мной. Теперь надо было во что бы то ни стало разузнать о судьбе Владимира Соловьева и обязательно разыскать Михаила Яремчука: без него, как мне казалось, невозможно осуществить диверсию, о которой, будучи в отряде, я договорился с полковником Медведевым. План намеченной операции не представлял особой сложности: подъехать на машине Яремчука к офицерской столовой, с ходу бросить в зал, где обычно питаются офицеры, две-три противотанковые гранаты, и на полном газу в лес.
Я был почему-то уверен, что непременно разыщу Яремчука, встречусь с ним, обо всем договорюсь. Он умел оставаться спокойным, хладнокровным в любой опасной ситуации, и это приучило меня смотреть на Михаила как на человека, который ни при каких обстоятельствах не может попасть в руки врага. Но за несколько часов до того, когда я в квартире сестер Подкаура прикидывал в уме, где и как встретиться с Михаилом Яремчуком, он попал в беду. Подвела его, на первый взгляд, случайность, ставшая для него роковой.
Михаил работал в гараже, куда в последнее время все чаще стали поступать в ремонт машины непосредственно с фронта, из воинских частей, оборонявшихся на Горыни. Чуть ли не весь прилегающий к автомастерским двор был заставлен машинами. Это и удерживало Яремчука на работе. Прежде чем навсегда покинуть немецкий гараж, он намеревался вывести из строя хотя бы десяток грузовиков. Однако осуществить задуманное оказалось не просто. После пожара в автохозяйстве фирм «Бендера» и «Трунц» и ухода в лес группы водителей в автомастерских появились какие-то подозрительные новички. Они не столько работали, сколько присматривались, что делали другие. Яремчук догадывался: новички не просто рабочие, а тайные агенты полиции СД или гестапо. Об этом он предупредил своих друзей.
Случилось непредвиденное. Михаил копался в моторе грузовика, когда у него из кармана брюк, ударившись о коленку, выпал парабеллум. Яремчук на секунду замер, потом быстро нагнулся, схватил пистолет и спрятал за пазуху. Никто, казалось, не заметил случившегося. Но Михаил ошибся. Один из новичков все видел и, быстро переговорив о чем-то с диспетчером, побежал к телефонной будке.
Спустя полчаса к Яремчуку подошел диспетчер, приказал ему сесть за руль легкового БМВ, пояснил при этом, что водитель БМВ почему-то не, вышел на работу, а из рейхскомиссариата срочно потребовали машину.
Не подозревая об опасности, Яремчук вырулил из гаража. Тихой езды он не признавал. И в этот раз выскочил на перекресток в центре города на большой скорости. Немецкий военный регулировщик жестом приказал ему подъехать к тротуару. В нескольких шагах от регулировщика, возле мотоцикла с коляской стояли два жандарма. Михаилу, вероятно, и в голову не пришло, что тут пахнет не просто выговором за превышение скорости. Документы он имел надежные, выданные на работе, поэтому чувствовал себя достаточно уверенно. Затормозив у тротуара, Яремчук выскочил из машины. К нему подошел притворно улыбавшийся регулировщик и, не сказав ни слова, неожиданно нанес сильный удар резиновой дубинкой по голове.
Очнулся Михаил в той самой машине, которую вел к рейхскомиссариату. Его руки были скованы наручниками. Один из жандармов сидел за рулем, другой — рядом с Яремчуком на заднем сиденье.
Потом жандармы несколько раз привозили избитого, окровавленного Михаила в автомастерские на очную ставку, допрашивали, били, пытаясь дознаться о его связях. Но подпольщик молчал.
С арестом Яремчука, на которого я возлагал большие надежды в осуществлении диверсионного акта, от прежнего плана пришлось отказаться, внести в него существенные поправки. Я решил привлечь к участию в диверсии работавших в столовой женщин-подпольщиц.
К Лизе Гельфонд пришел вечером, застал ее дома: она только что вернулась с работы. Как уборщица немецкого казино, переоборудованного недавно в столовую для офицеров, Лиза имела ночной пропуск и могла беспрепятственно появляться на улицах города в любое время суток.
То, что я от нее услышал, в какой-то мере пролило свет на обстоятельства ареста Марии Жарской.
Когда в городе шли облавы на бывших военнопленных, ночью в дверь квартиры Жарской постучал мужчина в заплатанной красноармейской гимнастерке под грязной фуфайкой, попросил пустить переночевать, потому что немцы, мол, всюду гоняются за такими, как он, и деваться ему некуда. У многих ровенчанок в ту пору находили приют бежавшие из плена советские бойцы и командиры. Не была в этом отношении исключением и Мария Жарская. Жена советского командира, она считала своим священным долгом оказывать помощь попавшим в беду красноармейцам и офицерам. Неожиданный ночной пришелец жил у нее несколько дней, из дома никуда не выходил, всякий раз с тревогой бросался к окну, когда поблизости слышались голоса немцев.
Словом, никаких подозрений у хозяйки квартиры он не вызывал. Во время разговора с Жарской неоднократно намекал, что большинство его товарищей подались в лес, и если бы знал дорогу, то сам тоже, не задумываясь, отправился бы к партизанам. К Жарской в те дни несколько раз заходили Валя Некрасова и Таня Крылова. Незнакомец видел женщин, разговаривал с ними, высказывал им свое желание перебраться к партизанам.
Сначала Жарская колебалась, но квартирант, как видно, сумел втереться к ней в доверие. При встрече Мария сказала Лизе: «Думаю, надо помочь моему квартиранту перебраться в партизанский отряд. А пока для проверки дадим ему какое-нибудь задание в городе. Если не спасует, переправим на «маяк». Только предварительно посоветуюсь с Соловьевым».
— Успела она посоветоваться или нет, не знаю, — продолжала Гельфонд. — Соловьев тогда вместе со связным ушел в Гощу...
Эти слова Лизы сняли с меня часть тяжелого груза. Теперь я по крайней мере хоть кое-что знал о Владимире. Если с ним ничего не случилось в пути, то он вне опасности: Гоща уже освобождена советскими войсками. Возможно, лейтенант Соловьев вновь командует огневым артиллерийским взводом. Если так, желаю тебе счастья и скорой победы, Владимир Филиппович! Полковник Медведев прав: война не кончается у Ровно. Впереди новые бои за полный и окончательный разгром немецкого фашизма...
— На следующее утро соседи услышали в квартире Жарской крики, стрельбу, — рассказывала между тем Лиза. — Видно, Мария отбивалась и ее постоялец не мог справиться с ней один. На выстрелы из соседнего дома выскочили гитлеровцы, побежали к квартире Жарской. Когда Марию со связанными руками вывели на улицу, тот, в фуфайке, шел рядом с гестаповцами и подталкивал арестованную пистолетом в спину.
— О ее дочке ничего нового не слышно? — спросил я.
— Пока ничего. Многие говорят, что девочку тоже забрали в гестапо. Правда, одна знакомая старушка шепнула мне, будто дочку Марии взяла какая-то женщина. Но узнать точно, где она, мне так и не удалось...
Без каких-либо колебаний я поделился с Лизой своими соображениями насчет задуманной диверсии. Зная ее как женщину смелую, не страшившуюся опасности, не раз выполнявшую трудные задания подпольного Центра, сказал в заключение:
— Требуется ваша помощь, Лиза. И не только ваша. Возможно, к участию в операции придется привлечь кое-кого из ваших подруг по работе в столовой.
— Ну что ж, если надо, значит, надо, — выслушав меня, просто ответила Гельфонд. — Ира Соколовская и Галя Гниденко тоже не откажутся помочь в этом деле. Девчата боевые.
Лиза неторопливо надела пальто, отвела детей к соседям, вернувшись, сказала:
— Пойдемте, Терентий Федорович, к девушкам. Они сейчас дома. Там обо всем договоримся.
Мы вышли. Ирина Соколовская и Галя Гниденко жили в крошечной комнате неподалеку от центра города. Пришлось пробираться к ним темными проходными дворами.
— Надо поговорить, девушки, — сказала Лиза после того, как познакомила меня со своими подругами. — Терентия Федоровича интересует наше казино. Он сейчас обо всем расскажет. Нужна наша помощь, девчата!
— Поможем, — твердо проговорила Галя. — Что нужно делать?
Со слов Лизы Гельфонд я уже знал примерный план размещения в казино-столовой большого зала для младшего офицерского состава и комнат для посетителей более высокого ранга — генералов и полковников. Над столовой, на втором этаже, немцы оборудовали офицерскую гостиницу. Там тоже постоянно толпились гитлеровцы. Известно мне было и то, что никого из местных жителей, кроме женщин из обслуживающего персонала, немцы в столовую не пропускали.
— Вся надежда на вас, девушки, — сказал я после того, как в нескольких словах объяснил им цель диверсии. — Мне самому, к сожалению, никак нельзя пробраться в столовую, тем более пронести туда взрывчатку. Вам проще: вы имеете пропуска. Задание, конечно, опасное, но мы должны его выполнить. Ну как, согласны?
Соколовская молчала. Узнав о задании, она несколько побледнела. Гниденко оставалась спокойной, на ее лице не промелькнуло даже тени страха.
— Мины в столовую мы пронесем, — ответила она за себя и за подруг. — Но где их спрячешь? В общем зале, как и в генеральских комнатах, кроме столов и стульев, ничего нет.
— Может, есть какие-нибудь шкафы, буфеты или хотя бы ящики с фикусами.
— Нет, ничего нет. Разве голландские печи! Но их сейчас почти непрерывно топят...
И тут мне вдруг припомнился случай из студенческой жизни. Как-то Николай Абрамчук привез из села в общежитие большой «шмат» сала. Отрезал по куску нам, соседям по комнате, а остаток спрятал. Сколько мы ни искали, не могли обнаружить его тайник. А Николай лишь улыбался, с аппетитом уплетая по утрам бутерброды с салом и свысока поглядывая на кильки и луковицы, которые вынуждены были есть мы. Наконец кто-то случайно заглянул под стол: оставшийся «шмат» сала Абрамчук прибил гвоздем к крышке стола снизу.
— Есть выход, девушки, — сказал я. — Нужны две жестяные банки. Начиним взрывчаткой, вы пронесете их в столовую и прикрепите гвоздями к крышкам столов снизу. Не станут же офицеры заглядывать под столы.
Ирина вышла в коридор, вернулась с двумя банками из-под джема.
— Годятся?
— Подойдут.
Лиза Гельфонд, после того как обо всем договорились, ушла домой. Ирина и Галя легли спать, а я при колеблющемся свете плошки принялся готовить заряды. В каждую банку положил по шести толовых шашек, по три противотанковые гранаты без ручек и по две лимонки. Детонаторами для всей этой «начинки» должны были послужить небольшие магнитные мины замедленного действия с шестичасовым запасом времени.
Оставалось только вставить запалы. Один из них почему-то никак не входил в отверстие. Я и так и этак крутил его, ничего не получалось. Близилось утро. Зазвонил будильник. Галя и Ирина быстро встали, оделись, хотя до начала их рабочего дня в столовой оставалось еще часа два, не меньше.
— У вас все готово, Терентий Федорович? — спросила Галя.
Я на ощупь продолжал возиться с запалом, стараясь во что бы то ни стало вогнать его в гранату... Ответить на вопрос Гали не успел. Раздался взрыв. В лицо ударил слепящий клубок огня, и показалось, что я мгновенно ослеп. Огнем опалило руки, загорелись пиджак и рубашка на груди. Тесная комната наполнилась едким дымом. В выбитое окно потянуло холодом.
К счастью, взорвался лишь запал, а не граната. Прикусив от боли нижнюю губу, я сбил пламя с пиджака, стал протирать глаза. Заволакивавший их огненный туман постепенно рассеялся: глаза целы, я вижу! Оцепеневшие вначале от неожиданного происшествия Галя и Ирина бросились ко мне. Проснулась и громко заплакала дочка Соколовской. За стеной хлопали дверьми перепуганные соседи, не решаясь заглянуть в комнату, из которой тянуло едким дымом.
Теперь нельзя было терять ни секунды. Мы все трое схватили гранаты, стали у двери, ожидая появления гитлеровцев. Прошло пять, десять минут, на улице тихо: не слышно ни топота кованых сапог, ни свистков жандармских патрулей. Значит, пока пронесло.
— Ирина, — повернулся я к Соколовской, — немедленно одевайте ребенка и уходите к кому-нибудь из соседей, только подальше от этого дома. Вы тоже, Галя, идите! Побыстрее! Вам нельзя здесь оставаться...
Закутав девочку в одеяло и накинув на плечи пальто, Соколовская вместе с ребенком выбежала за дверь. Следом за ней, как была в одном платье, вышла и Галя. Минуту спустя вернулась с двумя ведрами:
— Кладите все сюда! Нужно спрятать!
Я быстро уложил в ведра толовые шашки и гранаты. Одевшись, мы вышли во двор. Дул морозный ветер. Неподалеку серели припорошенные снегом развалины какого-то здания. Отнесли ведра туда, засыпали сверху мусором, стали наблюдать за домом, который только что покинули, уверенные, что гитлеровцы все же заглянут туда. Но вокруг по-прежнему было тихо.
Совсем успокоившись, Галя вынула из кармана носовой платок, стала вытирать мне лицо. Оно покрылось волдырями, руки тоже. Хорошо еще взорвался только испорченный запал, а не граната. А бахни противотанковая граната, от детонации взорвались бы обе банки с «начинкой» — и всему конец. По меньшей мере, разнесло бы полдома.
Постояв еще несколько минут у развалин, мы вместе с Галей стали пробираться к дому, где жила Лиза Гельфонд. Темные улицы были пустынными. Видно, холод загнал под крыши даже патрульных жандармов. Я поднял воротник пальто, на самые глаза надвинул кепку. Это несколько маскировало обожженное лицо. Но не знаю, чем бы все кончилось, если бы с нами повстречался жандармский или полицейский патруль? Галя шла рядом, подбадривала меня, даже улыбалась, хотя обоим нам было не до шуток.
Несколько в стороне от главной улицы, которую оккупанты назвали Гитлерштрассе, на площади перед бывшим зданием областного суда, немецкие саперы устанавливали столбы с перекладинами. Глаза Гали расширились.
— Смотрите, что они там делают. Видите?
Я видел. Немцы устанавливали на площади виселицы.
Лиза сходила за доктором Клешканем, давним другом и опекуном подпольщиков. Обычно он молча делал свое дело и лишь иногда ворчал себе под нос, ни к кому не обращаясь: «Можно подумать, что людям нравится ловить своим телом куски металла. Опять пуля! Ну и конечно же случайная!»
Доктор, не раздеваясь, быстро намазал мне какой-то мазью лицо, руки, вынул из кармана бинт и, несмотря на протесты, ловко обмотал лицо, оставив неприкрытым лишь правый глаз. Забинтовал обе руки. Из-под марли выглядывали лишь два пальца на левой руке.
Как только доктор, попрощавшись, вышел, сидевший до сих пор молча Серафим Афонин сказал:
— Дождемся ночи, Терентий Федорович, и в отряд. Погода нелетная, партизаны, наверно, еще не вышли в рейд. В таком виде вам только в лесу и можно укрыться от фашистов.
— Партизанам нужны бойцы, Серафим, а я сейчас даже в кашевары не гожусь. Да и вообще, брат, в отряд нам возвращаться рано. Придется тебе сейчас прогуляться по городу, принести сюда мины и гранаты. Галя покажет, где они спрятаны. Только осторожно, скоро будет совсем светло. Провалишься, считай, что мы оба виноваты в срыве боевой операции, Ребята, наверно, уже действуют, нам от них отставать нельзя.
— Ребята действуют, — сразу повеселел Афонин. — Жорка с Мартынюком на Школьной двух полковников ухлопали.
— Так уж и полковников. Что они документы проверяли?
— А погоны зачем? — обиделся за друзей Серафим. — Слава богу, различать немецкие погоны мы научились. Оба полковники, оберсты по-ихнему. Один молодой, другой постарше. Подъехали к штабу на легковушке, тут им и конец пришел: одного прихлопнул Жорка, другого — Мартынюк.
— А ты что, там был?
— Да как вам сказать, — замялся на секунду Афонин. — Я недалеко в стороне стоял, все видел. Серов сюда недавно заходил. Сказал, что генерал Кицингер со своим штабом уже смылся из города. В помещении штаба Сашка застал только одного офицера — бумаги он жег. Ну Серов живым его не отпустил. Одним офицером у Гитлера стало меньше.
— Ты вот что, Серафим, поторапливайся, — прервал я Афонина. — Там в жестянках с гранатами и толом магнитные мины лежат.
Афонин схватил шапку, быстро оделся. Вместе с ним вышла Галя Гниденко.
4
Мы с Афониным несколько дней жили в квартире Лизы Гельфонд. Кое-что из продуктов нам обычно приносила Люба Комаровская.
В то утро Комаровская пришла бледная, расстроенная.
— Немцы сгоняют людей на площадь к зданию, где раньше помещался областной суд. Площадь окружена солдатами и офицерами. Наших, наверно, вешать будут, — срывающимся голосом сообщила она.
День был пасмурный. Низко, чуть ли не над домами, плыли свинцовые тучи. На колокольне собора дважды бумкнул колокол и, будто захлебнувшись, умолк. Ветер гнал по улицам холодную, с льдинками водяную пыль.
Фашистам не удалось согнать на казнь много ровенчан. Среди большого числа немецких военных в прорезиненных плащах и кожаных пальто виднелись лишь крохотные группки мужчин в штатском и отдельно — женщины. Построившись полукругом, молча стояли немецкие автоматчики в грязно-серых шинелях с нашивками СД на рукавах. Ближе к виселицам — два ряда жандармов с подковообразными бляхами на груди.
Первым из закрытой, с решетками на окнах машины вывели Ивана Луця. Он был босой. Руки скручены за спиной веревкой. На синем от побоев лице запеклись сгустки крови. Ветер развевал его мягкие волосы. Иван Иванович, не сгибаясь, прошел под конвоем по холодному, мокрому булыжнику к виселице, поднялся на помост, ящик из-под снарядов. Огляделся кругом. И вдруг его немного хрипловатый, но сильный голос взметнулся в тишине над площадью:
— Прощай, Родина! Мы умираем за тебя! Умираем большевиками! Прощайте, люди! Смерть фашизму!
Эсэсовец, распоряжавшийся палачами, что-то злобно закричал на стоявших рядом с Луцем двух офицеров. Те быстро набросили на шею своей жертвы веревку, выбили из-под ног Ивана Ивановича ящик...
Послышались приглушенные рыдания женщин.
Два эсэсовца вывели из машины Николая Поцелуева. В схватке с врагами он был тяжело ранен и не мог идти сам. Тело не подчинялось ему, но не сломлена была воля политрука. Уже под виселицей он, собрав последние силы, поднял голову, негромко крикнул: «Смерть гадам! Вам все равно не уйти живыми с нашей земли!» — и плюнул в морду державшему его гестаповцу.
Один за другим проходили наши друзья подпольщики свой последний короткий путь, и ни взглядом, ни словом, ни единым движением никто из них не унизил себя перед фашистскими палачами, ни стоном, ни криком отчаяния не показал им своей боли. Они умирали, как и жили, с лютой ненавистью к тем, кто принес на нашу землю кровь и горе, рабство и угнетение. Они не были фанатиками. Каждый из них любил жизнь, и не только, любил, боролся за нее, за то, чтобы она была свободной и счастливой.
В давние времена под стенами Ровно в битвах за волю сложили свои головы многие непокорные казацкие сыны; кончая жизнь страшной, мучительной смертью на острых палях, они презрительно смеялись в лицо своим врагам. Позже по мощенным камнем городским улицам, под свист пуль, под звон стальных клинков и перестук пулеметных тачанок шли в атаки красные конармейцы во главе с легендарным Олеко Дундичем, геройской смертью павшим в бою и похороненным в парке под кленами. На подступах к этому седому городу и на его улицах мужественно бились за Отчизну и умирали советские воины в жестоком сорок первом году. И теперь, в пасмурный зимний день 4 января сорок четвертого года, в бессмертную свою историю старинный украинский город вписал имена новых героев — Ивана Луця, Николая Поцелуева, Марии Жарской, Федора Шкурко, Николая Самойлова.
— Товарищи, прощайте! Не забудьте о моей дочке! Не забудьте о наших детях! Помните нас! Отомстите за нас фашистам! — такими были последние слова Марии Жарской.
* * *
Серафим Афонин положил на стол мину.
— Осторожнее, Терентий Федорович. Лучше я сам. У вас же больные руки.
Афонин по-своему перекладывает «начинку» жестяных банок из-под джема. И получается у него это гораздо лучше, чем у меня. Мы кладем в банки еще по гранате, пустое пространство заполняем гайками, гвоздями и другим металлическим хламом.
Все готово. Взрыватели пущены в ход. Банки аккуратно завернуты в газеты, перевязаны шпагатом.
— Килограммов четырнадцать, не меньше, — прикидывает на руках один из пакетов Серафим.
Внутри пакетов неумолимо отсчитывают минуты и секунды механизмы адских машинок, и каждый, почти неслышный удар приближает тот миг, когда истечет заданное минам время. Осталось только пронести пакеты в казино-столовую и прибить их там гвоздями снизу к крышкам столов. Иного места для них нет.
Только пронести и прибить! А ведь это самое главное, самое опасное. Все ли обойдется благополучно? Удастся ли нашим боевым подругам пронести мины? Не задержат ли их часовые?
Галя Гниденко и Лиза Гельфонд кладут в карманы пальто по лимонке — на всякий случай, берут тяжелые пакеты, спешат в казино-столовую.
Пряча под шапкой и поднятым воротником пальто забинтованное лицо, я тоже покидаю квартиру Лизы, ухожу на улицу Коперника, в дом 28, к сестрам Подкаура. Комнаты Лизиной квартиры остаются пустыми. Детей она еще вчера отвела к своей знакомой. Туда же проводила и дочку Ирины Соколовской. Женщине, принявшей на себя заботу о детях подпольщиц, Лиза отдала деньги из портфеля Ивана Ивановича Луця. Ничего другого мы не могли оставить для малышей. Горьким было расставание матерей с детьми...
Квартира сестер Подкаура в то утро напоминала общежитие, в котором собрались на отдых люди, изнуренные непосильной работой. Татаринов и Мартынюк спали. Афонин то и дело подбегал к окну, прислушивался. Серов сидел на стуле глубоко задумавшись, механически листал какие-то немецкие газеты. Валя не выходила из кухни. После того как немцы казнили наших товарищей, она все время плакала, и не было слов, чтобы утешить ее.
Лиза и Галя вбежали в комнату, когда, казалось, не было уже никакой надежды на их благополучное возвращение. Обе выглядели усталыми, измученными, точно работали целые сутки без отдыха. А ведь прошло всего полтора часа! Даже Галя, обычно всегда спокойная, уравновешенная, сейчас была не похожа на себя: ее плотно сжатые губы отливали синевой, глаза лихорадочно блестели, из-под платка выбились пряди волос. Худенькая, бледная, Лиза едва держалась на ногах. Она прислонилась к притолоке двери и, тяжело дыша, то расстегивала, то вновь застегивала пуговицы потертого, старого пальто.
— Мы все сделали, — немного отдышавшись, тихо сказала она.
За полтора часа Лиза Гельфонд так переволновалась, столько пережила, передумала!..
Метрах в трехстах от казино-столовой ее остановил патруль. Жандармский офицер подозрительно посмотрел на тяжелый сверток в руках женщины, но, когда услышал, что она идет на работу в офицерскую столовую, приказал жандармам: «Пропустить!» Офицер долго смотрел ей вслед, пока не убедился, что она действительно вошла в помещение казино-столовой.
Галя пришла на несколько минут раньше своей подруги и ожидала ее в генеральской комнате. В столовой еще никого не было, только где-то в кухне гремели жестяными противнями повара. Подпольщицы быстро перевернули один из столиков ножками вверх, прибили коробку с «начинкой» к внутренней стороне крышки, поставили столик на место, накрыли скатертью. Такую же операцию проделали с другим столиком в общем зале. Затем Лиза стала растапливать печи, а Галя для видимости возилась с посудой, перетирая полотенцем и без того чистые тарелки...
О результатах диверсии нам должна была сообщить Ирина Соколовская. У нее в тот день был выходной. Предполагалось, что взрыв произойдет часов в двенадцать дня. Ирина к этому времени будет где-то поблизости от столовой и, как только мины сработают, придет на улицу Коперника, 28.
Стрелка часов уже давно перескочила за цифру двенадцать, а Ирины не было. Час, половина второго, два... Ее все нет. Что случилось? Сами мы не могли услышать взрыва, потому что находились далеко от столовой. Может, отказали механизмы в минах? Или гитлеровцы обнаружили банки с «начинкой»? Только первое или второе, других причин быть не могло... Впрочем, нет, не исключено и третье: что-то произошло с самой Ириной. Не схватили ли ее гестаповцы?
Больше всех, наверное, переживали Лиза и Галя. Они молчали, но нетрудно было догадаться, о чем думала каждая. Галя несколько раз порывалась пойти в город. Мы не пустили ее.
В начале третьего пришла Люба Комаровская, возбужденная и одновременно немного испуганная.
— Ой, товарищи, что творится в городе! — сразу заговорила она. — Партизаны взорвали немецкую столовую и гостиницу. Говорят, очень много убитых и раненых офицеров... Немцы уже два часа вывозят их на санитарных машинах. Офицеры из других столовых тоже поразбежались. Какой-то мужчина на улице сказал, что с минуты на минуту взлетит на воздух ресторан.
В это время раздался стук в дверь: прибежала Ирина Соколовская.
О взрыве мы уже знали. Теперь всех интересовал вопрос, почему Ирина так долго не появлялась. Что с ней случилось? Это не было простым любопытством. Если гестаповцы или жандармы задержали Соколовскую недалеко от места взрыва, а потом отпустили, то вполне возможно, что за ней следят.
Произошло между тем следующее. В десятом часу Ирина вышла из своей комнаты. Соседки по квартире встретили ее в коридоре подозрительными взглядами. После той ночи, когда у меня в руках взорвался запал, соседи вообще стали относиться к ней с подозрением: ведь так не долго, чего доброго, спалить дом!
Едва дождавшись, пока сварится кофе, Ирина вернулась в комнату, поставила кофейник на окно и, не позавтракав, выскочила на улицу — лучше не задерживаться в доме!
— Эй, Соколовская, иди сюда, — раздался почти рядом строгий голос Стефании, калькуляторши из казино-столовой, въедливой и нахальной особы из фольксдейче. — Где это шляется твоя подружка Гниденко? Почему она не на работе?
— Откуда я знаю? — ответила Ирина. — Гниденко передо мной не отчитывается.
— Как это не знаешь? Вы вместе живете, в одной комнате!
— Утром она ушла на работу, а где сейчас — спросите у нее, — отмахнулась Ирина.
— Нет, дорогуша, подожди. Если не знаешь, где подруга, сама немедленно отправляйся в казино. Шеф специально послал меня. Скоро обед, придут господа офицеры, а официантки нет. Кто их будет обслуживать?
— У меня выходной. Отцепись!
— Не похудеешь и без выходного. Ну, чего стоишь? Может, жандарма позвать, чтобы за ручку отвел тебя на работу? Могу позвать. Он не только в казино, даже на станцию, в эшелон проводит.
Соколовской пришлось пойти в столовую. Она со страхом вошла в общий зал. Женщине казалось, что взрыв произойдет немедленно...
Вскоре появились первые посетители. Некоторые из них подъезжали на машинах прямо с передовой, находившейся теперь совсем недалеко от города. Разнося тарелки, Ирина все время с ужасом поглядывала на висевшие в зале часы. Генеральская комната оставалась еще пустой. Соколовская на минуту забежала туда — ей часто приходилось обслуживать и старших офицеров, поправила на одном из столиков скатерть, будто случайно провела пальцами под крышкой, нащупала металлическую банку и быстро выскользнула в общий зал. Там почти за всеми столиками уже сидели офицеры, курили, громко переговаривались, двигали стульями. Постепенно начала заполняться и генеральская комната. Ирина заметила: прошли несколько старших офицеров, потом проследовал пожилой лысый генерал... Туда же поспешил шеф казино-столовой, ловко балансируя подносом с тарелками и двумя бутылками коньяку.
Соколовская еще раз глянула на часы. Пятнадцать минут двенадцатого. Пора уходить, а то можно и опоздать. Когда шеф столовой вновь скрылся за дверью генеральской комнаты, Ирина выбежала в раздевалку, взяла пальто и — на улицу.
Казалось, она должна была как можно дальше уйти от казино-столовой, но подсознательное желание увидеть все, что произойдет, собственными глазами удерживало подпольщицу вблизи места диверсии. Чтобы скоротать время, Ирина заглянула в располагавшийся напротив столовой частный комиссионный магазин, потом обошла большой кирпичный дом, у которого стояли в ряд немецкие легковые машины. И как раз в этот момент грохнул первый взрыв. Из оконных проемов казино-столовой, отскочив далеко на мостовую, выпали рамы, со второго этажа из окон гостиницы посыпались стекла. Вслед за первым прогремел второй взрыв, еще более мощный. Наружу выплеснулось пламя и облако пыли: вероятно, в помещении рухнул потолок. Из окон второго этажа прыгали на тротуар уцелевшие гитлеровцы...
После второго взрыва Ирина бросилась прочь от казино-столовой. Но сюда уже сбегались жандармы, полицая, гестаповцы, перекрывали улицы. Соколовская хорошо знала район. Не теряя времени, она кинулась назад, к столовой, заскочила в раздевалку, а оттуда через заднюю дверь во двор. Там суетились немецкие солдаты из хозяйственной команды, только что привезшие печеный хлеб. У главного входа уже гудели моторы грузовиков с жандармами. Истошно сигналя сиренами, подъезжали санитарные машины.
Все оставшиеся в живых офицеры, прибывшие к месту взрыва немецкие солдаты, жандармы, полицейские, повара, служащие администрации столовой и соседних учреждений были мобилизованы для оказания помощи пострадавшим. Попала в «спасательную» команду и Ирина Соколовская. Почти три часа она вынуждена была заниматься непредвиденной работой — вместе с другими спасать раненых, подтаскивать к санитарным машинам трупы. От всего этого молодую женщину мутило. При любых других обстоятельствах она, наверно, лишилась бы чувств. Но Ирина, плотно сжав зубы, крепилась. Она знала: это справедливая месть за Марию Жарскую, Николая Поцелуева, Федора Шкурко, Ивана Луця, Николая Самойлова.
Когда разрушенное помещение столовой и гостиницы было полностью очищено от трупов и раненых, Соколовскую отпустили, предварительно проверив у нее документы. Подробный рассказ Ирины о результатах диверсии послужил всем нам наградой за нестерпимо мучительные часы ожидания.
* * *
После взрыва в столовой немедленно опустели помещения школ, детских садов и особняки, превращенные в офицерские казармы. Оберсты и майоры, гауптманы и лейтенанты спешно перебрались в расположение своих частей и подразделений. Ночные выстрелы Георгия Татаринова, Александра Серова и Дмитрия Мартынюка еще больше встревожили немцев. Возле штабов гитлеровцы выставили охрану с пулеметами. Легковые машины старших офицеров и генералов передвигались по улицам в сопровождении мотоциклистов-автоматчиков. Теперь и жандармские патрули опасались углубляться в глухие лабиринты отдаленных кварталов, старались держаться ближе к центральным улицам.
Оккупанты доживали в Ровно последние дни. Заканчивалась эвакуация учреждений и ведомств рейхскомиссариата. Удрали из города краевой комиссар доктор Беер и его правая рука Бот. Как крысы с тонущего корабля, исчезли их прихлебатели: бывший петлюровец Шарапановский, «адъютант» Смияк, националистические верховоды братья Дзиваки и другие.
Однако полицейско-карательные службы все еще не спешили эвакуироваться. Напротив, гестаповцы, учреждения СА и СД заработали в прифронтовом городе с еще большей интенсивностью, строго следуя чудовищной по своей кровавой жестокости схеме: все опасные элементы должны быть выявлены и ликвидированы, а ради этого необходимо загнать в душегубки столько советских людей, сколько в состоянии пропустить «специальная техника» массового истребления.
Переодетые в гражданское, фашисты шныряли по дворам, бесцеремонно заходили в квартиры ровенчан, приглядывались к прохожим на улицах. Гестаповцы искали Галину Гниденко и Лизу Гельфонд, догадываясь, что они не случайно не вышли на работу в казино-столовую в день взрыва. Искали «ночных охотников». Спохватившись, возможно, разыскивали теперь и Ирину Соколовскую.
Гале Гниденко не надо было объяснять, что представляют собой подвалы гестапо и допросы с пытками. Она знала: лучше мгновенная смерть, чем оказаться в руках гитлеровских палачей. Поэтому девушка, не надеясь на пистолет, после взрыва в столовой не расставалась с гранатой Ф-1: если лимонка взорвется на близком расстоянии, то не только уничтожит любого шпика, но и самое ее избавит от пристрастных допросов в гестапо.
На следующий день после диверсии в офицерской столовой Галя посетила женщину, которая взяла к себе детей Лизы и Ирины, предупредила ее, что матерям на некоторое время придется уйти из города. На случай если Соколовская и Гельфонд не придут за детьми после освобождения Ровно, Гниденко дала женщине адреса родственников, которым необходимо будет написать.
Возвращаясь на квартиру сестер Подкаура, Галя услышала позади шаги. Ее догонял мужчина в кожаном пальто, коричневой шляпе и хромовых офицерских сапогах. Бежать поздно. Гестаповец легко опередил девушку, остановился в нескольких шагах от нее:
— Айн момент! Если не ошибаюсь, фрейлейн из казино?
В ответ Галя резким рывком выдернула из кармана пальто лимонку. Впервые в жизни она бросала боевую гранату и была уверена, что бросает в последний раз. В спешке забыла дернуть за кольцо. Граната полетела, как обычный увесистый камень. Но гестаповец, видимо, не ожидал от «фрейлейн из казино» такой решительности, не успел уклониться, и ребристая граната угодила ему в лицо. Коричневая шляпа слетела на тротуар, сам гитлеровец тоже свалился, не успев выстрелить. Он лежал, оглушенный, в нескольких шагах от Гниденко и, как рыба, выброшенная из воды, хватал ртом воздух. Граната отлетела на мостовую. Галя, не спуская глаз с гестаповца, быстро подняла ее и бросилась в соседний переулок. Все обошлось благополучно.
* * *
Немцы повсюду развесили приказы, обязывавшие местное население эвакуироваться на запад. За отказ от эвакуации всем мужчинам и женщинам в возрасте от шестнадцати до пятидесяти лет фашисты грозили смертью. В этих условиях оставаться в городе с фальшивыми документами у нас больше не было возможности.
— Каково ваше мнение? — спросил я товарищей.
— Пора уходить, — решительно сказал Татаринов. — Надо пробиваться в лес. Может, еще застанем медведевцев? А не застанем, переждем в лесу, пока советские войска освободят Ровно.
— Программу мы, можно сказать, выполнили. Я лично за то, чтобы уходить в лес, хотя сейчас это тоже рискованно. Ты как полагаешь, Сашко? — обернулся Дмитрий Мартынюк к Серову.
— Иного выхода, по-моему, нет. Надо в лес, — согласно кивнул тот. — Мы сделали все, что могли.
— Итак, выходим сегодня же ночью, самое позднее — завтра, а перед тем еще раз хлопнем дверью, — показал я на мину в парусиновой сумке, только что принесенную Валей Подкаура из тайника, который был оборудован Николаем Поцелуевым возле склада утильсырья.
— А где эта дверь? — вопросительно посмотрел на меня Мартынюк.
— Железная дорога. Как стемнеет, пойдем с Афониным, рванем.
— Почему вы? — с укором проговорил Татаринов. — С вашими обожженными руками там много не сделаешь. Мы и без вас справимся.
— Пойдем мы с Афониным, — повторил я. — Вы уже достаточно подставляли головы под пули. Сам же говорил, что вчера ночью вас с Мартынюком чуть не ухлопали жандармы. Вам надо отдохнуть перед дорогой. Ведь нервы не железные. К тому же еще неизвестно, что ждет нас в пути, там вы будете лучшими бойцами, чем я. Каждый из нас имеет собственный счет к фашистам. Я тоже имею. Так что не возражайте. Собирайся, Сима! — обернулся я к Афонину. — Минут через тридцать — сорок выйдем.
Железная дорога, разделявшая город почти на две равные части, оставалась теперь единственной артерией, связывавшей оборонявшиеся в районе Ровно гитлеровские войска с их ближними и дальними тылами. Когда была ясная погода, советская авиация часто бомбила железнодорожные станции, эшелоны. Но в последние дни из-за снега и буранов налеты прекратились. Вражеские эшелоны с живой силой и боевой техникой беспрепятственно двигались в сторону Здолбунова и обратно.
...Только что прошли два эшелона. Мы с Афониным лежим в неглубокой канаве как раз против семафора, неподалеку от фабрики валенок. До железнодорожного полотна каких-нибудь двадцать метров. Три гитлеровца, патрулирующих этот участок дороги, удаляются к станции. На фоне пестрого, покрытого угольной пылью снега отчетливо видны их фигуры. Наблюдая за солдатами, я с миной в руках выползаю из канавы. Серафим остается на месте, чтобы в случае необходимости прикрыть меня огнем из пистолета и гранатами.
Надо успеть заложить мину под рельс, пока не появится очередной эшелон и не вернутся назад солдаты-охранники. Под руками твердый, смерзшийся песок, перемешанный с щебенкой. Начинаю копать. Лезвие ножа ударяется о мелкие камни. Бинты на руках размотались. На обожженных пальцах лопается кожа, на рани попадает песок. Страшная боль. Руки деревенеют. Но сейчас не до боли: надо успеть. Одним незавязанным глазом я плохо вижу. Срываю с лица повязку, чтобы освободить второй глаз. Чувствую, как вместе с грязной, засохшей марлей от щек отстают клочья кожи. Вставляю в мину запал с прикрепленным к колечку шнуром, немного отгибаю концы чеки. С пальцев каплет кровь. И все же мина установлена. Осторожно разматываю шнур, отползаю назад, в канаву, а оттуда — к забору фабрики валенок.
Сима Афонин переползает ближе ко мне, устраивается за толстым деревом, тихо ругается. Вчера ночью, убегая от жандармов, он упал и вывихнул правую руку. Однако никому об этом не сказал. Не признался и мне, когда шли на диверсию: вероятно, постеснялся.
Со стороны Здолбунова показался эшелон. От забора фабрики видно: платформы очень низкие. Наверное, порожняк? Подождем следующего. Афонин согласно кивает головой. Минут через пять-шесть замаячил огнями второй состав.
И снова железная дорога преподнесла нам неприятный сюрприз. Трое гитлеровцев, пройдя отведенный им для охраны участок, успели возвратиться, заметили разрытый песок и гравий. Вероятно, увидели и шнур. Один из них, размахивая фонарем, побежал навстречу поезду. Неужели опять осечка?
Нет, эшелон мчится вперед с прежней скоростью. Возможно, машинист не заметил сигнала. Я уже различаю цепочку пассажирских вагонов и успеваю подумать: «Наверное, с новым пополнением?» Тут же чувствую, что не в состоянии дернуть шнур: обожженные, замерзшие пальцы не слушаются, не сгибаются.
— Шнур! — кричу Афонину. — Дергай шнур!
Серафим дернул тонкую прочную бечевку.
Мгновенная молния вспарывает темноту, выплескивает на город серебристо-белое облако. Тугая волна взрыва выбивает стекла в ближайших домах. Мина взорвалась как раз в тот момент, когда над ней оказался паровоз. Его тяжелая металлическая туша закачалась и, выпуская белые струи пара, свалилась под откос. Со скрежетом полезли один на другой вагоны, послышались крики...
А позади нас, на соседней улице, уже надрывался по радио визгливый голос не то диктора, не то дежурного офицера:
— Ахтунг! Ахтунг! Над городом русские самолеты!
Держа в руках по гранате, мы с Серафимом бежим прочь от железной дороги в темные переулки внезапно разбуженного, взбудораженного взрывом Ровно.
* * *
Город с жандармскими патрулями и гестаповцами, с переполненными немецкими солдатами и офицерами домами, с грозными приказами на стенах зданий и заборах, с колоннами войск, расползавшихся по улицам грязно-зеленым потоком, остался позади, за снежной пеленой, которая плотно окутала землю.
Впереди — блуждающие в ночи вражеские дозоры, пугающий треск автоматных очередей, отчетливо слышные, как весенний гром, отзвуки артиллерийской канонады.
Лиза Гельфонд и Ира Соколовская размахивают руками, толкают друг друга, стараясь хоть немного согреться. Одежда на них смерзлась, торчала колом, шуршала, словно была из жести. Когда мы переходили Горынь, плохо замерзшая река едва не стала для Лизы и Ирины могилой: они с головой провалились под лед, и мы трое, Гниденко, Афонин и я, с большим трудом извлекли женщин из ледяной купели. Обсушиться было негде. У Лизы и Ирины зуб на зуб не попадает, но они не жалуются. Молча шагает и Галя, хотя ее большие, не по размеру, сапоги промокли насквозь и она до крови стерла ноги. Серафима беспокоит вывихнутая рука. Я вижу, как он кривится от боли, прижимая распухшую руку к груди. У меня бинты на руках смерзлись, а лицо, как говорит Галя, «сплошная, гноящаяся рана». Я не могу даже как следует открыть рот: грязная, ставшая твердой от засохшего гноя марля накрепко приварилась к небритым щекам; отодрать ее можно только вместе с кожей. Но все-таки труднее всех Ирине и Лизе: они будто закованы в ледяной панцирь. Даже быстрая ходьба не согревает их.
Недалеко от какого-то хутора нас обстреливает из винтовок ночной дозор националистов, но мы успеваем скрыться в балке. Бежим, падаем, снова бежим, стараясь не терять друг друга из виду, а позади гремят выстрелы. Долго петляем оврагами, делаем порядочный крюк, чтобы обойти опасное место. И все же продвигаемся к Цуманскому лесу, хотя и не знаем, кто там нас встретит — свои или враги.
На востоке чуть светлеет край неба. Уже видна темная полоса лесного массива. Начинаем шагать быстрее, увереннее. И вдруг опять выстрелы, ржание лошадей, справа и слева наперерез нам мчатся всадники, с явным намерением окружить. Коки звонко стучат подковами по замерзшей земле. По командам и отдельным выкрикам определяем: бандеровцы. Кругом голое поле — не спрячешься. Придется обороняться. Становимся все рядом — плечом к плечу, спиной к спине, вынимаем из карманов пистолеты, гранаты.
— Живыми не сдадимся! Не сдадимся! — шепчет Галя.
Она права. Лучше смерть, чем попасть в руки этой банде. Я сжимаю зубами кольцо лимонки, боюсь, что не смогу выдернуть его пальцами.
Предрассветную мглу неожиданно прорезает длинная автоматная очередь. К ней присоединяется вторая, третья... Автоматчики ведут огонь от едва видимого в стороне низкого строения. Бандеровцы резко поворачивают коней и, словно привидения, растворяются в темноте. А от строения уже слышатся голоса:
— Товарищи, сюда! Не бойтесь! Свои!
Я узнаю голос Георгия Татаринова. Да, это наш Жорка: вместе с Серовым и Мартынюком он вышел из квартиры на улице Коперника двумя часами раньше. Мы должны были встретиться на окраине Ровно, но условленное для встречи место пришлось обойти: там были немцы. Однако откуда у Татаринова, Серова и Мартынюка автоматы?
Оказывается, возле сарая они не одни — там и партизаны, передовая застава медведевцев. На наше счастье, отряд еще не покинул Цуманского леса.
* * *
Утром 2 февраля 1944 года в Ровно одним из первых ворвался эскадрон 31-го полка 8-й гвардейской кавалерийской дивизии.
Вместе с 13-й армией генерал-полковника Н. П. Пухова в изгнании из города оккупантов принимало участие соединение, возглавляемое секретарем подпольного обкома партии Василием Бегмой и комиссаром Лукой Кизей.
Ровенчане плакали от радости и счастья, припадая к пропахшим потом и порохом полушубкам и шинелям советских воинов.
...Я подошел к дому с колоннами, недавней резиденции кровавого Эриха Коха. Посмотрел вверх: над величественным, хотя и израненным зданием развевался Красный флаг.
Не помню, как поднимался я по ступеням широкой лестницы, как открывал дверь. Из всего пережитого в те минуты запали в память лишь большая комната с наспех забитыми фанерой окнами, автомат на покрытом белой, пылью диване и генеральские погоны на плечах невысокого, коренастого человека в военном кителе, водившего цветным карандашом по разложенной на столе карте.
С минуту я стоял возле порога — давно не бритый, с еще не зажившими ожогами на лице и руках, в старом, совсем износившемся пальто. Увидел генерала и растерялся: сюда ли попал? Да, сюда! Генерал отодвинул карту, положил карандаш, приветливо улыбнувшись, посмотрел на меня серыми проницательными глазами: это был Василий Андреевич Бегма.
Я чувствую на своих плечах его большие руки, и что-то горячее, радостно-волнующее подступает к горлу, сдавливает грудь. Мы стоим среди кабинета обнявшись и долго, долго молчим.
А на столе лежит карта. Красные стрелы на ней указывают путь на запад, на просторы соседней Польши. Тогда я еще не знал, не догадывался, что пройдет немного времени и мне придется там продолжать борьбу.
Война прокатилась через Ровно. Но война еще не кончилась.
После войны мне посчастливилось некоторое время работать вместе с Георгием Димитровым. Однажды мы долго засиделись вдвоем в его рабочем кабинете в Софии. Георгий Михайлович с интересом слушал мой рассказ о деятельности коммунистического подпольного Центра в Ровно в годы оккупации, интересовался подробностями. Когда узнал, что многие бойцы подпольной организации — коммунисты, комсомольцы и беспартийные советские патриоты, были повешены, расстреляны, замучены гитлеровцами, задумчиво проговорил:
— Лучших бойцов отняла у нас война. Пройдут годы, вырастут новые поколения людей, но тех, кто отдал жизнь в битвах с фашизмом, человечество никогда не забудет. И мы, оставшиеся в живых, должны сделать все, чтобы погибшие в этих боях навсегда оставались живыми...
Я часто думаю об этих словах человека, который на века остался в памяти людей как самый мужественный, самый непоколебимый борец против фашизма, первым бросивший на весь мир слова гневного презрения в лицо главарям гитлеровского третьего рейха. Да, павшие в боях с фашизмом должны быть вечно живыми!
Неудержимо, как волны моря, катятся годы, несут нас навстречу новым зимам и новым веснам. Все дальше в прошлое отступают события военных лет. Те из нас, которые тогда были молодыми, стали отцами, а наши отцы и старшие братья — дедами. Таково течение жизни, и нет силы, чтобы остановить его.
...Весенним майским днем я приехал в Ровно. Торжественным и праздничным выглядел обновленный город в буйном цветении садов и парков. На одной из хорошо мне знакомых улиц — улице Первого мая, у дома, полускрытого за зеленью палисадника, я вдруг увидел... Шкурко. Это был сын Федора Захаровича, стройный, сильный, мужественно-красивый.
Генка Шкурко, теперь уже Геннадий Федорович, как раз в те дни проводил в родном городе свой очередной отпуск. Он окончил Высшее мореходное училище, не раз бывал в дальних морских плаваниях, участвовал в первой прославленной советской экспедиция к Южному полюсу, повидал многие земли и страны. Моря и океаны властно манят его своими далями. И вместе с тем есть на земле город, на многие сотни километров удаленный о! морей, который никогда не забывает Геннадий Федорович Шкурко. Это — город его сурового детства, город боевой и мужественной молодости его отца.
В разных концах страны живут ныне бывшие ровенские подпольщики и подпольщицы. Вскоре после войны выехала вместе со своими детьми в Караганду Лиза Гельфонд. Хозяин «дачи» на улице Первого мая Василий Конарев возвратился к себе домой в Днепропетровск. В братской Польше живет Любовь Комаровская. Ровенчане не забывают об этой мужественной польке, вместе с ними боровшейся против общего врага — немецкого фашизма. Не забывают и о ее муже, талантливом скульпторе. Созданный им еще до войны памятник советскому генералу Богомолову и поныне стоит в одном из ровенских скверов.
Встречал я и Михала, сторожа фабрики валенок. Это было через несколько дней после освобождения советскими войсками Ровно. Мундир солдата Войска Польского неузнаваемо изменил внешность нашего скромного помощника по подполью. Михал добровольно вступил в свою родную армию, чтобы участвовать в освобождении от фашистской нечисти польского государства.
Дмитрий Мартынюк работает водителем такси. Он ежедневно проезжает по улицам, на которых когда-то гремели его выстрелы. Как и раньше, живет в небольшом домике в Ровно Александра Венедиктовна Чидаева, наша тетя Шура. Она уже совсем старенькая, но по-прежнему с неизменным радушием встречает друзей по подполью, если кому-либо выпадает случай проведать ее. Уже несколько лет как стал персональным пенсионером Иосиф Адамович Чиберак, хозяин «маяка» на хуторе возле села Городок. Живет он теперь в городе, а бывший «маяк» время от времени посещают экскурсии пионеров.
Хозяйка подпольной явки Елена Евтихиевна Дмитриева-Васильева трудится в Сочи, а ее подруга Вера Макарова — в Казахстане.
Руководитель подпольной группы в Тучине, а затем старший группы связных подпольного Центра Виталий Иванович Захаров стал инженером. Долгое время работал в Коломые, затем переехал во Львов, теперь трудится в Киеве, в Министерстве легкой промышленности. Крупное хозяйство возглавляет во Львове Сергей Лукич Зиненко. Его боевая группа в Шпанове сумела сохранить сахарный завод. Уже через неделю после освобождения Ровенской области со Шпановского завода на продовольственные склады наших войск поступили первые тонны сахара. Иван Дубовский из подпольной группы, действовавшей в немецком Красном Кресте, ныне преподает в техникуме в Дубно.
Иван Талан погиб на фронте. Уже после того как гитлеровские войска были изгнаны из пределов Ровенщины, погиб и дядя Юрко — Николай Носенко, командир партизанского отряда, сформированного в Ровно из бывших военнопленных. Отряд Носенко продолжал борьбу с бандеровским охвостьем, когда бандитская пуля сразила командира. Не стало в 1944 году и Максима Гуца. Националистам удалось пронюхать, что Максим был подослан к ним советскими подпольщиками.
Осуществил свою еще довоенную мечту, стал ученым агрономом, кандидатом сельскохозяйственных наук Иван Тихонович Кутковец, бывший руководитель подполья в Гоще. Его преемник по гощанскому подполью, а впоследствии мой заместитель по ровенскому подпольному Центру Владимир Филиппович Соловьев ныне живет и работает в Москве. Он доктор геолого-минералогических наук, автор многих научных работ по геологии. Доктором медицинских наук стал бывший подпольщик Александр Ярош.
В мае 1965 года в Грушвице состоялось открытие памятника Федору Кравчуку и комсомольцам-подпольщикам. А в дни празднования 20-й годовщины победы над фашистской Германией в газетах был напечатан Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении бывших подпольщиков. В нем значились многие знакомые мне, родные и близкие имена.
Ивана Ивановича Луця Советское правительство посмертно наградило орденом Ленина. То самое дорогое, что Луць носил в сердце всю свою сознательную жизнь, навечно осталось с ним в отчеканенном на металле профиле нашего бессмертного вождя. Виталий Семенович Поплавский и Николай Иванович Самойлов удостоены, оба посмертно, ордена Красного Знамени.
Орденом Красного Знамени награждена и Галина Кононовна Гниденко, которая, как и до войны, работает учительницей в сельской школе на Житомирщине. Когда я прочитал в Указе ее фамилию, тут же мысленно перенесся в школьный класс, куда каждое утро входит наша строгая Галя. Она переступает порог, и десятки детских глаз с восхищением смотрят на боевой орден своей учительницы. Высокая награда без слов напоминает ребятам, какими трудными дорогами прошло поколение советских людей, победивших фашизм.
Среди награжденных я с радостью нашел имена Дмитрия Мартынюка, Сергея Зиненко, Виталия Захарова, Виктора Жука, самой молодой нашей подпольщицы Валентины Подкаура, Александры Венедиктовны Чидаевой, Ольги Солимчук, теперь уже Ольги Петровны Волковой. Ныне она — знатный мастер одной из ровенских фабрик, была делегатом XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза.
В Указе перечислены пока не все подпольщики. Но я верю, что и без того память народная сохранит еще десятки достойнейших имен.
Примечания
1
«Двуйка» — второй отдел контрразведки в буржуазно-помещичьей Польше (1918–1939 годы).
(обратно)2
Коммунистическая партия Западной Украины.
(обратно)3
Дефензива — охранное отделение (политическая полиция) в буржуазно-помещичьей Польше (1918–1939 годы).
(обратно)4
«Кавказом» ровенчане называли один из районов города.
(обратно)5
Трезубец — эмблема украинских националистов.
(обратно)6
Ятель — дятел (укр.).
(обратно)7
Шикльгрубер — настоящая фамилия Гитлера.
(обратно)8
«Гот мит унс» — С нами бог (нем.).
(обратно)9
Юзеф Собесяк — ныне контр-адмирал, заместитель командующего ВМФ Польской Народной Республики.
(обратно)10
В 1919 году пролетариат Дрогобыча под руководством коммунистов единодушно выступил против буржуазной Западноукраинской народной республики (ЗУНР). Над городской ратушей было поднято Красное знамя Советов. Однако восстание пролетариата было вскоре подавлено, потоплено в крови украинскими буржуазными националистами.
(обратно)11
Грачев — один из псевдонимов легендарного советского разведчика Николая Ивановича Кузнецова из партизанского отряда полковника Д. Н. Медведева.
(обратно)
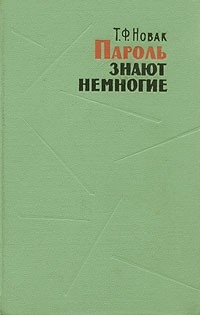


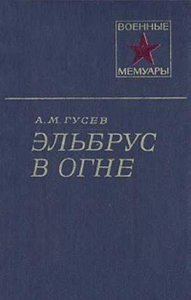
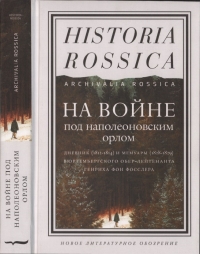
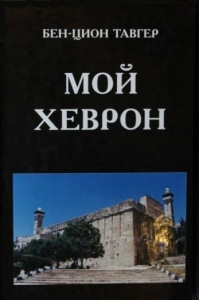



Комментарии к книге «Пароль знают немногие», Терентий Фёдорович Новак
Всего 0 комментариев