Николай Матвеев ПРИНЦЕССА НАУКИ Повесть о жизни
О тех, кто первым ступил на неизведанные земли.
О мужественных людях-революционерах.
Кто в мир пришел, чтоб сделать его лучше.
О тех, кто проторил пути в науке и искусстве.
Кто с детства был настойчивым в стремлениях
И беззаветно к цели шел своей.
Глава I САМЫЙ ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ…
Бледная, небольшого роста женщина в скромном, без единого украшения платье стоит у доски перед настороженно замершей аудиторией. Ее маленькие, почти детские руки дрожат, и крошки мела падают на черный бархат платья, оставляя на нем белые полосы. Еще мгновенье, и затянувшаяся пауза перейдет в недоуменное молчание. Но женщина нервно глотает застрявший в горле комок, слегка прищуривает глаза и спокойно, неожиданно низким голосом произносит: — Господа, среди всех наук, открывавших человечеству путь к познанию законов природы, самая могущественная, самая важная наука — математика.
Так начала свою первую лекцию о теории уравнений в частных производных Софья Васильевна Ковалевская, приглашенная в Стокгольмский университет для чтения курса высшей математики.
Два часа пролетели незаметно, настолько увлекательно и ясно излагала она самые трудные и сухие понятия. Но никто из слушателей даже не мог представить, каких нечеловеческих усилий стоило ей это внешнее спокойствие.
«Только бы не упасть и не забыть все нужные слова», — с отчаяньем думала Софья Васильевна, покрывая формулами гладкую поверхность доски. Рука ее двигалась машинально, и в привычном начертании знаков Ковалевская черпала новые силы и уверенность. Но назойливая мысль, что вот-вот что-нибудь случится и она не выдержит напряжения, не покидала ее до конца лекции.
Как в тумане Софья Васильевна объявила, что следующее занятие состоится первого февраля. Только одобрительный гул голосов вернул ее к действительности, и она осознала, что лекция закончена. Ее поздравляли с успехом, выражали восхищение ее мастерством, а она все еще не могла понять, что все эти лестные слова относятся к ней и что она выдержала испытание.
— Эта лекция не только моя первая лекция, но и самый великий день моей жизни, — отвечала она на поздравления. — Я бесконечно признательна, что здесь, в Швеции, мне дали возможность прочитать ее, несмотря на то, что я женщина…
Софья Васильевна пожимала чьи-то руки, любезно улыбалась и, видимо, говорила что-то остроумное, так как слушатели долго не отпускали ее. Она встретилась глазами с профессором Миттаг-Леффлером и по довольному лицу своего верного друга поняла, что все идет как нельзя лучше.
Уже смеркалось, когда Ковалевская вернулась домой. Миттаг-Леффлер проводил ее до двери.
— Вот вы и дома, — тепло сказал он, — отдохните, дорогая, все прошло отлично. Я никогда не мог подумать, что вы способны так волноваться и бояться. До сих пор я считал, что вы боитесь только кошек, — пошутил он, прощаясь.
Софья Васильевна небрежно сбросила шубку, медленно подошла к заваленному бумагами письменному столу. Бесцельно переложила несколько страничек, исписанных ее твердым почерком, потом тяжело опустилась на стул. Она чувствовала себя бесконечно усталой, опустошенной — сказывалось огромное напряжение не только сегодняшнего дня, но и всех тревожных предшествующих дней.
Софья Васильевна взяла миниатюрный календарик — записную книжку в кожаном переплете с золотым обрезом и задумалась. Печальная усмешка искривила ее выразительные губы. Опустив голову, Ковалевская долго сидела, не раздеваясь, в своем парадном бархатном платье. Печальные думы вновь овладели ею, и радость победы отошла на второй план. Не так, совсем не так представляла она свой триумф, достижение заветной цели, которой она отдала свои лучшие годы. Может быть, потому, что не было сейчас рядом с ней друга, с кем можно было поделиться радостью и сомнениями, ощутить поддержку и тепло. Здесь, вдали от родины, она все время чувствовала себя одинокой, а сегодня, в ее самый главный день, это одиночество стало ощутимо до боли в сердце.
«Россия! Любимая моя Россия!.. Неужели ты никогда не признаешь меня», — с горечью думала Софья Васильевна, и непроизвольно мысли ее вернулись в тот далекий сентябрьский день 1886 года, когда она вместе с мужем, Владимиром Онуфриевичем Ковалевским, и своим дядей Петром Васильевичем шла на первую в жизни лекцию. Это была физиология, которую читал Иван Михайлович Сеченов.
Накануне Софья послала сестре в Палибино письмо, где писала: «Сеченовские лекции начинаются завтра; итак, завтра в 9 часов утра начинается моя настоящая жизнь. Ты можешь себе представить, с каким трепетом и в каком волнении я ожидаю этой важной для меня минуты. Поэтому я пишу тебе сегодня вечером, а завтра успею приписать только две строки, возвращаясь с лекции, на которую меня поведут торжественно брат, Петр Ив… и дяденька через заднюю лестницу, так что есть надежда укрыться от начальства и любопытных взглядов».
Ковалевская очень волновалась, что из этой затеи ничего не получится. Ведь если они попадутся кому-нибудь на глаза, будет скандал и все ее блестящие планы рухнут. Царское правительство с большим неодобрением относилось к «вредной затее» — стремлению женщин получить высшее образование. Когда в 1863 году несколько прогрессивных ученых попытались открыть при Мариинской женской гимназии педагогические курсы с естественно-математическим и словесным отделениями и стали там преподавать анатомию и физиологию, это начинание было встречено с возмущением. Помилуйте, невинная девушка разбирает анатомическое устройство человека (имелось в виду мужчины), изучает физиологические функции организма… На специальной конференции обсуждали, могут ли девушки изучать все разделы анатомии и физиологии. Дело дошло до того, что под угрозой закрытия курсов пришлось изъять из программы и физиологию и анатомию, так как эти разделы естественных наук посчитались безнравственными.
Из Главного совета женских средних учебных заведений в гимназии срочно разослали важный секретный циркуляр: «Вследствие появившихся в новейшее время заграничных сочинений, в которых ясно видно стремление к материализму, внимание всех начальствующих лиц должно быть обращено на то, чтобы естественные науки преподавали не иначе, как с всегдашним указанием на премудрость божью, как единственный источник блага».
Однако принятые строгие меры не помогли; несмотря на все препятствия, многие женщины и девушки продолжали стремиться получить высшее образование. Они старались использовать для этого каждый удобный случай. Когда в декабре 1867 года собрался первый Всероссийский съезд естествоиспытателей и врачей, писательница и переводчица Е. И. Конради зачитала обращение к ученым с просьбой разрешить женщинам посещать университет. Хотя съезд всячески приветствовал эту идею, практически ничего не изменилось. Тогда женщины решились на крайнюю меру — подать петицию правительству об открытии женского университета. Более четырехсот женщин подписались под этим документом, и среди них были сестры Корвин-Круковские. Но и эта просьба осталась без внимания — по мнению царского правительства, подобные занятия могли интересовать только нигилисток и безнравственных особ.
Вот поэтому Софья Васильевна, уже замужняя женщина, кралась по черному ходу университета к аудитории, где должен был читать лекцию Сеченов. Ей и ее спутникам удалось пройти незамеченными, но у молодой женщины бешено билось сердце, и коридор, ведущий к спасительной двери в аудиторию, казался бесконечно длинным.
Ковалевская с разгоревшимися щеками слушала Сеченова, запоминая каждое его слово, и не заметила, как пролетело время. Пришла домой и сразу села писать конспект лекции, пока все было свежо в памяти. Время от времени она отрывалась от записей и задавала вопросы мужу, и тот обстоятельно объяснял ей непонятное.
— Довольно, Софа, довольно, — наконец прервал он ее, — ты хочешь за один раз узнать все. Как говорится, лиха беда начало, тебе еще надоест заниматься медициной…
— Никогда, — безапелляционно перебила его жена, — ведь это так интересно!
Владимир Онуфриевич не возражал. Он знал, как умеет увлекаться наукой его «воробышек», так он ласково называл Софью Васильевну, и в таких случаях спорить с ней было бесполезно.
— Хорошо, хорошо, — примирительно сказал он, — но сейчас тебе надо отдохнуть, ты так волновалась сегодня. Отложи свои конспекты.
— Но это только сегодня. Нельзя зря терять драгоценное время, — согласилась Софья. — И потом мне еще надо написать Анюте.
Она быстро набросала сестре коротенькую записку.
«Сейчас вернулась с лекции. Все произошло благополучно. Студенты вели себя превосходно и не глазели: была еще одна незнакомая нам дама. Завтра и послезавтра тоже лекции. Обнимаю вас. Нельзя писать больше. В пятницу опишу все подробно. Ваша Софа».
Привычку делиться своим настроением с близкими людьми Софья Васильевна приобрела в молодости и сохранила на всю жизнь. И вот теперь, семнадцать лет спустя, ей было необходимо отвести душу с родным человеком, все так же не хватало рядом друга. Семнадцать лет, огромный срок… За это время восторженная девочка стала зрелой женщиной, утратившей радужные иллюзии. И Софье Васильевне даже стало жаль ту наивную девчонку, смотрящую на всех широко открытыми блестящими глазами и твердо считающую, что настало время, когда сбудутся все ее мечты. Как бесконечно давно все это было, как далеко позади осталась молодость!
Ковалевская медленно подняла голову и так сидела несколько минут, смотря перед собой невидящим взглядом, потом обмакнула перо в чернила:
«30 января 1884 года. Прочитала свою первую лекцию, не знаю, хорошо ли, дурно ли, но знаю, что очень было трудно возвращаться домой и чувствовать себя такой одинокой на белом свете, в такие минуты это особенно сильно чувствуется…»
В этот раз никто не мешал Ковалевской писать дальше, никто не просил ее отложить бумаги, отдохнуть и успокоиться, но писать она дальше не стала. Она, Софья Васильевна Ковалевская, приват-доцент Стокгольмского университета, доктор философии по математике и магистр изящных искусств Геттингенского университета, откровенно завидовала той юной Софе Ковалевской, полной самых радостных надежд. Возле той Софы находились любящие ее люди, впереди ее ждала та жизнь, к которой она стремилась: свобода и возможность беззаветно заниматься любимой наукой.
«Интересно, если бы я тогда знала, как все будет на самом деле, пошла бы я по этому пути?» — задала себе вопрос Софья Васильевна.
Она захлопнула записную книжку, вынула из ящика стола красивый бархатный футляр, бережно достала свой докторский диплом и в который раз пробежала глазами по исполненным золотым тиснением строчкам.
— Да, пошла бы, — громко сказала Ковалевская и, как бы ставя точку, решительно добавила: — Обязательно пошла!
Глава II Я НЕ ЛЮБЛЮ АРИФМЕТИКУ
Беспокойно было в ту морозную январскую ночь в доме № 14 по 1-му Колобковскому переулку, что близ Цветного бульвара. Беспрестанно хлопали двери, сновали из кухни в комнату барыни женщины с озабоченными лицами. Все время что-то требовалось: то простыни, то полотенца, то таз с горячей водой, то еще множество разных необходимых мелочей. Наконец раздался крик новорожденного и няня, выйдя в гостиную, торжественно объявила:
— Слава богу! Девочка!
Барыня, когда ей поднесли дочку, не смогла удержаться от слез разочарования: она настолько была уверена, что будет мальчик, что детское приданое сделала с голубыми бантами. Отец тоже не скрыл своего недовольства, а если принять во внимание, что накануне он крупно проигрался в Английском клубе, то рождение второй дочери (семилетняя Анюта сидела тут же в гостиной, забившись в угол) не улучшило его настроения. Но, несмотря на общее разочарование, ничего нельзя было изменить, и вскоре в книге московского храма Знаменья появилась запись о том, что 17 января 1850 года крестили Софию. «Родители ее полковник артиллерии Василий Васильевич Крюковский и супруга его Елизавета Федоровна».
Позже, спустя много лет, после восьми неудачных попыток Василий Васильевич Крюковский добился, чтобы департамент геральдики утвердил его в древнем дворянстве, и стал носить фамилию Корвин-Круковский. Сделал он это ради своей молодой жены, мечтавшей проникнуть в высший свет. Генерал был намного старше своей супруги и старался потакать ее капризам.
Родители Сони, несмотря на двадцатилетнюю разницу в возрасте, были хорошей парой. Они любили и уважали друг друга. Лиза Шуберт, дочь почетного члена Петербургской академии наук, геодезиста и топографа генерала Федора Федоровича Шуберта, внучка академика-астронома, была хорошо образована для девушек того времени. Она много читала, хорошо пела, танцевала, была очень музыкальна и знала четыре иностранных языка. Василий Васильевич тоже был образованным человеком, потому у них с женой во многом совпадали вкусы и взгляды.
В Москве Крюковские прожили недолго: Василия Васильевича, ставшего уже генералом, перевели в Калугу. Соне, или, как ее звали дома, Софе, было восемь лет, когда генерал вышел в отставку и переехал с семьей в свое имение Палибино, недалеко от границы с Литвой. Имение располагалось в живописнейшей местности, где холмы чередовались с равнинами, дремучие леса — с зелеными лугами, на которых были в беспорядке разбросаны могучие гранитные глыбы.
Добротный дом Корвин-Круковских, огромный и нескладный, построенный без четкого плана, обосновался на пригорке. Три-четыре семьи могли бы спокойно проживать в нем, не зная друг друга. Пожалуй, никто лучше, чем сама Софья, не описал его: «Дом был построен в том определенном, но в архитектуре не отмеченном стиле, который стоило бы назвать крепостным стилем. Всего было много, материалом всюду сорили, но все было как-то грубо, топорно, по всему было видно, что дом этот строился в такое время, когда труд был недорогой и все обходились домашними средствами. Кирпичи обжигались на своем заводе, паркеты приготавливались из своего леса и своими крепостными, даже архитектор, делавший план, и тот был крепостным».
В нижнем этаже помещалась Софа с гувернанткой и прислугой, в верхнем, с парадными комнатами, — Елизавета Федоровна и Анюта. Долгожданный сын Федя жил с гувернером во флигеле, а генералу принадлежала трехэтажная башня, стоявшая в стороне.
Гувернантка, Маргарита Францевна Смит, появилась в семье Корвин-Круковских совершенно неожиданно. Генерал специально никогда не занимался воспитанием своих дочерей, но считал, что его дети должны быть образованными. Однажды он случайно обнаружил, что любимица семьи Анюта неграмотно пишет и имеет весьма туманное представление о самых элементарных научных дисциплинах. Маленькую Софу, за которой присматривала неграмотная няня, тоже никто ничему не учил, читать она научилась сама. Девочку заинтересовали буквы, и она стала расспрашивать всех, что это такое, и так самостоятельно запомнила значение каждой буквы.
Генерал действовал решительно: он рассчитал француженку, отправил няню заниматься хозяйством, а для воспитания дочерей пригласил преподавателя Иосифа Игнатьевича Малевича и гувернантку мисс Смит.
Одинокая женщина, Маргарита Францевна Смит, немолодая и некрасивая, хотя и была родом из давно обрусевшей английской семьи, так никогда и не освоилась в России. Однако и связи с Англией у нее были оборваны. И всю свою привязанность эта энергичная, неподатливая натура сосредоточила на маленькой Соне. Много лет спустя Софья Васильевна Ковалевская не раз вспоминала добрым словом свою гувернантку, привившую ей целеустремленность, усидчивость, упорство в достижении цели. Но тогда маленькой девочке было тяжело стать средоточием всех мыслей и забот англичанки, любовь которой, по воспоминаниям Ковалевской, была «тяжелая, ревнивая, взыскательная и без всякой нежности».
Маргарита Францевна считала, что во всем нужна система, а главное, дисциплина. Распорядок дня для Сони был установлен четко и строго. С раннего утра до позднего вечера время было рассчитано по минутам, и англичанка неуклонно выполняла всю намеченную ею программу. Девочка была уверена, что она «нелюбимая» в семье и именно потому ее отдали на воспитание строгой гувернантке, которая твердо решила сделать из нее настоящую английскую мисс.
Софья была не права: отец любил ее больше других детей, она очень походила на генерала характером. Но вечно занятый делами, Василий Васильевич не мог уделять много внимания дочери, и, кроме того, он считал непедагогичным показывать свои чувства. Елизавета Федоровна любила свою младшую дочь, но баловала она Анюту как первенца, Федю как долгожданного сына. Вообще ей была более близка старшая дочь, которая обожала вертеться перед зеркалом, кокетничать, примерять материнские драгоценности. Анна с малых лет привыкла быть в центре внимания, особенно на детских балах, которые часто устраивались, когда семья жила в Москве. Сам генерал не раз шутливо говорил, что его дочь любого царевича с ума сведет, и девочка верила в это.
Иной раз перед поездкой в гости Елизавета Федоровна заходила в детскую — молодая, красивая, в нарядном шуршащем платье, в сверкающих драгоценностях. Анюта радостно бежала к матери, целовала ее, поправляла на ней золотые безделушки, приговаривая:
— И я, когда вырасту, буду красавица, как мама!
Все это получалось у нее так мило и непосредственно, что Елизавета Федоровна только смеялась в ответ и ласкала свою любимицу. Угловатой, застенчивой Соне тоже хотелось выразить матери свою любовь и восхищение, и она кидалась к ней, но делала это так резко и неожиданно, что порой мяла платье или портила прическу.
— Какая ты неловкая! Оставь меня в покое, несносная девчонка! — сердилась мать, отстраняя от себя дочь.
Елизавета Федоровна быстро забывала о происшедшем, а в душе самолюбивой девочки надолго оставался горький осадок.
Взрослая Ковалевская всю жизнь страдала от своего привязчивого и ревнивого характера. Чрезвычайно чувствительная по отношению к тем людям, которых она любила, она была готова отдать им всю щедрость своей натуры, но, в свою очередь, требовала от них того же и очень мучилась, когда они, по ее мнению, не отвечали ей взаимностью. Впечатлительная, фантазерка — такой была Софья Васильевна с малых лет. И в то же время она обладала необычайным чувством ответственности. Ей было немногим больше трех лет, когда произошел такой случай.
Следуя предписаниям врачей, генерал распорядился, чтобы дети каждый день обязательно ели суп, не менее двенадцати ложек. Анюта и Федя безропотно подчинились, а Софа плакала и не желала этого делать.
— Если ты и завтра будешь так капризничать, простоишь голодная весь обед в углу, — объявил свою волю генерал.
На следующий день во время обеда Софино место за столом пустовало. После долгих поисков ее нашли в углу столовой за высокой спинкой дивана.
Девочка не хотела есть ненавистный суп и решила лучше самой стать в угол, прежде чем ей придется выполнять неприятное для нее приказание.
С годами Соня становилась сдержанней и застенчивей, хотя ее глубокая и страстная натура бурно переживала все чувства.
Ковалевская вспомнила один факт, ярко рисующий ее характер.
Как-то к ним в Палибино приехал погостить младший брат матери Федор Федорович Шуберт — молодой человек, недавно окончивший университет, с блестящими глазами, веселый и живой. После обеда он сел на маленький угловой диванчик в гостиной, посадил Софу на колени и серьезно сказал:
— Ну, давай знакомиться, мадемуазель моя племянница!
Федор Федорович расспрашивал ее, как она учится, и девочка, гордая тем, что на нее обратили внимание, бойко отвечала на все вопросы.
— Какая умница! Все она знает! — восхищался он.
— Дядя, расскажите мне что-нибудь, — попросила Софа.
— С такой умной барышней можно говорить только о серьезном, — решительно заявил Федор Федорович и начал «ученый» разговор про водоросли, инфузории, коралловые рифы.
Вскоре такие беседы стали традицией. После обеда они вдвоем садились на диванчик, и дядя рассказывал. Девочка с нетерпением ждала эти «научные» беседы, и полчаса после обеда стали ее любимым временем. Но вдруг все это прекратилось из-за глупого, нелепого случая.
Однажды к ним приехали соседи-помещики с дочкой Олей. Софа всегда радовалась ее приезду, но в тот раз она сразу подумала: «А как же будет сегодня после обеда?»
Предчувствия не обманули ее. Оля пошла с ними в гостиную.
«— Ну, Софа, полезай ко мне на колени! — сказал дядя, по-видимому, не замечая моего дурного расположения духа.
Но я чувствовала себя столь обиженной, что это предложение не смягчило меня нисколько.
— Не хочу, — ответила я сердито и, отойдя в угол, надулась. Дядя посмотрел на меня удивленным смеющимся взглядом, понял ли он, какое ревнивое чувство шевелилось у меня на душе, и захотелось ли ему подразнить меня — я не знаю, но он вдруг обратился к Оле и сказал ей:
— Что ж, если Соня не хочет, садись ты ко мне на колени!
…Этого я уже никак не ожидала! Что дело примет такой ужасный оборот, не входило мне в голову. Мне буквально показалось, что земля проваливается под моими ногами».
Девочка бросилась к сопернице и, не отдавая отчета в том, что она делает, укусила ей руку до крови, а потом в отчаянье убежала прочь.
Неприятный случай замяли. Но Софа уже никогда не могла относиться к Федору Федоровичу так, как прежде.
Она с трудом находила общий язык со своими сверстниками, и в этом, пожалуй, была виновата няня. Когда маленькая девочка тянулась поиграть с детьми, с увлечением бегающими на улице, няня останавливала ее.
— Что ты, что ты! — с недовольством говорила она. — Ведь ты барышня, а они простые, тебе нельзя с ними играть…
Девочка не понимала, почему ей этого нельзя делать, но подчинялась.
«Вскоре у меня прошла даже и охота и уменье играть с другими детьми, — вспоминала Ковалевская. — Я помню, что, когда ко мне приведут, бывало, в гости какую-нибудь девочку моих лет, я никогда не знаю, о чем с ней говорить, а только стою и думаю: „Да скоро ли она уйдет?“».
Она лучше всего чувствовала себя одна или с няней, которая очень любила свою воспитанницу и не мешала ей жить в выдуманном мире. Ее очень привлекал лес, который простирался на сотни верст вокруг Палибина и начинался почти от самой усадьбы. Сначала редкий, солнечный, и чем дальше, тем сумрачнее. Деревья прижимались теснее друг к другу, все меньше солнечных лучей прорывалось между ними, и постепенно темная непроходимая чаща обступала со всех сторон.
Недоброй славой пользовался этот лес. Встречались там какие-то темные личности: не то разбойники, не то конокрады, не то просто бродяги. В народе поговаривали, что, когда темнеет, в лесу этом видимо-невидимо «нечистой силы» — леших, ведьм, разных кикимор. Крестьянки никогда не ходили в лес поодиночке, да и мужики не очень-то любили забираться далеко в чащу, хотя и подшучивали над трусливыми бабами.
Господских детей туда вообще не пускали. Мисс Смит, несмотря на все разговоры, попробовала было водить их на прогулки в лес, пока однажды не наткнулась на медведицу с двумя медвежатами. Софа сильно испугалась огромного мохнатого зверя, и ей сразу вспомнились все страшные сказки, которые рассказывала няня. В тот вечер девочка долго не могла уснуть: перед ее глазами стоял густой лес с его таинственными обитателями, одетыми в медвежьи шкуры. Герои сказок — «волк-оборотень», «двенадцатиголовый змей», загадочная «черная смерть», — все они, по мнению Софы, жили в лесу, а лес был совсем рядом, и это было так страшно, что она с криком вскакивала ночью и звала няню.
Когда няню сменила гувернантка, мир фантазии девочки изменился: из него исчезли оборотни и привидения, теперь ее увлекла поэзия и она стала сочинять стихи. Но в представлении Маргариты Францевны примерная английская мисс и поэзия были понятия несовместимые. Поэтому творческие попытки жестоко преследовались. Если мисс Смит находила клочок бумажки со стихами воспитанницы, листок этот немедленно прикалывался к ее плечу. Затем в присутствии всей семьи Маргарита Францевна громко читала стихи, всячески искажая смысл.
Однако несмотря на все гонения, Софа в двенадцать лет твердо решила стать поэтессой. Из боязни перед гувернанткой она теперь не записывала своих стихов, а слагала их в уме и запоминала. Софа сочинила две поэмы, которыми особенно гордилась: «Обращение бедуина к его коню» и «Ощущения пловца, ныряющего за жемчугом». Ею уже была задумана длинная поэма «Струйка» на сто двадцать строф…
Но сочинение стихов не было ее главным увлечением. Гораздо чаще она, оглядевшись по сторонам, осторожно проскальзывала в библиотеку и замирала перед длинными рядами книг, выстроившихся на полках. Родители категорически запрещали ей самостоятельно брать их: сначала должна прочесть гувернантка и определить, годится ли книжка для благонравной девочки. Но на ее беду мисс Смит читала так медленно…
Софа с увлечением читала стихи. Чудесная способность слов выстраиваться певучей цепочкой, в которой самые обычные слова приобретают вдруг новое звучание, доставляла ей необычайное наслаждение. Больше всего она любила русских поэтов, но в библиотеке Корвин-Круковских не было ни Пушкина, ни Лермонтова, ни Некрасова. Долгое время из стихотворных произведений девочка знала только баллады Жуковского, и чем высокопарнее была поэзия, тем больше она ей нравилась. Поэтому нетрудно понять ее радость, когда по настоянию учителя Малевича ей купили хрестоматию Филонова. Несколько дней девочку невозможно было оторвать от книги, и она ходила, декламируя отрывки из «Мцыри» или «Кавказского пленника», пока мисс Смит не пригрозила отнять книгу.
Иосиф Игнатьевич Малевич не случайно поощрял любовь к поэзии у своей воспитанницы. Он сам больше тяготел к гуманитарным наукам, и неудивительно, что истории и литературе он отдавал предпочтение. Этому помогала и склонность Софы к поэзии. Учитель был поражен, какие хорошие для своего возраста стихи пишет его ученица. Малевич приучал ее высказывать свое мнение о прочитанном произведении. Девочка приучалась самостоятельно мыслить и отстаивать собственное мнение. Ее оценки часто были настолько оригинальны и интересны, что Малевич записал в своих воспоминаниях:
«Удивленный, восхищенный верным, дельным, красноречиво высказанным взглядом, от которого не отказался бы и лучший учитель словесности, возвратившись после занятий в свою комнату, я думал долго не столько о необыкновенных способностях даровитой ученицы, сколько о дальнейшей судьбе девушки, отличной фамилии и богатой: что, если бы свыше ей было назначено идти другим путем в жизни? Что, если бы судьба лишила ее избыточности в средствах к жизни и дала бы лишь средство к высшему образованию, увы, недоступному для женщин в наших университетах? Тогда-тогда, о, я даже был уверен в этом, даровитая ученица моя могла бы занять высокое место в литературном мире».
Историю Малевич тоже изучал по своей системе. По его мнению, «преподавание отечественной истории должно служить довершением тех начал, которые порождают любовь к родине, готовую на жертвы во имя ее: подвиги сынов России, гражданские их доблести». Поэтому и преподавание истории он строил в основном не на жизнеописаниях царей, а на героических деяниях народа, много веков боровшегося за свободу против иноземных захватчиков.
Так же своеобразно преподавал Малевич и географию. Он заставлял свою ученицу тщательно изучать местность, где стоит усадьба, чертить карты, делать диаграммы. Он рассказывал о городской и сельской промышленности, о распределении жителей в городах и деревне, их образовании и доходах.
Девочка постепенно узнавала, что меньше всего получали те, кто больше работал. Так эти уроки подкрепляли и конкретизировали убеждения о несправедливом устройстве общества, заставляли ее о многом задумываться.
Кроме того, поняв любознательную, склонную к фантазии натуру своей ученицы, Малевич предложил ей играть в «путешествия», заочно побывать во многих городах и разных странах. Софа очень любила эти уроки, чего нельзя было сказать о математике. К этому предмету Софа не проявляла ни особого интереса, ни способностей. По сравнению с литературой, историей, географией математика казалась ей сухой и скучной, и она не скрывала этого.
Однажды генерал спросил дочь, любит ли она арифметику.
— Нет, папа, — чистосердечно ответила девочка.
Когда Малевич узнал об этом разговоре, он очень расстроился и стал уверять свою ученицу, что она полюбит этот предмет больше других. Действительно, через четыре месяца, после усиленных занятий математикой, на тот же вопрос отца Софа ответила: «Да, папочка, я люблю заниматься арифметикой, она доставляет мне удовольствие».
Увидеть за сухими цифрами жизнь, наполнить формулы конкретным содержанием Софе во многом помог ее дядя Петр Васильевич. В молодости он был артиллеристом и, хотя сам никогда не обучался математике, относился к ней с глубочайшим уважением. От него девочка впервые услыхала о неразрешимости квадратуры круга, об асимптомах, к которым постоянно стремится кривая, никогда не достигая их, о многих других таких же увлекательных и непонятных вещах, действующих на воображение и внушающих «благоговение к математике, как к науке высшей и таинственной, открывающей перед посвященными в нее новый, чудесный мир, недоступный простым смертным». С тех пор математика привлекала ее больше всего своей философской сущностью.
В те годы в гимназиях делали упор на гуманитарные науки — литературу, историю, латынь, греческий, давали классическое образование. Но появились и сторонники так называемого реального образования, которые доказывали, что математика не менее важна для формирования личности, как и знание древних языков.
Малевич был сторонником реального образования и старался, чтобы его ученица постигла основы математики и одновременно училась кратко излагать свои мысли, ясно и логично рассуждать. И то ли сказалось мастерство педагога, то ли еще никому не известный талант ученицы, но только в одиннадцать лет Софа превосходно знала арифметику и так успешно решала сложные задачи, что Малевич позволил ей познакомиться с курсом алгебры Бурдона, написанным для студентов Парижского университета. Эту увлекательную для нее книгу девочка днем прятала от строгой гувернантки и, стоя босиком, в ночной рубашке, читала ее при свете лампады. Учебник она прочла очень быстро, за несколько ночей. Родители и не предполагали, что в их семье растет гениальный ребенок, и занятия Софы продолжались по заранее намеченной общепринятой программе.
Так все и шло бы дальше, если бы, перейдя к геометрии, девочка не стала проявлять такую оригинальность мышления, что нельзя было не обратить на это внимания. Так, например, проходя раздел об отношении окружности к диаметру, она пришла к правильному выводу настолько своеобразным путем, что Малевич в тот же вечер рассказал об этом эпизоде — генералу.
— Молодец, Софа! Это не то, что было в мое время. Бывало, рад-радехонек, когда кое-как знаешь данный урок, а тут сама, да еще девчонка, нашла новое решение, — похвалил дочь Василий Васильевич.
Эта похвала очень много значила для девочки. Стремление заслужить любовь сурового отца, расположить его к себе своими успехами служило немалым стимулом в ее занятиях, и особенно математикой.
С этих пор, как вспоминает Ковалевская, она «почувствовала настолько сильное влечение к математике, что стала пренебрегать другими предметами».
Так продолжалось до тех пор, пока не произошел непредвиденный случай, резко изменивший ее судьбу.
Среди знакомых Корвин-Круковских был известный профессор физики, преподававший в морском корпусе, Николай Никанорович Тыртов. Его имение находилось неподалеку от Палибина. Однажды, приехав в гости к генералу, профессор подарил ему свой учебник «Начальные основания физики». Софа потихоньку взяла учебник и стала читать. Ей было понятно все, пока она не дошла до оптики. Тут ей встретились тригонометрические понятия — синусы, косинусы, тангенсы. Она их не знала и попросила Малевича объяснить, но тот, верный своей системе последовательного обучения, ответил отказом.
Тогда упрямица стала разбираться самостоятельно. Не имея ни малейшего понятия о тригонометрии, она сумела вывести формулу синуса, косинуса и тангенса.
«Не зная тригонометрии, сообразуясь с формулами, бывшими в книге, я попыталась объяснить себе их сама. При этом по странному совпадению я пошла тем же путем, который употреблялся исторически, т. е. вместо синуса брала хорду. Для малых углов эти величины почти совпадают» — так писала потом Ковалевская.
Девочка с нетерпением ждала следующего приезда Тыртова. Ей очень хотелось поговорить с ним о его книге и проверить свои самостоятельные вычисления. Наконец профессор приехал, и Софа выбрала момент, когда он остался один. Она решительно подошла к Тыртову и объявила:
— У вас замечательная книга! Я прочла ее с большим интересом.
— Ну вот и зря хвастаетесь! — насмешливо сказал Тыртов, удивленный ее дерзостью. — Вы в ней ничего не могли понять.
Возмущенная таким недоверием к ее словам, Софа с горячностью стала говорить профессору о достоинствах его учебника, а потом стала объяснять, как она определяла тригонометрические функции.
— Да вы новый Паскаль! — воскликнул пораженный и восхищенный профессор. А затем начал уговаривать генерала, чтобы тот обратил внимание на незаурядные способности дочери и разрешил ей серьезно заниматься высшей математикой.
Генерал после некоторого колебания согласился. Было решено, что Софа поедет с матерью и сестрой в Петербург и будет брать там уроки математики.
— Я всячески рекомендую пригласить для занятий Александра Николаевича Страннолюбского, — настойчиво убеждал генерала Тыртов. — Он великолепный математик и образованнейший человек.
Софа была в восторге: неожиданно для нее все получилось так хорошо. Однако сейчас ей больше всего хотелось узнать, кто такой Паскаль, с которым ее сравнил профессор, и она побежала к Малевичу.
— Иосиф Игнатьевич, а кто это Паскаль? — тихо спросила она.
Малевич не удивлялся вопросам воспитанницы.
— Блез Паскаль — французский математик, известный физик и философ, жил в семнадцатом веке.
— А чем я похожа на него?
— Наверное, тем, что он в детстве самостоятельно решал задачи основателя геометрии Эвклида, а ты самостоятельно решила тригонометрические формулы…
Малевич продолжал говорить, но Софа уже не слушала его дальнейшего объяснения. Мысли ее были далеко, она твердо знала, что теперь ей никто не будет мешать заниматься любимой наукой.
Глава III СЕСТРЫ КОРВИН-КРУКОВСКИЕ
Генерал Корвин-Круковский был не в духе. Он никогда не думал, что дочери будут доставлять ему столько хлопот. Начала старшая дочь.
Сначала она увлекалась чтением. В палибинской библиотеке было много рыцарских романов, и к пятнадцати годам Анна перечла их все. Эти книги с их вымышленными экзальтированными страстями создали у нее убеждение, что она не такая, как все, и что жизнь ее должна сложиться иначе.
А жизнь иначе не складывалась. Напрасно девушка, одетая в белое платье, с волосами, заплетенными в длинные косы, ждала появления рыцаря, который освободит ее из домашнего «плена». К ее великому разочарованию, рыцарь так и не появился.
Тогда Анна решила «отречься от всех земных благ» и стала необычайно кроткой, смиренной и благочестивой. Но такое настроение продолжалось недолго, и этому способствовали приближающиеся именины Елизаветы Федоровны. Этот день всегда отмечался весьма торжественно: съезжалось множество гостей, устраивался фейерверк, ставились живые картины, разыгрывались спектакли. Главную роль во французском водевиле поручили играть Анне, и девушка взялась за нее с увлечением. Неожиданно для всех, в том числе и для самой дебютантки, у нее обнаружился незаурядный талант, и она решила стать актрисой. Анна заикнулась было о своем желании поступить на сцену, но генерал даже не стал ее слушать, настолько это было несовместимо с общественным положением семьи Корвин-Круковских.
— Все это влияние моды, — сердито выговаривал генерал жене. — Анюта совсем голову потеряла…
Недовольство Корвин-Круковского было вполне обосновано. До Палибина, хотя и с опозданием, стали доходить различные веяния, охватившие молодежь 60-х годов. Особенно остро стал вопрос «отцов и детей», вопрос семейного разлада между старыми и молодыми. Мало оставалось дворянских семей, где дети не ссорились бы с родителями по вопросам чисто теоретическим, абстрактного характера. «Не сошлись убеждениями» — в то время этого было достаточно, чтобы дети и родители окончательно порывали друг с другом.
Дети, и особенно девушки, стали уходить из родительского дома. То и дело до Палибина доходили вести: то у одного, то у другого помещика дочь убежала за границу учиться, а то и в Петербург, к «нигилистам».
Ползли упорные слухи, что в Петербурге появилась какая-то коммуна, в которую принимают молодых девушек, желающих покинуть родителей. И что будто молодежь обоего пола живет там совсем без прислуги, а благородные барышни собственноручно занимаются хозяйством. Возмущенное старшее поколение только одного не понимало: как терпит полиция такое безобразие?!
Надо сказать, что такая коммуна действительно существовала. Была она основана в Петербурге на Знаменской улице писателем-демократом В. А. Слепцовым и носила название Знаменской коммуны.
Молодежь зачитывалась серьезными статьями. Из рук в руки передавалась статья революционного демократа М. И. Михайлова «Женский вопрос», в которой утверждалось, что женщина равноправна с мужчиной в образовании и труде. Учиться, получить новые знания, чтобы потом идти служить народу и помочь родине выйти «из мрака невежества к просвещению», — вот что занимало умы передовых женщин и девушек.
Эти вредные идеи проникали во все уголки страны, достигли они и Палибина.
А тут еще польское восстание 1863 года привлекло к себе всеобщее внимание. Вокруг имения Корвин-Круковских находилось немало имений польских помещиков. Многие из них были причастны к восстанию и поэтому вынуждены были уехать за границу. В доме Корвин-Круковских как бы образовались две партии: против поляков — монархически настроенная гувернантка мисс Смит, за поляков — учитель Иосиф Игнатьевич Малевич. Генерал запрещал вести в своем доме разговоры о политике при детях. Но они знали о всех перипетиях борьбы и, разумеется, были на стороне повстанцев. Трагическая судьба вождя восстания, одного из деятелей тайного общества «Земля и воля», Зигмунда Сераковского, которого генерал Муравьев-вешатель приказал смертельно раненного доставить к эшафоту на носилках и повесить, потрясла всю передовую Россию. В Палибине, у обитателей которого было много друзей поляков, это событие переживали особенно сильно, и острее всех, пожалуй, Анна. Соня также как могла выразила свой протест. Назначенный генерал-губернатором Северо-Западного края М. Н. Муравьев-вешатель прислал в Витебскую губернию полковника, которого С. В. Ковалевская в своих «Воспоминаниях о польском восстании» называет Яковлевым.
В день именин Елизаветы Федоровны полковник прибыл, чтобы лично поздравить генеральшу. Его визит был крайне неприятен хозяйке дома, но она ничего не могла поделать. Среди гостей были поляки, и присутствие полковника всех тяготило. Наступило напряженное молчание. После затянувшейся паузы разговор зашел о детях, и мисс Смит решила похвастаться талантами своей ученицы.
— Принеси свой альбом и покажи рисунки, — приказала она Софе.
Девочка замерла от ужаса. В альбоме были стихи, написанные ей одним из повстанцев, паном Буйницким, который позже погиб в сражении. Софа считала, что он не погиб, а сослан в рудники Сибири.
«Когда я вырасту, я поеду в Сибирь и его освобожу, — думала девочка каждый раз, когда открывала заветную страницу. — Только бы мне скорей вырасти». А теперь она должна показать драгоценный альбом этому ужасному полковнику! Однако ослушаться гувернантки Софа не решилась и послушно принесла альбом.
— Я вам кое-что нарисую на память, милое дитя, — любезно сказал гость.
Пока полковник рисовал, Софа еле сдерживалась, чтобы не выхватить альбом у него из рук.
«Он тоже стрелял в повстанцев», — с ненавистью думала она. Полковник кончил рисунок и, улыбаясь, протянул девочке альбом. Когда Софа увидела, что ее реликвия осквернена пошлой картинкой, изображающей хижину и влюбленных, а под ней стоит подпись ненавистного полковника, она не выдержала. Резким движением она вырвала листок из альбома, разорвала на кусочки и бросила на пол.
Все замерли от неожиданности. Первой пришла в себя мисс Смит, она схватила воспитанницу за руку и вытолкнула ее из комнаты. Девочку наказали, заперев в детской, а генерал, стараясь сгладить неприятный инцидент, проиграл полковнику в карты изрядную сумму.
После происшедшего все разговоры о Польше в семье генерала были строго-настрого запрещены.
Гувернантка в этом поступке, как и во всем остальном, видела дурное влияние Анны и старалась изолировать Софу от старшей сестры, которая, по мнению окружающих, продолжала вести себя совершенно нетерпимо. Анна подружилась с сыном местного священника, который вместо того, чтобы идти по стопам отца, поступил в университет на естественный факультет, где набрался «безбожных мыслей». Он приносил девушке журналы «Современник», «Русское слово», а также издававшийся Герценом в Лондоне и запрещенный в России «Колокол». Чтение этих журналов во многом преобразило девушку. Она постепенно поняла несправедливость узаконенного уклада жизни, когда все блага достаются тем, кто не работает. Даже внешне Анна сильно изменилась: стала одеваться в черные платья со строгими воротничками, зачесывать гладко волосы. О балах и прочих светских удовольствиях она теперь и слышать не хотела, а учила деревенских ребятишек грамоте, подолгу разговаривала с бабами об их тяжелой доле, пыталась их лечить. Она решила серьезно заняться учебой. На свои карманные деньги, которые она раньше тратила на туалеты, Анна покупала такие серьезные книги, как «Физиология обыденной жизни», «История цивилизации», труды философов — Аристотеля, Лейбница. Девушка занялась социологией, экономикой, изучала латынь, увлекалась стихами Добролюбова.
Все это привело ее к твердому решению покинуть родную усадьбу. Однажды Анна явилась к отцу и сообщила ему, что хочет учиться в Медико-хирургической академии и просит отпустить ее в Петербург.
Поначалу отец пытался превратить разговор в шутку, но дочь настаивала. Она упрекала отца в том, что он держит ее в деревне. Произошло бурное объяснение, которое кончилось тем, что генерал в раздражении крикнул:
— Если ты сама не понимаешь, что долг всякой порядочной девушки жить со своими родителями, пока она не выйдет замуж, то спорить с глупой девчонкой я не стану!
Дочери пришлось подчиниться, но отказ сразил ее. Не имея ни средств к существованию, ни друзей в Петербурге, девушка не могла оставить родительский дом. Но с этих пор в семье начался раскол. Семья разделилась на два лагеря. Особенно неистовствовала Маргарита Францевна, которая не называла Анну иначе как нигилисткой и «передовой» барышней. В ее устах это были самые страшные ругательства. Софа же, разумеется, была на стороне сестры.
Гувернантка не пускала девочку к сестре во избежание «заразы». Каждый раз, когда Софе удавалось тайком от мисс Смит пробраться в комнату Анны, она видела, что та что-то пишет, но прячет от нее исписанные листы. На все ее расспросы девушка холодно отвечала:
— Ах, уйди ты, пожалуйста! Еще застанет тебя здесь Маргарита Францевна! Достанется нам обеим!
И Софа возвращалась в классную с чувством досады на гувернантку, из-за которой любимая сестра перестала быть с ней откровенной. Девочка начинала дерзить Маргарите Францевне, ссориться с ней. Мисс Смит становилось нее труднее быть авторитетом для своей воспитанницы, и однажды после серьезной ссоры англичанка заявила, что покидает Палибино.
В день ее отъезда, когда Софа увидела, что гувернантка плачет, то и сама разрыдалась, ей стало жаль Маргариту Францевну. Прощание затянулось, и только боязнь не попасть засветло в город заставила мисс Смит выпустить свою питомицу из объятий.
«А она меня любила. Она бы осталась, если бы знала, как я ее люблю. А теперь меня никто не любит», — думала Софа, вытирая слезы.
Но вскоре чувство свободы взяло верх, и Софа, успокоившись, побежала к сестре.
Она застала Анну в большом зале. Та торопливо ходила взад и вперед с озабоченным лицом. Мысли ее были далеко. Девочка подождала немного, но сестра не обращала на нее никакого внимания.
— Анюта, — окликнула ее Софа, — мне скучно, дай мне почитать что-нибудь.
Сестра ничего не ответила.
— Анюта, о чем ты думаешь?
— Ах оставь, пожалуйста. Слишком ты мала, чтобы я тебе все говорила, — был презрительный ответ.
Слышать это девочке обидно. Теперь, когда гувернантки нет, она так рассчитывала, что будет дружить с Анютой, делиться самым сокровенным… Всхлипывая, она направляется к двери, но вдруг сестра останавливает ее:
— Если ты обещаешь, что никому, никогда, ни под каким видом не проговоришься, то я доверю тебе большой секрет.
Слезы у Софы мгновенно высохли. Она дала торжественное обещание, и Анна повела ее в свою комнату. Там из бюро она извлекла конверт с сургучной печатью, на которой четко значилось: журнал «Эпоха». Конверт был адресован экономке, а в него вложен другой, поменьше, с четкой надписью: «Для передачи Анне Васильевне Корвин-Круковской». Из конверта поменьше Анна достала письмо, написанное твердым почерком.
«Милостивая государыня, Анна Васильевна! — читала недоумевающая Софа. — Письмо ваше, полное такого милого и искреннего доверия ко мне, так меня заинтересовало, что я немедленно принялся за чтение присланного вами рассказа.
Признаюсь вам, я начал читать не без тайного страха; нам, редакторам журналов, выпадает так часто на долю печальная обязанность разочаровывать молодых, начинающих писателей, присылающих нам (на суждение) свои первые литературные опыты. В вашем случае мне это было бы очень прискорбно. Но, по мере того, как я читал, страх мой рассеялся, и я все более поддавался под обаяние той юношеской непосредственности, той искренности и теплоты чувства, которыми проникнут ваш рассказ.
Вот эти-то качества так подкупают в вас (в вашем произведении), что я боюсь, не нахожусь ли я теперь под их влиянием; поэтому я не смею еще ответить категорически и беспристрастно на тот вопрос, который вы мне ставите: „Разовьется ли из вас со временем крупная писательница?“
Одно скажу вам: рассказ ваш будет мною (и с большим удовольствием) напечатан в будущем номере моего журнала; что же касается вашего вопроса, то посоветую вам: пишите и работайте; остальное покажет время.
Не скрою от вас — есть в вашем рассказе еще много недоделанного, чересчур наивного; есть (попадаются) даже, простите за откровенность, погрешности против русской грамоты. Но все это мелкие недостатки, которые, потрудившись, вы можете осилить (побороть), общее же впечатление самое благоприятное.
Поэтому, повторяю, пишите и пишите. Искренне буду рад, если вы найдете возможность сообщить мне побольше о себе: сколько вам лет и в какой обстановке живете. Мне важно это знать для правильной оценки вашего таланта.
Преданный вам Федор Достоевский».
Достоевский! Один из самых выдающихся писателей, связанный с петрашевцами и переживший вместе с ними смертельные минуты ожидания на эшафоте, когда казнь была заменена каторгой! Софа была так потрясена, что могла только молча смотреть на сестру.
— Понимаешь ли ты, понимаешь! — Голос Анны дрожал и прерывался от волнения. — Я написала повесть и, не сказав никому ни слова, послала ее Достоевскому. И вот видишь, он находит ее хорошей и напечатает в своем журнале. Так вот — все же сбылась моя заветная мечта. Теперь я русская писательница.
В то время в деревенской глуши слово «писатель» было окружено ореолом. В семье Корвин-Круковских выписывали и читали много книг и к печатному слову относились очень уважительно, как к чему-то совершенно невероятному, необыкновенному. Неудивительно, что Софа бросилась сестре на шею.
Анна еще раз взяла с девочки честное слово, что ни одна живая душа не узнает о ее творческих делах. Софа с готовностью поклялась и сдержала клятву.
А через несколько недель пришел журнал «Эпоха», и в нем сестры с трепетом прочли «Сон», повесть Ю. О-ва. (Анна выбрала себе псевдоним «Юрий Орбелов».)
В повести рассказывалось о любви бедного студента к девушке из общества.
Первый успех так окрылил Анну, что она тут же принялась за вторую повесть «Послушник» о молодом монастырском послушнике Михаиле. Достоевский нашел, что автор сделал значительные успехи, и напечатал повесть в следующем номере «Эпохи».
И тут разразилась гроза. В день именин Елизаветы Федоровны генерал обратил внимание на то, что на имя экономки пришло страховое письмо. Он заставил экономку вскрыть конверт в своем присутствии и обнаружил там триста с лишним рублей (по тем временам очень большие деньги), которые Достоевский послал Анне в качестве гонорара. Генерал был потрясен. Его дочь получает деньги от мужчины! Василию Васильевичу стало плохо. А дом полон гостей: музыка, смех, танцы. И среди этого веселья едва скрывающие волнение мать с дочерью, еле находящие в себе силы удерживать на лицах маски радушного гостеприимства.
Зато когда гости разъехались, генерал высказал дочери все, что он о ней думал. Было сказано много обидных и несправедливых слов, но одну фразу Анюта запомнила на всю жизнь.
— От девушки, которая способна тайком от отца и матери вступить в переписку с незнакомым мужчиной и получать от него деньги, можно всего ожидать, — говорил разъяренный генерал. — Теперь ты продаешь свои повести, а придет, пожалуй, время, и себя будешь продавать.
Анна была сражена таким неожиданным выводом и горько рыдала. Слух о невероятном поступке старшей палибинской барышни в искаженном виде распространился по соседям и довольно долго был темой для разговоров.
К счастью, скоро все наладилось. Первой повесть прочитала мать, и ей понравилось. Генерал смягчился и даже позволил прочитать произведение дочери вслух в кругу семьи. Прослушав, он не мог скрыть, что повесть ему тоже понравилась. А некоторое время спустя он разрешил Анне переписываться с Достоевским при том условии, что все письма будут показываться родителям.
В начале 1865 года Елизавета Федоровна с дочерьми собрались ехать в Петербург. Софа была в восторге — наконец-то и она попадет в Петербург. Сборы касались ей бесконечными. Но вот все готово, и она, нежно попрощавшись с отцом и братом, вместе с матерью и Анной удобно устроилась в возке.
С каким теплым чувством вспоминает об этой поездке Софья Васильевна!
«Выехали мы в январе, пользуясь последним хорошим зимним путем. Поездка в Петербург была делом нелегким. Приходилось ехать верст шестьдесят по проселочной дороге на своих лошадях, потом верст двести по шоссе на почтовых и, наконец, около суток по железной дороге. Отправились мы в большом крытом возке на полозьях. В нем помещались мама, Анюта и я, и везла шестерка лошадей, а впереди ехали сани с горничной и поклажей, запряженные тройкой с бубенчиками, и в течение всей дороги звонкий говор бубенчиков, то приближаясь, то удаляясь, то совсем замирая вдали, то вдруг опять возникая под самым нашим ухом, сопутствовал и убаюкивал нас.
И что это была за чудная дорога! Первые шестьдесят верст шли бором, густым мачтовым бором, перерезанным только множеством озер и озерков. Зимою эти озера представляли из себя большие снежные поляны, на которых так ярко вырисовывались окружающие их темные сосны.
Днем было хорошо ехать, а ночью еще лучше. Забудешься на минуту, вдруг проснешься от толчка и в первую минуту не можешь еще опомниться. Наверху возка чуть теплится маленький дорожный фонарик, освещая две странные спящие фигуры в больших мехах и белых дорожных капорах. Сразу и не признаешь в них мать и сестру. На замерзших стеклах возка выступают серебряные причудливые узоры; бубенчики звучат, не умолкая, — все это так странно, непривычно, что сразу и не сообразишь ничего; только в членах чувствуется тупая боль от неловкого положения. Вдруг ярким лучом выступит в уме сознание: где мы, куда едем и как много хорошего, нового предстоит впереди, — и вся душа переполнится таким ярким захватывающим счастьем!»
Эту дорогу Ковалевская запомнила на всю жизнь. Она стала для нее не только светлым воспоминанием, но и своеобразной чертой, отделившей детство от юности.
Глава IV НАШ ПРОФЕССОР СОНЯ
На свою вторую лекцию в Стокгольмском университете Софья Васильевна шла относительно спокойно, хотя чувство неуверенности еще осталось. Теперь она уже могла рассмотреть аудиторию и слушателей, в прошлый раз ей казалось, что все было покрыто белой пеленой тумана.
Как и в первый раз, небольшая комната была полна людей.
Ковалевская негромко поздоровалась и начала объяснение.
Тишина нарушалась только скрипом карандашей по бумаге и шелестом переворачиваемых страниц. Время пролетело незаметно и для Софьи Васильевны, и для слушателей.
Ковалевская была довольна — она нашла в себе силы побороть застенчивость, и теперь, надо думать, с лекциями все наладится.
«Больше не придется сидеть ночами и готовиться. Перестану быть рассуждающей, считающей машиной, — думала Софья Васильевна. — Смогу снова увидеть окружающий мир…»
Она чувствовала, что у нее не хватает сил продолжать такую жизнь. Хотя Ковалевская уже почти три месяца жила в Стокгольме, она до сих пор не видела города с его зелеными улицами, готическими соборами со шпилями, буравящими серое небо, и с королевским дворцом, давящим своей массивностью.
Все это оставалось где-то в стороне. Для нее, поглощенной одной-единственной идеей — победить, доказать свое право на кафедру в университете, ничего, кроме лекций, просто не существовало. Здесь, в Стокгольме, все было сложно, и Софья Васильевна с ее чуткостью, как никогда, ощущала двойственность своего положения.
Даже в тот день, когда Ковалевская приехала в Стокгольм, Швеция встретила ее сырым туманом, холодным, режущим лицо ветром и дружескими улыбками профессора Миттаг-Леффлера и его жены Сигне, ожидающих ее на пристани.
Тоненькая изящная женщина протянула Софье Васильевне букет цветов, а Миттаг-Леффлер, поздоровавшись, весело воскликнул:
— Смотрите, как торжественно вас встречают! — Профессор развернул газету. — Вот послушайте!
«Сегодня нам предстоит сообщить не о приезде какого-нибудь пошлого принца крови или тому подобного, но ничего не значащего лица. Нет, принцесса науки, госпожа Ковалевская, почтила наш город своим посещением и будет первым приват-доцентом-женщиной во всей Швеции».
— Принцесса науки! Какую женщину, кроме вас, во всем мире могут так называть! — с несвойственной ему горячностью продолжал Миттаг-Леффлер. — Швеция ждет вас!
Софья Васильевна с признательностью пожала профессору руку, нежно поцеловала Сигне.
— Спасибо, спасибо за все!..
«Может быть, это хорошая примета, — суеверно подумала она. — Все обойдется…»
У Ковалевской было много оснований для тревоги. Она знала, что далеко не все в Швеции ждали ее с такой открытой душой, как Миттаг-Леффлер. Приглашение ее в Стокгольмский университет вызвало недовольство некоторых профессоров в Упсале, пригороде Стокгольма. Университет в Упсале имел свою многовековую историю, устоявшиеся традиции и находился под сильным влиянием церкви. Молодежь была недовольна порядками Упсальского университета: там беспощадно подавлялись новые веяния. Среди интеллигенции возникло движение за создание нового университета. Его и основали в Стокгольме на частные пожертвования. Назывался он Высшей школой.
Два университета по сути дела представляли два противоположных течения в шведском обществе: Упсала — консервативный центр ортодоксальной науки и старых традиций, Стокгольм — центр нового, прогрессивного.
Хотя Высшая школа и считалась оплотом свободомыслия, преподавать там женщине было нелегко. Группа профессоров активно выступила против назначения Ковалевской. Их возмущало, что женщина хочет заниматься «неженской» наукой, и то, что Ковалевская была русской, нигилисткой.
«Одно заседание, продолжавшееся весь вечер, было посвящено очернению меня, — писала Софья Васильевна. — Они отрицали у меня всякие научные заслуги, намекали на самые чудовищные и вместе с тем смешные причины моего приезда в Стокгольм».
Несмотря на всю энергию Миттаг-Леффлера, он не сумел бы добиться приглашения Ковалевской, если бы не его умелые дипломатические действия. В Стокгольмском университете было две партии, каждая из которых стремилась выбрать на преподавательские должности своих кандидатов. Миттаг-Леффлер договорился с одной из партий (прогрессивной), что будет голосовать за двух ее кандидатов, а они проголосуют за Ковалевскую. Только после такой сложной подготовки Софья Васильевна стала приват-доцентом.
Ковалевская быстро завоевала популярность в Стокгольме. Помимо законной гордости, что у них живет и работает первая в мире знаменитая женщина-математик, она импонировала шведам и как личность. Всех поразило, что за две недели Софья Васильевна сумела выучить шведский язык. Правда, не очень хорошо, но объясниться на нем она уже могла. Ее ласково прозвали «наш профессор Соня», а в нескольких семьях новорожденных девочек назвали в ее честь Софьей.
Но все это было несколько позже, а первые месяцы Ковалевская занималась до поздней ночи, готовилась к лекциям. Поэтому ей так хотелось отдохнуть, собраться с мыслями, хоть немного привести в порядок свои дела. А ее дела, особенно материальные, были далеко не блестящими.
«Я уже прочитала две лекции, и, кажется, порядочно, — писала она брату мужа А. О. Ковалевскому. — В первый раз я, разумеется, ужасно трусила. Одну минуту мне вдруг показалось, что у меня подкашиваются ноги и что я не в силах выговорить ни единого слова. Но, странное дело, никто из присутствующих даже не заметил этого, и многие говорили мне потом, что даже удивлялись моему спокойствию. Аудитория моя довольно многочисленная: правильных слушателей у меня 19, но, разумеется, на первые лекции пришло много постороннего народу, особенно много профессоров. Что-то из всего этого выйдет? С виду кажется, будто все относятся ко мне хорошо и доброжелательно, но назначат ли мне на будущий год жалованье, в чем, разумеется, состоит еще главный вопрос для меня, этого я еще не знаю».
Ковалевской было известно, что на заседании ученого совета Упсальского университета, посвященном ее приглашению в Стокгольм, среди других претензий говорилось, что ее работы несамостоятельны и что она обязана доказать обратное. Хуже всего было то, что некоторые упсальские профессора могли повлиять на чиновников, от которых зависело материальное положение нового университета и его преподавателей. Кроме того, противников Ковалевской раздражало, что известные математики мира, такие, как француз Шарль Эрмит и немец Кронекер, обращаются к ней с просьбой прислать свои работы для опубликования в математических журналах.
Правда, после первых же лекций Ковалевской предубеждение против нее у многих преподавателей прошло. Пример этому подал сам ректор Линдхаген, прослушав ее популярную лекцию по алгебре, но враги у Софьи Васильевны остались, особенно в Упсальском университете.
Миттаг-Леффлер и его жена Сигне делали все, чтобы Ковалевская не чувствовала себя одинокой. Они знакомили ее со своими друзьями, много времени проводили вместе с ней. Но часто, сидя в уютной гостиной Миттаг-Леффлеров и наблюдая, как изящно хлопочет у стола светловолосая Сигне, Софья Васильевна ощущала, как холодная рука тоски сжимает ее сердце. Она замечала и ласковые взгляды, которыми обменивались супруги, и лаконичные фразы, говорящие о полном понимании двух любящих людей, когда им не нужны лишние слова. Казалось, сама атмосфера этого дома излучала теплоту и спокойствие, то, чего так не хватало Софье Васильевне. И ей почти до слез было жаль себя.
Чуткий Миттаг-Леффлер сразу улавливал грустное настроение гостьи и старался шуткой отвлечь ее от тяжелых мыслей.
— Соня, милый друг, вы опять витаете в облаках? — окликал он Ковалевскую. — Хотел бы я знать, над какой очередной математической задачей вы ломаете вашу мудрую головку. Не забывайте, что мы простые смертные и не можем читать даже самые яркие мысли. Вернитесь к нам на землю, пожалуйста, ужин давно ждет вас…
Сигне улыбалась, ставила перед Софьей Васильевной чашку душистого чаю, пододвигала корзиночку с печеньем.
— Вы опять ничего не кушаете, дорогая. Нельзя же так. Вы заболеете, — слышит Ковалевская ее негромкий голос. — Попробуйте, это очень вкусно.
Софья Васильевна невольно подчиняется ласковому приказу, и ей кажется, что она снова маленькая девочка, которой няня кладет на тарелку лучший кусочек и уговаривает как следует поесть.
«Как хорошо, что у меня есть Миттаг-Леффлеры», — думает Ковалевская, и ей становится легче на душе.
Но, приходя домой, Софья Васильевна продолжала ощущать свое одиночество, и ее охватывали мрачные мысли.
«2 февраля. Вернулась домой ужасно печальная, — записывала она в своем дневнике, — сидела погруженная в созерцание своего одиночества, когда мне принесли письмо из Берлина.
14 февраля… Видела ужасные сны.
17 февраля… Тоска ужасная.
21 февраля. Четверг. Ну уж и денек! С утра всякие неудачи! Одни за другими. Такая находит иногда усталость, что бросила бы все и бежала. Тяжело жить одной на белом свете».
В один из таких тяжелых дней Софья Васильевна решила разобрать свои бумаги и привести их в порядок. Среди груды покрытых формулами и математическими расчетами страниц она обнаружила пачку писем, перевязанных крест-накрест черной тесьмой. Ковалевская развязала тесьму, и конверты с шелестом посыпались на стол. Одни из них уже пожелтели от времени, другие были совсем свежие. Несколько пожелтевших листков упало на пол, Софья Васильевна подняла их, наугад пробежала глазами страницу, исписанную таким знакомым почерком мужа. Одно из ранних писем, когда она только познакомилась с Владимиром Онуфриевичем.
«Право, — писал Ковалевский, — знакомство с вами заставляет меня верить в сродство душ, до такой степени быстро, скоро и истинно успели мы сойтись и с моей стороны, по крайней мере, подружиться. Последние два года я от одиночества и по другим обстоятельствам сделался таким скорпионом и нелюдимым, что знакомство с вами и все последствия, которые оно необходимо повлечет за собой, представляется мне каким-то невероятным сном. Вместо будущей хандры у меня начинают появляться хорошие, радужные ожидания, и как я ни отвык увлекаться, но теперь поневоле рисую себе в нашем общем будущем много радостного и хорошего…»
Ковалевская не могла читать дальше: еще немного, и она разрыдается. Очень тяжело, когда непослушная память с фотографической точностью восстанавливает перед тобой прошедшие годы и навсегда ушедших людей.
Перед ее мысленным взором возникло Палибино и тот ясный осенний день, когда она в белом подвенечном платье, под руку с мужем, Владимиром Онуфриевичем Ковалевским, возвращалась в усадьбу из старой деревенской церкви. В ее ушах снова зазвенели свадебные песни, которыми крестьянки сопровождали молодых, и она совсем близко увидела счастливое лицо Владимира Онуфриевича, который с восторгом смотрел на свою фиктивную, но все же «законную» жену.
Если бы осуществились планы так, как они были задуманы сестрами, то одетой в свадебный наряд должна была быть не Софа, а Анна. Она предназначалась в жены Владимиру Онуфриевичу. Однако жизнь внесла свои поправки… и все пошло не так, как рассчитывали сестры Корвин-Круковские.
Владимир Онуфриевич тогда был по-настоящему счастлив. Еще неизвестно, как сложится их жизнь в будущем, если Софа его тоже полюбит. А девушкой вдруг овладели совсем другие чувства. Она с необыкновенной остротой ощутила, что между ее домом и ней легла пропасть. И она торопилась покинуть дом и родных, сознавая, что это нехорошо с ее стороны, но была не в состоянии ничего с собой поделать. Только Анюта, милая, бесконечно близкая Анюта, остававшаяся здесь, в старой жизни, несколько мирила ее с Палибином, и, прощаясь с ней, Софа расплакалась.
Несколько позже Ковалевская напишет стихи, посвящая их своему отъезду из Палибина.
…Но не жалко героине Оставлять места родные. И не мил ей, и не дорог Вид родимого селенья. Вызывает он в ней только Неприязнь и озлобленье. Вспоминаются ей годы Жизни, страстных порываний И борьбы глухой и тайной, И подавленных желаний. Перед ней картины рабства Вьются мрачной вереницей, Рвется вон она из дома, Словно пленник из темницы…В этом стихотворении ярко выражен ее эмоциональный характер: в момент расставанья Софьей полностью владела только одна мысль: она свободна и может заниматься любимой наукой, и ей было ненавистно все, что мешало этому.
Быть может, только в день свадьбы, увидев влюбленные глаза мужа, она впервые почувствовала всю ответственность за свою судьбу и за судьбу навек связанного с ней человека. Ведь весь этот обман, все эти жертвы будут ни к чему, если она не станет ученой.
Смутно было на душе у новобрачной, когда она садилась в экипаж, покидая отчий дом.
Глава V ПУТЬ К СВОБОДЕ — ЧЕРЕЗ БРАК
Анна, а тем более Софья меньше всего собирались выходить замуж — они мечтали посвятить себя науке. Это желание захватило девушек целиком, и они решили не останавливаться ни перед чем, чтобы добиться заветной цели. Положение сестер было сложным.
В России в то время женщина не могла получить высшего образования. Надо было ехать в Швейцарию, где женщин допускали в университеты. Но тут возникло одно труднопреодолимое препятствие — необходимо было иметь так называемый вид на жительство. Девушкам, находящимся под опекой родителей, его вообще не давали. Только замужняя женщина получала от супруга отдельный вид на жительство и могла полностью распоряжаться собой, разумеется, с согласия мужа, иначе «непокорную» могли вернуть с полицией.
И вот некоторые молодые люди шли на фиктивный брак с девушками, желающими получить образование, выправляли им самостоятельный вид на жительство, и те уезжали за границу.
Нужно по достоинству оценить самоотверженность молодежи той эпохи. Церковный брак признавал развод лишь в исключительных случаях, а в России девятнадцатого столетия брак был только церковный. Значит, ни он, ни она, встретив и полюбив другого человека, не могли разорвать старые путы и вступить в настоящий брак. Значит, молодые люди заранее во имя науки отрекались от личного счастья, от семьи, и тут начинались трагедии. Упомянем только об одной.
Мария Александровна Обручева, дочь генерала и сестра одного из сподвижников Чернышевского, вступила в фиктивный брак с врачом Петром Ивановичем Боковым. Спустя несколько лет Мария Александровна полюбила И. М. Сеченова и стала его гражданской женой. Только в конце 80-х годов она смогла получить официальный развод и обвенчалась с Сеченовым. Больше двух десятилетий общество не признавало ее законной женой Сеченова.
Необыкновенно сложилась судьба еще у одной замечательной женщины — Надежды Прокофьевны Сусловой. Дочь крепостного крестьянина, ставшего управляющим у графа Шереметьева и постаравшегося дать своим детям высшее образование, Надежда Суслова, как и Бокова, училась в Медико-хирургической академии. Когда женщинам запретили посещать занятия, она уехала в Швейцарию. Надежда Суслова привлекала к себе внимание незаурядным умом и обаянием. Она была знакома с Чернышевским, участвовала в радикальных петербургских кружках и была взята под надзор полиции как неблагонадежная. Ее пребывание за границей, так же как и круг ее знакомых, вызывало неодобрение царского правительства. Надежда Прокофьевна стала примером для многих русских женщин.
В. Н. Фигнер пишет о ней: «Стремление женщины к университетскому образованию было в то время еще совсем ново, но Суслова уже получила в Париже диплом доктора… Книжка журнала с известием о Сусловой определила мое будущее. И золотая нить потянулась от Сусловой ко мне, а потом пошла дальше — к народу, к родине, к человеку».
Анна была знакома и с Сусловой, и с Боковой. На их примерах убедилась: чтобы стать самостоятельной, иного выхода, кроме фиктивного брака, у нее нет. Ее кузина и подруга Жанна Евреинова, дочь коменданта царского Петергофского дворца, тоже стремилась вырваться из-под опеки родителей. Кто-то из них первой должен вступить в брак и помочь другой.
Родители Жанны разрешат дочери поехать за границу с замужней дамой, может быть, удастся захватить с собой и Софу. Но выйти замуж было не так-то просто. Требовался человек одного с ними круга, а наиболее передовая молодежь происходила в основном из разночинцев, что ни генералу Корвин-Круковскому, ни тем более генералу Евреинову не подходило.
Девушки все-таки сделали попытку. Студент Иван Рождественский (участник Петербургского студенческого движения 1861 года), узнав о стремлении девушек учиться, решил помочь им. Он явился к Корвин-Круковскому и попросил руки Анны. Генерал был изумлен такой дерзостью, но на вежливое предложение приходилось отвечать вежливым отказом.
— На какие средства вы намереваетесь содержать семью? — осведомился Василий Васильевич.
— Я занимаюсь свободной педагогией, — спокойно и с достоинством ответил Рождественский.
— Благодарю вас за оказанную честь, — любезно сказал генерал, — но моей дочери рано выходить замуж — она еще слишком молода.
Положение казалось безвыходным. Время шло, а жениха, способного удовлетворить строгие запросы отца, не находилось. Тогда девушки разработали другой план. Вспомнив про одного молодого профессора университета, решили предложить ему жениться на любой из них. Они были почти незнакомы с профессором, но знали, что он порядочный человек и, что самое главное, сочувствует их идеям. Анна, Жанна и Соня отправились к профессору домой. Он был немало удивлен подобным визитом, однако принял их любезно.
— Не можете ли вы жениться на одной из нас, чтобы мы могли поехать за границу учиться? — без лишних слов, напрямик спросила его Анна.
— Не имею ни малейшего желания, — твердо и спокойно ответил профессор.
Отказ не обидел девушек, хотя и ломал их планы. Гостьи тут же встали и, извинившись, ушли. Хозяин любезно проводил их до двери.
Через много лет, уже будучи профессором, Софья Васильевна Ковалевская случайно встретилась с этим человеком, и они оба со смехом вспоминали неудавшееся сватовство.
Но в тот момент девушкам было не до веселья. Еще одна попытка вырваться на свободу окончилась неудачей.
Никакие новые кандидатуры не приходили им в голову. И вдруг все чудесным образом устроилось! Анна и Соня познакомились с Владимиром Онуфриевичем Ковалевским.
Впервые они встретились с ним у Надежды Прокофьевны Сусловой, в доме которой бывало много интересных, передовых людей того времени.
Сестры Корвин-Круковские еще раньше слышали о Владимире Онуфриевиче Ковалевском. Они знали, что он много путешествовал, объездил всю Европу, а его знакомство с такими выдающимися людьми, как Герцен, Бакунин, Джузеппе Гарибальди, Чарльз Дарвин, окружало его имя романтическим ореолом. Знали девушки и об отзывчивом, добром сердце Ковалевского, и о том, что он согласен им помочь.
В свои двадцать шесть лет Владимир Онуфриевич уже испытал немало, судьба никогда не баловала его. Он не был богат и не принадлежал к знатному роду. Его отец, Онуфрий Осипович Ковалевский, мелкопоместный польский шляхтич, владел небольшим имением Шустянка в Витебской губернии (оно было неподалеку от имения Корвин-Круковских). Онуфрий Осипович женился на русской и, хотя сам был католиком, своих сыновей, Александра и Владимира, крестил по православному обряду.
Владимир Ковалевский родился 2 (14) августа 1842 года в Шустянке. Сначала он учился дома, потом в частном пансионе, где изучил главные европейские языки, а затем в Училище правоведения.
Порядки в училище были суровые. За всякую провинность строго наказывали — старших воспитанников отправляли в карцер, а младших секли розгами. Воспитатели, а большинство из них были военными, придирались ко всяким мелочам. Не застегнуты пуговицы на мундире, не зашиты все карманы, кроме одного правого, или нет хорошей выправки — за все это следовало немедленное наказание.
Вставали учащиеся в шесть утра, пили чай, а уже в половине седьмого садились учить уроки до завтрака (каждый урок продолжался полтора часа). После завтрака опять уроки, а после обеда уроки готовили не полтора, а два часа с половиной, безо всякого перерыва. Только поздно вечером после чая ученикам разрешалось немного погулять в саду.
Вся жизнь в училище шла по звонку. По звонку вставали, умывались, начинали и кончали молитву, учились, ложились спать. Сорок два раза в день звенел звонок, сопровождая каждое действие учеников. Воспитанников никуда не выпускали без разрешения. Правда, со временем старшеклассникам стало несколько проще вырываться из стен ненавистного училища. Официально воспитанникам первого (самого старшего) класса разрешалось уходить в воскресенье, а иногда на неделе утром или вечером на два часа. Молодые люди придумывали любые предлоги, чтобы уйти. «Ковалевский, — вспоминает его соученик Владимир Иванович Танеев, ставший впоследствии видным юристом и общественным деятелем, — придумал целую систему обманов, чтобы чаще уходить на неделе. Он сам писал письма, из которых было видно, что его дядя занемог и желает видеть племянника, что болезнь усиливается, что она становится опасной, что присутствие племянника необходимо каждый вечер. Потом этот дядя умер, хлопоты о похоронах, похороны — все это были поводы проситься в отпуск».
Так тяжело было Владимиру Ковалевскому в училище, что он шел на обман, разоблачение которого обошлось бы ему очень дорого.
Уже взрослым он писал брату:
«Конечно, самая страшная ошибка в моей жизни — это воспитание в правоведении».
Его старший брат Александр, впоследствии известный зоолог, учился в Петербургском институте путей сообщения, а потом в университете на естественном отделении. Владимира тоже интересовали естественные науки, и он понимал, что никогда не будет юристом.
Мать Ковалевского умерла, когда мальчику было тринадцать лет, а отец, занятый делами, почти не интересовался воспитанием сыновей. Когда дела отца ухудшились и он не смог оказывать сыновьям материальную поддержку, Владимир самостоятельно выхлопотал себе стипендию, а с шестнадцати лет стал зарабатывать переводами. Память у Ковалевского была необыкновенная, способности блестящие, но вместе с тем это был увлекающийся человек, мгновенно загорающийся всякой идеей, всяким «движением» и легко попадающий под чужое влияние.
Ему предстояла неторопливая, спокойная работа в Департаменте герольдики правительствующего Сената. Однако Владимир Онуфриевич отказался от службы и уехал в Гейдельберг к брату Александру. В Гейдельберге Ковалевский пробыл недолго, уехал в Париж, а затем в Лондон. Там Владимир Онуфриевич познакомился с Герценом и даже давал уроки его дочери Ольге. Для этого надо было иметь незаурядное гражданское мужество: общение с Герценом рассматривалось царским правительством чуть ли не как государственная измена. Ковалевский всегда симпатизировал свободомыслящим и делал для них все, что мог. Когда его товарищ Павел Иванович Якоби, участник польского национально-освободительного восстания, был ранен и ему угрожала серьезная опасность, попадись он в руки правительственных войск, Ковалевский бросил все дела и примчался во Львов к другу. Владимир Онуфриевич написал письмо А. И. Герцену, в котором просил принять Якоби, и тот уехал в Лондон, а Ковалевский вскоре возвратился в Россию. Так как средств к существованию у Владимира Онуфриевича не было, он решил активно заняться изданием переводных книг, в основном естественнонаучных трудов. Он издавал труды ученых — Дарвина, Брема и Гексли… Выпустил роман Герцена «Кто виноват?», разумеется, без указания автора. Наличных денег у Ковалевского не было, и он, приобретая в долг бумагу, краски для типографии, заказывал переводы авторам, переводчикам, рисунки художникам. Книги пользовались спросом, особенно у студенческой молодежи, и тем не менее Владимир Онуфриевич не только не разбогател, но все более входил в новые долги. В результате своей кипучей издательской деятельности он почти обанкротился.
Таким сложным человеком — энергичным и беспомощным, деловым и в то же время безответственным — был Ковалевский. Эти противоречия в характере помешали ему посвятить себя науке. Бесконечные поиски денег, метание от одного дела к другому, смятение чувств не дали замечательному ученому всю свою жизнь посвятить науке, хотя именно он является основателем эволюционной палеонтологии и палеоэкологии. Именно его работы в области естествознания показали, что современную жизнь можно понять, только досконально изучив ее истоки, а его научные идеи продолжают жить и в наши дни.
В июле 1866 года Ковалевский уехал в Италию как военный корреспондент газеты «Петербургские ведомости» при штабе Гарибальди. В своих репортажах Владимир Онуфриевич описывал все происходящие события непосредственно с места сражений.
«У меня были письма Гарибальди от его итальянских друзей, так что принят я был хорошо, и он тотчас сказал своему зятю Кончио написать мне lascia passare (пропуск), с которым я могу ходить между линиями, даже во время драки, конечно, с риском быть подстреленным с той и другой стороны, как шпион».
Из дальнейших корреспонденций Ковалевского ясно, что «право ходить между линиями» он использовал очень широко.
«Граната упала шагах в 30 или 40 от нас. По команде артиллерийского офицера alasso (ложись) мы все прилегли на землю, и я, в интересах вашей газеты, прикрылся большим камнем».
Владимир Онуфриевич находился вместе с гарибальдийцами под обстрелом и сам едва не был ранен. Он уехал из отряда, когда объявили перемирие и военные действия прекратились. Из Италии Ковалевский снова вернулся в Петербург.
И вот этот человек дал согласие жениться, чтобы помочь девушкам вырваться на свободу.
Теперь вся трудность состояла в том, чтобы официально познакомиться с Ковалевским в доме общих знакомых. Без этого по «правилам хорошего тона» его нельзя было представить родителям.
А общих знакомых у вольнодумца Ковалевского и генерала Корвин-Круковского не находилось, поэтому встретиться с «женихом» можно было только в условленном месте. Самым удобным местом была церковь. На одно из свиданий Анна взяла сестру.
Сначала Владимир Онуфриевич Соне совершенно не понравился. Невысокий, тщедушный, рыжеватый, бледный, он показался ей суетливым и многословным. Разговор вела Анна, Софа молчала. Но постепенно она втянулась в беседу и своим блестящим умом и увлеченностью совершенно покорила Ковалевского.
На следующем свидании Владимир Онуфриевич огорошил девушек заявлением, что готов жениться хоть сейчас… но только на младшей Корвин-Круковской.
Это было полнейшей неожиданностью. Небольшого роста, тоненькая, с короткими вьющимися волосами, подвижным лицом и искрящимися выразительными глазами, очень непосредственная и живая, Софа хотя сразу располагала к себе, но по сравнению с красавицей Анной сильно проигрывала. Софа привыкла считать, что сестра во всех отношениях превосходит ее, и вдруг ей такое предпочтение: или она, или никто.
Это упорство Ковалевского внесло дополнительные трудности: навряд ли генерал согласится выдать замуж младшую дочь раньше старшей. И тут Софа показала свой характер. Она решительно объявила, что уговорит отца.
Ковалевский так восторженно отзывался о своей будущей жене в письме к брату:
«Несмотря на свои 18 лет, „воробышек“ образован великолепно, знает все языки как свой собственный, и занимается до сих пор, главным образом, математикой, причем проходит уже сферическую тригонометрию и интегралы — работает, как муравей, с утра до ночи и при всем этом жив, мил и очень хорош собой».
И далее: «Я со всей своей опытностью в жизни, с начитанностью и натертостью не могу и вполовину так быстро схватывать и разбирать разные политические и экономические вопросы, как она; и будь уверен, что это не увлечение, а холодный разбор.
Я думаю, что эта встреча сделает из меня порядочного человека, что я брошу издательство и стану заниматься, хотя не могу скрывать от тебя, что эта натура в тысячу раз лучше, умнее и талантливее меня. О прилежании я уже и не говорю, как говорят, сидит в деревне по 12 часов, не разгибая спины, и, насколько я видел здесь, способна работать так, как я и понятию не имею.
Вообще, это маленький феномен, и за что он мне попался, я не могу сообразить».
Владимир Онуфриевич и Софа твердо решили посвятить жизнь только науке и служению обществу. Они проводили время за книгами, вместе изучая физиологию и химию. Софа взяла на себя часть издательской работы Ковалевского и редактировала книгу Дарвина «Изменение животных и растений вследствие приручения».
Думая о своей будущей жизни, она представляла ее так: «Я готовлюсь к экзамену, пишу диссертацию. Анюта приводит в порядок свои путевые заметки; потом я занимаюсь самостоятельно, еще позднее мы вместе устраиваем колонию, и я еду в Сибирь. Нахожу там пропасть трудностей, разочарований, но пользу непременно могу принести. Анюта пишет замечательное сочинение; мне удается сделать открытие. Мы устраиваем женскую, мужскую гимназию; у меня свой физический кабинет. Медициной я теперь перестаю заниматься, занимаюсь физикой или приложением математики к политической экономии и статистике».
Но порой на Софу находили сомнения. Она будто предчувствовала, что жизнь повернется совсем не так, как мечтается, а гораздо сложнее, многообразней и запутанней. И она пишет сестре: «Милая, бесценная сестра, что бы ни было с нами, как бы ни ополчалась и ни подшучивала судьба, но покуда мы вдвоем, мы сильнее и крепче всего на свете — в этом я твердо убеждена».
Всю жизнь Ковалевская в трудные минуты искала поддержку и опору у близких людей.
Не с радостным сердцем дал Корвин-Круковский согласие на брак. Ковалевский ему не нравился, казался человеком легкомысленным и не умевшим устраиваться в жизни. Впрочем, насчет последнего генерал был совершенно прав.
Чтобы получше узнать будущего зятя, а может, в тайной надежде, что дочь разочаруется в женихе, он пригласил его в Палибино. Взаимной симпатии у генерала и у жениха так и не возникло. Владимир Онуфриевич все понимал и написал брату письмо о своих делах:
«Мать хорошая женщина и была очень рада этому исходу, более всего с романтической стороны; отец тоже сказал, что он очень доволен, но оказалось впоследствии, что он решил во что бы то ни стало расстроить эту свадьбу, так как он думает, что дочери его должны выйти чуть не за князей. Как бы то ни было, но он, будучи вежлив наружно, зол в душе до бешенства, и это все усиливается с каждым днем. Часто говоря со мной любезно, я вижу, что у него губы дрожат от злости, тем более что мы с воробышком, как мы (то есть я, Мария Александровна и Суслова) прозвали мою будущую жену, ведем себя так, как будто никаких сомнений относительно брака существовать не может, а он рвет себе наедине волосы, что его дочь вешается на шею и не умеет вести себя.
…Господин этот страшный аспид, он был артиллерийский генерал, надут и злобно желчен до невероятия: житье бедным девочкам неистовое…
Мы решили отправить к нему письмо с требованием категорического ответа, согласия и назначения дня свадьбы, и если он не даст, то мы просто уедем с воробышком, и тогда он тотчас же согласится, но может, посердится с год; но так как мне это все равно да значительная часть самостоятельности воробышка зависит от матери, которая за нас, то об этом вопросе нечего думать.
После свадьбы, если дела мои позволят, мы уедем в ноябре в Цюрих или Вену, и воробышек станет медицинским студентом и будет готовиться на доктора…
Я, конечно, тоже поеду с нею и займусь геологией и физикой.
Если же дела не позволят ехать осенью, то воробышек будет учиться у Ивана Михайловича Сеченова физиологии и у Грубера анатомии, и мы уедем только в будущем марте. Средств хватит, потому что моих 1000 рублей в год достаточно за границей, а у них свои средства, да мне кажется, что дела пойдут так, что и моих средств хватит для нас обоих…»
Время шло, а генерал все не назначал дня свадьбы и уехал в деревню, оставив семью в Петербурге.
Тогда Софа приняла свои меры и за день до отъезда в деревню убежала к Владимиру Онуфриевичу, чтобы окончательно себя скомпрометировать.
Мать приехала за ней, но девушка решительно объявила, что никуда от жениха не уйдет, пока не будет назначен точный день венчания.
Только получив обещание, что свадьба состоится осенью, она согласилась вернуться с родными в Палибино.
Теперь, как бы ни старался генерал, чтобы свадьба расстроилась, сделать он ничего не мог и только изумленно поднимал брови, видя, как жених и невеста часами корпят над изучением учебников математики, физики, физиологии. Софе и Владимиру Онуфриевичу приходилось делать вид, что они влюблены друг в друга. Софа только при родителях проявляла нежность к жениху, а Ковалевский по-настоящему полюбил свою невесту.
Венчание состоялось 15 сентября 1868 года в Палибине.
Через два дня после свадьбы молодые прибыли в Петербург. В тот же вечер они были приглашены на обед к Сеченову. Гостей было немного: доктор Белоголовый и Петр Иванович Боков. Софе было как-то не по себе в обществе таких замечательных людей, и, кроме того, ей казалось, что все присутствующие знают правду о ее браке.
По настоятельной просьбе Марии Александровны Боковой Сеченов согласился допустить Софу на свои лекции и пригласил ее заниматься в своей лаборатории.
Вслед за Сеченовым и Илья Ильич Мечников разрешил ей посещать его лекции. Одновременно Ковалевская продолжала заниматься математикой со Страннолюбским, которого когда-то рекомендовал ей профессор Тыртов. И постепенно приходило понимание, что восторг перед наукой еще не дает знаний, что нельзя разбрасываться, а следует посвятить себя чему-то одному. И поскольку из всех изучаемых предметов только математика вызывала в ней подлинный восторг, только ее она могла изучать часами, не чувствуя усталости, то следовало математикой и ограничиться. Софа писала сестре:
«Я учусь довольно много, но занимаюсь почти теми же предметами, как и в Палибино, т. е. главное математикой. Знаешь ли, несравненная Анюта, я почти решила, что не стану слушать курс медицины, а прямо поступлю на физико-математический факультет. Не правда ли, это будет лучше? Я теперь сама убедилась, что у меня не лежит сердце ни к медицине, ни к практической деятельности. Я только тогда и счастлива, когда погружена в мои созерцания; и если я теперь в мои лучшие годы не займусь исключительно моими любимыми занятиями, то, может быть, упущу время, которое потом никогда не смогу вознаградить. Я убедилась, что энциклопедии не годятся и что одной моей жизни едва ли хватит на то, что я могу сделать на выбранной мною дороге».
Сдав экзамен на аттестат зрелости, Ковалевская занялась исключительно математикой. По нескольку часов кряду просиживала она со Страннолюбским, постигая одну премудрость за другой.
Хотя все уже было оговорено заранее, Софья Васильевна нередко задумывалась о своей семейной жизни. Вскоре Ковалевским предстояла поездка за границу для того, чтобы Соня могла продолжать учебу. Владимир Онуфриевич из-за своего неустойчивого характера очень нуждался в человеке, который поддерживал бы и направлял его. Софья Васильевна видела, как необычайная энергия Ковалевского удивительным образом сочеталась в нем с таким же необычайным безволием, неумением устроить свою судьбу. От малейших неудач он терял голову, переставал верить в свои силы, и ей приходилось утешать мужа. На Софью Васильевну временами находили сомнения. Несмотря на свою молодость и неопытность, Ковалевская прекрасно понимала, что Владимир Онуфриевич относится к ней иначе, чем она к нему. Его восторженное отношение к ее словам и поступкам пробудило в ней странные чувства. Иногда ей казалось, что она умнее, старше и опытнее мужа и что именно она является главой семьи. А иногда ей хотелось посоветоваться с ним, опереться на него, почувствовать в нем человека, ответственного за ее судьбу. Она пока еще не могла как следует разобраться в своих чувствах к мужу и по-прежнему считала его «братом», но в их отношениях ощущала какую-то неловкость.
«Во всей моей теперешней жизни, несмотря на всю ее кажущуюся полноту и логичность, есть все-таки какая-то фальшивая нота, которую определить не могу, но ощущаю тем не менее: я объясняю ее именно твоим отсутствием, и ты не поверишь, Анюта, как я одинока, несмотря на все мое счастье и на всех моих друзей. Я чувствую, что не могу быть хорошей без тебя, Анюта…» — так писала Софа сестре.
Ковалевские решили уехать за границу учиться. Владимир Онуфриевич — заниматься геологией и палеонтологией, Софья Васильевна — высшей математикой. Мечтой ее был Гейдельберг — тихий немецкий городок, прославившийся своим университетом. Правда, Сеченов не рекомендовал ей ехать в Германию, уверяя, что немцы, педантичные и законопослушные, не поймут стремления женщины к образованию и не разрешат ей посещать лекции.
Владимиру Онуфриевичу Гейдельберг был ни к чему. Ему нужна была Вена, где хорошо преподавали геологию. Поэтому Ковалевские сначала собрались в Вену.
Соня, теперь уже замужняя дама Софья Васильевна Ковалевская, не забыла, сколько надежд возлагали на нее Анна и Жанна Евреинова. А когда Софа узнала, что и кузина Жанны Юлия Всеволодовна Лермонтова мечтает изучать химию, то она написала ей в Москву письмо, в котором звала Лермонтову с собой.
«Я сама не дождусь, — писала она, — когда смогу уехать за границу, и как бы хотела, Юлия, учиться там вместе с вами; я не могу себе представить более счастливой жизни, как тихой скромной жизни в каком-нибудь забытом уголке Германии или Швейцарии между книгами и занятиями».
Нерешительная Юлия не представляла, как она сможет уговорить родителей отпустить ее, и тогда Ковалевская сама приехала в Москву.
«Для того чтобы вы легче заметили меня в толпе, если приедете на железную дорогу, то я скажу вам, как буду одета: я буду в черном шелковом салопе, белом башлыке и серой шляпке. Я позабочусь об этих мелочах, зная, что как вы, так и я очень близоруки и я, по крайней мере, трудно запоминаю лица».
Юлия познакомила Ковалевскую со своими родителями. Софья Васильевна произвела на них самое благоприятное впечатление, и они разрешили дочери приехать к Ковалевским за границу несколько позже, когда те как следует там устроятся.
Софья Васильевна вернулась в Петербург, и началась подготовка к отъезду. Ковалевскому было необходимо привести в порядок издательские дела, чтобы знать свои финансовые возможности. А дела у Владимира Онуфриевича шли далеко не блестяще. Он был должен почти двадцать тысяч рублей. Правда, за нераспроданные книги он мог бы получить почти сто тысяч. Но когда и кому могли они быть проданы, если его основные покупатели были безденежные студенты?
«Был бы благодарен, если бы ты прислал полного Брема в студенческую библиотеку (через меня, конечно), — писал Ковалевский брату, — средств у них мало, чтобы купить это издание».
И здесь Владимир Онуфриевич остался верен себе — прежде всего помочь другим, а потом уже думать о собственной выгоде.
Узнав о предполагаемом отъезде Ковалевского за границу, кредиторы стали требовать денег, и плохо пришлось бы супругам, если бы за зятя не поручился генерал Корвин-Круковский. Благодаря его вмешательству и помощи друга Владимира Онуфриевича — Евдокимова, который согласился вести дела в его отсутствие, все кончилось благополучно.
Наступил долгожданный день отъезда. 3 апреля 1869 года супруги Ковалевские и Анна сели в поезд. На вагоне было написано: «Петербург — Вена», а сестрам казалось, что вместо слова «Вена» местом назначения значилось — «Новая жизнь».
Глава VI ЛЮДИ И ГОРОДА
Итак, Россия позади. И все-таки она продолжала держать Ковалевских, тянулась к ним тысячью нитей.
В Петербурге остались друзья — те, кто помог Софье вырваться на свободу и кто поддерживал и вдохновлял ее на этом нелегком пути. Но главное, в России остались подруги, мечтающие учиться: Жанна Евреинова, Юлия Лермонтова. Анну отпустили с замужней сестрой, что разрешало для нее эту проблему, родители Лермонтовой не возражали против отъезда дочери, а вот Жанне помочь пока не удавалось.
Сейчас на первом этапе для Софьи Васильевны главное было — попасть в университет. А это оказалось не так-то просто.
Сначала все шло хорошо. Профессор физики Ланге охотно согласился допустить русскую на свои лекции. Возможно, согласились бы и другие профессора, но Ковалевская стремилась в Гейдельберг. Софья и Анна уехали из Вены еще и потому, что жизнь там была им не по средствам. В те времена Вена славилась на весь мир как город развлечений, город вальсов. Во всех парках гремела музыка. Улицы заполняли толпы туристов, и, разумеется, цены на все были очень высокие. Отец обещал посылать дочерям по тысяче рублей в год, да у Владимира Онуфриевича был скромный доход от небольшого имения. Этих денег на жизнь в Вене было недостаточно. Сестры уехали в Гейдельберг, а Владимир Онуфриевич задержался в Вене по своим делам.
«Милая Юленька! — писала Ковалевская Лермонтовой. — Я все-таки не решилась остаться в Вене, потому что для меня это было неудобно во многих отношениях: во-первых, математики там очень плохи, во-вторых, жить там очень дорого; поэтому прежде чем решиться на Вену, я захотела попробовать счастья в Гейдельберге… Я отправилась туда одна с сестрой, а Владимир Онуфриевич остался в Вене, так как мне все-таки пришлось бы вернуться туда в случае неудачи. В первый день я почти пришла в отчаяние, так худо повернулись мои дела. Профессора Фридрейха, с которым я несколько была знакома лично, не было в это время в Гейдельберге. Я пошла к Кирхгофу (физику), этот маленький старик ходит на костылях; изумился такому необыкновенному желанию женщины и объявил, что от него нисколько не зависит допустить меня, а что я должна спросить позволения у проректора университета Коппа. К этому времени возвратился из путешествия профессор Фридрейх, это было большое для меня счастье; он отнесся к моей просьбе с сочувствием и дал от себя карточку к проректору. Этот последний, в свою очередь, объявил, что не берет на себя дать такое неслыханное позволение, а что предоставит это на волю профессоров.
Я снова поплелась к Кирхгофу, он сказал, что со своей стороны будет рад иметь меня в числе своих слушателей, но что надо еще переговорить с Коппом. Вы можете себе представить, как мучительны такие проволочки и полуответы. На следующий день Копп объявил мне новое решение: он представит мое дело на обсуждение особой комиссии. Опять пришлось ждать сложа руки.
Я узнала, что про меня в Гейдельберге собирают сведения: одна барыня, которую я в глаза не видала, рассказала про меня профессору, что я вдова. Его, конечно, поразило такое разноречие с моими собственными словами, пришлось посылать к нему Владимира Онуфриевича, который к этому времени успел приехать в Гейдельберг, чтобы убедить их, что у меня действительно есть муж, что для них казалось очень важным. Наконец комиссия решила допустить меня к слушанию некоторых лекций, а именно математики и физики. Это было все, чего еще только надо было, и сегодня я начала мои занятия. Теперь у меня 18 лекций в неделю, и этого вполне достаточно, так как большая часть моих занятий все-таки дома. Одно досадно, что позволение дано мне только в виде исключения, так что осенью, когда вы приедете, надо будет начинать ту же историю; конечно, второй раз уже будет легче первого».
Ковалевская начала упорно заниматься. Она училась у известных немецких ученых: математиков Кенигсбергера и Дюлуа-Реймона, физика Кирхгофа. Потом профессор Гельмгольц разрешил ей посещать свои лекции по физиологии.
Ковалевская настолько была занята своими делами, что не видела, как томительно и неинтересно Анюте в Гейдельберге. Та рвалась в Париж, который тогда называли «блуждающим огнем революции». Анна мечтала окунуться в революционную борьбу. Но генерал Корвин-Круковский ни за что не допустил бы дочь в это «страшное» гнездо, откуда по всему миру расползаются смуты. Анна знала это, но все-таки, как только Владимир Онуфриевич приехал в Гейдельберг, уехала в Париж тайком, ничего не сообщив родителям. Там она поступила наборщицей в типографию, получала сто двадцать франков. Очень скоро вошла в круг французских социалистов, а позже один из них — Виктор Жаклар — стал ее мужем. Разгневанный отец, узнав об ее отъезде в Париж, перестал посылать дочери деньги. Софья Васильевна стала из своей тысячи триста высылать сестре. Но все эти житейские неприятности не могли помешать заниматься наукой, и никакие препятствия не могли отвлечь ее от намеченной цели.
В эти годы в Гейдельберге жил друг Ковалевских — Климент Аркадьевич Тимирязев. Он часто бывал в их обществе и в своих записках отметил, как трудно было Софье Васильевне посещать университет из-за непонимания окружающих: «Припоминаются хотя в общем, корректные, но несколько глупо недоумевающие физиономии немецких буршей, так резко отказавшиеся от энтузиазма и уважения, с которыми мы когда-то встречали своих первых университетских товарок».
Блестящие способности Ковалевской не могли не обратить на себя внимания. Профессора восторгались ученицей, и скоро по городу покатилась молва об удивительной русской. Дошло до того, что на улице матери указывали на Ковалевскую детям и ставили ее в пример. А она, несмотря на свою известность, держалась все так же скромно и застенчиво. Однажды она заметила на доске ошибку в математических выкладках, которую никто не видел. Только после долгих колебаний Софья Васильевна робко подошла к доске и исправила неточность.
В то время как Софья Васильевна с увлечением постигала математику, Ковалевский занимался геологией. Кроме геологии, он слушал вместе с женой физику у Кирхгофа, посещал кафедру химии знаменитого Бунзена. К палеонтологии Владимир Онуфриевич пока всерьез не приступал, считая ее второстепенной, хотя именно она и принесла Ковалевскому славу.
Занятия отнимали у Ковалевских весь день, а вечером они бродили по живописным окрестностям, потом усталые возвращались домой. Вечера пролетали быстро: увлеченные разговорами, они не замечали, как наступала ночь. Нежно попрощавшись, они расходились по своим комнатам до следующего утра.
Владимир Онуфриевич пытался читать, но мысли его беспрестанно возвращались к жене, находившейся так близко и в то же время недосягаемо далеко. Сколько раз он хотел сказать Софье о своих истинных чувствах, но сдерживал себя, считая, что это оттолкнет ее и нарушит их дружбу.
«Подожду еще немного, пусть она еще больше приглядится ко мне и, может быть, сама меня полюбит», — думал он, и все шло по-прежнему.
Софью Васильевну тоже тяготили и раздражали странные отношения с мужем.
«Он меня не любит, и я ему не нужна, — мысленно рассуждала она. — Иначе сказал бы. Но ведь и дружба прекрасна — уговаривала она себя. — Нам и так хорошо».
Но, несмотря на все здравые размышления отношения у Ковалевских были сложные, хотя никто из них не пытался их выяснить.
Приближались каникулы, и Ковалевские решили навестить Анну в Париже. Осенью 1869 года Ковалевские ненадолго уехали в Париж, а оттуда в Лондон. Владимир Онуфриевич хотел встретиться с замечательными учеными Гексли и Дарвином.
Один из лондонских друзей Владимира Онуфриевича познакомил супругов Ковалевских с известной английской писательницей Эванс, подписывавшейся псевдонимом Джордж Элиот. Ее романы читали и любили в России за их прогрессивность, за горячее отстаивание женского равноправия.
Известная писательница и русская студентка сразу почувствовали взаимную симпатию. Возможно, этому способствовало и сходство их характеров — властных, требующих непрестанного внимания окружающих.
На одном из приемов у Элиот произошла встреча, о которой Ковалевская не без юмора вспоминала впоследствии.
Элиот подвела к ней седого джентльмена с бакенбардами и, не называя его фамилии, предложила с ним побеседовать.
— Надо вас только предупредить, — обратилась она к Ковалевской, — что он отрицает самую возможность существования женщины-математика. Он согласен допустить в крайнем случае, что могут время от времени появляться женщины, которые по своим умственным способностям возвышаются над средним уровнем мужчин, но он утверждает, что подобная женщина всегда направит свой ум и свою проницательность на анализ жизни своих друзей и никогда не даст приковать себя к области чистой абстракции. Постарайтесь-ка переубедить его.
По-видимому, седому джентльмену было очень любопытно, как это его будут переубеждать. Он сделал несколько полуиронических замечаний о правах и способностях женщин и позволил себе усомниться, что для человечества будет польза, если большое число женщин посвятит себя наукам. Когда речь заходила об этой, такой близкой для Ковалевской теме, вся застенчивость ее проходила… и она смело вступила в спор, который продолжался почти час, пока хозяйка не сочла нужным вмешаться.
— Вы хорошо и мужественно защищали наше общее дело, — сказала она с улыбкой, — и если мой друг Герберт Спенсер все еще не дал переубедить себя, то я боюсь, что его придется признать неисправимым.
Тут только Ковалевская узнала, что вела спор со всемирно известным английским философом, и была смущена своей смелостью.
А по возвращении в Гейдельберг их ждала радость: приехала Юлия Всеволодовна Лермонтова. Родители наконец-то отпустили ее к замужней подруге заниматься химией. Теперь для Лермонтовой начался круг мытарств — хождение от проректора к профессорам и обратно. Проректор Гейдельбергского университета Копп официально ответил Лермонтовой следующее: «Согласно решению приемной комиссии, как и в предыдущем случае с госпожой Ковалевской, вам не может быть разрешено посещение лекций; в настоящее время предоставляется всецело на усмотрение отдельных преподавателей, в каких случаях найдут возможным разрешить вам посещение отдельных лекций, поскольку это не может вызвать осложнений».
Юлии Лермонтовой из-за ее застенчивости и скромности было чрезвычайно трудно говорить о себе. Все ее попытки кончались неудачей. Придет Лермонтова к какому-нибудь маститому профессору, еле слышно, не поднимая глаз, попросит его разрешения посещать лекции и, получив отказ, в смятении убегает. Ковалевская горячо взялась за устройство ее дел. Лермонтова мечтала заниматься химией, и потому Софья Васильевна пошла к профессору химии Бунзену и так умоляла его помочь подруге, что добилась своего: профессор разрешил русской посещать его занятия. Затем Софья Васильевна получила разрешение и других преподавателей.
Впоследствии Лермонтова так описывала Ковалевскую тех дней:
«Она привлекала к себе сердца всех безыскусственною прелестью, отличавшую ее в этот период ее жизни; и старые и молодые, и мужчины и женщины — все были увлечены ею. Глубоко естественная в своем обращении, без тени кокетства, она как бы не замечала возбуждаемого ею поклонения. Она не обращала ни малейшего внимания на свою наружность и свой туалет, который отличался всегда необыкновенной простотою с примесью некоторой беспорядочности, не покидавшей ее в течение всей жизни.
Ее выдающиеся способности, любовь к математике, необыкновенно симпатичная наружность при большой скромности располагали к ней всех, с кем она встречалась. В ней было прямо что-то обворожительное. Все профессора, у которых она занималась, приходили в восторг от ее способностей, при этом она была очень трудолюбива, могла по целым часам, не отходя от стола, делать вычисления по математике.
Ее нравственный облик дополняла глубокая и сложная душевная психика, какой мне никогда впоследствии не удавалось ни в ком встречать».
Ковалевские и Юлия некоторое время жили в Гейдельберге втроем. Владимир Онуфриевич занимался в университете геологией, Софья Васильевна физикой и математикой, Юлия химией. Это маленькое дружное трио работало с утра до вечера, а потом вместе гуляли, разговаривали о науке и о России. Это были самые счастливые дни в жизни Софьи Васильевны. Она занималась любимой математикой, рядом были хорошие друзья, любящие ее, преданные ей, понимающие ее. Чего еще было желать?
Однако вскоре Ковалевский уехал: он прослушал весь курс лекций в Гейдельберге и теперь отправился в Вюрцберг.
Софья Васильевна и Лермонтова прожили вдвоем недолго: из Парижа приехала Анна, а из России Жанна Евреинова.
Из всех русских женщин, сумевших вырваться для учебы за границу, Жанне, пожалуй, пришлось труднее всего. Отец категорически отказывался отпустить ее, а тут еще на Жанну обратил внимание брат Александра II великий князь Николай Николаевич. И отец не только не ограждал дочь от этих домогательств, но молчаливо потворствовал им. Был такой момент, когда девушка хотела утопиться. Она написала отчаянное письмо Софье Васильевне, и та посоветовала ей бежать, рекомендовав обратиться к Евдокимову, который в отсутствие Владимира Онуфриевича вел его издательские дела. Евдокимов помог ей деньгами, верные люди провели ее ночью через границу, и она в конце концов добралась до Гейдельберга.
После ухода Жанны из дома отношение родителей к ней переменилось. Они старались помочь ей деньгами, а когда Жанна уехала в Лейпциг, то мать приехала к ней. Жанна занималась юриспруденцией и, блестяще сдав экзамены, стала впоследствии первой в России женщиной-юристом. Конечно, она не могла и мечтать о том, чтобы выступать в судах в России. Она писала и печатала статьи на юридические темы, в основном по вопросам женского равноправия.
Софье Васильевне было трудно без мужа. Она привыкла к его заботам, к максимальному комфорту, который он старался ей создать. А главное, к тому, что рядом с ней всегда находился внимательный друг, который ее прекрасно понимал и с которым можно разговаривать на самые сокровенные темы.
Поэтому, когда Ковалевский уехал, Софья Васильевна часто вспоминала о нем, что очень не нравилось Анне и Жанне. Они не без основания подозревали, что Ковалевский очень жалеет, что его брак фиктивный, и дает это понять жене. Одной из причин, почему Владимир Онуфриевич избрал для работы Вюрцберг, а не Вену, было то, что Вюрцберг находился совсем близко от Гейдельберга. Всего пять часов езды отделяло его от Софьи Васильевны, и в любой момент он мог ее увидеть. Но в Вюрцберге ему нечего было делать, так как ни в музее, ни в библиотеке не обнаружилось интересующих его материалов. Профессора тоже не могли ему дать ничего нового. И тогда он направился в Мюнхен, в университет. Софья Васильевна скучала без мужа и ждала, что Ковалевский прервет свои странствия и снова приедет в Гейдельберг. Она до сих пор не могла понять, как трудно Владимиру Онуфриевичу находиться с ней рядом в качестве друга: ведь он с каждым днем любил Софью все больше и больше и тяготился нелепостью своего положения. В то же время сам Ковалевский, несмотря ни на что, не представлял себе, как он сможет жить без этой маленькой, одержимой наукой женщины. Он старался, как мог, заглушить свои чувства, очень много занимался палеонтологией и геологией, переезжал из города в город, но нигде не мог обрести душевный покой.
Софья Васильевна до конца не понимала истинной причины его странствий. «Значит, он вполне может обойтись без меня, — думала она, — без моих душевных бесед, без радости взаимного понимания, которое возникает только меж близкими людьми. А ведь он мне нужен, он должен всегда быть подле меня, ловить мои мысли и угадывать желанья. Выходит, я ему не нужна?»
Как-то Софья Васильевна с горечью сказала Юлии Лермонтовой, что Ковалевскому «нужно только иметь около себя книгу и стакан чая, чтобы чувствовать себя вполне удовлетворенным». Но в глубине души она не могла в это поверить и часто писала ему подробные письма о жизни их маленькой женской коммуны, не упуская мелочей.
«До свидания, милый, — писала она Владимиру Онуфриевичу. — Приеду к тебе, только что начнутся праздники, значит, через полторы недели. С нетерпением жду этого времени. Так хочется потолковать и помечтать с тобой, особенно когда почему-нибудь весело на душе, то как хочется поделиться с тобою. Как я буду рада, если на лето пустят меня в Берлин. Пиши почаще и люби свою Софу».
Ковалевская не только писала мужу нежные письма, но и приехала к нему в Мюнхен, когда начались пасхальные каникулы. Отношения их продолжали оставаться прежними, хотя Софья Васильевна все больше ощущала в них натянутость и неестественность. Неудовлетворенная и расстроенная, Ковалевская уехала в Гейдельберг, а Владимир Онуфриевич остался в полном смятении чувств, кляня себя за нерешительность.
В Гейдельберге жизнь шла своим чередом. Анна снова уехала в Париж, но ее место в коммуне пустовало недолго. Из России вырвалась двоюродная сестра Корвин-Круковских Наталья Александровна Армфельд. Но ее судьба сложилась иначе. Сначала она стала заниматься математикой, а потом увлеклась революционной деятельностью. Вернувшись в Россию, она вошла в 1873 году в московский кружок «чайковцев», забросила науку и посвятила себя революционной пропаганде среди крестьян. Несколько раз ее арестовывали, а затем сослали на каторгу в Сибирь, на реку Кару, где была самая страшная тюрьма для государственных преступников. Мужественная женщина ухаживала там за больными и помогала нуждающимся. Тяжелейшие условия жизни подорвали ее здоровье, и в 39 лет она умерла от туберкулеза.
Софья Васильевна с огромным уважением относилась к Наталье Армфельд и преклонялась перед ней. Ковалевская симпатизировала прогрессивной молодежи и не скрывала своих убеждений.
«Когда трем или четырем из нас, молодежи, случалось где-нибудь в гостиной встретиться впервые среди целого общества старших, при которых мы не смели громко выражать своих мыслей, — писала она в своих воспоминаниях, — нам достаточно было намека, взгляда, жеста, чтобы понять друг друга и узнать, что мы находимся среди своих, а не среди чужих. И когда мы убеждались в этом, какое большое, тайное, непонятное для других счастье доставляло нам сознание, что вблизи нас находится этот молодой человек или эта молодая девушка, с которыми мы, быть может, раньше и не встречались, с которыми мы едва обменивались несколькими незначащими словами, но которые, как мы знали, одушевлены теми же идеями, теми же надеждами, той же готовностью жертвовать собой для достижения известной цели, как и мы сами».
Еще не став всемирно известной ученой, Софья Васильевна уже служила притягательной силой для передовых женщин России, стремившихся вырваться на широкий простор общественной и научной деятельности.
Софья Васильевна и остальные члены коммуны жили дружно и интересно, хотя материально им было нелегко. Родители Жанны Евреиновой высылали ей «стипендию» очень нерегулярно. Так же редко получала деньги и Лермонтова. Софья Васильевна отдавала все, что присылал ей отец, кроме той суммы, которую она переводила в Париж Анне.
Не менее скромно жил в Мюнхене Ковалевский. Его маленькую дешевую комнатку всю заполонили многочисленные книги и журналы. Они лежали на столе, валялись на диване и кровати.
Владимир Онуфриевич приступил к палеонтологии, слушал лекции и работал в музее, изучая прошлое земной коры, но не камни, а окаменелости — остатки ранее существовавшей жизни. Его особенно заинтересовали труды палеонтолога Оппеля, который обнаружил промежуточные слои между двумя геологическими формациями верхней юры и нижнего мела. Ковалевский работал напряженно, делал перерыв только на обед, а потом снова погружался в свои исследования.
Наступили пасхальные каникулы, и в Мюнхен приехала Софья Васильевна. Ковалевские отправились на юг Франции в Приморские Альпы, а оттуда в Ниццу, потом они собирались в Англию. Неожиданно выяснилось, что в Неаполь едет по делам Александр Онуфриевич Ковалевский. Братья очень давно не виделись и договорились встретиться в маленьком городке Винченце, через который проезжал Александр. Софья Васильевна решила пока съездить в Париж к Анне, а потом супруги должны были соединиться в Мюнхене.
Софья Васильевна мечтала о встрече с сестрой, о том, как они наконец-то смогут поговорить по душам. А сказать надо было многое, в письмах всего не напишешь.
…Вагон плавно раскачивался в такт быстро бегущим колесам, и на сердце у Ковалевской становилось радостно и спокойно. Еще несколько часов, и она снова увидит любимую сестру, и та будет полностью принадлежать ей. Никто не сможет помешать им излить друг другу душу, как раньше. Софа вспомнила строгую гувернантку мисс Смит и ее решительный запрет не общаться с «нигилисткой» Анной. Софье Васильевне стало смешно и странно: прошло так мало времени, немногим более двух лет, а ей кажется, что это было очень-очень давно, в далеком детстве. Тогда она была маленькой застенчивой Софой, которая без разрешения не могла взять книгу для чтения, а сейчас она самостоятельная замужняя дама и может делать все, что ей заблагорассудится.
«Напомню Анюте, как нам влетало, когда я пыталась проникнуть к ней в комнату», — подумала, улыбаясь, Софья Васильевна и посмотрела в окно.
Уже предместье Парижа… Мелькают домики, деревья, скоро вокзал. Поезд остановился, в последний раз с лязганьем вздрогнули вагоны и замерли…
Софа жадно всматривалась в толпу встречающих. Вот наконец и Анюта! Ее белокурые волосы кажутся еще светлее рядом с темной шевелюрой невысокого мужчины, сопровождающего ее.
Софья Васильевна, улыбаясь, спустилась со ступенек, кинулась к сестре, но та легко отстранила ее и смущенно залепетала:
— Соня, дорогая! Это Виктор. Познакомься с моим мужем Виктором Жакларом.
Растерявшаяся Ковалевская сразу не могла осознать, что этот красивый бородатый мужчина, галантно целующий ей руку, — муж ее любимой сестры.
«Зачем же мне надо было ехать в Париж, когда я лишняя! Ах, Анюта, Анюта! Ты предала наши идеалы», — как молния пронеслось в ее голове, а вслух Софья Васильевна любезно сказала:
— Рада с вами познакомиться, Виктор…
В отеле в Латинском квартале уже все было готово к ее приезду.
— Тебе необходимо отдохнуть, дорогая, — настаивала Анюта, — позже мы придем к тебе.
Они ушли, и Ковалевская даже не стала задерживать сестру. Ей надо было понять все, что произошло. И, глядя на влюбленную Анну, Софья Васильевна в который раз задумалась о своей личной жизни.
«Как Анна изменилась, она забыла все, о чем мы мечтали, но она очень счастлива, — думала Ковалевская. — Значит, любовь — это счастье? А если Володя относится ко мне не как брат, — эта мысль огнем обожгла ее, — как ему, наверное, тяжела такая нелепая жизнь! А как я отношусь к нему? Люблю ли его по-настоящему и хочу ли его любви?»
Смятенье охватило Ковалевскую, и она вдруг отчетливо поняла, что теперь ее отношения с мужем станут еще сложнее и запутаннее.
Глава VII ОСОБНЯК НА ШТЕЛЛЕНШТРАССЕ
Вскоре после возвращения из Парижа Софья Васильевна завершила курс лекций по математике, и Гейдельберг потерял для нее привлекательность.
«Что же мне делать дальше, — размышляла она, — жить здесь — только зря тратить время; надо перебраться в Берлин и во что бы то ни стало добиться, чтобы профессор Вейерштрасс стал со мной заниматься».
Ковалевская поставила перед собой нелегкую задачу: знаменитый математик Карл Теодор Вильгельм Вейерштрасс, «великий аналитик с берегов Шпрее», был известен не только своей преданностью любимой науке, но и нелюдимым, суровым характером.
Карл Вейерштрасс с юности увлекался математикой, но не мог полностью посвятить себя любимой науке. Вначале — таково было желание родителей — Карл Теодор изучал в Бонне юриспруденцию, а потом он оставил ее и два года занимался математикой у профессора Гудермана. Не имея достаточных средств к существованию, Вейерштрасс становится учителем гимназии.
Четырнадцать долгих лет талантливый ученый добросовестно преподает в гимназии математику, физику, естествознание, химию и даже гимнастику. Свободного времени у него остается настолько мало, что ему приходится выбирать между личной жизнью и наукой. Молодой человек выбрал науку, хотя для этого ему пришлось отказаться от девушки, которую он любил. Жизнь его пошла монотонно, по строго намеченному плану. Каждый день после занятий в гимназии Вейерштрасс приходил домой, где жил со своими двумя незамужними сестрами, закрывался в кабинете и изучал самые сложные разделы математики. Особенно его интересовала теория трансцендентных функций, которыми занимался норвежский математик Абель. В течение нескольких лет ученый разрабатывал, не жалея ни сил, ни времени, свою оригинальную теорию высших трансцендентных функций. Карл Вейерштрасс был настоящим самоотверженным ученым, высшей наградой для которого было сознание, что он внес хотя бы крошечный вклад в науку. Вейерштрасс очень строго относился к своим трудам и неоднократно пересматривал их, стремясь облечь в предельно лаконичную форму. Когда его работы были опубликованы в математическом журнале, они сразу привлекли внимание ученых. Скромного учителя гимназии пригласили в Берлин, и вскоре его имя стало широко известно.
1856 год стал для Карла Вейерштрасса годом признания его заслуг. Вначале его назначили профессором Берлинского университета и Технологического института, а несколько позже выбрали членом Берлинской академии. Теперь его считали такой же звездой эпохи, как крупнейших математиков Куммера и Кронекера.
Став знаменитостью, Вейерштрасс не изменил своего образа жизни. По-прежнему, закончив лекции, он неторопливо направлялся домой и до поздней ночи занимался наукой. Многие математики стремились познакомиться с профессором, побывать на его лекциях, побеседовать с ним о различных проблемах, но он крайне неохотно соглашался, жалея свое время. И к такому сложному человеку стремилась Софья Васильевна, чтобы стать его ученицей.
Берлин встретил ее неприветливо. Когда она пыталась проникнуть в университет, ее не пропустили. Предлог был один и тот же: женщин сюда не принимают. И хотя о Ковалевской и ее способностях профессора Берлинского университета уже знали, все равно для нее не сделали исключения. Тогда, как обычно в трудные минуты жизни, Софья Васильевна решилась на невероятно смелый поступок: обратиться непосредственно к самому Вейерштрассу и попросить его давать ей частные уроки. Ковалевская решилась на это с отчаяния, она знала, что профессор живет отшельником и его никто и никогда не посмел беспокоить дома. К тому же не надо забывать, что в то время Софье Васильевне было всего 20 лет и она была застенчива. Но ради любимой математики она была готова на все. Собрав все свое мужество, Софья Васильевна отправилась к профессору.
3 октября 1870 года запомнилось ей надолго.
Профессор жил на тихой, чопорной улице — Штелленштрассе, застроенной респектабельными особняками. Ковалевская медленно шла по чисто выметенной улице, и ей казалось, что каждый особняк неодобрительно поглядывает на нее темными глазами-окнами. Дом Вейерштрасса мало чем отличался от остальных — такой же солидный и суровый. Софья Васильевна остановилась перед дверью, протянула руку к звонку и отдернула ее: сейчас этот звонок решит ее дальнейшую судьбу.
«А что, если профессор не захочет меня принять? — с волнением подумала она. — Но нет, это невозможно».
Софья Васильевна собралась с духом и резко позвонила несколько раз. Послышались чьи-то неторопливые шаги, дверь открылась, и перед Ковалевской появилась немолодая женщина.
— Дома ли господин профессор? — еле слышно спросила Софья Васильевна.
— Профессор дома, прошу вас, — горничная провела Софью Васильевну в скромную гостиную и попросила подождать.
Через несколько минут просительницу провели в кабинет.
В мире происходили крупные события, шла франко-прусская война, гремели орудия, и лилась кровь, а здесь, в тихом полумраке большой комнаты, уставленной тяжелой старинной мебелью, время будто остановилось.
Высокий, массивный, седовласый профессор, встав из-за письменного стола, вежливо осведомился, чем может служить. Но услышав просьбу иностранки заниматься с ней частным образом математикой, отрицательно покачал головой. Здоровье не позволяет ему, объяснил он, давать частные уроки. Он делает это крайне редко и только для людей, которые действительно смогут развивать математику. А женщина, да к тому же русская…
Посетительница продолжала настаивать, умолять, мешая от волнения немецкие и французские слова.
Профессор ломал голову, как от нее избавиться, и наконец нашел выход. Он предложил ей несколько задач по гиперболическим функциям. Если за неделю она сумеет их решить, тогда можно поговорить о дальнейшем.
Почтенный профессор выбрал далеко не самые легкие задачи. По крайней мере, немногие из его студентов сумели бы с ними справиться. Поэтому он был уверен, что странная русская больше не придет, и забыл о ней, как только захлопнулась дверь кабинета.
Прошло семь дней. Профессору доложили, что снова пришла русская дама. Софья Васильевна молча протянула ему тетрадь с решенными задачами. Профессор быстро проглядел исписанные листы, повторяя: «Не может быть! Это невероятно!» А потом начал проверять решения.
Каково же было его изумление, когда он убедился, что молоденькая иностранка нашла новые пути решения этих задач, такие пути, о которых он сам даже не подозревал. А когда Софья Васильевна стала с воодушевлением доказывать свои решения, профессор увидел ее умное, одухотворенное лицо, великолепные, сияющие умом глаза и почувствовал к ней симпатию. Но прежде чем дать согласие с ней заниматься, Вейерштрасс (кто знает, вдруг иностранке кто-нибудь помог справиться с задачами) написал профессору Кенигсбергеру, у которого Софья Васильевна занималась в Гейдельберге, с просьбой охарактеризовать ее способности. Тот дал самый благоприятный отзыв, и только тогда Вейерштрасс согласился.
Довольно скоро профессор убедился, насколько талантлива Ковалевская. С ней он мог говорить о любых проблемах математики и физики. Она не только прекрасно понимала его, но высказывала свои интересные и новые идеи. Она стала его любимой ученицей.
«Мы должны быть благодарны Софье Васильевне за то, что она вывела Вейерштрасса из состояния замкнутости» — так отмечали современники.
Профессор просил Академический совет университета разрешить Ковалевской посещать его лекции по математике, но совет категорически отказал, несмотря на то, что из-за франко-прусской войны количество студентов на лекциях Вейерштрасса уменьшилось почти в три раза. Профессор был недоволен и огорчен отказом. Это недовольство он выразил в письме к Кенигсбергеру: «Тем более тягостно для нас, что доселе непреклонная воля высокого совета никак не допускает к нам в университет замены, предлагаемой нам из ваших рук в лице нынешнего женского слушателя, который, при условии правильного весового коэффициента, мог бы оказаться весьма ценным».
Софья Васильевна занималась с Вейерштрассом, и эти занятия целиком захватили ее. День был заполнен с утра до вечера. Забыв обо всем, она сидела за письменным столом, покрывая формулами и расчетами одну страницу за другой. Софья Васильевна чувствовала себя счастливой в этом всесильном мире воображения, все остальное в жизни казалось далеким и ненужным. В такие минуты даже все ухудшающиеся отношения с мужем не так тревожили ее душу, отходили на второй план. А отношения с Владимиром Онуфриевичем запутывались все больше, становились очень сложными. Ковалевский, увлеченный своей наукой и делами, редко навещал жену, писал ей странные сухие письма, почти не интересовался ее работой и успехами, отдалялся от нее.
Софье Васильевне казалось, что она потеряла друга и вместо него появился чужой, ненужный человек, с которым она накрепко связана, и эти оковы тяготили ее. Они встречались, но, не найдя в себе сил выяснить отношения, разъезжались с горьким осадком в душе.
«…Ей нужна спокойная и, главное, веселая жизнь на одном месте и много коротких друзей. Я расхожусь сейчас с людьми, с которыми она коротка, все-таки является ревность, мелочи и т. д. Кроме того, короткие люди начинают ей говорить, как мало мы годимся друг для друга; все это, конечно, неприятно, хотя я и сам сознаю это, нам, я думаю, не надо связывать неразлучно свою жизнь вместе, а надо остаться хорошими друзьями», — писал Ковалевский брату.
Софье Васильевне никого не хотелось видеть, она нигде не бывала, кроме дома Вейерштрасса, и ее единственным посетителем был профессор, который приходил к ней, читал лекции, разбирал работы других математиков и давал ученице новые задания.
Профессор не всегда сам приходил к Софье Васильевне — она раз, а то и два в неделю приходила на урок к Вейерштрассу. Ковалевскую ждали в этом доме, сестры профессора привязались к молодой иностранке и всячески выказывали свою симпатию. После окончания урока ее приглашали пить чай в старомодную гостиную, и беседа за столом надолго затягивалась. Визит Софьи Васильевны превращался в праздник для Вейерштрасса и его домашних, а она чувствовала себя не такой одинокой и никому не нужной.
Меньше всего она могла предполагать, что строгий профессор, к которому она шла с замиранием сердца, станет для нее таким верным другом. А когда однажды Ковалевская рассказала профессору о своем фиктивном браке и о возникших сложных отношениях с мужем, Вейерштрасс был потрясен жертвой, которую принесла его ученица. Ему, как никому другому, была понятна и близка такая самоотверженность — он сам в молодости отказался от личной жизни во имя науки. Это признание еще больше сблизило старого ученого с Софьей Васильевной, и в его отношении к ней появилась отеческая нежность. Он делал все, чтобы хоть как-то скрасить ее нелегкую жизнь, но чувствовал себя бессильным, ведь никто посторонний не мог изменить что-либо в жизни Софьи Васильевны и ее мужа.
— Не мне же первой начинать разговор, — однажды с горечью вырвалось у Софьи Васильевны, — может быть, я выдумываю несуществующие чувства, а Владимир Онуфриевич меньше всего думает обо мне и его устраивает такая жизнь. Иногда, читая его письма, мне кажется, дорогой профессор, что ему нужна только его наука и бесконечные дела, а обо мне он вспоминает из долга и пишет письма просто так, из вежливости.
Вейерштрасс пытался переубедить Ковалевскую, но она твердо стояла на своем.
— Если я ему нужна, он сам об этом должен сказать, а мне пытаться привлечь его внимание унизительно…
Такие разговоры были тяжелы для Софьи Васильевны, и профессор сам никогда их не начинал. Больше всего он боялся задеть легкоранимую душу ученицы и старался направить ее мысли в другое русло, а это лучше всего удавалось с помощью науки. За рабочим столом Ковалевская чувствовала себя в привычном мире и проводила там почти все время.
Приехавшая в Берлин Юлия Лермонтова удивилась ее необыкновенной работоспособности, несмотря на то, что сама много занималась химией.
«Ее способность в течение ряда часов предаваться самой усиленной умственной работе, ни разу не вставая из-за своего письменного стола, была поистине изумительна, — вспоминает Лермонтова. — И когда она после того вечером, проведя целый день в такой усиленной работе, отстраняла от себя бумаги и подымалась со стула, она была все еще так сильно погружена в свои мысли, что начинала взад и вперед ходить по комнате быстрыми шагами и наконец просто бегать, громко разговаривать сама с собой, а иногда разражаясь хохотом».
Только за письменным столом Софья Васильевна была счастлива. В творческом упоении она забывала обо всем остальном, и в такие моменты жизнь ей казалась прекрасной.
Ковалевской не хотелось отдыхать, не хотелось тратить время на что-нибудь другое, кроме любимой математики.
«Она ни за что не хотела выходить из дома, ни для того, чтобы гулять, ни для того, чтобы идти в театр, ни для того, чтобы делать необходимые покупки», — отмечает Лермонтова, рассказывая об их совместной жизни в Берлине.
Средства подруг были ограничены, а сами они крайне непрактичны. Поэтому они снимали первую попавшуюся квартиру, нанимали любую прислугу и мало обращали внимания на быт.
Сестра Вейерштрасса вспоминала, как однажды к ним прибежала очень взволнованная Софья Васильевна с известием, что ее обокрали. Профессор стал ее утешать, а потом разговор неожиданно перешел на интересующую Ковалевскую математическую тему, и она так увлеклась беседой, что совершенно забыла о происшедшем у нее дома неприятном событии.
Успехи Софьи Васильевны поражали и восхищали Вейерштрасса.
«Что касается математического образования Ковалевской, — говорил знакомым восхищенный профессор, — то могу заверить, что я имел очень немного учеников, которые могли бы сравниться с нею по прилежанию, способностям и увлечению наукой».
Высокая оценка скупого на похвалу Вейерштрасса радовала Софью Васильевну, и она старалась еще больше времени отдавать любимой науке. Но такие бессистемные занятия подорвали ее здоровье, она стала очень раздражительной, нервной, быстро утомлялась. Беспокоила ее и судьба сестры, которая с мужем находилась в революционном Париже и принимала непосредственное участие в деятельности Парижской коммуны.
Жизнь супругов Жаклар была нелегкой. Виктор Жаклар совсем еще молодым участвовал в конгрессе студентов всех европейских университетов в Льеже. За это его исключили из университета, а потом арестовали за участие в демонстрации студентов-бланкистов. Выйдя из тюрьмы, Жаклар стал агитатором среди рабочих, и вот здесь-то он и познакомился с Анной. А вскоре они стали мужем и женой. Летом 1870 года его судили как члена Интернационала (где он был представителем университетской молодежи) за заговор против Наполеона III и приговорили к ссылке. Но Виктор бежал в Швейцарию, за ним последовала жена. И в Швейцарии Жаклары продолжали работать. Анна работала в Центральном комитете Интернационала: переводила брошюры Карла Маркса для газеты «Народное дело», которая их печатала в приложении.
Через некоторое время супруги вернулись в Париж, где 18 марта 1871 года была провозглашена Парижская коммуна.
Жаклары возвращались во Францию через Лион. Виктор выступал на собраниях, и его выбрали народным комиссаром для сношений с Комитетом общественного спасения, и он вошел в делегацию города Лиона, отправившуюся в Париж. Обстановка в Париже была чрезвычайно тяжелая и сложная: город был окружен немецкими войсками, всякая связь его с внешним миром прекратилась.
Зная решительный характер сестры, Софья Васильевна не находила себе места.
«Мы в большом беспокойстве потому, что нет вестей от Анюты: муж ее — делегат Красной Лионской республики; из Парижа вестей нет, а из прусского лагеря — депеши, что в Париже сильная перестрелка и канонада неизвестно между кем», — писал Владимир Онуфриевич брату.
Мысль о том, что с сестрой что-то случилось, не оставляла Ковалевскую, не давала ей сосредоточиться на занятиях, и она решилась на отчаянный шаг: пробраться в осажденный Париж. Узнав о ее намерении, Ковалевский, не задумываясь, бросил все и примчался к жене. Наскоро собравшись, они тронулись в путь.
Это была рискованная поездка. Каждую минуту их могли схватить и расстрелять: во время войны с подозрительными личностями не церемонились. Ковалевским пришлось идти пешком через оккупированные немецкими солдатами области, плыть на лодке по Сене, прятаться от немцев. И все-таки 5 апреля они благополучно проникли в город и разыскали? Жакларов.
Это были героические, незабываемые дни Парижа. Жаклар командовал войском Монмартра, а Анна Васильевна была членом Женского комитета бдительности Монмартра, писала воззвания к населению, ухаживала за ранеными. Вместе с сестрой самозабвенно работала в госпиталях и Софья Васильевна. Сейчас у нее не было времени вспоминать о математике, настолько ее захватило чувство собственной необходимости, какого-то странного могущества. Она знала, что может помочь измученным страданиями людям. Это давало ей новые силы, отметало прочь личные переживания. Единственно, что ей хотелось, — это сесть за стол и сделать заметки для воспоминаний об этом периоде. Софья Васильевна даже знала название своего будущего рассказа: «Сестры Раевские во время Коммуны», она намечала сюжет, во замысел этот так и не осуществился. Ни в Париже, ни позже у нее не хватило на него времени.
Париж бомбили, и опасность была велика, но Ковалевская не боялась: слишком велико было страстное желание победить.
«При каждом разрыве бомб билось сильнее сердце и где-то в глубине души вспыхивала радость, что судьба позволила и мне, кабинетной ученой, принять участие в событиях мирового значения», — вспоминала потом Софья Васильевна.
Через некоторое время, убедившись, что с Жакларами ничего не случилось, Ковалевские вернулись в Берлин. А через несколько дней в Париж вошли версальцы… и начались кровавые расправы.
«Подошли раздирательные вести из Парижа, что там делается — просто страсть; июньские дни (во время революции 1848 года) — игрушка в сравнении с нынешними гуртовыми убийствами и расстреливаниями, очень много из них хороших знакомых убиты и расстреляны; об Анюте и муже ее мы не имеем никакой вести и очень боимся за него, хоть он и вышел за две недели до конца службы, но все-таки, если его поймают, то могут приговорить к смерти или ссылке», — писал Ковалевский брату.
Опасения Ковалевского имели все основания: за Виктором Жакларом и за Анной Васильевной враги охотились ожесточенно; несколько человек, которых приняли за Жаклара, были расстреляны на месте.
Наконец Ковалевские узнали, что Жаклара арестовали, и снова отправились в Париж. Они с трудом нашли Анну и от нее узнали, что Жаклару грозит расстрел или ссылка на каторгу в Новую Каледонию, что было равносильно смерти, только медленной и ужасной. Владимир Онуфриевич добился свидания с коммунаром и узнал, что суд над ним будет месяца через четыре. В тюрьме над Жакларом всячески издевались, раздевали донага и до потери сознания избивали шомполами…
Ковалевские были уверены, что Анна поедет в ссылку вслед за мужем, и Софья Васильевна твердо решила, что она сама проводит сестру в Новую Каледонию. Владимир Онуфриевич не мог допустить, чтобы жена поехала с сестрой, — поедет он, в этом нет никаких сомнений.
«Сила обстоятельств говорит, что сопровождать Анюту через Суэц, Цейлон и Мельбурн придется мне, — писал Ковалевский брату, — кроме того, так как я человек свободный, то мне придется поселиться с ними в Новой Каледонии, а Софа, выдержавши экзамен в Берлине, приедет к нам туда…»
Но, к счастью, удалось организовать Жаклару побег из тюрьмы, и он с паспортом Владимира Онуфриевича уехал в Цюрих, где его уже ждала Анна.
В эти трудные, полные бесконечных тревог дни Софья Васильевна еще раз убедилась, что она не права и что муж относится к ней с любовью и преданностью. С волнением она ждала, что Владимир Онуфриевич начнет разговор об их отношениях и все встанет на свои места. Но Ковалевский молчал, а Софья Васильевна не смогла первой произнести решающие слова. Вскоре Владимир Онуфриевич уехал, так и не поговорив с женой.
С тяжелым сердцем Софья Васильевна вернулась в Берлин.
— Математика — вот что для меня основное, — убеждала она себя, — а остальное как сложится.
Глава VIII МАСТЕРСТВО
Четыре долгих года провела Софья Васильевна в Берлине. За это время она написала три крупные математические работы, обессмертившие ее имя: «К теории дифференциальных уравнений в частных производных», «О приведении одного класса абелевых интегралов к интегралам эллиптическим» и «Дополнения и замечания к исследованию Лапласа о форме кольца Сатурна». Вейерштрасс мог гордиться своей ученицей: за любую из этих работ ей могла быть присвоена первая степень — доктора философии. Вкратце остановимся на этих работах.
Исследование «К теории дифференциальных уравнений в частных производных», посвященное наиболее трудным областям математического анализа, в то же время могло широко применяться для решения задач механики и физики. Здесь Ковалевская ярко продемонстрировала свой незаурядный талант. Она нашла оригинальный путь решения подобных задач, разработав постепенность перехода от более простого к более сложному, а затем привела все сложное к простому. Кроме того, она рассмотрела в теореме уравнение теплопроводности и открыла в нем некоторые особые случаи, неизвестные ранее математикам.
Когда она представила свой труд в Парижскую академию, там установили, что до нее подобную работу написал знаменитый французский ученый Огюстен Коши. Об этом исследовании ни профессор Вейерштрасс, ни Ковалевская ничего не знали, и это было вполне понятно — Коши создал около восьмисот работ, и знать их все было невозможно. Правда, Коши решил эту проблему в более частном виде, а Ковалевская во всем объеме, да еще придала ей идеально законченную форму. Это исследование вошло в золотой фонд математики под названием «Теорема Коши — Ковалевской».
Вторая работа Ковалевской относилась к менее сложным разделам математического анализа.
Когда-то, много лет назад, профессор Вейерштрасс тоже начинал свои первые исследования с работ замечательного норвежского математика Абеля, с его высших трансцендентных функций. Как известно, простейшая кривая, ограничивающая плоскость, — круг. Площадь его может вычислить школьник. Так же легко вычислить объем шара. А если кривая или плоскость имеют неправильную форму, как тогда вычислить площадь или объем?
Задача эта, возникшая еще в глубокой древности, до сих пор имеет огромное практическое значение. Решают ее с помощью так называемого интегрального исчисления. Интеграл — это предел, к которому стремится сумма бесконечно большего числа бесконечно малых слагаемых. С помощью интегралов можно вычислить площади и объемы фигур, ограниченных кривыми линиями или плоскостями. Делают это так: сначала всю фигуру разбивают на узкие прямоугольники. Площадь прямоугольника вычислить легко, поэтому, сложив сумму площадей всех прямоугольников, мы получим приближенное значение площади фигуры. Разумеется, чем больше прямоугольников и чем меньше площадь каждого из них, тем точнее будет результат. А самый точный результат будет тогда, когда прямоугольников бесконечное множество. В этом случае сумма их площадей стремится к пределу, ограниченному кривой, то есть к интегралу. Таким же образом вычисляются объемы, длины дуг и т. д.
Сложность интеграла зависит от формы кривой, ограничивающей площадь. Абелевы интегралы относятся к очень сложным кривым и в порядке возрастания сложности имеют несколько рангов — первый, второй, третий и т. д. Решить интегралы Абеля — значит упростить их, найти приемлемые формулы.
Задачей упрощения абелевых интегралов второго ранга занимался профессор Кенигсбергер, у которого училась Ковалевская. Софья Васильевна упростила еще более сложные интегралы — третьего ранга.
Свою третью работу Ковалевская посвятила форме кольца Сатурна.
Сатурн, единственная в солнечной системе планета, опоясанная кольцом, которое имеет вид тора (баранки). Но каково поперечное сечение кольца? Французский математик и астроном Лаплас в своем труде «Небесная механика» предположил, что кольцо Сатурна состоит из нескольких тонких, не влияющих одно на другое жидких колец, и определил его поперечное сечение как эллипс.
Ковалевская нашла более точное решение этой задачи. Она определила, что поперечное сечение кольца Сатурна, чтобы оказаться в установившемся равновесии, должно было в жидком состоянии принять яйцеобразную форму, то есть форму овала, симметричного только одной прямой. Эта работа Ковалевской была опубликована в немецком астрономическом журнале, затем подробно изложена французским астрономом Тиссераном в курсе небесной механики, а основной результат, касающийся поведения жидкой массы, включен в курс гидродинамики Ламба.
В 1873 году Софья Васильевна была вынуждена прервать занятия с Вейерштрассом и уехать в Швейцарию. Настолько плохо было ее здоровье. Сказались непосильная работа и до сих пор неустановившиеся отношения с мужем. Врачи ей настоятельно рекомендовали пожить в местности с мягким климатом, и Софья Васильевна выбрала Цюрих. Там жила Анна с мужем, и туда же собирались родители.
Двусмысленность положения чрезвычайно тяготила Софью Васильевну. Приехавшие в Цюрих родители своими хотя и деликатными вопросами о ее семейных делах еще больше осложняли ей жизнь.
«…Я положительно не намерена кормить их баснями, — писала Ковалевская мужу, — мне и без того в разговорах с ними постоянно приходится краснеть, когда разговор коснется какой-нибудь из множества басен, которые мы им совсем ненужным образом наврали». Софья Васильевна приглашала мужа приехать и вместе разобраться в их отношениях.
Владимир Онуфриевич пообещал, но приехать не смог: был очень занят.
Пока Ковалевская создавала свои блестящие математические работы, Владимир Онуфриевич тоже самозабвенно трудился, его ум, мысли и сердце захватила палеонтология.
Выбрав палеонтологию позвоночных, он с увлечением занялся ею: «Только тут мы можем сделать что-нибудь разумное… все это даст и даже отчасти дает нам разумная палеонтология, и мне кажется, это поле — очень благодарное для будущего пятидесятилетия», — писал он брату.
Владимир Онуфриевич уехал в Вену, чтобы получить там диплом доктора. Действительно, его работа была признана важнейшей палеонтологической работой последних двадцати пяти лет и получила заслуженную известность.
В 1872 году Йенский университет выдал Ковалевскому докторский диплом. Казалось, все идет хорошо, Ковалевский собирался работать в России, но на родине его подстерегала неожиданная неудача.
Незадолго до поездки в Россию он отрицательно отозвался о работе некоего И. Ф. Синцова, а обстоятельства сложились таким образом, что сдавать магистерский экзамен в России, без которого Ковалевский не мог быть допущен к работе, ему пришлось у того же Синцова, который не простил обиды и провалил его на экзамене по геологии и палеонтологии. Совершенно обескураженный неудачей, Владимир Онуфриевич снова поехал за границу. Венские и мюнхенские профессора приняли у него экзамены по палеонтологии и геологии и дали самые высшие оценки. Но на врагов ученого это не произвело никакого впечатления. Тогда Ковалевский напечатал «Заметку о моем магистерском экзамене» и опубликовал лестные отзывы принимавших у него экзамены профессоров. О многих его злоключениях Софья Васильевна не подозревала и удивлялась, почему муж не может оторваться от своих дел и повидаться с ней. И она писала ему письма, полные упреков. Владимир Онуфриевич не знал, что ему делать, — он чувствовал, что они с Софьей Васильевной разные люди, но в то же время он любил ее и готов был делать все, чтобы облегчить ей жизнь. Поэтому он и не посвящал жену в свои невеселые и сложные дела.
Ковалевский даже написал ей иносказательное письмо, что согласен дать развод, взяв на себя всю вину. Однако Софья Васильевна не приняла этой жертвы.
«…если я когда-нибудь верну себе мою свободу, о которой, впрочем, менее сокрушаюсь, чем вы думаете, то это будет моими собственными силами и притом главным образом с целью вернуть вам вашу…» — немедленно ответила она.
Постепенно их письма начали делаться все более теплыми и дружескими. Они снова стали поверять друг другу свои радости и неудачи, делиться результатами своей работы, и у обоих крепло убеждение, что им надо быть вместе.
Настроение у Софьи Васильевны резко изменилось, она стала веселой, общительной; волнения и тревоги покинули ее. Она с удовольствием встречалась с новыми людьми и много времени проводила с учеником Вейерштрасса математиком Германом Амандусом Шварцем, который преподавал в Цюрихском политехникуме. Незадолго до приезда Софьи Васильевны Вейерштрасс прислал ему свои лекции по теории абелевых функций, записанные Ковалевской. Узнав, что она приехала в Цюрих, Шварц пожелал немедленно встретиться с замечательной женщиной-математиком. Знакомство состоялось, они подолгу беседовали, и оказалось, что у них одинаковые планы будущих работ. Софья Васильевна впервые встретила человека с одинаковыми научными устремлениями. Имея такого друга, можно сделать в науке бесконечно много, и ей не захотелось возвращаться в Берлин к Вейерштрассу. Но чувство долга не позволяло изменить старому учителю.
В это время Вейерштрасса назначили ректором Берлинского университета, и Ковалевская обрадовалась удобному предлогу: многочисленные обязанности ректора, вероятно, не оставят профессору времени для частных занятий.
Будто угадав ее колебания, Вейерштрасс написал: «Если говорить совершенно серьезно, то, милая и дорогая Софа, будь уверена, что именно моей ученице я обязан тем, что обладаю не только моим лучшим, а единственным действительным другом. Поэтому, если ты и в будущем сохранишь то же отношение ко мне, которое проявляла до сих пор, то ты можешь быть твердо уверена, что я всегда буду преданно поддерживать тебя в твоих научных стремлениях».
После такого письма Ковалевская не решилась оставить этого благородного, одинокого человека, хотя она уже освоила его идеи, идеи Шварца привлекали ее своей новизной. Чувство долга взяло верх: «Я чувствую, что предназначена служить истине-науке и прокладывать новый путь женщинам, потому что это значит служить справедливости. Я очень рада, что родилась женщиной, так как это дает мне возможность одновременно служить истине и справедливости».
Так в свои двадцать три года Софья Васильевна определила свой жизненный путь — наука и справедливость.
Ковалевской надо было возвращаться в Берлин. Предстояла решающая битва — получение докторского диплома. Но ей хотелось вернуться туда вместе с мужем. Они встретились, произошло наконец решительное объяснение и примирение: фиктивный брак превратился в брак по велению сердца. Через несколько дней супруги вместе выехали в Берлин.
Вопрос о докторском дипломе для своей любимой ученицы беспокоил и Вейерштрасса. Где защищать ей диссертацию? В Берлине это было невозможно. Да и в каком другом университете его маститые коллеги, возмущенные тем, что женщина вздумала посягать на святая святых, не провалят его ученицу? И все-таки он нашел выход. По немецким законам иностранец мог получить степень без личной защиты диссертации. Достаточно было представить свои работы.
Вейерштрасс написал в Геттингенский университет, что считает справедливым, если Ковалевской присвоят степень без личной защиты, так как претендентка представляет собой ярчайший математический талант. В ответ университет выразил сомнение: нужно ли присуждать степень, если Ковалевская не работает в этой области и, видимо, не собирается работать в дальнейшем. Тогда Софья Васильевна, отправив в университет все документы, обязательную автобиографию на латинском языке, приложила к ним объяснение.
«Милостивый государь!
Позвольте мне прибавить еще несколько слов к присланному мной в ваш факультет прошению о присуждении мне звания доктора философии.
Мне было нелегко решиться на шаг, который должен был вывести меня из состояния неизвестности, в котором я до сих пор находилась. Только одно желание доставить удовольствие близким мне людям, желание дать им настоящее понятие о себе, убедить их в том, что я действительно серьезным образом и небезуспешно занималась математикой, которую изучала исключительно по любви, без всяких посторонних целей, заставило меня отбросить в сторону все колебания. Этому способствовало и полученное мною сведение, что я, как иностранка, могу быть признана вашим факультетом в звании доктора и если только представленные мною работы будут сочтены удовлетворительными и если я вместе с тем представлю и свидетельства о своих занятиях от компетентных лиц. В сущности — надеюсь, что вы не перетолкуете в дурную сторону мое откровенное признание — я и сама не знаю, хватит ли у меня уверенности и самообладания, необходимых для examen rigorosum, я боюсь, что необычайность обстановки, среди которой мне придется отвечать на вопросы совершенно незнакомых мне лиц, напротив того, приведет меня в страшное смущение, несмотря на мое убеждение в любезной снисходительности господ экзаменаторов. К этому нужно еще прибавить, что я не вполне свободно владею немецким языком, когда дело идет об устном выражении своих мыслей, хотя, с другой стороны, я привыкла употреблять его при математических занятиях и пишу на нем удовлетворительно, когда у меня есть достаточно времени для обдумывания своих фраз. Это мое неумение говорить по-немецки происходит оттого, что я всего пять лет тому назад принялась за изучение этого языка, из которых четыре прожила в Берлине в полном уединении, так что только в часы, уделяемые мне моим многоуважаемым учителем, имела случай слушать немецкую речь и говорить по-немецки. На основании всего этого я осмеливаюсь обратиться к вам, милостивый государь, с покорнейшей просьбой оказать мне свое любезное содействие в деле освобождения меня от examen rigorosum».
После длительной переписки совет Геттингенского университета присудил Софье Васильевне Ковалевской ученую степень доктора философии по математике и магистра изящных искусств «с наивысшей похвалой», и при выдающейся работе от обязательных экзаменов ее освободили.
Словно маленькая девочка, радовалась Ковалевская, разглядывая диплом в красивом бархатном футляре, подаренном профессором Вейерштрассом.
Наконец-то она добилась победы!
Как хотелось Вейерштрассу оставить у себя Ковалевскуго еще на годик-другой! Как хотелось отдать ей все — не знания, их он уже отдал, а те еле уловимые смутные наметки, догадки, интуитивное прозрение нерешенных математических вопросов, которые он сам уже не успеет осуществить. А она, молодая, смелая, талантливая, она осуществила бы их под его руководством. Но Ковалевская рвалась в Россию, период ученичества кончился. Софья Васильевна и Владимир Онуфриевич стали настоящими учеными.
Ковалевский, обобщив свои исследования, на основании созданной им классификации копытных самым убедительным образом доказал общность происхождения их от одного предка. Его классические работы, послужившие основой научной сравнительной палеонтологии, подтвердили эволюционную теорию Дарвина. Ковалевский подчеркивал тот факт, что животный мир надо изучать в связи с геологическим временем, обязательно принимая во внимание его настоящее, прошлое и будущее. Он же заложил основы палеоэкологии — науки, устанавливающей тесную связь между строением скелета животного, его образом жизни, питанием и особенностями окружающей среды.
Свой труд «Опыт естественной классификации ископаемых животных» Владимир Онуфриевич хотел посвятить Дарвину и спросил его разрешения.
«Посвящение, о котором Вы говорите, будет для меня очень лестно, и я смотрю на него как на высокую честь», — написал ему замечательный ученый, а он чрезвычайно редко одобрял чужие работы.
Супруги Ковалевские мечтали о большой самостоятельной работе, которая принесет славу не только им, но и родине. Поэтому, выполнив все формальности, тепло попрощавшись со старым профессором, они сели в поезд и помчались навстречу милой, желанной, родной России.
Глава IX СНОВА НА РОДИНЕ
Вернувшись в Россию, Ковалевские сразу же поехали в Палибино. Необходимо было отдохнуть после всех заграничных волнений, набраться сил и наметить планы своей будущей жизни.
В Палибине уже жила Анна с мужем и сыном. Теперь вся семья была в сборе. Сразу же было устроено семейное торжество — любительский спектакль и бал — в честь «Софы-доктора». А ей не верилось, что все устроено из-за нее и что красивый напечатанный золотом диплом принадлежит ей. Софье Васильевне было хорошо в Палибине, она отдыхала от напряженной работы, много времени проводила с отцом и сестрой.
Владимир Онуфриевич часто и надолго уезжал в Петербург, занимался издательскими делами.
Для Софьи Васильевны время тянулось медленно, особенно она стала ощущать это, когда почувствовала себя отдохнувшей. Ее энергичная, любознательная натура требовала деятельности, и сообщение мужа, что им надо переезжать в Петербург, Ковалевская приняла с удовольствием.
В сентябре 1874 года обе семьи — Ковалевские и Жаклары — окончательно переехали в Петербург и поселились вместе на 6-й линии Васильевского острова. Они вели общее хозяйство, что позволило им значительно сократить расходы.
Супруги Ковалевские быстро нашли друзей среди передовых людей. Шведская писательница Анна Шарлотта Леффлер, хорошо знавшая Ковалевскую, так вспоминает о той поре:
«Софья сделалась сразу средоточием одного из тех интеллигентных избранных кружков, горячо преданных умственным интересам, которые составляют особенность русской столицы и редко встречаются в каком-либо другом месте Европы».
В это время Софья Васильевна находилась в самом расцвете сил, и такая резкая перемена в ее жизни после долгих лет, отданных только науке, разительно отразилась на ней.
«После пятилетней уединенной, почти затворнической жизни в маленьком университетском городке петербургская жизнь сразу захватила и как будто опьянила меня, забыв на время те соображения об аналитических функциях, о пространстве, о четырех измерениях, которые еще так недавно заполняли весь мой внутренний мир, я теперь всей душой уходила в новые интересы, знакомилась направо и налево, старалась проникнуть в самые разнообразные кружки и с жадным любопытством присматривалась ко всем проявлениям этой сложной, столь пустой по существу и столь завлекательной на первый взгляд сутолоки, которая называется петербургской жизнью.
Все меня теперь интересовало и радовало. Забавляли меня и театры, и благотворительные вечера, и литературные кружки с их бесконечными, ни к чему не ведущими спорами о всевозможных абстрактных темах» — так написала Ковалевская в своих воспоминаниях.
Владимир Онуфриевич был счастлив, что жена довольна и между ними прочно установились теплые, доверительные отношения. А Софья Васильевна ликовала!
«Я находилась в самом благодушном настроении духа, так сказать, переживала свой „медовый месяц“ известности и в эту эпоху своей жизни, пожалуй, готова была воскликнуть: „Все устроено наилучшим образом в наилучшем из миров“, — писала она позже.
Ковалевский не был настроен так восторженно: его дела были плохи. Владимира Онуфриевича не допускали в университетскую среду, он был там чужим, и ему предпочитали хотя и бесталанных, но своих людей. По этому принципу „своих“ не приняли в Российскую академию наук и Дмитрия Ивановича Менделеева. Его репутация „неблагонадежного“ насторожила сильных мира сего, и кандидатуру блестящего ученого отклонили под благовидным предлогом. Такое беззаконие возмутило многих русских ученых.
— В академии постоянно есть вакантные места, якобы за недостатком ученых, а русские, имеющие на это право, остаются в стороне, — с жаром говорил тогда А. М. Бутлеров. — Раз они русские, значит, не внушают доверия, академия с иностранцами — лучшая защита против вторжения нигилизма в науку.
Друзья советовали Владимиру Онуфриевичу сдать магистерский экзамен, но это предстоящее испытание томило его, напоминало историю с Синцовым.
„Я только теперь достаточно понял все трудности магистерского экзамена и по своей глупой привычке раскаиваюсь, что поехал на такое важное дело в Одессу, не имея ни одной напечатанной работы, — писал он брату. — Здесь мои дела стали далеко не хороши. Вообще Петербург произвел на меня самое тяжелое впечатление. Никто моих работ не понимает и не может даже читать их, так что я не встречаю ни одной души, и все точно сговорились требовать от специалиста по палеонтологии физику, минералогию, картографию и т. д., не обращая ни малейшего внимания на то, есть ли у него хорошие работы или нет“.
Ковалевский выдержал экзамен и получил так необходимую ему магистерскую степень. Но в университет его все же не взяли, хотя в дипломе было четко написано, что „г. Ковалевскому представляются все права и преимущества законами Российской империи, со степенью магистра соединяемые“.
Не лучше шли дела и у Софьи Васильевны. Известный ученый, сказавший свое новое слово в математике, максимум, на что она могла рассчитывать в России, — это на место учительницы арифметики в младших классах женской гимназии.
— К сожалению, я не тверда в таблице умножения, — невесело шутила по этому поводу Софья Васильевна.
Появилась было надежда читать лекции на подготовительных Аларчинских курсах, но из этого ничего не получилось: не нашлось студенток, знающих высшую математику. И позднее, в 1878 году, когда открылись Бестужевские высшие женские курсы, Ковалевской не дали читать там лекции, несмотря на то, что она была членом Комиссии по обеспечению этих курсов денежными средствами и даже предлагала читать бесплатно.
Софья Васильевна решила сдавать магистерский экзамен, а пока занялась переводами, помогая мужу в его издательских делах. А дела у Ковалевского шли далеко не блестяще. Сначала Владимир Онуфриевич решил „освежить“ свои „издательские дела, чтобы получать хоть немного постоянного доходу“. Он стал выпускать пятый и шестой тома Брема и, кроме того, наметил издать „народного Брема“, то есть то же издание, только сокращенное и дешевое. Если бы планы Ковалевского осуществились — он сразу получил бы большую сумму денег за проданные книги. Но издание Брема вовремя не вышло в свет, и Владимиру Онуфриевичу пришлось занимать деньги под проценты, тратить силы и время на поиски новых средств и совсем отложить занятия наукой. Потом он решил переиздать несколько хорошо распроданных ранее книг, стал готовить к изданию античных классиков. В стремлении немного разбогатеть Ковалевский метался из стороны в сторону, не понимая, что коммерция совершенно не его дело.
Не смог Ковалевский отказать и А. С. Суворину, владельцу газеты „Новое время“, когда тот, еще стоявший на радикальных позициях, пригласил его работать в редакции. Владимир Онуфриевич взял на себя ответственную работу: он был фактически выпускающим, писал передовые, хронику и т. п. А Софье Васильевне Суворин поручил работу, как сейчас сказали бы, научного обозревателя и одновременно театрального рецензента.
Совершенно неожиданно выяснилось, что Ковалевская обладала даром, неоценимым для журналиста: о сухих, сугубо научных вещах она умела писать живо и интересно.
Театральные рецензии она тоже писала своеобразно. Не пересказывала сюжет и не давала оценку артистам, что обычно делали рецензенты, а в первую очередь обращала внимание на качество пьесы — ее композицию, внутреннюю логику, развитие действия. И главное, она отмечала, прогрессивна ли пьеса, заставляет ли она зрителя задуматься над общественными вопросами.
Софья Васильевна занималась и беллетристикой. Еще в 1877 году она написала повесть „Приват-доцент“ о немецких ученых. К сожалению, рукопись эта безвозвратно затерялась, но письмо Ковалевской к Анне Шарлотте Леффлер, где она кратко рассказывает о повести, сохранилось.
„Я думаю, что если совершенно переработать его, то могу сделать нечто замечательное. Я в самом деле немного горжусь тем, что в такие молодые годы я так хорошо понимала некоторые стороны человеческой жизни. Когда я анализирую чувства Э. по отношению к Г., мне кажется, что я действительно хорошо описала отношения между моим приват-доцентом и его профессором. И каким великолепным случаем это может быть для проповеди социализма! Или же во всяком случае для того, чтобы развить тезис, что демократическое, но не социалистическое государство представляет величайший ужас, какой только может иметь место“.
Ковалевская мечтала о социализме, хотя понимала его в утопическом духе, в духе „Города Солнца“ Кампанеллы и „Утопии“ Томаса Мора. Впрочем, в то время многие передовые люди представляли себе социалистическое общество именно таким.
Сотрудничество в „Новом времени“ давало Ковалевским скромный, но верный заработок, но, когда газета стала менять свой курс, они ушли из нее.
В это время умер старый генерал Корвин-Круковский. Имение он оставил сыну, а дочерям завещал деньги, но распоряжаться ими они не могли без разрешения матери. Софе предназначалось сорок тысяч рублей, и этой суммы вполне хватило бы на скромную, но безбедную жизнь, но, на беду, супруги Ковалевские решили заняться предпринимательством.
Этот общий дух предпринимательства и наживы коснулся всех слоев общества, в том числе и интеллигенции. Получилось так потому, что в 70-е годы промышленность в России бурно развивалась. Вырастали новые заводы, возникали акционерные компании, банки и товарищества, строились целые кварталы. Умный, энергичный человек мог в короткое время разбогатеть.
Родные Софьи Васильевны не одобряли деятельность ее мужа, но она считала, что они не правы, и стояла на стороне Владимира Онуфриевича.
А тут еще бывший товарищ Ковалевского по училищу правоведения удачно купил земельный участок и выстроил на нем дом, который выгодно сдал в аренду. Он разжег воображение Владимира Онуфриевича рассказами о колоссальных прибылях, которые приносит продажа домов. И Ковалевский увлекся этой идеей: провести подряд несколько удачных торговых операций, нажить состояние и после этого безмятежно отдаться науке — это казалось ему таким простым. Да и брат Александр написал ему из Одессы, что думает купить дом и сдавать внаем квартиры.
„Стоит ли вообще покупать человеку с энергией уже построенные дома, и кажется, гораздо выгоднее строить их самому, — ответил ему Владимир Онуфриевич. — Эта мысль пришла мне в голову только сию минуту, и я выкладываю ее тебе“.
Энергии у Ковалевского было много, а вот терпения, выдержки, предпринимательской смекалки не оказалось вовсе. Но он и жену заразил своей верой в успех. Долгими вечерами они подсчитывали будущие доходы, и цифры уверенно свидетельствовали: быть им миллионерами.
Действительно, сначала дело шло хорошо. Владимир Онуфриевич с азартом вникал в тонкости строительства, разговаривал с подрядчиками. Он почти забросил науку и всю свою неугомонную энергию направил на устройство благосостояния своей семьи. Он начал строить дом с оранжереей, а несколько позже баню для населения Васильевского острова. Размах у Ковалевского был большой, а денег не хватало. Он брал большие суммы в банках, закладывал и перезакладывал еще не достроенные здания, и получилось так, что проценты, которые ему приходилось выплачивать по закладным, превышали доходы. Положение становилось сложным.
Занятый с утра до вечера хлопотами, Ковалевский прекрасно понимал, что Софье Васильевне тяжело бездельничать, быть оторванной от науки, от интересных дел и что она скучает. Поэтому он всячески старался развлечь ее, поощрял ее стремление к светской жизни. Он делал все, чтобы жена его была хорошо одета, выезжала в свет и вообще заняла бы в обществе подобающее ей место. Софья Васильевна за это время тоже несколько охладела к математике. Напрасно старый друг Вейерштрасс слал ей письма и новые работы по математике: на письма она не отвечала, а работы даже не читала.
— Напишу, когда устроюсь и опять начну заниматься математикой, — говорила она мужу, когда тот напоминал ей, что письма профессора остаются без ответа.
Наконец строительство дома закончилось и квартиры в нем были быстро сданы. Ковалевский вздохнул с облегчением: значит, правильны были их расчеты — теперь кончится безденежье, и они будут иметь твердый доход. Вопрос о твердом доходе очень беспокоил Владимира Онуфриевича, так как Ковалевские ожидали ребенка.
В октябре 1878 года у Софьи Васильевны родилась дочь, которую тоже назвали Соней. Крестными родителями девочки были Иван Михайлович Сеченов и Юлия Всеволодовна Лермонтова. После рождения ребенка молодая мать полгода не вставала с постели, а сердце так никогда и не оправилось полностью от тяжелой болезни.
Маленькая Соня внесла в жизнь семьи невероятный беспорядок. Софья Васильевна считала, что дом принадлежит ребенку, и всю силу своей любви направила на девочку.
Между тем финансовые дела Ковалевских стали плохи. Если первый дом был доходным, то второй дом с баней не оправдал себя и принес одни убытки. А на его постройку были взяты деньги Софьи Васильевны. Владимир Онуфриевич впал в полное отчаянье, жена поддерживала его как могла и вела дела с кредиторами, чтобы спасти хоть небольшие крохи их состояния.
„Средства наши тоже быстро истощаются, — писала в Одессу Софья Васильевна брату Ковалевского Александру Онуфриевичу, — и если до 20-го не произойдет какой-нибудь решительной перемены к лучшему, придется созвать кредиторов и отдаться на их милость. Вы сами можете себе представить, как невесела эта перспектива…
В воскресенье под утро я сбираюсь поехать к доктору Сикорскому (по нервным болезням), которого рекомендовал мне Сеченов, говорят, это молодой и умный человек, а ввиду тех тяжелых минут, которые нам, может быть, предстоят в очень недалеком будущем, чрезвычайно важно укрепить какими-нибудь средствами нервы Володи“.
Вскоре Ковалевская тяжело заболела. Это была очередная беда среди других, обрушившихся на семью Ковалевских. Во время болезни, предоставленная своим мыслям, Софья Васильевна вновь начала думать о любимой науке и еще раз убедилась, что главное для нее — математика.
И когда в конце 1879 года в Петербурге состоялся шестой съезд естествоиспытателей и врачей и профессор Чебышев предложил ей сделать доклад об одной из ее работ, Ковалевская, несмотря на еще не окрепшее здоровье, с радостью согласилась.
Были забыты все заботы и неудачи. За одну ночь она пересмотрела и подготовила свою работу „О приведении некоторого класса абелевых интегралов 3-го ранга к эллиптическим интегралам“. А на следующий день Софья Васильевна с большим успехом прочитала свой доклад, и знаменитый академик Чебышев высоко оценил эту работу.
На этом съезде у Ковалевской произошла встреча, имевшая огромное значение в ее дальнейшей жизни, с одним из учеников Вейерштрасса профессором Гельсингфорсского университета Густавом Миттаг-Леффлером. Талантливый ученый много слышал о замечательной русской женщине-математике и знал, что Вейерштрасс считает ее своей любимой ученицей. Хотя их знакомство было недолгим, Миттаг-Леффлер сразу понял, какой талантливый математик Ковалевская и что она может дать науке. Его искреннее восхищение еще раз убедило Софью Васильевну, что основное в ее жизни — это математика. Сознание своего призвания помогло ей быть мужественной, когда Ковалевские были разорены окончательно.
Бани не только не принесли Ковалевским доход, но их строительство довело дела Владимира Онуфриевича до такого состояния, что имущество Ковалевских чуть не пошло с молотка. Уплатив часть долгов, они едва могли сводить концы с концами.
— Мы потеряли все, но, может быть, это все к лучшему. Мы оба примемся за свое дело, — так Софья Васильевна говорила мужу, стараясь его поддержать.
Но Владимир Онуфриевич был подавлен, и вывести его из этого состояния было невозможно.
„Дела идут к дурному исходу, и я нимало не обольщаю себя относительно того, — как обычно, Ковалевский искал моральной поддержки у брата. — Благодарю, милый, за ободрительные слова твоего письма, но ладья наша так свихнулась, что направить ее на хорошую дорогу уже невозможно“, — писал он.
В Петербурге Ковалевским оставаться было нельзя, и они переехали в Москву. Верный друг Юлия Лермонтова сняла им трехкомнатную квартиру. Ковалевские надеялись, что жизнь в Москве наладится, тем более что Владимир Онуфриевич рассчитывал получить должность доцента в университете.
Софья Васильевна тоже мечтала преподавать в университете и решила готовиться к магистерским экзаменам. Но чтобы стать преподавателем университета, необходимо было получить разрешение министра просвещения Сабурова — „битого министра“ (ему один студент публично дал пощечину).
„Что до меня касается, то мои дела идут не столь блестящим образом: несмотря на то, что и профессор Давидов и ректор Тихонравов лично обращались к министру с просьбой допустить меня к магистерскому экзамену, но министр решительно отказал и даже выразился так, что и я, и дочка моя успеем состариться, прежде чем женщины будут допущены в университеты. Каково?“ — так с горечью сообщила Софья Васильевна брату мужа.
До чтения Владимиром Онуфриевичем лекций в университете и, следовательно, до постоянного заработка оставалось около года, а средств пока не было никаких. В этот трудный момент его пригласил к себе Виктор Иванович Рагозин, который организовал „Товарищество на паях „Рагозин и К°““ по производству нефтяных минеральных масел».
Основатель товарищества был очень энергичным и деловым. Женившись на дочери одного из богатых нижегородских купцов, он умело пустил капитал в оборот и разбогател. Когда в 1813 году Бакинское ханство стало принадлежать России, кое-кто из дельцов занялся добычей нефти, но очень примитивным способом. Будучи образованным человеком, Рагозин обратил внимание на то, что при производстве керосина остаются «нефтяные остатки». Рагозин основал лабораторию, где перерабатывал эти остатки в смазочные масла. Масло стало быстро раскупаться, и Рагозин, не имея достаточно средств, чтобы одному построить несколько заводов, решил создать на паях «Товарищество „Рагозин и К°“». Пайщикам предлагались очень выгодные условия, руководило ими выбранное правление. Рагозин предложил Ковалевскому стать одним из директоров. Это предложение устраивало Владимира Онуфриевича. Не говоря уже о том, что при хорошем ведении дел он будет получать более десяти тысяч в год, уже теперь можно было взять в кассе товарищества любую сумму в счет будущего жалованья.
Ковалевский воспользовался этой возможностью, занимал деньги в кассе фирмы, приобретал паи, снова их закладывал, снова покупал, находил пайщиков, в общем, как всегда, с увлечением занялся новым делом. Он все еще наивно надеялся быстро разбогатеть и уж потом целиком отдаться науке. Измученный нуждою, Ковалевский не мог понять, как трудно совместить предпринимательскую деятельность (он был техническим директором общества) с научной работой. По делам новой службы Владимир Онуфриевич уехал за границу. Там он встретился с учеными, которые радостно его приняли, и он начал жадно знакомиться с новейшими достижениями геологии и палеонтологии.
Софья Васильевна тоже занялась любимой наукой. Ее захватила дискуссия об абелевых функциях и работа над преломлением света в кристаллах. Ковалевская чувствовала необходимость посоветоваться с Вейерштрассом и показать ему черновые наброски своей работы. Она написала профессору письмо, и не дождавшись ответа, оставила маленькую Фуфу (так звали дома Соню-младшую) у Лермонтовой и уехала в Берлин.
Глава X ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА
Ковалевская приехала в Берлин и остановилась в отеле. Она немедленно дала знать о своем приезде Вейерштрассу, и вскоре профессор уже был у нее.
«Как он постарел за это время и как он похож на моего отца, — мелькнула мысль у Софьи Васильевны при виде профессора. — Те же усталые глаза, тяжелые веки, такой же умный, всепонимающий взгляд».
Вейерштрасс нежно расцеловал свою любимую ученицу; он был оживлен и радостно взволнован, но Ковалевская видела, как растерян и угнетен ее старый друг, каким неуверенным он себя чувствует. Огромная работа, болезни, отсутствие денег — все это уносило силы и здоровье. Ученый с мировым именем на старости лет не имел средств, чтобы спокойно заниматься любимой наукой, а был вынужден читать лекции, много редактировать.
Софья Васильевна призвала всю свою волю, чтобы сдержать слезы, и начала горячо рассказывать о своих рабочих планах.
— Я привезла на ваш суд, дорогой учитель, первые наметки исследований о преломлении света в кристаллах. Взгляните на них.
Вейерштрасс погрузился в чтение, а Ковалевская наблюдала за его лицом.
«В этом он остался прежним, — думала она, — теперь мир для него не существует, пока последняя страница не ляжет на стол…»
Профессор исследование одобрил, и Софья Васильевна горячо взялась за работу.
Ковалевская два месяца провела в Берлине очень плодотворно: она изучала новые труды математиков, занималась своим исследованием и так увлеклась работой, что не вставала из-за стола по 16–18 часов подряд.
Когда у Софьи Васильевны появлялась свободная минутка, она шла к Вейерштрассу. Все так же безлюдно было на улице, все таким же угрюмым выглядел особняк профессора с прикрытыми веками-шторами окнами, но Ковалевская уверенно дергала ручку звонка. Она твердо знала, что ее здесь ждут с нетерпением, что ей будут искренне рады. Сидя на своем привычном месте за столом, Софья Васильевна украдкой рассматривала гостеприимных хозяев.
Еще больше морщин появилось на их лицах, у старшей из сестер слегка тряслась голова, неверными стали движения рук, согнулась высокая фигура профессора.
«Что делает время! — с грустью думала Ковалевская. — Прошло так мало, а можно подумать, что пронеслись годы…»
Внешне Софья Васильевна ничем не показывала своего волнения. Она рассказывала забавные истории, много говорила о дочке, в молчаливый особняк врывалась жизнь с ее радостями и тревогами.
Время пролетело незаметно. Наступил день отъезда.
— Скажите, друг мой, одобрили бы вы, если бы я уехала в университет в Гельсингфорс? — спросила Софья Васильевна у Вейерштрасса. — Профессор Миттаг-Леффлер считает, что мне смогут там предоставить место приват-доцента.
— А что будет делать там господин Ковалевский?
— Он пока останется в России.
— Если бы я был женат, то моя супруга всегда была бы со мной, — тихо сказал Вейерштрасс.
Больше Софья Васильевна ничего не спрашивала.
По возвращении в Москву множество житейских забот сразу нахлынули на Ковалевскую и оттеснили в сторону математику. Владимир Онуфриевич все еще не приехал, и им были недовольны и его компаньоны по нефтяному товариществу, и в университете. А тут Софью Васильевну стали одолевать кредиторы, требовавшие немедленно расплатиться с долгами.
Когда Владимир Онуфриевич наконец вернулся, Софья Васильевна встретила его неласково, и отношения между супругами сильно испортились. Ковалевские решили, что им надо временно расстаться. Этому, кстати, способствовала и сложная обстановка.
1 марта 1881 года был убит народовольцами Александр II. Начались массовые репрессии. В этих условиях любой подозреваемый в нигилизме мог со дня на день ждать ареста. Ковалевские срочно уехали из Москвы. Она с дочерью и гувернанткой направилась в Берлин, он — к брату в Одессу.
В последний день перед отъездом Владимир Онуфриевич оставил ключи от дома знакомым и попросил их отдать на склад мебель, а квартиру сдать. Те согласились оказать ему такую незначительную услугу. Но как они были удивлены, когда увидели, что в квартире ничего не было уложено, вещи валялись в беспорядке, а на столе в столовой стоял самовар и чашки с недопитым чаем. Впечатление было такое, что хозяева просто вышли из комнаты и сейчас вернутся и снова продолжат чаепитие. Друзьям Ковалевского пришлось потратить немало времени, пока все было приведено в порядок, прежде чем они смогли выполнить его просьбу. А Владимиру Онуфриевичу, поглощенному своими делами и мыслями, даже в голову не пришло, что его просьба может быть такой обременительной.
Сразу же после приезда Ковалевского в Одессу Софья Васильевна написала мужу, продолжая старый спор о способностях женщин к науке: «Ты пишешь совершенно справедливо, что ни одна еще женщина ничего не совершила, но ведь ввиду этого мне и необходимо, благо есть еще энергия, да и материальные средства с грехом пополам, поставить себя в такую обстановку, где бы я могла показать, могу ли я что-нибудь совершить, или умишка на то не хватает».
Именно в это время Софья Васильевна задумала работу, за которую не решались браться даже гениальнейшие математики. Это была задача об определении движения различных точек вращающегося твердого тела.
Каждый в детстве запускал волчок и, конечно, знает, что он обладает ценным свойством: во время вращения ось волчка, или, по-научному, гироскоп, всегда занимает определенное положение. Легкие удары по гироскопу не могут надолго нарушить направление оси: покачнувшись, она займет то же положение. Это свойство позволяет широко применять гироскоп в технике — он составляет основу компасов, стабилизирует движение самолетов, ракет и т. д.
А какой путь проходит каждая отдельная точка гироскопа при разных начальных положениях оси и различной скорости? Оказалось, что он представляет собой сложнейшую кривую и рассчитать этот путь, найти положение точки в заданный момент времени — задача необычайной трудности, и приходится ограничиваться решениями отдельных, частных случаев.
До Ковалевской только двое ученых брались за эту задачу. Петербургский академик Эйлер рассмотрел наиболее простой случай, когда центр тяжести твердого тела совпадает с точкой опоры. Известный математик Лагранж решил более сложную задачу — когда центр тяжести тела находится на оси симметрии, но не совпадает с точкой опоры. И это было все.
К этой задаче необходимо было подойти как-то иначе, оригинально. И Ковалевская нашла такой подход, позволивший ей дать анализ задачи, применяя мощный аппарат абелевых функций. Профессор Вейерштрасс был восхищен своеобразием ее решения и еще раз убедился в гениальности своей ученицы.
Софья Васильевна как одержимая увлеклась работой, и радость творчества отодвинула все на второй план. В это время друг Ковалевской, шведский ученый Миттаг-Леффлер, работавший в Гельсингфорсском университете в Финляндии, начал добиваться, чтобы ее пригласили в университет в качестве приват-доцента. Но из этого ничего не получилось. Помешала… национальность.
В принципе финны ничего не имели ни против женщин-ученых вообще, ни против Ковалевской в частности. Но… русская. Пока в Гельсингфорсе было спокойно, не то что в русских университетах, где происходили студенческие волнения. Но кто может гарантировать, что за «нигилисткой» Ковалевской не потянутся и другие русские женщины, а среди них не окажутся революционерки?
Потерпев неудачу в Гельсингфорсе, Миттаг-Леффлер продолжил свои попытки устроить Ковалевскую в Стокгольмском университете, куда он сам был вскоре приглашен. Правда, сначала, если ее примут на должность приват-доцента, жалованья ей платить не будут, а только через год, когда она покажет свои возможности. Софья Васильевна с радостью приняла предложение.
8 июля 1881 года она пишет из Берлина письмо Миттаг-Леффлеру:
«Приношу вам свою живейшую благодарность столько же за сочувственное отношение к моему назначению в Стокгольмский университет, сколько и за все хлопоты ваши по этому поводу. Что касается меня, то могу вас уверить, что я всегда с радостью соглашусь принять место доцента, если только оно будет мне предложено. Я никогда и не рассчитывала ни на какое другое место и, признаюсь вам в этом откровенно, буду чувствовать себя гораздо менее стесненной и смущенной в этой должности, чем в какой-либо другой. Мне хотелось бы получить возможность применять свои познания к преподаванию в высшем учебном заведении только для того, чтобы с помощью этого открыть женщинам доступ в университет, разрешавшийся им до сих пор лишь в виде исключения, как особая милость, которая может быть во всякое время отнята, что и случилось в большей части германских университетов. Хотя я и небогата, но у меня имеется достаточно средств, чтобы жить независимо; поэтому вопрос о жалованье не может оказать никакого влияния на мое решение. Я желаю, главным образом, одного — служить всеми силами дорогому для меня делу и в то же время доставить себе самой возможность работать в среде лиц, занимающихся тем же делом, что и я, — счастье, никогда не выпадавшее мне на долю в России и испытанное мною только во время моего пребывания в Берлине. Это, дорогой профессор, мои личные желания и чувства. Но я считаю себя обязанною сообщить вам и следующее: профессор Вейерштрасс, основываясь на существующем в Швеции положении дел, считает невозможным, чтобы Стокгольмский университет согласился принять в среду своих профессоров женщину, и, что еще важнее, он боится, чтобы вы не повредили сильно сами себе, настаивая на этом нововведении. Было бы слишком эгоистично с моей стороны не сообщить вам этих опасений нашего уважаемого учителя, и вы, конечно, поймете, что и я была бы приведена в страшное отчаяние, если бы вы из-за меня навлекли на себя какую-то неприятность, — вы, который всегда с таким интересом относились к моим занятиям и к которому я питаю такую искреннюю дружбу.
Я полагаю поэтому, что теперь, быть может, было бы неблагоразумно и несвоевременно хлопотать о моем назначении: лучше подождать до окончания начатых мною работ. Если мне удастся выполнить их так хорошо, как я надеюсь, то это может служить значительным подспорьем для достижения намеченной мной цели».
Ковалевский не одобрял намерений жены стать доцентом на кафедре и, приехав в Берлин, пытался переубедить ее переменить свои планы. Но это ему не удалось, и Владимир Онуфриевич уехал, не оставив семье почти никаких средств. Софья Васильевна, взяв дочку, поехала к сестре в Париж.
В Париже Софья Васильевна пережила много тревожных дней. Тяжело заболела девочка, и поставить ее на ноги, не имея достаточно денег и не зная хороших врачей, было непросто. Как только Фуфа выздоровела, Софья Васильевна немедленно отправила ее в Одессу к брату Ковалевского Александру Онуфриевичу, верному другу их семьи. Самой Ковалевской пришлось еще больше сократить свои расходы.
«Опять пришлось на старости лет приняться за студенческую жизнь со всеми ее печалями и радостями», — пишет Софья Васильевна Александру Онуфриевичу.
Несмотря на то, что Ковалевской материально было очень трудно, она работала необычайно много, не уступая своим французским коллегам. Исследования Софьи Васильевны были так интересны, что ее избрали членом Парижского математического общества, и радость признания заставила ее забыть даже о своем материальном неблагополучии.
Здесь же, в Париже, она в последний раз увиделась с мужем. Владимир Онуфриевич был послан в Америку от министерства финансов и в Париже находился проездом. Встреча продолжалась недолго и была тяжелой для супругов.
«Софу я видел на минуту, — писал Владимир Онуфриевич брату, — и мы расстались дружно, но и думаю — прочно, и я вполне понимаю это и на ее месте сделал бы то же самое, поэтому не пытаюсь отговорить ее переменить решение, хотя это мне и очень тяжело».
Софье Васильевне было не менее тяжело, чем мужу, но она понимала, что разрыв неизбежен. Трудно судить, кто был больше виноват в этом разрыве. Владимир Онуфриевич, который уберегал жену от житейских забот, не только не был с ней откровенен, как с другом, но скрывал истинное положение их финансовых дел? Или Софья Васильевна, которая не могла не видеть, как нервничает и мечется ее муж, и не постаралась серьезно разобраться, отчего это происходит?
А дела у Ковалевского были катастрофически плохими. Пайщики товарищества стали обвинять общество в злоупотреблениях и взятках. Владимиру Онуфриевичу, как и другим членам правления, грозило привлечение к уголовной ответственности. Удрученное состояние Ковалевского усугублялось еще и тем, что он вдруг почувствовал себя неспособным к научной деятельности.
«Я внутри себя не имею ни одной научной идеи и просто не знаю, как буду работать (над диссертацией), когда даже лекции не могу составить хорошенько», — в отчаянье писал Ковалевский брату в Одессу. Тяжелое душевное состояние, полное одиночество Владимира Онуфриевича, разочарование в своих способностях как ученого — все это привело его к трагическому решению — уйти из жизни.
Записку, что он лишает себя жизни вследствие стесненных обстоятельств, он адресовал своему товарищу — Языкову.
«Для охранения сколько-нибудь моей памяти прошу тебя, когда меня не будет, напечатать мое последнее заявление. Одну из главных причин моего конца составляет расстройство дел, особенно то, которое вытекло из моего участия в „Товариществе „Рагозин и К°““. Будучи в течение года и 10 месяцев членом Правления, я могу по совести сказать, что не сделал ни одного злоупотребления, а старался всячески ограждать интересы дела и пайщиков…»
А в своем последнем письме брату Ковалевский писал: «…всему виноват я сам: неустойчивость характера, которая не дала мне тотчас по возвращении из-за границы в 1875 году, несмотря на отсутствие места, все-таки неуклонно сидеть над научными занятиями, а побудила завести разные дела для материального обеспечения в будущем — вот главная причина, приведшая меня к такому концу.
Напиши Софе, что моя всегдашняя мысль была о ней и о том, как я много виноват перед нею и как я испортил ее жизнь, которая, не будь меня, была бы светлою и счастливою…»
15 апреля 1883 года Владимир Онуфриевич покончил с собою, надышавшись хлороформом.
Верный друг Юлия Лермонтова хотела взять тело Ковалевского из меблированных комнат, где он жил в последнее время, к себе. Ей было отказано, так как она «не имеет родственных прав».
«Я обратилась к некоторым знакомым профессорам, и я надеюсь, так как он принадлежал к ученой корпорации университета, то позаботится университет, чтобы ему был отдан последний долг в приличной форме», — писала Лермонтова.
Ковалевского похоронили за счет университета, ассигновавшего на его похороны скромную сумму. Все дела, связанные с похоронами, вела полиция…
Страшная весть о смерти мужа сразила Софью Васильевну. Она хотела уморить себя голодом, не ела пять суток и потеряла сознание от горя и истощения. На шестой день она попросила карандаш, бумагу и молча начала писать какие-то математические выкладки. Это был хороший признак — наука вновь пробуждала ее к жизни. После болезни и сильных душевных переживаний Софья Васильевна очень изменилась внешне — за несколько дней сразу состарилась на несколько лет, а между бровями появилась глубокая морщина.
Как горько она упрекала себя, что не проявила настойчивости, не заставила мужа ограничиться только университетскими делами и заниматься наукой. Впоследствии она всю жизнь корила себя за это.
Едва Ковалевская несколько оправилась от постигшего ее горя, она поехала в Берлин к профессору Вейерштрассу, который звал ее и предлагал жить у него «как третьей сестре».
Осенью 1883 года Софья Васильевна приехала в Одессу за дочерью. Здесь в это время проходил VII съезд русских естествоиспытателей и врачей. Как ни угнетена была Софья Васильевна, она нашла в себе силы выступить на съезде с докладом на тему своей последней работы «О преломлении света в кристаллах».
Перед отъездом в Стокгольмский университет Ковалевской надо было сделать еще одно важное дело — восстановить доброе имя Владимира Онуфриевича, которого продолжали обвинять в спекуляции вместе с Рагозиным. Сначала она поехала в Москву, где надо было прекратить судебное разбирательство по делу Ковалевского и устроить дочку у Юлии Лермонтовой.
Софья Васильевна разобрала бумаги мужа, нашла документы, бумаги и записки, из которых было ясно, что Владимир Онуфриевич ни в чем не виноват, и добилась полной его реабилитации.
Восстановив честное имя мужа и временно оставив Фуфу У Лермонтовой, Ковалевская уехала в Стокгольм.
Глава XI ДВА ПРИЗВАНИЯ
«Вот уже три недели, как я приехала в Стокгольм, но лекции мои начнутся только после Нового Года, так как здесь уже начались рождественские каникулы.
Все газеты уже прокричали о моем приезде: профессоры и та публика, с которой мне до сих пор приходилось встречаться, относятся ко мне крайне дружелюбно; многие, в особенности барыни, даже восторженно.
…Жизнь в Стокгольме очень патриархальная, но вовсе не дешевая. По-моему, здесь все гораздо дороже, чем в Петербурге. Квартира, стол и отопление обходятся мне 150 крон в месяц, около 85 рублей на наши деньги. Все туалетные вещи, которые иногда приходится покупать, стоят ужасно дорого…»
Нелегко приходилось Софье Васильевне в Стокгольме с ее весьма стесненными средствами, и она почувствовала себя вознагражденной за все неудобства только после первых прочитанных лекций.
Ковалевская читала специальный курс по уравнениям в частных производных, и эти лекции принесли ей славу. Теперь никто не мог сказать, что женщина не способна учить математике. После окончания семестра студенты специально сфотографировались всей группой и преподнесли эту карточку своему профессору. Софья Васильевна была очень тронута.
Успех Ковалевской был так велик, что несколько богатых людей решили вносить по 800 крон ежегодно, чтобы она могла получать жалованье в четыре тысячи.
Так продолжалось до 1 июля 1884 года, когда Ковалевская была окончательно утверждена в звании профессора Высшей школы на пять лет и, главное, с твердым окладом. У одних это вызвало восторженное одобрение, у других — злобные нападки. Не остались равнодушными даже люди, далекие от науки. Так, известный шведский писатель Август Стриндберг написал статью, в которой, как говорила Ковалевская, доказал так ясно, «как дважды два четыре, насколько такое чудовищное явление, как женский профессор математики, вредно, бесполезно и неудобно». И хотя она с присущим ей юмором добавляла: «Я лично нахожу, что он прав», ее глубоко задело утверждение Стриндберга, что ее пригласили лишь из любезности, как женщину, и что в Швеции есть немало лучших математиков мужчин.
За восемь лет Ковалевская прочитала в Стокгольмском университете двенадцать курсов по самым различным разделам высшей математики. И всегда она знакомила слушателей с новейшими исследованиями этого раздела. Для этого надо было очень много заниматься самой, читать специальную литературу, постоянно быть в курсе всех событий в ученом мире.
Вместе со своим другом профессором Миттаг-Леффлером Софья Васильевна редактировала основанный им журнал «Акта математика», привлекала к сотрудничеству в нем ученых Германии, Франции и России.
Кроме чтения своих лекций, Ковалевской приходилось заменять заболевших профессоров, а для этого надо было отлично знать предмет. Однажды Софья Васильевна написала шутливую записку Миттаг-Леффлеру, который сам был болен: «Математический факультет было бы правильнее назвать математическим лазаретом. Одна я гожусь на что-нибудь».
Ковалевская годилась на многое. Когда умер профессор механики, Миттаг-Леффлер предложил отдать его курс Софье Васильевне. Ученый совет долго не соглашался, но Миттаг-Леффлер настоял на своем. И Ковалевская отлично читала механику, шутливо называя себя «профессором в квадрате».
Но тем не менее она решительно возражала, когда Миттаг-Леффлер захотел выдвинуть ее в академики Стокгольмской академии наук. Не потому, что считала себя недостойной чести, а просто опасалась, что с получением звания академика число ее врагов, без того большое, еще увеличится.
Наряду с упорными занятиями, наряду с преподавательской и редакторской деятельностью Ковалевская в Стокгольме искала и находила интересных людей. Несмотря на свою застенчивость, она не могла жить без интересных собеседников, без споров на всевозможные темы. Ей это было необходимо как хлеб, как воздух.
А в Стокгольме такое общество образовалось вокруг сестры Миттаг-Леффлера Анны Шарлотты Эдгрен-Леффлер. Они стали большими друзьями — русская ученая и известная шведская писательница, хотя трудно было представить двух более несхожих людей.
Анна Шарлотта казалась олицетворением силы и спокойствия. Высокая блондинка, со спокойными голубыми глазами, она все делала не торопясь, больше слушала, чем говорила, а когда говорила, то не позволяла себе ни на йоту отклониться от темы. И рядом с ней маленькая, живая Ковалевская, готовая спорить по любому поводу, спорить горячо и так, что все умолкали, слушая ее. Недаром шведы называли ее «Микеланджело разговора». Анна Шарлотта и познакомила Ковалевскую со многими замечательными людьми.
Среди них был известный путешественник Адольф Эрик Норденшельд. Он первый из всех достиг Азии с севера, проплыв через Северо-восточный проход, и затем он пытался пересечь с запада на восток Гренландию. Норденшельду это не удалось, и теперь его мечту собирался осуществить Фритьоф Нансен, тогда еще совсем молодой путешественник. Этот его план вызвал бурное возражение у «здравомыслящих» людей, а Нансен невозмутимо готовился к экспедиции. Вот тогда-то с ним и познакомилась Ковалевская. Они сразу заинтересовались друг другом. Часто встречались, подолгу беседовали, спорили. Нансен был отличным собеседником. В нем чудесным образом уживались северная суровость и неожиданный юмор. Да и сам его облик викинга импонировал Софье Васильевне.
Нансен подарил ей брошюру, в которой писал о своих планах исследования Гренландии. И читая, Ковалевская поняла этого человека. Поняла, что ни для кого на свете «он не отказался бы от поездки к духам великих ледовых людей, которые, как рассказывают лапландские саги, покоятся на ледяных полях Гренландии».
Ковалевская дружила с сотрудником социал-демократической газеты Яльмаром Брантингом, с которым могла, не опасаясь, говорить о политике.
Ее привлекал этот неугомонный человек, который публиковал обличительные статьи и не раз сидел в тюрьме по закону «за оскорбление его величества», а также за антицерковные выступления.
Встречалась Софья Васильевна и с писателем Ибсеном, хотя и нечасто. Замкнутый, болезненно застенчивый, Ибсен очень трудно сходился с людьми и в обществе почти всегда молчал. Как многие легко ранимые люди, он за внешней суровостью прятал мягкую, по-детски чистую душу.
Когда-то Владимир Онуфриевич писал о своей жене:
«Вообще я не думаю, чтобы она была счастлива в жизни; в ее характере есть много такого, что не даст ей добиться счастья».
Ковалевский был прав — Софья Васильевна никогда не была счастлива именно из-за своего неровного, требовательного и страстного характера. И теперь в Швеции в окружении прекрасных любящих и уважающих ее людей Софья Васильевна чувствовала себя одинокой: все ее помыслы были в России. И там же оставалась ее дочь. Многие стокгольмские дамы осуждали Софью Васильевну за «равнодушие» к дочери. Ей намекали, что она плохая мать, но Ковалевская была непреклонна. Как ни хотелось ей самой увидеть девочку, как ни скучала она по ней, она исходила только из благополучия ребенка. Сама она жила в Стокгольме в скромном пансионе и не предполагала всерьез заниматься домом и хозяйством. А маленькой Соне пока лучше было в России с нежной и заботливой Юлией Лермонтовой, чем в Стокгольме с матерью, которую многочисленные обязанности отвлекали бы от забот о девочке по крайней мере еще год.
«Я согласна подчинить себя суду стокгольмских дам во всем, что касается разного рода мелочей. Но в серьезных вопросах, в особенности, когда дело идет не только обо мне, но и о благе моей девочки, было бы непростительной слабостью с моей стороны руководствоваться в своих действиях желанием прослыть хорошей матерью в глазах стокгольмских дам», — писала Ковалевская Миттаг-Леффлеру.
Он одобрил ее решение: действительно, в это время жизнь у Софьи Васильевны складывалась так, что она не могла бы уделять маленькой Фуфе должного внимания.
Весь мир знает Софью Ковалевскую как гениального математика. А между тем она до конца жизни сомневалась, является ли математика ее настоящим призванием. Две страсти боролись в ней, попеременно вытесняя одна другую. Вторая страсть была литература.
«Что до меня касается, то я всю мою жизнь не могла решить, к чему у меня больше склонности: к математике или литературе. Только что устанет голова над чисто абстрактными спекуляциями, тотчас начинает тянуть к наблюдениям над жизнью, к рассказам, и, наоборот, в другой раз вдруг все в жизни начинает казаться ничтожным и неинтересным, и только одни вечные непреложные научные законы привлекают к себе. Очень может быть, что в каждой из этих областей я сделала бы больше, если бы предалась ей исключительно. Но тем не менее я ни от одной из них не могу отказаться окончательно».
В 1884 году Ковалевская написала психологический очерк, посвященный памяти английской писательницы Джордж Элиот. По существу, это был рассказ о людях, об отношениях между ними. В этой работе Софья Васильевна высказала ряд глубоких мыслей, основывавшихся на собственном жизненном опыте и на наблюдениях над окружающими ее людьми.
Ковалевская писала стихи и серьезные и шуточные.
А в 1887 году вместе с Анной Шарлоттой Эдгрен-Леффлер она с увлечением начала писать пьесу.
В Швеции той эпохи шла ожесточенная борьба новых веяний со старым, отжившим религиозным укладом. И Анна Шарлотта была одной из провозвестниц нового. Героини ее произведений отказываются от личного счастья, поскольку не могут совместить его со своим призванием. Эти произведения вызвали большой шум в обществе, причем идеи их извращались и вульгаризировались.
Софье Васильевне пришла в голову идея двух параллельных романов, где перед героями стоит задача: по какому жизненному пути пойти. Один из романов должен был показать, к каким последствиям привел их выбор, а другой — как сложилась бы их жизнь, если бы они выбрали другой путь.
Этой идеей она поделилась с подругой и уговорила ее приступить к совместной работе. Анна Шарлотта согласилась, поставив только одно условие: это будут не романы, а пьеса, которая должна идти на сцене два вечера подряд.
Эту пьесу они назвали «Борьба за счастье», и работа так увлекла их, что они отложили все свои дела. Сохранилось письмо Анны Шарлотты, где она пишет:
«Мы совершенно одинаково безумствуем обе. Если бы нам удалась эта работа — мы примирились бы со всем, что у нас было неприятного в жизни. Соня забыла бы, что Швеция — самая возмутительная филистерская страна в мире… а я забыла бы все, о чем постоянно думаю. Есть, к счастью, царство лучше всех земных царств, ключи которого имеются у нас, — это царство фантазии».
Поскольку Софья Васильевна недостаточно владела шведским языком, то писала Анна Шарлотта. Но замысел, композиция пьесы, характеры действующих лиц — все это принадлежало Ковалевской. Да и главная героиня пьесы Алиса с ее мечтами о том, как улучшить жизнь простых людей, очень похожа на Ковалевскую. Софья Васильевна и не скрывала, что в Алисе она хотела изобразить себя, показать свои чувства, переживания, свое стремление к истинной, глубокой любви и боязнь одиночества. А герой, инженер Карл Торель, хороший специалист, но беспомощный в жизни человек, «списан» с математиков Эрмита и Кирхгофа. Захваченная этой работой, Ковалевская хотя и не переставала заниматься математикой, но не уделяла ей много внимания к большому огорчению ее ученых друзей, ибо в это время она то начинала, то бросала свою главную работу — задачу о вращении твердого тела.
Но в литературе ее постигло разочарование. Пьеса получилась совсем не такой, какой она представлялась в мечтах. Анна Шарлотта не могла до конца понять мятущуюся душу подруги, широту ее воззрений, резко отрицательное отношение к социальной несправедливости. Под ее пером пьеса превратилась в наивную утопию, где все положительные герои были «не от мира сего».
Но и в таком виде пьеса была встречена в Швеции бурей возмущения. Общество было шокировано тем, что представители аристократии и буржуазии показаны в ней бездушными людьми, утерявшими человеческие качества в погоне за выгодой.
Временно разочаровавшись в литературе, Софья Васильевна вновь стала заниматься задачей о вращении твердого тела. С Анной Шарлоттой они расстались. Писательница не могла больше продолжать совместную литературную деятельность, интеллект подруги подавлял ее, мешал самостоятельности. А Ковалевская не могла быть с друзьями на равных. Ее властный характер подчинял всех, кто не мог ему противостоять, а любую попытку вырваться из этого подчинения она воспринимала как измену дружбе. Она сама говорила Анне Шарлотте:
— Ты не можешь себе представить, до какой степени я подозрительна и недоверчива, когда дело касается отношения ко мне моих друзей! Я требую, чтобы мне постоянно это повторяли, если хотят, чтобы я верила любви ко мне. Стоит только один раз забыть, как мне сейчас же кажется, что обо мне и не думают.
Анна Шарлотта долго колебалась, прежде чем объявить подруге о своем желании работать одной. В конце концов она решилась на откровенный разговор. Они расстались друзьями, но Софья Васильевна чувствовала, что это уже не прежняя дружба. Она твердо решила отныне посвятить себя математике, не подозревая, что ее главные литературные произведения еще впереди.
Глава XII ПРИНЦЕССА НАУКИ
Едва наступили каникулы, Софья Васильевна поехала в Берлин к Вейерштрассу. Она сообщила своему старому учителю, что хочет заняться задачей вращения твердого тела. Подробно об этой задаче они не смогли поговорить: у Софьи Васильевны было много поручений от Миттаг-Леффлера, он просил Ковалевскую привлечь немецких ученых к работе в журнале «Акта математика». Вейерштрасс был счастлив, что снова видит Софью Васильевну, что она наконец-то стала профессором, и не заставлял ее до конца раскрывать свои планы.
В Германии назначение Ковалевской профессором произвело фурор. Министр просвещения даже пригласил «фрау профессор» и был чрезвычайно любезен.
«Здешний министр просвещения V. Glosser пожелал со мной познакомиться, и мне, единственной из женщин, будет разрешен доступ на все лекции во всех прусских университетах на случай, если я пожелаю посещать их. Все это очень забавно», — отмечала Софья Васильевна. В Германии это был первый случай, когда женщине разрешили посещать все лекции. Немецкие математики просили ее работы для журналов, а «математический бог» Кронекер целую неделю читал ей лекции по обобщению интеграла Коши. И вершина признания — ее пригласили на годичное заседание Берлинской академии. Газеты сообщили, что «в числе публики находилась госпожа Ковалевская, профессор математики в Стокгольме».
Вплотную за задачу о вращении твердого тела Ковалевская принялась зимой следующего года. Она писала одной из подруг:
«Новый математический труд живо интересует меня теперь, и я не хотела бы умереть, не открыв того, что ищу. Если мне удастся разрешить проблему, которой я занимаюсь, то имя мое будет занесено среди имен самых выдающихся математиков. По моему расчету, мне нужно еще пять лет для того, чтобы достигнуть хороших результатов».
Тогда Ковалевская еще не знала, как решит эту задачу, но уже установила, что все существующие методы ее решения не годятся. Нужны были новые средства. И эти средства она искала и постепенно находила.
Спокойная, относительно благополучная жизнь в Швеции уже начала тяготить ее. Сделавшись профессором, знаменитостью, Ковалевская стала желанной гостьей в обществе. Теперь она была обязана подчиняться его законам — наносить визиты и принимать их, бывать на вечерах, находиться среди людей, совершенно ей ненужных, а иногда и неприятных. Приходилось терпеть — от этих людей зависело очень многое.
Как только наступили летние каникулы, Софья Васильевна уехала в Париж. Только этот город — сверкающий, остроумный, олицетворение самой жизни — мог успокоить ее, помочь обрести покой.
Миттаг-Леффлер попросил ее встретиться с членом Парижской академии наук Бертраном и поговорить, чтобы Франция выделила некоторую сумму для издания «Акта математика».
— И, дорогая Соня, ведите себя так, чтобы в вас не заподозрили нигилистку, — шутя предупреждал ее Миттаг-Леффлер.
В Париже Ковалевскую ждала ее старый друг Мария Янковская, польская революционерка, которой Софья Васильевна незадолго до приезда писала:
«Мне грозит большая опасность, я превращусь скоро в учебник математики, который открывают только тогда, когда ищут известные формулы, но который перестает интересовать, когда попадает на полку среди других книг.
Я не знаю, удастся ли даже тебе, несмотря на твои большие созерцательные способности, узнать сущность, скрывающуюся между строками этого старого, скучного учебника».
Именно Мария казалась Софье Васильевне обладательницей тех качеств, которых, по мнению Ковалевской, не хватало ей самой. Красота и грация Янковской, ее умение одеваться, способность окружать себя преданными поклонниками — все это вызывало восхищение Софьи Васильевны. Она не замечала ума и мужества подруги, так как все это было присуще ей самой и не казалось чем-то необыкновенным и существенным для женщин.
Сразу же после приезда в Париж Софья Васильевна встретилась со знаменитыми французскими математиками Эрмитом, Пуанкаре и физиком Липпманом. Пуанкаре дал обед в ее честь. И очень быстро и легко был решен вопрос о материальной помощи журналу.
Французских математиков чрезвычайно интересовала задача о вращении твердого тела, которой — они уже это знали — занималась Ковалевская. Секретарь академии Жозеф Бертран сообщил ей, что эта проблема снова выбрана конкурсной темой на премию Бордена.
Французский нотариус Борден еще в 1835 году передал Институту Франции сумму, ежегодный доход с которой составлял 15 тысяч франков. Эта сумма должна была делиться между пятью академиями. В завещании Борден указал, что конкурсные работы должны быть направлены на общественные интересы, благо человечества и прогресс науки.
Парижская академия наук уже несколько раз объявляла конкурсной тему «Дальнейшее усовершенствование задачи о вращении в каком-либо существенном пункте». И ни разу премия никому не была присуждена, не находилось ученого, способного решить эту задачу. Теперь, узнав, что Ковалевская занялась этой темой, ее снова включили в конкурс. И хотя Софья Васильевна далеко не была уверена, сумеет ли она закончить работу, ей было приятно, что такие замечательные ученые верят в ее силы.
В Париже время летело незаметно. Французские математики старались познакомить Ковалевскую со всем для нее интересным. Ее повезли в Севр, где в Нормальной школе обучались девушки, собирающиеся в будущем преподавать математику. Софья Васильевна сидела среди экзаменационной комиссии, слушала ответы, и ее захватывало радостное чувство победы: ведь в том, что математикой стало заниматься столько женщин, есть частица и ее заслуг.
Это были чудесные дни. Ковалевская буквально купалась в лучах всеобщего внимания. Не было сил расстаться с Парижем, с этим неповторимым городом. Она даже опоздала в Норвегию на конгресс естествоиспытателей Скандинавских стран. Там она встретилась с Анной Шарлоттой и Миттаг-Леффлером, прибывшими на конгресс. Они сообщили радостное известие: конгресс избрал Ковалевскую председателем математической секции.
И каким контрастом, каким тупым пренебрежением встретила ее на следующий год Россия!
Софья Васильевна совершенно не собиралась ехать на родину, но пришло тревожное известие о здоровье Анны, и она, бросив дела, помчалась к сестре.
Многолетние скитания, неустроенность, переживания за судьбу мужа сделали свое дело: Анна серьезно заболела.
Ковалевская приехала в Петербург, когда сестре стало лучше, и при первой же возможности Софья Васильевна уехала в имение Лермонтовой к дочери. Фуфа совсем отвыкла от матери, дичилась ее. Было ясно, что больше так жить нельзя, и Софья Васильевна договорилась с Лермонтовой, что та осенью привезет Фуфу в Стокгольм.
Едва Ковалевская вернулась в Швецию, ей пришлось снова ехать в Петербург: Анне стало намного хуже.
На этот раз Миттаг-Леффлер попросил Софью Васильевну переговорить с высшими должностными лицами, чтобы и Россия оказала материальную помощь журналу. Софья Васильевна металась от одного должностного лица к другому, по ее просьбе Чебышев разговаривал с графом Д. А. Толстым — министром внутренних дел, шефом жандармов… и президентом Академии наук. Все было бесполезно, и Ковалевская окончательно убедилась, что в России бюрократизм настолько велик, что ни один вопрос, даже самый простой, невозможно решить.
Еще раз она пожалела, что занимается научными проблемами, а не борется против социальной несправедливости.
Такому настроению способствовала и усилившаяся болезнь Анны. Долгие часы проводила Софья Васильевна у постели умирающей сестры. Она послала Миттаг-Леффлеру письмо, в котором объясняла всю сложность положения и просила дать ей отпуск. Но неожиданно для себя получила отказ. Миттаг-Леффлер, несмотря на его дружбу с Ковалевской, не мог поступить иначе — ее враги, противники женского равноправия, не упустили бы такой возможности: ни один мужчина не просил бы отпуска, чтобы ухаживать за больным. Отказ потряс Софью Васильевну: на ее глазах болезнь упорно, по крупинкам отнимала жизнь любимой сестры, а она не только не могла ей помочь, но даже не могла быть с нею рядом.
Ковалевская вернулась в Стокгольм, но математикой занималась урывками: все ее мысли были в России, с Анной, положение которой все ухудшалось. В довершение всего Жаклара высылали во Францию за «крамольные» статьи. Ковалевская написала Анне Григорьевне Достоевской, вдове писателя, их давней доброй знакомой, и просила ее, чтобы она, воспользовавшись своими связями, добилась бы разрешения остаться Жаклару в России хотя бы до тех пор, пока Анюте станет лучше. Выхлопотали трехнедельную отсрочку. По истечении этого срока Жаклар увез жену в Париж. Когда Софья Васильевна смогла вырваться в Петербург, Жакларов уже там не было, и она вернулась в Швецию в полном отчаянии, чувствуя, что скоро останется совсем одинокой в этом мире: родителей уже давно не было в живых, а любимая сестра угасала с каждым днем.
Мрачные предчувствия не обманули Ковалевскую. Осенью в Париже умерла Анна. Человек, с которым у Софьи Васильевны были связаны самые заветные мечты, самые радостные минуты жизни.
— Никто больше не будет вспоминать обо мне как о маленькой Соне, — говорила Софья Васильевна Анне Шарлотте Леффлер, — для всех вас я Ковалевская, знаменитая ученая женщина. Ни для кого больше я не могу быть застенчивой, сдержанной, жмущейся ко всем маленькой Соней.
Софья Васильевна тяжело переживала утрату, хотя старалась скрыть свои чувства. Ей было невыносимо трудно. Мысль о том, что любимой сестры больше нет, не давала ей сосредоточиться на работе, обрести душевное спокойствие, взять в руки перо.
— Глубокое горе, которое я стараюсь всячески подавить и сдержать в себе, вечно прорывается наружу в виде мелочной раздражительности, — говорила Ковалевская. — Вообще, в жизни существует стремление разменивать все на мелочи и не допускать, чтобы в глубине души хранилось какое-либо великое нераздельное чувство…
Постепенно Софья Васильевна ограничила свою жизнь работой и подготовкой к приезду дочери. А готовиться пришлось серьезно. В первую очередь ей надо было как следует наладить свой весьма неприхотливый быт.
«В прошлом году я нанимала, как ты знаешь, квартирку в две комнатки с мебелью и кухаркой. Для меня это было и дешево и отлично, — писала Софья Васильевна Лермонтовой. — В нынешнем же году, ожидая вас, я взяла квартиру в шесть комнат, обзавелась собственной мебелью и держу двух людей — froken (барышню) и кухарку.
Вначале все у меня не клеилось, а я, не желая перед вами ударить в грязь лицом, просто с каким-то азартом принялась за устройство своего домашнего быта. И вот теперь все у меня приходит малу-помалу в необычайнейший порядок. Я отыскала дешевого и хорошего столяра, который за 15 рублей привел твою злополучную мебель в такое цветущее состояние, что теперь даже и враг не осмелится назвать ее старым хламом… Для моего рабочего кабинета, в котором я провожу целый день, я здесь заказала себе мебель и, по общему решению, выбрала ее очень своеобразно, но с удивительным вкусом. По случаю приобрела тоже ковер во всю комнату под цвет мебели. Кроме того, комната украшается большим письменным столом, полками книг и большой финиковою пальмою, подарком астронома Гюльдена. Во всех комнатах есть теперь шторы и занавески».
Маленькая Фуфа внесла большие перемены в жизнь матери. Софья Васильевна очень боялась, что девочка может почувствовать себя одинокой и забытой, и старалась проводить с ней как можно больше времени. Она часто по утрам заходила к дочери, когда та еще спала, и ласково будила ее. Фуфа капризничала и не хотела вставать. Не один раз, смотря на дочку, не торопящуюся покинуть теплую постель, Софья Васильевна уносилась мыслями в свое детство.
…Последний, седьмой, удар часов. Для Сони начинается новый трудовой день. Еще не затих бой, а хрупкая пелена сна уже разорвана. С замиранием сердца девочка ждет, когда войдет горничная. Со стуком отворяется дверь, и Дуняша начинает возиться у печки. Соня слышит, как потрескивают сухие поленья, как гудит пламя, разгораясь все больше и больше. Скоро наступит самый неприятный момент — Дуняша подойдет к кровати, сдернет одеяло, и холодный воздух, как терка, заскребет по коже.
Пора вставать.
Комната освещена дрожащим светом свечи, а за окном еще только начинает светлеть небо — первые лучи холодного зимнего солнца робко пробираются через замерзшие, в ледяных узорах стекла.
— Не медли, Соня. Если не будешь готова через четверть часа, ты выйдешь к завтраку с билетиком «лентяйка» на спине, — негромко, но веско говорит гувернантка Маргарита Францевна.
Эти слова производят магическое действие. В семье Корвин-Круковских телесные наказания были запрещены. Поэтому гувернантка заменила их «моральной казнью»: к спине девочки она прикалывала бумажку, на которой четко обозначалась ее провинность. В таком виде приходилось являться в столовую и выдерживать насмешливые взгляды присутствующих. Разумеется, тут кусок не шел в горло. Поэтому, едва услышав о билетике, Соня кубарем скатывается с кровати. Горничная уже ждет ее с кувшином холодной воды в одной руке и мохнатым полотенцем в другой. Это английский обычай, и как непохож он на старания доброй нянюшки сберечь господское дитя от малейшего дуновения свежего ветерка; она даже никогда не открывала в детской форточку, чтобы, не дай бог, дети не простудились. И умывала няня детей своеобразно: вытрет мокрым полотенцем лицо и руки, и на этом весь туалет кончается. Нет, у Маргариты Францевны все иначе. Кувшин наклоняется, и струя ледяной воды окатывает с головы до ног.
Утренний туалет закончен…
Отсутствие ласки и внимания в детстве сама Ковалевская ощущала очень остро, и поэтому Фуфа стала центром в их маленькой семье.
Свое послеобеденное время Софья Васильевна посвящала дочери: читала ей, разговаривала на разные темы, старалась узнать вкусы и наклонности девочки. Ковалевской было интересно, есть ли у Фуфы способности к математике, и она несколько раз, между делом, показывала дочери листки, исписанные формулами и расчетами. Фуфа не обратила на них никакого внимания, даже не спросила, что это такое.
«Ей неинтересно, — подумала Софья Васильевна. — Моя любимая комната ей была бы ни к чему». Свою любимую комнату детства Ковалевская помнила всегда.
В имении Корвин-Круковских в Палибине каждый член семьи имел свои владения и мог, не стесняя других, жить своей самостоятельной жизнью, встречаясь с остальными только за обедом да за чаем.
Но у каждого живущего в доме была «своя» любимая комната. Для Сони это была комната без обоев, однажды поразившая ее воображение.
Когда отец Сони вышел в отставку и переехал на житье в деревню, дом пришлось обновлять. Белили потолки, красили двери и оконные рамы. Обои приходилось выписывать из Петербурга, что было довольно сложно. Конечно, дом начали отделывать с парадных комнат, а когда дошли до детских, то оказалось, что на стены одной из комнат обоев не хватает. Специально выписывать обои не стали, ждали подходящего случая, а он, как это обыкновенно бывает, все не представлялся. И так осталась эта комната незаконченной, со стенами, оклеенными листами бумаги.
Листы эти, испещренные странными значками, буквами и формулами, видели все, кто проходил через комнату. Но только Соня обратила на них особое внимание. Чем-то поразили ее эти тарабарские письмена, задев какие-то струнки в душе. Целые часы проводила девочка перед таинственными стенами, пытаясь понять смысл значков, букв и формул. Она часто приходила в ту пустую комнату и долго пристально смотрела на стены. Изображения на них как магнитом притягивали девочку и завораживали.
На оклейку стены пошли лекций известного математика Остроградского о дифференциальном и интегральном исчислении.
Кто знает, не было ли это просто неосознанным предчувствием? Ведь влечения и наклонности души часто долгое время остаются скрытыми от человека. Как бы то ни было, когда ряд лет спустя, уже пятнадцатилетней девушкой, Соня брала первый урок дифференциального исчисления в Петербурге у известного преподавателя математики Александра Николаевича Страннолюбского, он удивился, как быстро она усвоила понятие о пределе и производной, «точно наперед их знала». Он именно так и выразился. И угадал, потому что во время объяснений Соня вдруг ясно увидела стены, комнаты без обоев со странными значками, теперь наполненными содержанием.
Но занятия с дочерью не могли целиком заполнить жизнь Ковалевской, ее творческая, энергичная натура не могла удовольствоваться такой патриархальной жизнью — всегда ее тянуло к бесстрашным людям, с риском для собственного благополучия идущим наперекор общественному мнению. Она нашла такого человека — известную шведскую учительницу Эллен Кей. Софья Васильевна много слышала об этой своеобразной и справедливой женщине. Встретившись с Кей, Ковалевская увидела, что их взгляды на жизнь во многом совпадают. «Мы с ней будем друзьями», — решила Софья Васильевна, и она не ошиблась. Эллен Кей тоже почувствовала к Ковалевской симпатию, и дружба их началась.
Как у Софьи Васильевны, жизнь у Эллен Кей не была спокойной и размеренной. В детстве строгие родители заставляли Эллен заниматься многими неинтересными и сложными для нее предметами, в результате чего она возненавидела такое принудительное обучение. Став взрослой девушкой, она заинтересовалась проблемой воспитания и образования. Волновали ее и социальные проблемы. Эллен Кей много путешествовала, хорошо знала искусство, но решила поступить учительницей в частную женскую школу (там училась и Соня, дочь Ковалевской) и преподавать по своей системе. Она стремилась, чтобы наклонности у детей развивались без давления извне. О своих принципах она написала в книге «Век ребенка», опубликованной во многих странах.
Кроме того, Эллен Кей преподавала историю шведской культуры в открытом на собранные частные средства институте рабочих, выступала с лекциями по вопросам искусства в рабочих союзах, в различных просветительских обществах, сама организовала просветительское общество, в которое вовлекла и Ковалевскую.
Софья Васильевна рассказывала ей о русских революционных деятелях, об их борьбе за социальную справедливость, о значении литературы для пропаганды либеральных идей. Особенно близко сошлась Ковалевская с Эллен Кей, когда ту стали преследовать власти как неблагонадежную.
В 80-х годах в Швеции восторжествовала реакция, многих свободомыслящих бросали в тюрьмы, люди стали бояться говорить откровенно даже со своими близкими, и тогда Эллен Кей подняла голос протеста. В публичном выступлении она разоблачала наступление реакции, призывала к сопротивлению. После этого ее стали травить газеты и многие знакомые перестали с ней общаться. Но Софья Васильевна осталась ее верным другом.
И все-таки дружба с Эллен Кей не могла возместить Ковалевской все, что она потеряла. Софья Васильевна искала выход из тесного стокгольмского мирка, и она не подозревала, что судьба скоро подарит ей еще одну, и на этот раз последнюю, радость.
Глава XIII МАКСИМ КОВАЛЕВСКИЙ
(Стокгольм, февраль, 1888)
«Многоуважаемый Максим Максимович!
Жаль, что у нас нет на русском языке слова völkommen, которое мне так хочется сказать вам. Я очень рада вашему приезду и надеюсь, что вы посетите меня немедленно. До 3-х часов я буду дома. Вечером у меня сегодня именно соберутся несколько человек знакомых, и надеюсь, что вы придете тоже.
Искренне вас уважающая
Софья Ковалевская».
Софья Васильевна старательно заклеила конверт и четко надписала адрес отеля и такую привычную фамилию адресата: г-ну Ковалевскому.
О Максиме Максимовиче Ковалевском она слышала давно, а знакомство их было недавним и мимолетным. Ей запомнилась его несколько грузная, массивная, высокая фигура, огромные живые голубые глаза, окаймленные черными ресницами, выразительное лицо с немного тяжеловатой нижней челюстью. Но больше всего запомнился его живой, остроумный разговор и необычайная эрудиция.
Софья Васильевна с нетерпением ждала своего соотечественника. Она предвкушала ту радость, которую она испытает, беседуя с ним на любимом русском языке. Вдали от родины она мечтала о русском друге. О человеке, с кем могла бы говорить о России, вспоминать необозримые просторы ее полей, белые березы, заснеженные леса, с кем снова могла бы ощутить сладость родного языка.
В Швеции Ковалевская страдала оттого, что ей не с кем было говорить по-русски. Как и всякий творчески одаренный человек, литератор, она стремилась к ясному, отточенному выражению своих мыслей, к передаче самых тонких ее оттенков. Она жаловалась друзьям: «Я всегда принуждена или довольствоваться первым пришедшим мне на ум словом, или говорить обиняками. И потому всякий раз, когда я возвращаюсь в Россию, мне кажется, что я вышла из тюрьмы, где держали взаперти мои лучшие мысли. О, вы не можете представить себе, какое это мучение быть принужденным всегда говорить с близкими на чужом языке! Это все равно, как если бы вас заставили ходить целый день с маской на лице!»
Ковалевского Софья Васильевна немного знала и раньше, и, как всякий «бунтарь», он вызывал у нее живейшую симпатию.
А бунтарем Максим Ковалевский был еще в гимназии. Самостоятельность его взглядов, а также поведение вызывали недовольство начальства.
Окончив харьковскую гимназию, он поступил в Харьковский университет на юридический факультет, где на втором курсе вошел в кружок либеральной молодежи, интересовавшейся общественными вопросами. Это и определило круг интересов Ковалевского на всю жизнь. Он стал изучать историю английского общественного строя в средние века и посвятил ей обе свои диссертации — магистерскую и докторскую.
Докторскую диссертацию он писал в Лондоне, и там произошло знаменательнейшее в его жизни знакомство. Максим Ковалевский был членом известного литературного клуба «Атенеум», что было большой честью для иностранца. В «Атенеуме» он встречался и разговаривал с Гербертом Спенсером и другими интересными людьми.
А потом он познакомился с Марксом и Энгельсом. Под влиянием Маркса он начал заниматься историей землевладения и экономического роста Европы. А Энгельс частично использовал исследования Ковалевского, о которых он писал в «Очерке происхождения и развития земли и собственности», в своем знаменитом труде «Происхождение семьи, частной собственности и государства».
Понятно, что, вернувшись в Россию и начав читать в Московском университете на юридическом факультете историю государственных учреждений, характеристику современных политических порядков на Западе, сравнительную историю семьи и собственности на Западе и в России, историю древнейшего уголовного права и процесса, Ковалевский далеко отходил от «официальных взглядов» и скоро сделался одним из самых популярных профессоров.
Многочисленные доносы «благонадежных» лиц о возмутительных лекциях профессора Ковалевского сделали свое черное дело. Сначала министерство народного просвещения исключило предмет, который читал Ковалевский, из обязательной программы. Но это не помогло. Студенты продолжали рваться слушать его лекции. Тогда агенты охранки стали записывать различные крамольные фразы из его лекций и доносить высшему начальству. Ковалевского уволили из университета, и он уехал за границу, поклявшись не возвращаться в Россию, пока там не будет введена конституция.
В средствах Ковалевский не нуждался. У него было имение на Украине, вилла около Ниццы на юге Франции. Блестяще образованный, свободно владея основными европейскими языками, зная латынь, испанский и шведский, Максим Максимович читал лекции в Англии, Франции, Италии и Америке.
И вот он приехал в Швецию и нанес визит своей знаменитой соотечественнице и однофамилице. Они встретились как старые добрые друзья.
— Рассказывайте, рассказывайте, что там за морем, в России, — просила Софья Васильевна. — Целую вечность я ничего не слыхала о своем отечестве.
Она с волнением и с замиранием сердца слушала Ковалевского, упиваясь его образной, блестящей русской речью. Обоим доставляло огромное наслаждение говорить по-русски с собеседником, отлично понимающим твою тоску по России и испытывающим те же чувства.
Очень быстро эта дружба захватила обоих настолько, что Миттаг-Леффлер даже забеспокоился: не отразится ли это на работе Софьи Васильевны над задачей о вращении твердого тела. Ведь сроки конкурса приближались.
Дружба с Ковалевским совершенно преобразила Софью Васильевну. Она снова начала улыбаться, сверкать остроумием, радоваться жизни, ходить на прогулки и в театр. На одном из концертов Софью Васильевну и ее друга увидела Эллен Кей и так описала свои впечатления:
«В течение нескольких лет я каждую неделю встречалась с нею, но Соню Ковалевскую, в сущности, видела только раз. Это было однажды вечером на концерте, когда исполнялась Девятая симфония Бетховена. Соня, против обыкновения, была в элегантном туалете — черное шелковое платье с кружевами. Рядом с ней сидел ее соотечественник, предмет ее любви. Вокруг них неслись божественные звуки бетховенской музыки. Светлое спокойствие отражалось на обычно нервных чертах Сони Ковалевской. Она как бы преобразилась — она любила, и музыка уносила ее в мир светлых мечтаний…»
Отдавая почти все свое время Ковалевскому, Софья Васильевна в то же время упорно работала над задачей о вращении. Увы, для работы оставались только ночи. Она побледнела, осунулась, а Ковалевский был недоволен, что ради него Софья Васильевна не способна оставить свою работу.
Неизвестно, чем бы это все кончилось, не вмешайся Миттаг-Леффлер. Крайне обеспокоенный тем, что Ковалевская затягивает работу, он поговорил с Максимом Максимовичем откровенно, «как мужчина с мужчиной», и попросил его временно переехать в Упсалу. И несмотря на то, что Ковалевскому этого не хотелось, он согласился и уехал.
Его отъезд был необходим для Софьи Васильевны.
«Если бы М. остался здесь, я не знаю, право, удалось бы мне окончить свою работу. Он такой большой, такой крепко сбитый, согласно удачному выражению К. в его речи, и занимает так ужасно много места не только на диване, но и в мыслях других, что мне было бы положительно невозможно в его присутствии думать ни о чем другом, кроме него», — писала Ковалевская своему другу Анне Шарлотте Леффлер.
Через неделю после его отъезда Софья Васильевна нашла решение задачи о вращении.
Решать математическую задачу можно разными способами. Но как нелегко отыскать правильный, единственно верный путь. Ковалевской это удалось. Она нашла, что ее случай задачи о вращении твердого тела может быть решен с помощью ультраэллиптических функций. Профессор Вейерштрасс, которому Софья Васильевна написала о своем открытии, не поверил ей и ответил, что она ошиблась.
Но Ковалевская не ошиблась. Задача действительно была решена. Однако Софья Васильевна так устала в то лето, что даже не смогла со всегдашней своей тщательностью отделать эту работу. Она писала Миттаг-Леффлеру, который был в это время в Италии:
«Самое худшее — это то, что я так устала, так изнемогла, что я сижу и размышляю в течение целых часов о какой-нибудь простой вещи, которую при других обстоятельствах легко могла бы решить в полчаса».
Постеснявшись отправить неотделанную статью в Парижскую академию, Софья Васильевна переслала ее математику Эрмиту и поинтересовалась, успеет ли она представить свою работу на конкурс. Эрмит любезно ей сообщил, что до октября комиссия не будет собираться, а за это время Ковалевская вполне успеет статью литературно обработать. Далее знаменитый математик написал чрезвычайно лестные слова: «Мне будет приятно подбирать колосья со сжатого вами поля. Я уже мечтаю об изучении частных случаев, в которых ваши гиперэллиптические интегралы приводятся к эллиптическим функциям, подобно тем примерам, которые дал Якоби и другие».
Ковалевская подписала конкурсную работу девизом: «Говори, что знаешь, делай, что должен, будь, что будет», а сама решила немного отдохнуть.
Она бесконечно устала от непрерывной работы, похудела и даже состарилась. Преданный друг Миттаг-Леффлер с тревогой убеждал ее заняться своим здоровьем.
— Так нельзя к себе относиться, Соня, — говорил он взволнованно. — Вы слишком много работаете и совершенно о себе не думаете. Отвлекитесь от занятий, поезжайте куда-нибудь. Уверяю вас, после перерыва работа пойдет намного быстрее и лучше.
Обычно молчаливая Сигне тоже высказывала свое беспокойство:
— Вы так похудели, дорогая. Посмотрите на себя в зеркало, у вас плохой, усталый вид. А стоит вам немного отдохнуть, развлечься, и снова заблестят ваши прекрасные глаза, и вы опять станете нашей прежней Соней.
Ковалевская понимала, что друзья искренне обеспокоены, но ее охватила такая апатия, что не было сил и настроения двинуться с места.
Ковалевский звал Софью Васильевну поехать с ним отдыхать на Кавказ через Константинополь, но она отказалась. Также отклонила она приглашение Болонского университета, который отмечал свое восьмисотлетие.
Далеко не все ученые были приглашены на эти торжества, только наиболее знаменитые, и получить такое приглашение было весьма лестно. Но Ковалевская не захотела принять его.
«Я вряд ли поеду в Болонью, потому что такого рода путешествие стоило бы слишком дорого: туалеты и т. д., а отчасти потому, что все эти торжественные собрания слишком скучны и совершенно не в моем вкусе».
Софья Васильевна жила очень скромно. Кроме того, ей хотелось отдохнуть в спокойной обстановке и заняться литературой.
«Мне ужасно хочется изложить этим летом на бумаге те многочисленные картины и фантазии, которые роятся у меня в голове…» — писала Софья Васильевна Анне Шарлотте. Но тогда эти планы не осуществились.
Ковалевский уехал в Лондон по своим делам, и Софья Васильевна все же поехала к нему. Стремясь полностью отдохнуть от математики, она с увлечением стала знакомиться с его работой о событиях первой английской революции XVII века. Но скоро копанье в архивных документах надоело ей. Математика снова властно позвала Ковалевскую к себе. Максим Максимович даже не пытался удерживать ее, хотя и был недоволен. Она уехала в Вернигероде на Гарце, где отдыхал Вейерштрасс. Там она и закончила литературную отделку своей работы о вращении твердого тела и попутно натолкнулась на новые интересные результаты.
Рассмотрев работы, присланные на конкурс, Парижская академия присудила премию Бордена Ковалевской и постановила вследствие большой важности полученных результатов увеличить премиальную сумму с трех до пяти тысяч франков.
12 декабря 1888 года в Париже Софье Васильевне в торжественной обстановке вручили премию. Когда она вошла в зал, приглашенные на торжество гости встретили ее овацией.
Президент академии астроном Жансен, огласив результаты конкурса, произнес в честь Ковалевской речь: «Господа, между венками, которые даем мы сегодня, один из прекраснейших и труднейших для достижения возлагается на чело женщины. Госпожа Ковалевская получила в этом году большую премию по математическим наукам.
Наши сочлены по отделению геометрии, рассмотрев ее мемуар, присланный на конкурс в числе пятнадцати работ других ученых, признали в труде этом не только свидетельство глубокого, широкого значения, но и признаки ума великой изобретательности».
Софья Васильевна слушала его вдохновенную речь и думала о том, что она никогда не будет удовлетворена своей жизнью. Казалось бы, она достигла вершины своих мечтаний, она доказала всему миру, что женщина ничуть не уступает мужчине даже в абстрактнейшей из наук. Она стала мировой знаменитостью. Возле нее был человек, с которым можно было связать свою жизнь. Чего еще не хватало?
Не хватало счастья. Слишком поздно все это пришло — и признание и любовь. Она слишком устала, чтобы радоваться своему торжеству. И на бесчисленных вечерах и приемах в ее честь она мечтала лишь об уединении.
Софью Васильевну не устраивала ее личная жизнь. Максим Максимович Ковалевский — этот интеллектуальнейший человек с передовыми взглядами — не мог преодолеть существующих общепринятых канонов. Именно тогда, когда она, не жалея себя, работала ночами, губила свое здоровье, он все больше и больше отдалялся от нее. И прямо заявлял, что жена-математик его устраивает гораздо меньше, чем жена, занятая светскими обязанностями.
Столкнулись два твердых, бескомпромиссных характера. Ковалевский хотел, чтобы Софья Васильевна отказалась от научной деятельности ради семьи. Она же не могла бросить все, что завоевала такой дорогой ценой.
Ковалевский уехал в Ниццу. Софья Васильевна осталась одна со своими сомнениями и раздумьями.
«Как я благодарна вам за вашу дружбу! Да, право, я начинаю думать, что это единственно хорошее, что было послано мне в жизни, и как мне совестно, что я до сих пор так мало сделала, чтобы доказать вам, как глубоко я ценю ее, — писала она Миттаг-Леффлеру. — Но не вините меня за это, дорогой Геста: я, право, совершенно не владею собой в настоящую минуту. Со всех сторон мне присылают поздравительные письма, а я, по странной иронии судьбы, еще никогда не чувствовала себя такой несчастной, как теперь. Несчастная, как собака! Впрочем, я думаю, что собаки, к своему счастью, не могут быть никогда так несчастны, как люди, и в особенности как женщины.
Но я надеюсь со временем сделаться благоразумнее. По крайней мере употреблю все усилия, чтобы приняться вновь за работу и заинтересоваться практическими вещами, и тогда я, конечно, отдамся всецело под ваше руководство и буду делать все, что вы захотите.
В настоящую минуту единственное, что я могу сделать, — это сохранить про себя свое горе, скрыть его в глубине своей души, стараться вести себя возможно осмотрительнее в обществе и не давать поводов для разговоров о себе… Сохраните мне вашу дружбу: я в ней сильно нуждаюсь, уверяю вас».
В таком настроении Ковалевская не могла возвращаться в Стокгольм с его мертвящим однообразием. Она стремилась в Россию, но там для нее не было места. Оставался один Париж — кипящий, энергичный, неунывающий Париж.
Глава XIV «ВОЗВРАТИТЕ КОВАЛЕВСКУЮ РОССИИ…»
Блистательный Париж не порадовал Софью Васильевну: старания найти где-либо место преподавателя не увенчались успехом. Ее друзья, математики Бертран и Эрмит, тоже не могли ей помочь. Мотивы отказа были вполне убедительны: Ковалевская не француженка. Чтобы остаться во Франции, Софья Васильевна решила получить и здесь докторскую степень, но тогда пришлось бы потерять профессорскую кафедру в Стокгольме, а рассчитывать на что-либо большее, чем преподавание в женской школе, не приходилось. Это желание было настолько нелепым, что Вейерштрасс срочно прислал Ковалевской письмо, предостерегающее от подобного шага.
«Я узнал от Миттаг-Леффлера, что ты в настоящее время наметила себе другой план, а именно, ты хочешь еще раз защитить докторскую диссертацию в Париже с тем, чтобы таким образом открыть себе доступ на французский факультет… Но я уверен, что если ты представишь свою работу для защиты, то найдется какой-нибудь забытый параграф, согласно которому женщины не допускаются к защите».
Софья Васильевна послушалась своего старого друга, но возвращаться в Стокгольм для нее было слишком тягостно, и она попросила отпуск на весь весенний семестр, чтобы отдохнуть и полечиться.
Отпуск ей разрешили, но Миттаг-Леффлер очень беспокоился, что, пока Ковалевская будет отсутствовать, ее смогут не утвердить в должности профессора университета. По существующим правилам профессором утверждали только на пять лет, следующий срок утверждался только по конкурсу. Но Софья Васильевна не думала о тех интригах, которые могли возникнуть вокруг ее профессорства. Она бесконечно устала и мечтала только об отдыхе.
«Я в течение последних лет так много работала, что внезапно почувствовала себя совершенно обессиленной и была вынуждена просить у Стокгольмского университета отпуск, он очень охотно был мне предоставлен. Первое, на что я его использовала, была поездка на юг, именно в Ниццу, чтобы отдохнуть там несколько недель», — писала она одному знакомому математику.
В Ниццу ее пригласил Максим Ковалевский, и она согласилась приехать. Софья Васильевна приехала в Ниццу незадолго до масленицы, которую отмечали здесь традиционным карнавалом. И отбросив все заботы, она радовалась вовсю. Давно уже не было ей так хорошо. Разъезжала в экипаже вместе с Максимом Максимовичем и его друзьями, веселилась, а в последний день масленицы она вместе с тысячами других людей с увлечением плясала на улицах. Видели бы «госпожу профессора» в этот момент ее знакомые из чинного стокгольмского общества! Софья Васильевна, смеясь, объясняла друзьям, что совершать все эти «безумства» ее заставляет дух предка-цыгана, наконец-то победившего немецкую благовоспитанность, унаследованную ею со стороны матери.
Карнавал кончился, потекли спокойные, светлые дни. И как всегда, когда Ковалевская не занималась математикой, ее неодолимо потянуло к литературе, тем более что для этого была важная у Софьи Васильевны причина.
Недалеко от виллы Максима Максимовича, в Болье, в отеле обосновалась колония русских, там же жила и Ковалевская.
Однажды на вилле у Максима Максимовича собралась многочисленная русская компания, и Софья Васильевна начала рассказывать о своем детстве. Она так ярко показала жизнь «дворянского гнезда», что все присутствующие были поражены ее образным языком и мышлением.
— Вам надо непременно написать и издать свои воспоминания, — убеждал ее Ковалевский. Все присутствующие дружно его поддержали. Эти просьбы окрылили Софью Васильевну, и она немедленно принялась за работу.
Книгу она назвала «Воспоминания детства». В 1890 году «Воспоминания» были напечатаны в русском журнале, однако некоторые места были изъяты цензурой. В частности, цензура не пропустила описание суда над Достоевским.
У «Воспоминаний детства» оказалась счастливая жизнь. Книга была переведена на многие языки и вызвала большой интерес. Софья Васильевна хотела продолжить свои воспоминания, но, к сожалению, она не успела этого сделать.
В Ницце Софья Васильевна пробыла недолго. Максиму Ковалевскому неожиданно пришлось поехать в Россию: важные дела требовали его присутствия там. Ковалевская тоже уехала из Ниццы в Севр, близ Парижа, где поселилась в семье старого товарища Владимира Онуфриевича врача-психиатра Павла Якоби.
В это время во Франции большим успехом пользовались методы лечения психических заболеваний гипнозом, которые проводили член медицинской академии Люис и знаменитый врач Шарко. Разумеется, такой любознательный ученый, как Ковалевская, не могла удержаться от того, чтобы не составить представления об этих опытах. И она упросила мужа своей покойной сестры Виктора Жаклара помочь ей попасть на сеансы врачей. Жаклар исполнил ее просьбу.
Понаблюдав за работой врачей, Софья Васильевна составила себе твердое мнение, что науки тут нет. И она написала два критических очерка, которые были опубликованы в «Русских ведомостях» под псевдонимом Софья Нирон.
После этих работ Ковалевская публикует большой очерк о Салтыкове-Щедрине. 28 апреля 1889 года умер М. Е. Салтыков-Щедрин. Умолк писатель-борец, голос которого не смогли заставить замолчать даже черные годы реакции. И Софье Васильевне страстно захотелось рассказать всему миру, кого потеряло человечество.
Несколько позже она опубликовала в Швеции очерк о творчестве великого русского сатирика. В России опубликовать его не было никакой возможности: царская цензура ни за что не пропустила бы. Очерк Ковалевской на русском языке появился только после Октябрьской революции.
«Еще одно блистательное имя вычеркнуто из списка имен той плеяды великих писателей, которые родились в России в первую четверть нашего века и которые стали известны и любимы за границей почти столь же, как и в своей стране».
А закончила она очерк так: «Его имя останется в истории не только как имя самого великого памфлетиста, которого когда-либо знала Россия, но и как имя великого гражданина, не дававшего ни пощады, ни отдыха угнетателям мысли… Кто живет для своего времени, тот живет для всех времен».
Сказать, что математика в тот период была позабыта, было бы неверно. Софья Васильевна приехала в Париж, чтобы заняться здесь исследованиями в области механики, но жизнь изменила планы Ковалевской. В Париже в столетнюю годовщину взятия Бастилии собрался Международный рабочий конгресс, и Софья Васильевна была приглашена на него как борец за женское равноправие.
Открыл конгресс выдающийся социалист Поль Лафарг, а от имени русских социал-демократов выступил Г. В. Плеханов. В своей речи он заявил: «Революционное движение в России может восторжествовать только как революционное движение рабочих. Другого выхода у нас нет и быть не может».
Ковалевская слушала страстные выступления и, размышляла, как непохоже было все, что говорилось на конгрессе о роли пролетариата в предстоящей борьбе, на то, что изображали когда-то две писательницы в своей наивной драме «Борьба за счастье». И все-таки Софья Васильевна была рада, что сумела предугадать ведущую роль рабочего класса. И была счастлива тем, что принимает непосредственное участие в событиях, которые в будущем изменят лицо мира. Ковалевская писала очень много. Писала, спасаясь от грустных мыслей, которые снова охватили ее. Приближалась осень, и надо было возвращаться в опостылевший Стокгольм. В единственное место на всем земном шаре, где женщина-математик могла применить свою специальность.
Стокгольм встретил ее привычной монотонной жизнью. Ковалевская начала работать над своим дополнительным исследованием о движении твердого тела. Ей было бесконечно трудно заниматься, но она собрала всю силу воли и завершила работу.
Еще будучи в Париже, Софья Васильевна случайно встретилась со своим двоюродным братом, саратовским губернатором А. И. Косичем, с которым не виделась много лет. И горько жаловалась ему, что не может отдать России свой талант, свои знания, приобретенные с таким трудом, что она, русская, знаменитый ученый, вынуждена прославлять чужую страну, тогда как все помыслы ее, все мечты принести славу и пользу России. Как же можно отнимать у нее священное право работать для родины! А. И. Косич, вхожий в самые верха общества, послал письмо президенту Петербургской академии наук, великому князю Константину, с просьбой «возвратить С. В. Ковалевскую России и русской науке». «Всякое государство должно дорожить возвращением выдающихся людей более, нежели завоеванием богатого города», — писал он, имея в виду выборы Софьи Васильевны в члены Академии наук.
Косичу ответил непременный секретарь Академии наук К. С. Веселовский, ответил так, что не оставил никаких иллюзий:
«Софья Васильевна Ковалевская, приобретшая за границей громкую известность своими научными работами, пользуется не меньшей известностью и между нашими математиками. Блестящие успехи нашей соотечественницы за границей тем более лестны для нас, что они всецело должны быть приписаны ее высоким достоинствам, так как там национальные чувства не могли служить для усиления энтузиазма в пользу ее.
Особенно лестно для нас то, что г-жа Ковалевская получила место профессора математики в Стокгольмском университете. Предоставление университетской кафедры женщине могло состояться только при особо высоком и совершенно исключительном мнении об ее способностях и знаниях, а г-жа Ковалевская вполне оправдала такое мнение своими поистине замечательными лекциями.
Так как доступ на кафедры в наших университетах совсем закрыт для женщин, каковы бы ни были их способности и познания, то для г-жи Ковалевской в нашем отечестве нет места столь же почетного и хорошо оплачиваемого, как то, которое она занимает в Стокгольме. Место преподавателя математики на Высших женских курсах гораздо ниже университетской кафедры; в других же наших учебных заведениях, где женщины могут быть учителями, преподавание математики ограничивается одними элементарными частями».
Несмотря на все заслуги Ковалевской, ее, всемирно известную принцессу науки, не желали признавать в России!
Русские ученые, возмущенные такой несправедливостью по отношению к знаменитой соотечественнице, сами решили отметить ее научные заслуги, баллотируя ее в члены-корреспонденты. В академии существовало почетное звание члена-корреспондента, которое давалось иногородним и иностранным ученым. Воспользовавшись этой возможностью, ученые выдвинули кандидатуру Ковалевской.
В физико-математическое отделение Академии наук за подписями академиков-математиков П. Л. Чебышева, В. Г. Имшенецкого и В. Я. Буняковского поступило официальное заявление:
«Нижеподписавшиеся имеют честь предложить к избранию членом-корреспондентом Академии, в раздел Математических наук, доктора математики, профессора Стокгольмского университета Софью Васильевну Ковалевскую».
Но существовало еще одно препятствие: по уставу академии женщина не могла быть членом-корреспондентом. Необходимо было изменить устав академии. 16 ноября 1889 года в академии был поставлен вопрос «о допущении лиц женского пола к избранию в члены-корреспонденты». Двадцатью голосами против шести вопрос был решен положительно, и через три дня на физико-математическом отделении Ковалевская была избрана членом-корреспондентом четырнадцатью голосами против трех.
Это была неслыханная победа. Как объяснял секретарь академии Веселовский, «еще не было примера избрания в члены-корреспонденты лиц женского пола», а одно такое избрание «установило бы пример, на основании которого могли бы быть предлагаемы такие лица и по другим разрядам наук».
К чести русских ученых, они не испугались «вышестоящего гнева», и 2 декабря 1889 года общее собрание Академии наук утвердило избрание С. В. Ковалевской. Таким образом, путь женщинам в Российскую академию наук был открыт.
Сбылась заветная мечта Софьи Васильевны — в бюрократической стене, преграждающей русским женщинам дорогу в науку и учебу, была пробита первая брешь.
«Наша Академия наук только что избрала вас членом-корреспондентом, допустив этим нововведение, которому не было до сих пор прецедента. Я очень счастлив видеть исполненным одно из моих самых пламенных и справедливых желаний. Чебышев».
«Вы можете себе представить, как я была обрадована этой телеграммой, — писала Софья Васильевна Косичу, — итак, ваши хлопоты не прошли даром и повели к результату. Большое и сердечное вам за них спасибо. Конечно, член-корреспондент не более как почетный титул и не дает мне возможности вернуться в Россию, но я все же очень рада, что они решились сделать меня и этим, так как теперь, если откроется вакансия на место действительного академика, у них уже не будет предлога не выбрать меня только на том основании, что я женщина».
Телеграмму Чебышева Ковалевская получила одной из первых. Прислал ей поздравления и Вейерштрасс, особенно подчеркивая то, что первая академическая почесть была ей оказана именно на родине, в России.
Однако, несмотря на успех, на душе у Софьи Васильевны было тяжело, чувство неудовлетворенности не покидало ее, и одной из главных причин этого была сложность ее отношений с Максимом Ковалевским.
Отношения их были мучительными для обоих, принося им больше горя, чем радости.
И в эти трудные дни Софья Васильевна находила отдушину в литературном творчестве.
Она задумала написать повесть под названием «Нигилист», прообразом героя был Н. Г. Чернышевский. Об этом замысле Ковалевская так писала Марии Янковской:
«…Теперь я заканчиваю еще одну новеллу, которая, надеюсь, заинтересует тебя. Путеводной нитью является история Чернышевского, но я изменила фамилии для большей свободы в подробностях, а также и потому, что мне хотелось написать ее так, чтобы и филистеры читали ее с волнением и интересом. Я окончу ее через несколько дней, и если ты пожелаешь перевести ее на французский язык, то я пришлю тебе рукопись».
В этой повести Чернышевский был выведен под именем Михаила Гавриловича Чернова. Софья Васильевна наделила его лучшими чертами человека и революционера.
Долгое время рукопись считалась утерянной. Однако впоследствии часть ее, 32 страницы, была найдена в архиве Академии наук СССР. Но и этих страниц достаточно, чтобы понять, что Ковалевская до конца жизни сохранила верность революционным идеям.
Содержание последней главы «Нигилиста» мы знаем от Эллен Кей, записавшей рассказ Ковалевской. После выхода романа «Что делать?» молодежь чествует Чернышевского. После этого он возвращается домой в свою маленькую мансарду. Он смотрит в окно на редкие огни петербургских окон и думает, что этот город, город насилия, бедности, несправедливости и угнетения, может стать другим и это сделает он с помощью молодежи. И в этот знаменательный момент его жизни в мансарду врываются жандармы и арестовывают Чернышевского.
Софья Васильевна не закончила повести о Чернышевском, ее увлек новый замысел — написать роман о женщине-нигилистке.
Среди ее знакомых была Вера Гончарова, племянница А. С. Пушкина. Она увлекалась народничеством, как и многие юноши и девушки ее времени, ходила по деревням, пропагандировала, раскрывала глаза простому народу на его бесправие, призывала к борьбе. Царское правительство жестоко расправилось с народниками. Больше двух тысяч были арестованы и брошены в тюрьмы. Среди них были друзья и родственники Софьи Васильевны, в том числе ее двоюродная сестра Наташа Армфельд. В свое время Ковалевская немало сделала для судьбы арестованных и их семей. Она собирала для них деньги по подписке, хлопотала у адвокатов. Многие девушки вступали тогда в брак с осужденными революционерами, даже им незнакомыми, чтобы хоть немного облегчить их участь. Софья Васильевна после долгих хлопот помогла Вере Гончаровой добиться разрешения на брак с революционером Павловским.
Ковалевская считала своим долгом сохранить для потомства память об этих людях, чтобы подвиг их не был забыт. Сначала она собиралась написать большой роман «Vae victis» («Горе побежденным»). Она написала введение к роману и опубликовала его в стокгольмском журнале «Норден». Но затем стала писать о Вере Гончаровой повесть «Нигилистка». В России эта повесть долго запрещалась цензурой, хотя было сделано немало попыток ее опубликовать.
Цензор так изложил содержание романа:
«Роман этот испещрен многочисленными местами, в которых рисуется в ужасающих красках участь политических преступников и жестокость в отношении их нашего правительства, а главное — высказываются симпатии нигилистическому движению 60-х и 70-х годов».
Резолюция Комитета была лаконична и безапелляционна: «Запретить и не выдавать».
Повесть вышла в Швеции под названием «Вера Воронцова», а потом, через несколько лет цензор разрешил издать в России роман «Нигилистка», но только на чешском языке.
В 1906 году роман издали в Москве, а на его обложке была сделана пометка: «Литературный гонорар пожертвован наследницей автора в пользу амнистированных политических заключенных».
Примерно в одно время с романом «Нигилистка» Ковалевская написала для русского журнала «Северный вестник» очерк о шведских крестьянских университетах.
Для русского человека это было что-то необыкновенное — крестьянский университет. А в Швеции эти университеты получили большое распространение. Они выросли из высших крестьянских школ, которые основывались сначала из чисто религиозных побуждений. Основатели их говорили, что необразованный человек не может быть хорошим христианином, что он должен сознательно верить в бога.
Впоследствии в программу преподавания были введены естественные науки, в том числе математика и физика, и школы постепенно превратились в университеты. Занимались в них зимой, когда у крестьян было много свободного времени.
Софья Васильевна посетила один из таких университетов. И, глядя на аккуратных деятельных учеников, она с болью в душе думала о миллионах безграмотных, униженных, забитых российских крестьян, живущих в покосившихся избах, под одной крышей с домашней скотиной. Здесь, в Швеции, крестьяне имели двухэтажные пятикомнатные дома и держались с достоинством. Да и университеты в деревнях содержались не на частные средства, а на государственные.
«Лежа в эту ночь в постели, я долго не могла заснуть: все вертелись у меня в голове мысли о далекой родине. Думалось мне: придется ли мне когда-нибудь в жизни в какой-нибудь заброшенной, глухой русской деревушке рассказывать кучке русских молодых крестьян о Швеции, как я рассказывала сегодня шведам о России».
Софья Васильевна с увлечением занималась литературной деятельностью, но уйти от собственных невеселых мыслей, заглушить тоску по родине она не могла.
Тоска мешала Ковалевской жить, мешала работать, не давала полностью отдаваться творчеству. Она не скрывала своих чувств, и ее друзья, прекрасно понимая, как страдает Софья Васильевна, старались хоть как-нибудь скрасить ее жизнь.
Французский математик Шарль Эрмит даже написал в Петербург П. Л. Чебышеву:
«Пользуясь вашей добротой, я выражаю пожелание, чтобы мы смогли вызвать к себе в С.-Петербургскую Академию наук г-жу Ковалевскую, талант которой вызывает восхищение всех математиков и которая в стокгольмском изгнании хранит в сердце сожаление и любовь к своей Родине — России. Я узнал от нее о том участии, которое вы приняли в ее избрании членом-корреспондентом Академии, в то же самое время она сообщила мне о своем тяжелом душевном состоянии в связи с ее пребыванием за границей, и я решаюсь просить вас, по мере возможности, оказать ей нужную поддержку».
Но все старания друзей и доброжелателей Ковалевской были напрасны — ничего не менялось в ее судьбе.
Софья Васильевна почувствовала, что она утратила всякую надежду вернуться на родину — без любимой работы жизнь ее в России теряла всякий смысл. Ее личная жизнь тоже не сулила ей радости: трещина в отношениях с Максимом Ковалевским постепенно превращалась в пропасть.
Глава XV ОДИНОЧЕСТВО
Как-то Софья Васильевна в письме Анне Шарлотте Леффлер вставила горькую пророческую фразу:
«И я и он — мы никогда не поймем друг друга. Я возвращаюсь в Стокгольм к своим занятиям. Только в одной работе можно найти радость и утешение».
А несколько позже, при личной встрече с подругой, подвела печальный итог своих отношений с Ковалевским:
«Я решила никогда больше не выходить замуж, я не желаю поступать так, как поступает большинство женщин, которые при первой возможности выйти замуж забрасывают все прежние занятия и забывают о том, что раньше считали своим призванием. Я ни за что не оставлю своего места в Стокгольме, пока не получу другого — лучшего или не приобрету такого положения в литературном мире, которое давало бы мне возможность жить писательским трудом. Но летом я отправлюсь с Ковалевским в путешествие, так как это самый приятный друг и товарищ, которого я знаю».
Возможно, если бы Ковалевские могли быть все время вместе, их отношения сложились бы по-иному. Но жизнь не позволяла этого, им удавалось встречаться только урывками. Даже в одном городе они не могли быть вместе подолгу. Софья Васильевна была привязана к Стокгольму, а для Максима Максимовича в этом городе было мало интересного. Его научная деятельность протекала в основном во Франции, и отказываться от нее ради женщины, даже такой, как Софья Васильевна, он не собирался.
Для Софьи Васильевны брак с Ковалевским был неприемлем. Выйди она замуж, ей нельзя было бы оставаться в Стокгольме.
Ковалевская с ее трезвым умом понимала причины ее размолвок с Максимом Максимовичем, но как женщина она глубоко страдала от частых разлук и как-то с горечью сказала:
— Певица или актриса, осыпаемые венками, могут легко найти доступ к сердцу мужчины благодаря своим триумфам. То же самое может сделать и прекрасная женщина, красота которой возбуждает восторги в гостиной. Но женщина, преданная науке, трудящаяся до красноты глаз и морщин на лбу над сочинением на премию, — как может она быть привлекательной для мужчины?
Анна Шарлотта Леффлер, с которой Софья Васильевна делилась своими переживаниями, не один раз говорила Ковалевской, что ее основная ошибка заключается в том, что она слишком много отдает любимому человеку и требует от него того же, желает невозможного.
— Мужчины никогда не прощают женщине, если она умнее и сильнее его, — убеждала Леффлер подругу. — Они считают себя совершенными, даже самые умные из них, и любят тех женщин, которые уверяют их в этом, а не тех, кто разрушает их иллюзии…
Софья Васильевна с ее острым аналитическим умом не могла не согласиться с Анной Шарлоттой, но в то же время ей так хотелось знать, что рядом с ней есть надежный сильный человек, для которого она одна-единственная… Человек, который любит ее и понимает, насколько она устала от тяжелой борьбы с окружающим миром и как она нуждается в доброте и внимании. Максим Ковалевский, занятый своими делами и заботами, не мог понять, как, по сути дела, была трогательно беззащитна Софья Васильевна. Он в первую очередь видел в ней незаурядный талант, мужской ум и независимость, которая его раздражала. Он хотел иметь рядом с собой преданную жену, а не самостоятельную требовательную личность со своим особым миром, где он не мог занимать главного места.
Ковалевская все это прекрасно знала, но чисто по-женски не переставала надеяться, что, может быть, все еще наладится и образуется…
Эту надежду укрепил такой, казалось бы, незначительный случай, происшедший с ней в Париже, куда она с Анной Шарлоттой уехала на рождественские каникулы. На званом обеде у писателя Юнаса Ли, где собрались такие выдающиеся люди, как Эдвард Григ, писатели Иоганн Рунеберг, Ида Эриксон, Ковалевскую чествовали как профессора, замечательного математика. Вдруг хозяин дома сказал неожиданный тост, который удивил присутствующих и растрогал Софью Васильевну.
— Я бесконечно жалею маленькую Таню Раевскую, такую счастливую в глазах людей и такую одинокую и несчастную на самом деле. У нее есть все: слава, успех — и нет обыкновенного друга, который ее понимал и любил.
— Благодарю вас от всей души, — сдерживая волнение, произнесла Ковалевская.
«Значит, можно меня любить и жалеть, только прочитав мою повесть, значит, моя Таня получилась живой, и читателю ясно, что она — это я… — размышляла Софья Васильевна. — Значит, и Максим Максимович может меня полюбить, ведь он знает меня лучше всех. Да, Таня только мое несовершенное подобие…»
Таня одна из основных героинь автобиографической повести «Сестры Раевские». В этой повести Ковалевская изменила имена своих родных и свое. Таня — это Соня, но все остальные действующие лица остались подлинными.
Впервые повесть вышла в Стокгольме, и написана она была на шведском языке.
Много писем приходило на имя Ковалевской. «Письма от нескольких совершенно незнакомых мне русских женщин, которые все выражают мне свое сочувствие по поводу моих воспоминаний и все настоятельно требуют их продолжения. Эти письма меня очень порадовали и действительно убедили меня приняться за продолжение: хочу описать еще по крайней мере годы учения. Всякую свободную от математики минутку я посвящаю теперь этому делу, и если „Вестник Европы“ пожелает поместить у себя и продолжение моих мемуаров, то я, вероятно, смогу доставить их к январю».
Не только читатели высоко оценили «Воспоминания детства», в «Северном вестнике» была помещена хвалебная статья об этом произведении.
«Яркие, выпуклые свойства „Воспоминаний детства“ г-жи Ковалевской — сила воображения, творческий размах, всесторонний анализ. Г-жа Ковалевская истинное литературное дарование. По силе беллетристического таланта наша знаменитая соотечественница, без сомнения, должна занять одно из самых видных мест среди русских писательниц».
Однако такая лестная оценка творчества и личности Ковалевской не помешала судьбе нанести Софье Васильевне еще один жестокий удар, особенно жестокий потому, что нанесен он был в России.
Первая в мире женщина-профессор, лауреат Парижской академии, член-корреспондент русской академии, наконец, известный литератор, приехала на родину в надежде, что наконец-то ее заслуги будут признаны. Умер математик Буняковский, и Софья Васильевна мечтала, чтобы ее избрали на освободившееся место в члены академии. Больше чем когда бы то ни было она была достойна этой должности, которая дала бы ей возможность заняться наукой на родине.
Президент академии великий князь Константин был чрезвычайно любезен с Ковалевской и даже пригласил ее на завтрак. Он подчеркивал свое уважение к ней и отмечал, что Ковалевской хорошо бы приехать в Россию, но он не разрешил ей даже присутствовать на заседании академии, хотя как член-корреспондент она имела на это право…
В Петербурге Софья Васильевна встретила восторженный прием. Городской голова чествовал ее на заседании городской думы как первую женщину — члена-корреспондента Российской академии наук.
В ответной речи Софья Васильевна, поблагодарив за поздравления, напомнила, что общий уровень народного просвещения в России, особенно среди женщин, чрезвычайно низок, и призывала всемерно развивать деятельность обществ грамотности среди народа. Эти общества получили тогда большое распространение.
В то же время Ковалевская побывала на экзаменах слушательниц Высших женских курсов. Курсистки преподнесли ей фотографию здания курсов с надписью: «На добрую память многоуважаемой Софье Васильевне Ковалевской от слушательниц Высших женских курсов, искренне признательных ей за ее посещение. С.-Петербург, 15(27) мая 1890 г.».
И все-таки, несмотря на славу, несмотря на признание ее заслуг, места в России для Ковалевской не было. Отчаянье сжимало сердце Софьи Васильевны, когда она покидала Петербург. По дороге в Стокгольм она, как обычно, навестила Вейерштрасса, и, хотя ничего не говорила ему, чтобы не огорчать старого друга, он понял, что жизнь нанесла ей еще один непоправимый удар.
В Стокгольм Софья Васильевна вернулась в очень подавленном состоянии. Она не могла даже напускать на себя искусственную веселость, что обычно ей хорошо удавалось. Да она и не считала нужным скрывать свою грусть от друзей и знакомых. В конце концов можно же хоть немного побыть самой собой в этом опутанном фальшивыми условностями обществе, условностями, словно тугими веревками, связывающими даже лучших людей, которые их не могут или не решаются разорвать.
Особенно ее выводил из душевного равновесия тот повышенный интерес, который проявляло общество к ее отношениям с Максимом Ковалевским. Всех почему-то очень интересовало, поженятся они или нет, а если поженятся, то сможет ли Софья Васильевна продолжать свою научную деятельность. И сможет ли она, занимаясь наукой, быть настоящей матерью и женой.
Жизнь в Стокгольме становилась для Ковалевской все невыносимее. Она с нетерпением ждала летних каникул, чтобы куда-нибудь уехать. Максим Максимович пригласил ее приехать в Амстердам, чтобы потом вместе путешествовать. Ковалевская приняла это приглашение.
«Планы наши теперь следующие, — писала она Ю. Лермонтовой. — Сегодня же мы отправляемся на пароходе вверх по Рейну до Майнса. Только, вероятно, где-нибудь на пути остановимся. Дня через два-три будем в Гейдельберге, где проживем дольше или более короткое время, смотря по тому, как он нам понравится…
Если все обстоит благополучно, пиши в Швейцарию, Тарасп, m-me Ков. Мы во всяком случае должны там быть уже в начале заграничного июля.
…Очень было бы желательно по возможности избежать сплетен. До сих пор, слава богу, никаких русских по пути не попадалось, я буду стараться по возможности сохранить свое incognito».
Софья Васильевна полностью отдалась радости путешествия. С наслаждением любовалась великолепной природой, стараясь не думать ни о чем, что могло хоть немного омрачить отдых. Красота местечка Тарасп не могла не захватить ее впечатлительную натуру.
«Здесь очень красиво, — писала она дочери, — кругом все горы, которые наверху покрыты снегом, внизу кажутся совсем розовыми оттого, что так густо усеяны маленькими розовыми цветочками. Большая часть цветов здесь такие же, как у нас на лугах, только значительно больше и красивее».
Но все великолепие природы все же не могло наладить отношений с Максимом Максимовичем, и Ковалевская в мрачном настроении вернулась в Стокгольм.
Напрасно Миттаг-Леффлер предлагал Софье Васильевне снять квартиру в новом районе, поближе к его семье, чтобы почаще видеться. И хотя одиночество пугало Ковалевскую, она так и не собралась последовать этому приглашению: слишком плохое было у нее душевное состояние.
В таком угнетенном настроении она на рождественские каникулы поехала в Ниццу к Максиму Максимовичу, который усиленно ее приглашал. Против ожидания, отдых оказался чудесным, и ей не хотелось возвращаться в Стокгольм. Жизнь словно позаботилась о том, чтобы подарить ей немного радости напоследок. Софья Васильевна даже послала Миттаг-Леффлеру просьбу продлить ей отпуск, но он категорически отказал: не хватало профессоров, и Ковалевской придется вести два предмета.
Новый, 1891 год Софья Васильевна захотела встретить очень оригинально — в Генуе на старинном кладбище Санто-Кампо. Ковалевский не мог отказать ей в этом капризе, и они отправились в «город мертвых».
В это позднее время на кладбище было пустынно и тихо. На темном фоне неба белели мраморные надгробия, и казалось, что они шевелятся и ведут понятный только им бесшумный разговор.
Ковалевский несколько раз пытался увести Софью Васильевну, но все его уговоры были напрасны. Бледная, с мрачным взглядом, она молча переходила от одного памятника к другому и как будто что-то искала. Вдруг она остановилась у черной мраморной плиты с коленопреклоненной женской фигурой.
— Один из нас не переживет этот год, — с грустью сказала Софья Васильевна, и никакие доводы Максима Максимовича не могли ее разубедить.
В Стокгольм Ковалевская возвращалась через Париж и Берлин. В обеих столицах она встречалась с математиками и, конечно, со своим старым учителем и другом Вейерштрассом. Она снова стала прежней Ковалевской — веселой, остроумной, брызжущей энергией. Друзья радовались, глядя на нее и слушая об ее далеко идущих научных планах.
Затем она поехала в датский город Фредерисию, откуда уходил поезд на Швецию. Над городом прокатилась буря, хлестал дождь, резкий, холодный ветер валил с ног, и Софья Васильевна сильно простудилась. Усталая, промокшая и продрогшая, она села в поезд и поехала в Стокгольм, прибыв туда совершенно больной. Но вместо того, чтобы лечь в постель и вызвать врача, она весь следующий день готовилась к лекции, которую и прочитала на другое утро. Ковалевская решила усилием воли преодолеть болезнь. Поэтому после лекции она не поехала домой, а отправилась ужинать к своим друзьям Гюльденам.
Миттаг-Леффлер, бывший на этом ужине, вспоминает, что Софья Васильевна была очень оживлена, весела, полна оптимизма и с увлечением рассказывала о своих необычайно интересных планах на будущее, научных и литературных.
Она задумала написать три повести: «На выставке» — о творческом труде, направляющем жизнь человека, «Амур на ярмарке» — о женщинах, избравших разные жизненные пути, и «Путовская барыня» — о просвещенной матери-воспитательнице, хозяйке одного из ушедших в прошлое «дворянских гнезд».
И вдруг Софья Васильевна торопливо распрощалась и почти выбежала из квартиры. Гюльдены решили, что на нее напал один из обычных приступов ностальгии, и тактично не пошли провожать ее. А между тем Софье Васильевне стало плохо: дала о себе знать коварная болезнь. Ковалевская в полном смятении села по ошибке не на тот омнибус и уехала на другой конец города. Когда она приехала домой, болезнь окончательно сразила ее, и первый раз в жизни Софья Васильевна испугалась. Испугалась потому, что почувствовала: заболела очень серьезно. Она даже отправила служанку к Миттаг-Леффлеру с запиской:
«Стокгольм, 7 февраля 1891 г.
Дорогой Геста!
Сегодня мне очень плохо. Я была уже простужена, но пошла все же на вечер к Гюльденам, однако у меня сделался такой приступ озноба, что мне пришлось почти тотчас же вернуться домой. Позднее вечером у меня началась сильная рвота, и всю ночь был сильный жар. Сейчас у меня сильные боли в спине слева, и вообще мне так плохо, что я хотела бы позвать врача. Будьте так добры, напишите несколько строчек вашему врачу, чтобы он посетил меня сегодня, и пошлите с посыльным. Я не знаю никакого врача».
Врач пришел очень быстро.
Трудно установить, почему врач два раза ошибся. Возможно, болезнь протекала нетипично, возможно, врач был не очень опытный. Сначала он поставил диагноз: почечные колики, и назначил соответствующее лечение. Но оно не помогало, а драгоценное время было упущено. Софье Васильевне было трудно дышать, ее бил кашель, трясла лихорадка. У нее оказался гнойный плеврит.
Две ее близкие подруги — Эллен Кей и Тереза Гюльден — дежурили у постели больной день и ночь поочередно. Ковалевская, обычно неутомимая, своевластная, настойчивая, поражала их теперь своей кротостью и послушанием.
Они не знали, что всю жизнь Софью Васильевну преследовала навязчивая мысль умереть в одиночестве, в чужой комнате, без родных и близких. Она словно предчувствовала свою судьбу.
И еще один раз ошибся врач. Во вторник он объявил, что опасность миновала и можно оставить Ковалевскую на попечение сиделки. Этот день совпал с детским балом, куда должна была пойти Фуфа. Девочка не хотела уходить от больной матери, но Софье Васильевне стало легче, и она настояла, чтобы дочь пошла, и перед ее уходом полюбовалась ее маскарадным цыганским костюмом.
И вот все ушли из дома. А поздно ночью портье прибежал к Гюльденам с сообщением, что профессор Ковалевская умирает…
За несколько дней до смерти матери Фуфа начала писать письмо Юлии Лермонтовой и описывала в нем каждый день болезни.
«Доктор говорит, что большой опасности нет, но что она, верно, долго пролежит. Если ее что-нибудь взволнует, ей будет хуже… Никакой пароход не идет до среды в Россию, нынче воскресенье, так что я буду в это время и в этом же письме тебе писать.
Понедельник. Маме немножечко лучше, она ночью потела, и нынче у нее не такой сильный жар.
Вторник. Милая мама Юля! Вчера вечером мама приняла морфина, и мне нельзя было входить. Фру Гюльден у мамы была до 7 часов, когда она уходила, мама сказала, что ей лучше, и была такая спокойная. Ночью ей сделалось гораздо хуже. Послали за фру Гюльден, она пришла и меня разбудила. Немножко погодя мама стала хуже хрипеть и вдруг не стала дышать. Я совсем не заметила, как это случилось.
Я теперь у Гюльденов, мне очень, очень хочется, чтобы ты поскорее приехала. Мне так грустно… Фуфа».
Софье Васильевне так и не удалось перед смертью увидеть никого из близких. Когда они прибежали, она была в агонии и скончалась от паралича сердца, так и не придя в сознание. Произошло это 10 февраля 1891 года, когда ей был всего лишь 41 год.
Эта ранняя, такая жестокая и такая неожиданная смерть «принцессы науки» Софьи Васильевны Ковалевской потрясла многих…
ЭПИЛОГ
Гостиная в квартире Ковалевской, обтянутая траурным крепом, была вся завалена венками. Венки были от учреждений, академий, университетов, Высших женских курсов, скандинавских женских организаций и от отдельных лиц — друзей и учеников. Вейерштрасс прислал лавровый венок с белыми камелиями и надписью на белой ленте: «Соне от Вейерштрасса». Были венки и от людей, кто никогда в жизни не видел Софью Васильевну. Среди венков скромно притулилась ветка сирени с надписью: «Тане Раевской — почитательница из провинции».
Но больше, чем венков, было телеграмм. Пришла телеграмма и от Петербургской академии наук, и от учительниц из Харькова, и телеграммы из Тифлиса, Москвы и из многих других городов России.
Огромная траурная процессия протянулась через весь город. Весь Стокгольм провожал русскую ученую, нашедшую приют в Швеции и прославившую ее. Из рук в руки переходили обведенные траурной рамкой листы бумаги со стихотворением «На смерть С. В. Ковалевской», которое сочинил брат Миттаг-Леффлера — Франц Леффлер.
Душа из пламени и дум, Пристал ли твой корабль воздушный В стране, куда парил твой ум, Призыву истины послушный? В тот звездный мир так часто ты На крыльях мысли улетала, Куда уйдя в свои мечты, О мирозданье размышляла…Заканчивалось стихотворение такими строками:
Прощай! Тебя мы свято чтим, Твой прах в могиле оставляя! Пусть шведская земля над ним Лежит легко, не подавляя… Прощай! Со славою твоей Ты, навсегда расставшись с нами, Жить будешь в памяти людей С другими славными умами, Покуда чудный звездный свет С небес на землю будет литься И в сонме блещущих планет Кольцо Сатурна не затмится.От имени университета, от имени математиков всего мира, от имени друзей и учеников Миттаг-Леффлер в прощальной речи поблагодарил Ковалевскую «за глубину и ясность, с которой она направила умственную жизнь юношества… за сокровища дружбы, которыми она оделяла всех близких ее сердцу».
Затем выступил Максим Максимович Ковалевский. Не скрывая слез, передал он прощальный привет от скорбящих соотечественников.
— Софья Васильевна! — раздавался его голос в напряженной тишине над Новым кладбищем. — Благодаря вашим знаниям, вашему таланту и вашему характеру вы всегда были и будете славой нашей родины. Недаром оплакивает вас вся ученая и литературная Россия. Со всех концов обширной империи, из Гельсингфорса и Тифлиса, из Харькова и Саратова, присылают венки на вашу могилу.
Вам не суждено было работать в родной стране, и Швеция приняла вас. Честь этой стране, другу науки! Особенно честь молодому Стокгольмскому университету! Но, работая по необходимости вдали от родины, вы сохранили свою национальность, вы остались верной и преданной союзницей юной России, России мирной, справедливой и свободной, той России, которой принадлежит будущее. От имени ее прощаюсь с вами в последний раз!
Могила Ковалевской была как холм из цветов. Их привозили повозками и ссыпали одну на другую. Траурная церемония давно закончилась, но люди не расходились. В скорбном молчании они стояли у могилы «удивительной женщины, принесшей большую честь своему полу, чем кто-либо другой…».
Через пять лет на холме Линдтаген, где похоронена Софья Васильевна Ковалевская, был воздвигнут памятник, средства на который собрали русские женщины.
Памятник этот стоит на скате холма. Его основа — поднявшаяся волна, сделанная из обломков слоистого гранита. На гребне волны — черный мраморный крест. У его подножия на доске из черного мрамора надпись вязью: «Профессору математики С. В. Ковалевской, род. 3.1.1850 — 29.1.1891. Ее русские друзья и почитатели». С холма открывается пейзаж, напоминающий русский: две пересекающиеся дороги, вдали перелесок с липами и трогательными молодыми березками, еще дальше горизонт пересекает темная линия бора.
У подножия памятника стоят два огромных венка из искусственных цветов, множество венков и живых цветов. Их всегда так много, что не видно земли. Могила Ковалевской всегда украшена цветами.
В то время, как передовая интеллигенция почтила память замечательной соотечественницы траурными собраниями и газетными выступлениями, в то время, как выдающиеся ученые дали высокую оценку ее научной деятельности, ее таланту, ее блестящим открытиям, высокопоставленные лица хранили молчание. Будто и не было никогда знаменитой женщины-математика. А через год, когда Анна Шарлотта Леффлер выпустила книгу воспоминаний о Ковалевской и встал вопрос об издании ее на русском языке, министр внутренних дел Дурново пренебрежительно заметил: «Слишком много занимались женщиной, которая в конечном счете была нигилисткой».
Книга Анны Шарлотты Леффлер была первой в серии воспоминаний о Ковалевской. И хотя о Ковалевской писали многие по-разному, все отдавали должное многогранности ее натуры, широте взглядов, чуткому сердцу, а главное, ее значению в жизни общества не только как математика, но и как первой женщины-ученого, опровергшей предрассудки, показавшей дорогу женщинам к свободе и знаниям.
Талант Софьи Васильевны Ковалевской сверкал даже на фоне других талантов, которыми был так богат девятнадцатый век. Царское правительство, смертельно боявшееся «вольнодумства», не дало ей возможности жить и работать на родине. Недаром Швеция по праву считает себя второй родиной великого математика.
В 1950 году отмечалось столетие со дня рождения великой русской ученой, торжества были устроены в Советском Союзе и Швеции. У нас этой дате было посвящено специальное заседание Академии наук СССР, а в Стокгольме состоялся митинг с возложением венков на могилу Ковалевской.
Великая дочь великого русского народа Софья Васильевна Ковалевская прожила трудную и яркую жизнь и своей хотя и трагической судьбой открыла женщинам путь к свету, путь к свободе.


![Криминальные рассказы [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/589996/primary-medium.jpg)



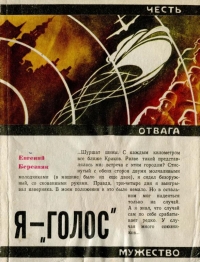



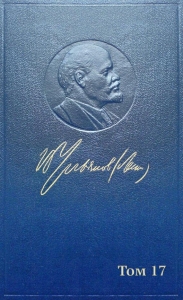
Комментарии к книге «Принцесса науки», Николай Сергеевич Матвеев
Всего 0 комментариев