Дьяконова Елизавета Александровна
Дневник русской женщины
Елизавета Дьяконова
Дневник
Фотография женщины: Мария Башкирцева. Дневник.
Елизавета Дьяконова. Дневник.
СПб: Кирцидели, 2005.
OCR Ловецкая Т.Ю.
Содержание
Дневник одной из многих
На Высших Женских Курсах
Дневник русской женщины
Приложения к дневнику Е. Дьяконовой
I Последние полгода
О женском вопросе
Толстой умирает
Из писем
II О смерти Елизаветы Дьяконовой
Фрагменты вступительной статьи А. Дьяконова к изданию 1912 года
Хронология
Часть 1
Дневник одной из многих
1886 год
Мой маленький дневник
Нерехта, 31 мая.
О, Боже мой! Что за день был сегодня! Этот день для меня важный, потому что я получила хороший аттестат — плод моих трудов за два года. Мне всего только одиннадцать лет, я поступила во второй класс Нерехтской Мариинской женской прогимназии. Итак, сегодня, в субботу, должна была решиться судьба 16 человек! Немногие из этого числа остались, всего пять-шесть, остальные вышли. После раздачи наград и аттестатов наступило время расстаться. Я живо помню, как мы собрались в умывальной, и все заплакали. Только учителя и начальница смотрели на это расставанье равнодушно, а некоторые из публики насмехались над нами. Я была подругой Мани, и, прощаясь, мы так разрыдались, что, кажется, только каменный человек равнодушно смотрел бы на эту картину. Не такие мы девочки, чтобы не плакать о подругах, как думают учителя! <…> Милые подруги, все мы друг друга любим, но может быть никогда не увидимся!
Мама {Александра Егоровна Дьяконова.} говорит, что меня отдадут учиться в Сиротский дом в Ярославль. Там живёт моя бабушка, мне будет хорошо.
15 августа.
Долго, очень долго я не говорила с тобой, мой миленький дневник. Целых 2 + месяца. Такое время для меня очень долгое, а между тем я не могла писать, потому что боялась, чтобы не увидала мама или гувернантка. Если они увидят, то будет плохо. Ведь я пишу скверно, будут смеяться. Но надо писать. Сегодня моё рождение, с этих пор я буду писать аккуратно каждый день или каждую неделю. Мамочка завтра повезёт меня в гимназию, я уже всё уложила и готова в дорогу. Может быть, я вернусь домой, не знаю. Если не вернусь, — прощай, милая Нерехта, сестры и мама, дом, сад и река Солоница!
N. В. Как бы не забыть сделать себе для дневника новую тетрадь и очинить карандаш …
12 лет!!!
Ярославль, 18 августа.
Милый дневник, меня приняли в 4-й класс! Мама рада, а я не знаю — радоваться ли мне или нет. Сегодня утром меня привезли сюда, в гимназию. Как скучно без мамы и без бабушки! Сестры, братья далеко. Я не испугалась множества девочек; напротив, мне стало легче, но всётаки без мамы жить трудно и скучно.
21 сентября.
Познакомилась с одной воспитанницей 6-го класса, Маней Л. У неё есть большой секрет, который знала только Маня Б., а сегодня и я узнала, что она любит Маню Д. Милая Маруся, измучили мы её совсем. На меня сейчас рассердилась, и я убежала сюда писать.
22 октября.
Опять, опять я долго не писала, милый дневник! Самое название дневник происходит от слова ежедневно, а я разве каждый день пишу? Много бы, очень, очень много надо написать сюда, но некогда. Все эти дни были полны сомнений, тревоги за себя и за других и радости, которой, впрочем, было немного… Зачем подруги скрывают от меня всё, всё? С тобой, мой милый дневник, с одним тобой могу я говорить! И знаю, что хоть от этого мне легче. Ты — тайна для всех, даже и для мамы…
1887 год
Нерехта, 4 января.
Новый год. Мы его не встречали, мама за последнее время то довольна, то нет… Скоро мы уезжаем жить из Нерехты в Ярославль… Папа очень болен… Боже, что я там буду делать? Ещё зиму прожить в городе ничего, кроме того, в учебном заведении, но потом, что там делать летом? Я так привыкла к чистому свежему воздуху, а в Ярославле?! В эти святки вместо того, чтобы веселиться, наблюдаешь вокруг себя недовольных сестёр, братьев, укладку вещей и прислугу, вечно занятую. Теперь всё чаще и чаще приходится видеть, как пустеют комнаты…
…Сейчас ударили три раза в колокол, о. Петр, наш духовник, умер. Вчера ещё кого-то хоронили. Господи, что же это? Зачем, зачем все эти покойники, пожар, выезд из родины? Больше всего боюсь: вдруг умрёт папа, доктора говорят, что он дольше недели не проживёт. Мне его очень жаль, мне страшно, сама не знаю, чего… Не знаю, что теперь делать? Эта укладка вещей, внезапный переезд — всё мне кажется смутным сном. Сознаю я одно: не увижу я больше Нерехты, последний раз теперь дома…
10 января.
Сейчас отсоборовали папу. Не могу передать того чувства, которое овладело мною, когда я вошла в его комнату. Мне хотелось плакать, но я не могла, что-то сдавило мне горло. Забывшись, я держала свечу почти над головой, и бабушка меня много раз поправляла. Как не совестно Наде, она стояла в другой комнате, пока соборовали папу, и всё время плакала. Что это за нервы некстати. Уж лучше бы молилась.
Боже мой, зачем ты меня не взял к себе, ведь я такой человек, которого “убыль его никому не больна, память о нём никому не нужна”, — невольно пришли на мысль стихи Никитина или Некрасова, не знаю {“Из стихотворения И. Никитина “Вырыта заступом яма глубокая…”}.
12 января.
Теперь, когда я уезжаю, может быть, надолго, из Нерехты, я должна дать себе отчёт в том, как я провела Рождество. Нельзя сказать, что весело, а нельзя сказать, что и скучно. Весело быть не могло потому, что мы собирались уезжать и болен папа. Скучно же не могло быть потому, что я была рада увидаться с сестрами и братьями. Кажется, все были рады моему приезду, и день-два всё шло хорошо; но, Боже, что стало потом! Драки, ссоры, слёзы, всё это пришло в действие. Я часто ссорюсь с Валей. Ох, уж эта Валя! Мне кажется, что она похожа на крючок: уколоть кого-нибудь язвительным словом, заметить что-нибудь, потом насмехаться — вот милые привычки моей младшей сестрицы. Что касается до моей другой сестры, Нади, то сплетни, пересказы разных городских кумушек, составляют её любимую сферу. Теперь, когда я заметила все дурные стороны моих сестёр, надобно сказать и о своих. Я страшно вспыльчива, нетерпелива, упряма, и с этими тремя прекрасными качествами мне приходится жить среди таких сестёр, которых характеры решительно не походят на мой: они обе не вспыльчивы, обе терпеливы, но… обе упрямы, даже, может быть, больше меня. Ну, теперь можно ли сказать, что я прожила здесь весёлой? Ни в каком случае. Все дни, исключая счастливых часов, которые я была с мамой и в дружбе с сестрами и братьями, — были какой-то передрягой, мучительной, бестолковой.
Прощай, дорогая, милая Нерехта, прощайте все подруги, все те места, в которых я проводила счастливейшие минуты моей жизни!..
1888 год
<…> <Ярославль> 4 января.
Сегодня год, как умер о. Петр. Как много изменилось за это время! И я сама стала не та, что прежде, а гораздо хуже. И как не испортиться характеру, ведь приходится постоянно сердиться то на братьев, то на сестёр. Правда, я прежде была лучше, теперь я всё возражаю маме. Но… не возражать ей невозможно, потому что мама противоречит сама себе на каждом шагу.
Мои милые братцы с каждым днём становятся хуже, в особенности Володя, он портит Сашу, я это вижу, страшно за Сашу и… ничего не могу сделать. Да, ничего не могу, потому что мама запретила мне мешаться в дела детей. Но поневоле вмешаешься, когда видишь, что характеры их с каждым днем хуже. Пусть Володя делает, что хочет, мне не так его жаль, как Сашу, это любимый брат, и если он будет таков, как Володя, то ему придётся плохо. Не знаю почему, у меня в голове сидит мысль, что Саша рано или поздно с ума сойдёт.
С тех пор, когда я ласкаю и учу Сашу, эта мысль постоянно приходит мне в голову, и мне так хочется плакать.
Боюсь я, чтобы дневник мой не попался в руки мамы, что тогда будет!.. {Здесь кончается “маленький дневник” (примечание в издании 1912 года).}
Ярославль, 5 мая.
Я начала вести дневник с 11 лет, значит, этому занятию уже около двух лет, но проклятая лень мне мешает писать: я вела дневник с такими перерывами, что и сама им удивляюсь. Сегодня мне захотелось вырваться скорей, скорей из нашей квартиры в Нерехту; я не могла сидеть на месте и бегала до усталости, словно кто толкал меня, из комнаты в комнату. Вечер выдался хороший, я читаю. Только что кончила “Записки лишнего человека” Тургенева {Имеется в виду повесть И. Тургенева “Дневник лишнего человека”, к герою которой, Чулкатурину, смерть, как бы в насмешку, приходит 1 апреля.}. Последний его день, 1-е апреля, навёл меня на мысли о папе. Вот уже год и 3,5 месяца прошло после его смерти, а мне всё ещё не верится, что он умер. Я и все мы не говорим никогда “покойный папа”, а просто “папа”, как будто он всегда с нами. Действительно, когда я думаю о нём, или гляжу на его портрет в гостиной, я чувствую, что папа жив, что он говорит и чувствует, как мы. Папа никогда не умрёт; он всегда со мною, точно так же как и Бог.
Сегодня за французским классом случилось происшествие: Наталья Францевна наказала апельсин. У Насти У-вой был апельсин; от скуки она вынула его из кармана, апельсин, разумеется, пошёл по рукам, все начали нюхать его, лизать. Наконец, беспорядок был замечен Нат. Фр., и после печального признания Насти, что беспорядок причинён апельсином, несчастного вытащили на стол и торжественно накрыли толстой грамматикой. В этом положении апельсин оставался до конца класса.
7 мая.
Ха, ха, ха, ха! вот смешное, глупое и печальное приключение! Сегодня, ехавши в баню, я и Надя потеряли по калоше! Это происшествие вызвало целую бурю: мама читала нотацию, Ал. Ник.{Александра Николаевна, гувернантка Дьяконовых. В 1888-м ей 21 год.} говорила, что только у Д[ьяконов]ых и могут случаться подобного рода вещи. Перед ужином мы вместе решили, что это проделка нечистой силы; наказание Божие за нерадение к молитве. Надя говорит, что сегодня она не помолилась внимательно, и если утром хорошо не помолиться, то непременно случится несчастие; что если много смеяться, то это не к добру, — я с этим вполне согласна. Я (вот грешница) уже с Рождества читаю только по три молитвы, и решила наказать себя за небрежность: спать на полу. Валя слушала, да и сказала — “Дуры, рассуждайте о том, как бесёнок ваши калоши утащил, я уйду”. Я и Надя решили, что в каждом человек есть бес, который соблазняет человека на всё дурное. Но ведь сегодня я была в бане; чистая — и вдруг спать на грязном полу! Сегодня мама без ужина оставила за непослушание; это полезно: нужно как можно меньше есть, теперь скоро экзамены. Добрая Саша-горничная сжалилась надо мной: оставила котлетку и предложила её мне; но я испугалась, чтобы мама не увидела и отказалась… съем завтра, она в шкафу стоит!.. Спорила с Володей: утверждает, что похож на папу, я говорю — на маму. Мысль о папе мне всё чаще приходит в голову; что, если и я умру? А ведь бес во мне сидит, он меня столкнёт прямо в ад! Страшно! <…>
27 мая.
Урра! перешла в 6-ой класс! Все рады, а я больше всех. В гимназии, благодаря ужаснейшей свинье учителю N… нашла Катю Е. в отчаянии: она провалилась и, кажется, покушалась на самоубийство, да не удалось. За ней теперь во все глаза смотрят: сидит бледная как смерть и ничего не понимает. Ученица У., вероятно, скоро умрёт; она чахоточная и пол… не могу написать: страшно сказать, до чего довело её зазубривание всевозможных учебников; теперь она почти ничего не понимает, о своём положении ничего не мыслит. И Маргариту мне очень жаль: я страшно за последние дни сошлась с ней; теперь её исключили, а впереди бедность, молодость, отчаяние и печаль, бесполезность близким людям и обществу. <…>
2 июня.
На днях была в концерте. Играли прелюдию Мендельсона… Мне показалось, что все волны, южные и северные, слились на собрание. Сначала заговорили северные волны, упрекая южных, а затем южные стали возражать северным. Дело дошло до спора: северные волны говорили о прелестях вечных снегов и льдов, а южные пели о красоте ночи, о солнце и звёздах, отражающихся в морской воде. Наконец, приплыли тихие волны рек в Средиземное море и рассказали им о жизни людей. Волны помирились, услыхав о раздорах и жестокостях людей и, соединясь вместе, запели гимн Богу. Вот что, как показалось, говорила мне игра г. Б. <…>
21 июля.
Ух! Как испугалась сегодня: часа в 4 приходит мужик и говорит: утонул в Волге мужик в пьяном виде, бывший дворник; по приметам оказывается Александриным мужем. Саша побежала узнать, на месте ли её муж, или нет, так как за верность известия мужик не ручался. Пришла домой. Слава Богу, муж на месте, жив и невредим оказался…
На танцы пошли сегодня все вместе {Лиза посещала уроки танцев.}. Александра Николаевна восхищается мной, постоянно говорит маме: “Как мило Лиза танцует, как она грациозна”, — а та не верит: ведь это просто нелепость, — Лиза, неуклюжая, быстрая, резкая во всех движениях, и вдруг… грация?!.. Да ещё где — в танцах!? Мне самой смешно; ведь, кажется, во мне нет ничего хорошего, красивого, грациозного, уж видно я такая родилась. Ал. Ник. после танцев меня спросила: “Ну, Лиза, ведь можно увлечься танцами? как вы теперь думаете?” Я колебалась с ответом: ещё никогда не увлекалась ими, но “нет” не шло с языка. — “Посмотрю я на Вас, как на аллегри {Бал с лотереей.} будете танцевать”. — “Да разве я буду, — сказала я удивлённо, — ведь у меня знакомых нет…” — “Будут, я вам представлю гимназистов и студентов”, — решительно ответила она. “Вот те на! — подумала я, — до сих пор я не имела ни малейшего желания познакомиться с кем-нибудь из них, даже со страхом об этом думала, а тут… ну, да аллегри ещё не скоро будет”.
Приехала бабушка; я так обрадовалась, будто бы сама в Нерехту уехала. Привезла огромную корзину смородины, для варки и для еды. <…>
4 августа.
Захворала мама; был доктор, сказал, что скоро её нездоровье пройдёт. С мамой нет у нас столкновений, а из разговоров только сегодня я поняла, сколько она вынесла. Кажется, маму воспитывали просто, не была она никогда в детстве энергичной, росла тихо, выезжала девицей — всё, как все делают, делали и будут делать — где бы ей набраться таких знаний, практичности, энергии? А между тем, мама, хотя и была нервна, не крепка здоровьем, столько вытерпела, с такой энергией вела свои дела, защищала свои и наши интересы, что я от удивления не могла слова вымолвить, пока мама мне всё рассказывала. Она говорит, что, когда выходила замуж, надеялась только на себя, а не на папу, потому что у него состояние было вовсе невелико… И странно: бабушка и все наши родные — все знают, что сделала мама для нас, знают, что ей пришлось вытерпеть, и говорят об этом как о самой обыкновенной вещи. Что если бы это пришлось сделать другим? — тогда толковали бы, хвалили бы, превозносили бы чуть не до небес. А наша мама сделала всё, преждевременно потеряла здоровье, расстроила нервы, — и родные посмотрели на это так, как будто бы это и должно быть. — “Свои не оценили, так чужие оценят, и поймут, что мне это стоило”, — сказала мама, и слёзы показались на глазах её. — “Полно, мама, плакать”, — ответила я по своему обыкновению несколько насмешливо; но если бы знала мама, что в эту минуту происходило во мне! Мне вдруг захотелось упасть к ногам её и безумно молиться на неё целую вечность за то, что она сделала для нас, простить ей всё, всё, глядеть на неё и никому, никому не отдавать… чтобы она была вся моя, вся! Кажется, была бы моя воля, я взяла бы с собой одну маму, куда-нибудь унесла её, и молилась бы, молилась бы на неё и за неё без конца!..
22 августа.
<…> На днях в гимназии был акт. Валя получила 2-ю награду. Мама торжествовала. Давно ведь её никто-никто не радовал успехами: вот уже 2 года. Мне хотелось бы перейти с наградой для того только, чтобы мама порадовалась. Да ведь не перейти! Где нам грешным за наградой тянуться! А хотелось бы получить!
1 сентября.
Ученье, ученье, до бесконечности: с 9 до 8 учись, учись, учись и учись! {Занятия в гимназии продолжались от 9 до 16-ти, — вероятно, Лиза здесь учитывает время, уходившее на выполнение домашних заданий.} Вот препровождение времени. Нечего сказать, хорошо! Даже некогда дневник вести… Александра Николаевна сумрачная такая; поневоле досадно будет: учит, учит сестёр, набивает им старательно голову и пропорциями, и склонениями славянскими, а на другой день — 2 из русского за то, что Надя не знала того самого склонения, которое отлично накануне ответила. Ведь вот странно: дома знаешь урок, как “Отче Наш”, в гимназии спросят — точно язык отнялся, всё перепутается в голове: и подсказанное, и объяснённое, и изученное — и поминай как звали! Эх, несчастное это ученье, право, несчастное.
Вот сейчас в газете читала о переутомлении учащихся. Это хорошо писать, что слишком много учиться вредно, — а на деле-то ничего ведь не изменено. Пишут: экзамены вредны для здоровья, бесполезны в отношении к знаниям, учиться нужно меньше, дома готовить уроков меньше, — одним словом, — пишут много, так много, что напечатай все заметки об учении на отдельных листах, можно бы двадцать завтраков завернуть. <…>
6 сентября.
Что за сонное царство! Будни — гимназия, потом обед, чай, уроки и ужин. Праздник — ровно никто ничего не делает. И хоть бы сестры чем-нибудь дельным занялись, — всё глупости; они хоть вместе, а я всё одна. <…>
11 октября.
<…> Не понимаю, как это всё выходит, что одна я причина всех зол и бедствий нашего дома? Нет ничего фальшивее, хуже моего теперешнего положения как в гимназии, так и дома. Но там, по крайней мере, хоть все знакомые лица, здесь же… право, точно между посторонними нахожусь. Я, правда, бываю иногда очень виновата перед мамой, бранюсь, когда очень рассержусь, детей наказываю тоже, когда шалят, — но неужели всё это такие ужасные вещи, что меня, не переставая, пилят за всё это? Единственная моя отрада (если можно так выразиться) — книги; я читаю и забываю хоть часа на два всю ту цепь споров, ссор, выговоров, наказаний и т. д., которая опутала наш дом и никому из неё не позволяет выйти. <…>
Господи, Боже мой, милый! Хоть бы Ты прибрал меня поскорее! Ну, что за жизнь эта, опротивела она до того, что я не знаю, куда деться! Бог законом своим запретил убивать себя; кабы не грех — сейчас бы в воду или под рельсы. Никого, ничего мне не жаль, хоть бы умереть поскорее! Тогда в доме тише станет, нотаций мама не будет читать и нерв себе расстраивать, сестры не будут браниться, в доме было бы не житьё, а рай. По мне отслужили бы панихиды, мне было бы очень весело, {Я читала, когда панихиду поют, — душе покойника бывает очень весело (примеч. Е. Дьяконовой).} я увидела бы папу, Бога бы увидела, ангелов, святых… Папу целовала бы так, как при последних днях его жизни, были бы мы вместе. Вообще, если бы я умерла — хорошо бы было! Говорят, что те, кто боится смерти — умирают, а те, кто не боится — живут долго; я вот не боюсь смерти (по-моему, очень глупо бояться того, что рано или поздно совершилось бы), да и умереть хочу, а смерть не приходит. Господи, Господи! Умереть поскорее!
25 октября.
В эти дни у меня мама захворала, и у меня неприятность, хотя самая ничтожная: в прошлый четверг я чернила в зале пролила, и меня наказали: стоять на час у колонны, да ещё и чернильницу мою дорожную Дюсет {Вероятно, классная дама.} противная взяла себе. Ещё происшествие: в прошлый понедельник, 17-го числа, в 12 часов утра, произошло крушение царского поезда на Курско-Харьково-Азовской железной дороге. 18 человек убито, но всё царское семейство осталось живо и невредимо. У нас был отслужен по этому случаю благодарственный молебен. Читая в газетах о крушении, невольно можно воскликнуть: дивны дела Твои, Господи! Множество людей ранено, убито, а Государь и всё семейство целы и невредимы. Кто осмелится сказать теперь, что Бога нет? <…>
12 ноября.
Александра Николаевна — лучший человек в мире — выходит замуж. И какая я дура: ведь когда мы были на именинах, то жених сидел почти напротив меня, но — видно у меня такая способность — я не вижу никогда никого из мужчин, если бываю где-нибудь у знакомых; так я его и не видала. Надя говорит, что он очень красив. Когда я спросила Ал. Ник., каков у неё жених, она как-то странно ответила: “О, он молодой, очень красивый, сходится со мною во всём”. Значит, и он тоже — замечательно хороший человек. Похожи они друг на друга очень, как брат с сестрой. <…> Кроме всего этого, Ал. Ник. сообщила нам новость, почти такую же радостную: она останется и будет у нас репетировать! <…> Милая, милая моя Александра Николаевна! Сегодня вечером мы даже не читали, а работали и разговаривали: точно прощались с нею; она ведь после обручения будет почти что жена, а это так странно кажется.
13 ноября.
Видела я сегодня Ал. Ник. Я шла в гимназию; смотрю — парочка, весёлая, молодая, счастливая. — Это она, подумала я. Но ведь может быть и не она, может быть, и другая барышня идёт под руку со студентом. — “Это так неловко”, — вдруг долетело до меня со знакомым произношением буквы “л”; сомнения нет — она! Я шла по другому тротуару; шла, не смея взглянуть на эту счастливую парочку, стараясь идти так, чтобы они меня не заметили, и была так счастлива, так счастлива! <…> Когда я читала про любовь, я не понимала, как это любят, признаются в любви, делают предложения; но мне всё казалось естественным: ведь роман. А как на самом деле увидела, то начала понимать, как всё делается, хотя ещё и не совсем. Когда Ал. Ник. сказала нам, что на душе у неё радостно и хорошо, что всё кажется приятным и веселым, то я подумала, а хорошая, вероятно, штука эта любовь. <…> Представляю себя на её месте, только без жениха, конечно, и не невестой, а так просто: ну, и я люблю не знаю кого, ну, положим, горничную Сашу, или какую-нибудь из воспитанниц… и тогда мне всё начинает казаться в розовом свете! Уж не полюбить ли мне в самом деле кого-нибудь из наших? Воспитанницы есть очень хорошенькие, поют хорошо, стройненькие, ведь полюбить можно. И вдруг тогда я буду счастлива… только способности-то и умения у меня на это нет, а то бы я постаралась.
22 ноября.
Ура! Сегодня опять не учились! За здоровье Императора и Императрицы. Ура! “Боже, Царя храни” пели, директор речь говорил, манифест читал; мы орали, кричали, толкались, щипались, даже подрались от радости. Когда пришли после в класс, — домой собираться, — все зажали уши и начали орать “ура”. Вот шум-то был! Господи, точно праздник какой сегодня утром. Солнце так ярко светило, зала огромная, а Царь с портрета так ясно глядит на нас, точно живой, а мы ему “Боже, Царя храни” поём. Ну, как тут с ума не сойти?! Кажется, всю бы жизнь отдала, чтобы увидеть Царя! <…>
2 декабря.
Александра Николаевна отказала своему жениху! Отказать человеку, уже обручённому с ней, уже имевшему на неё право, — это я не знаю, что такое!.. Чувствую, что не могу уже смотреть на неё, как прежде, мне кажется, что впереди её стоит отверженный ею жених. Я никому ничего никогда, конечно, не скажу, но… нехорошо всётаки поступила Ал. Ник. Человек должен быть прежде всего человечен, а она поступила с женихом безжалостно. Она теперь такая весёлая, ласковая, всё смеется, даже лицо её как будто похорошело; но взглянуть прямо на неё — я не могу, не могу. А ещё три недели тому назад я видела их вдвоём такими счастливыми…
14 декабря.
Давно я не писала, не то лень, не то некогда было. Я ужасно люблю бывать у бабушки: там так тихо, тихо, хорошо. У нас в доме если тихо, то сонно всё как-то, а у бабушки и тишина имеет свою прелесть. Бабушка вчера мне свою жизнь рассказывала, о маме, о дяде Коле. Теперь передо мной открыта вся жизнь семьи нашей. И, Господи, сколько несчастья рассказывала мне бабушка, и всё это так хорошо, естественно, что, право, заслушаешься… Кажется, будто две семьи — обе известные и уважаемые — сошлись для того, чтобы вместе соединить своё горе и страдание и удвоить его на маме. Обе бабушки испытали в своей жизни много горя, снося его твердо; и мама всегда справлялась с собою: всего два раза в жизни я видела в ней что-то похожее на отчаяние и слёзы, но потом она становилась вновь молчаливой, терпящей…
19 декабря.
Сегодня француженка побранила меня и назвала умницей, “способной девиц” за то, что я ей перевела m-me Stael. Удивительная женщина была m-me Stael, ведь недаром называли её гениальной. В наше время таких нет. Какая она была умная! Семнадцати лет, когда наши девушки начинают только о выездах думать, она уже издавала “Письма о Ж. Ж. Руссо” {Сочинение Жермены де Сталь (1766—1817) “Письма о произведениях и личности Ж. Ж. Руссо…” было опубликовано в 1788 году.}. Хорошо сочинять; мне иногда самой хочется что-нибудь написать, да всё лень, всё кажется, что не умею.
Скоро отпуск! Не будешь ходить в 4 часа домой по тёмным улицам, в грязь и ветер, в слякоть и мороз. — “Домой, домой”, — радостно повторяют воспитанницы, бегая из класса в дортуар, из дортуара в класс. “Домой, домой!” — раздаётся везде, по всем углам комнат нашего огромного учебного заведения. Вот, вся сияя улыбкой, растрёпанная, с передником на боку, бежит воспитанница. В руках у ней целая груда книг и тетрадок, ей неловко бежать, но она летит стрелой, толкает подруг, вдруг наткнулась на кровать, и вся ноша рассыпалась. — “Что это вы, — замечает недовольная классная дама, — бежите как полоумная какая! Смотрите, где ваши книги? Как вам не стыдно!” Но у воспитанницы ни малейшего стыда, напротив: лицо её делается ещё более радостным, и она на выговор отвечает: “Как же, ведь домой, Вера Александровна!”
Вон там, у средней кровати, какая-то воспитанница. Около неё собралась целая группа: кто надевает ей платок, кто застёгивает пуговицу, кто связывает узел. Всё уже собрано, она одета, укутана платком, начинается прощание. “Прощай, Маня, милая, напиши, коли будет время, на Рождество”, — “Прощай, Манька, прощай, душка милая”, — раздаётся вокруг. И все, хотя были бы самыми заклятыми врагами уезжающей, считают своей обязанностью проститься <…>.
23 декабря.
Приснился мне папа вчера. Странное чувство испытываю я тогда, когда вижу его во сне: мне так хорошо, весело делается, только как будто жаль кого-то. Говорят, что это он напоминает мне, чтобы я за него молилась. Это правда. Когда я плохо или долго не молюсь за папу, он мне всегда приснится, такой ласковый, добрый, так что жаль сна бывает.
О Господи, Господи! Помилуй меня грешную, прости все грехи мои. Ведь Ты прощаешь грехи всем людям,— прости же, Господи, зверю скверному, гадкому, хоть одну сотую долю его грехов и прегрешений. Хотелось бы мне умереть, если не сейчас, не теперь, то 15 августа будущего года, мне тогда будет ровно 15 лет; хотелось бы мне умереть ровно в 6 часов утра, т. е. в тот час, когда я родилась; хотелось бы, чтобы меня похоронили в ельнике, там, где мы часто гулять ходили, посадили бы ёлочку на могиле, но креста не надо ставить, можно из ёлки простенький вырубить; а если в ельнике нельзя, то пусть бы похоронили меня в дальнем углу нашего кладбища, там, где солнце почаще и подольше бывает. Гораздо лучше умереть, чем жить! Когда нынче летом я была на папиной могиле, то солнце так ярко светило, так хорошо было, что сейчас бы умерла, лишь бы надо мной солнце так же светило, и тихо так было бы на кладбище…
Подписалась сама на журнал “Север”. Он будет высылаться на моё имя, короче сказать, у меня будет собственный журнал. Рука так и дрожала, когда я писала адрес: Вс. С. Соловьёву; {“Всеволод Сергеевич Соловьёв (1849—1903), писатель. Основал и в 1888—1889 гг. редактировал (совместно с П. П. Гнедичем) иллюстрированный журнал “Север”.} мне казалось, что с моей стороны величайшая дерзость писать человеку, мало того, — незнакомому, а ещё и известному литератору. <…>
26 декабря.
Сегодня Ал. Ник. говорила, что пора мне заняться ученьем как следует, и не ученьем только, а вообще всем. Сказала (совестно писать даже, точно сама себя хвалю), что во мне есть все данные для того, чтобы быть (не знаю каким) человеком, что я существо самобытное, оригинальное, не похожее на других, и наконец сказала: “Я как-то говорила с одним молодым человеком о вас, и мы решили, что вы не жалкая посредственность”. Как мне совестно всё это писать, но ведь я пишу сама для себя, а следовательно, и прибавлять что-нибудь от себя к описанию разговора была бы ложь перед самой собой. Ал. Ник. решительно угадывает мои мысли: она советовала мне вести дневник, и так, чтобы можно было впоследствии его издать. Ну, уж это слишком! Во-первых, я и в дневнике-то почти никогда и не высказываюсь, а во-вторых, моя жизнь не для всякого интересна. “К чему вы себя готовите?” — спросила меня Ал. Ник. Ну, что я могу ответить на это? Я, право, ещё ничего не предполагаю сделать, но чувствую, что домашняя жизнь меня затянет так, что в одно прекрасное утро я что-нибудь сотворю такое, что… Но я об этом теперь перестала думать, и слава Богу…
<…> Чтобы я была человеком самобытным, не похожим на других людей, чтобы из меня что-нибудь вышло — этого я, воля ваша, никак не могла даже и вообразить. Правда, когда вырасту большая, я буду вести совершенно иную жизнь, не похожую на жизнь других людей. Мне, например, очень хочется уехать в Америку, сдать там экзамен на капитана, получить в команду какое-нибудь судно и отправиться путешествовать; ну, а человеком самобытным — совсем себя не воображаю. И всётаки, после этого разговора, предо мной точно что-то светлое, радостное, хорошее открылось; а слова — “надо послужить на пользу общества”, — которые мне сказала Ал. Ник., я никогда, никогда не забуду. Ведь я читала, что римлянка 14-ти лет надевала тогу и делалась полноправной гражданкой; а у нас когда это право получается? — В 21 год, или когда замуж выйдешь. Странно!..
1889 год
1 января.
С Новым годом! С новым счастьем! Странно говорить “с новым счастьем”, как будто каждый новый год приносит его с собой; тогда как с каждым годом всё чаще и чаше случаются “новые” несчастья….
Встретили мы Новый год так, как, вероятно, ни одна семья в городе… Вечером я пришла в спальню мамы и сказала, что уже половина двенадцатого. — “Хорошо, зови детей в залу”, — проговорила она, лениво приподымаясь с кушетки… “В залу пожалуйте!” — растворила я дверь детской. Там стоял шум, смех и крик, было, очевидно, весело; но при моих словах как-то все притихли, бросили играть в карты, и, оправляясь и как-то зажмуриваясь на ходу, потянулись в залу. Там действующие лица находились вот в каком положении: мама сидела прямо на диване, облокотясь рукой на подушку: на лице её, как и всегда, мне почти ничего не удалось заметить, кроме усталости и желания спать; Надя сидела у стены на кресле, закрыв платком половину лица; Валя помещалась наискось от неё на стуле; лицо у ней было опущено вниз, губы как-то насмешливо презрительно передергивались; Володя помещался подле мамы на диване, перебирал руками пуговицы; Шурка сидел около дивана на стуле; “посадила меня мама и сижу, а то меня накажут”, — говорила его поза и лицо. Я была напротив дивана. Мы все сидели и молчали, лица у всех мало-помалу начали принимать выражение какой-то заспанности, отупелости. Мама почти уже спала, но взглядывала поминутно на часы и тихо ворчала за что-то на Валю; наконец, она посмотрела в последний раз на часы, было без 11 минут 12. “Вставайте!” — сказала она; мы все машинально встали. Мама перекрестилась, и мы все начали молиться; не успела я сделать и трёх крестов, как раздалась команда: “Подождём, ещё рано”. Все опять сели; время шло быстро, осталось полминуты, и снова все встали, начали молиться; молились долго. Встала с колен мама, подошла к столу, взяла рюмку, мы все тоже. “Давайте чокаться”, — сказала мама… На меня нашло какое-то отупение. Когда я чокалась с мамой, мне захотелось обнять её, поцеловать и поздравить искренно; но, взглянув на холодные, тупые, ничего не выражавшие лица сестёр, я отказалась от моего намерения: поцеловать маму при них мне показалось невозможным. Стали расходиться. В детской я увидела сестёр, вошедших туда с оживившимися лицами, — они уже исполнили тяжкую обязанность…
Эту встречу Нового года я навсегда запомню: в ней ясно отразились отношения мамы к нам и наши к маме, в особенности, последнее. Всякий раз, когда мы собираемся вместе — молчим, не понимая, для какой цели пришли. С детства и до отрочества мы были отделены от матери целым рядом нянек и гувернанток; мы не знали матери, она не знала нас. Мы не привыкли передавать маме с малых лет свои впечатления, думы и чувства; мама нас об этом и не спрашивала; позднее же сойтись было труднее. Я очень люблю маму, но никогда между нами не было разговора, как говорится, “по душе”…
12 января.
Сегодня два года, как умер папа. Упокой Боже, его душу, и возьми меня поскорее. Жить здесь, на земле, мне незачем, только ссоры да раздоры поселяю в семье, а там, Господи, я хоть папу-то милого моего увижу. Боже Великий и Сильный, Боже Правый и Многомилостивый! Прости мне грехи мои, хоть не все, всех их простить нельзя, их очень много! Великая я грешница, недостойна я, видно, милости Божией: всё живу и не умираю, но смилуйся, Господи, надо мною, возьми меня к себе поскорее!.. Вот в Евангелии и священных книгах читаю, что надо думать о спасении души; а я-то! Недавно читала в какой-то священной книге об адских муках: просто волосы дыбом встали. Царствию Божию не будет конца, и адским мукам тоже конца не будет! Я наверно попаду в ад за великие грехи свои и буду вечно там мучиться! Вечно! Господи, Боже! Прости ты меня за то, что я хотела не грешить, да ничего не исполняю! Ведь если меня рассердить серьёзно, так я готова иногда не знаю что сделать и с этим человеком и с собой! А это грех страшный, великий! Надо стараться не грешить, Господи, помоги мне в этом!
Вспоминаю смерть папы; всё случившееся в этот день я помню очень ясно, и всётаки мне кажется, что как будто всё это я видела во сне… — “Лиза, поди, посмотри папу-то”, — шёпотом зовёт меня бабушка поздно вечером… Я вошла в комнату и увидела… Нельзя больше продолжать: надо Евангелие прочесть, — теперь час, когда умирал папа. <…>
10 февраля.
Читаю “Исторический Вестник”, и даже жалею, что взяла его: зависть берёт к иным людям, Вот, например, воспоминания г-жи Головачёвой-Панаевой {А. Я. Панаева (1820—1893), писательница, мемуаристка. Ее воспоминания “Русские писатели и артисты. 1824—1870” печатались в NoNo 1—11 журнала “Исторический вестник” за 1889 год.}. Сколько интереса! Сколько видела она, с какими образованными людьми находилась с самого детства! Ещё ребенком она вращалась в театральной среде, потом вышла замуж за известного литератора И. И. Панаева, очутилась между литераторами. Она теперь, наверное, старуха, старше моей бабушки, а сколько она знает! Если ей с малых лет приходилось вращаться в той среде, где главное — искусство, требующее более или менее умственного развития, то как же тут не позавидуешь! У г-жи Головачёвой отец и мать Брянские — артисты императорского театра, у них постоянно бывало большое общество, актёры и театралы,— есть что вспомнить, даже и с раннего детства. А потом — какое у неё бывало блестящее литературное общество! Островский, Некрасов и другие!.. А что мне вспомнить в прошлом? — В глухой провинции, ни одного интересного знакомства…
18 февраля.
Сегодня умерла мамина няня. Царство ей небесное! Уже давно она хворала, но всё выздоравливала, хотя и стара была — 89 лет. Многое она видала на своём веку, и всё почти помнила. Умная, добрая, славная была няня! — “Все мы умрём, да только не в одно время, — сказала Александра, — сколько ни живи, а два века не проживёшь”. Вот своего рода философия. Хотя я и очень редко разговариваю с прислугой, но почти после каждого из этих разговоров невольно задумаешься, как они объясняют так ясно и просто то, над чем ломают себе многие головы. У нас прислуга вся своя, нерехтская, не тронутая нынешней “лакейской цивилизацией”. Вот, например, Александра, она несчастлива с мужем, но никогда на это не жалуется, ей и в голову не приходит, что можно было бы жить лучше: “ничего не поделаешь, уж на то Божья воля”, — таков у неё ответ на вопрос, отчего это так, а не иначе. И с этим убеждением люди живут, родятся, растут и умирают; и нет у них никаких “почему”, которые часто портят жизнь образованному человеку, и живут тихо, смирно, ничего не зная, и про них никто ничего не знает. Один Бог ведает всех людей и дела их…
19 февраля.
Нет, верно я всегда буду одна; скучно, что нет никого кругом, но я никогда не даюсь этой думе; и если бы я дала себе волю — тоска бы заела меня, это уж я чувствую, только сдерживаю её, — ну и цела. Теперь мне бы хотелось иногда, очень редко, впрочем, с кем-нибудь поговорить, рассказать о чём-нибудь, посмеяться, и если бы была здесь А. Н. — мне бы никакой подруги не нужно было бы, потому что она единственный человек, которому я могу сказать всё. О, как мне тогда было бы хорошо! <…>
26 февраля.
<…> Ал. Ник. сказала, что чахотка заразительна. Я была в восторге. Значит, стоит мне прийти к больной Лизе, поцеловаться с ней несколько раз, подольше посидеть — и заражусь. Я чуть было на стуле не подпрыгнула, но Ал. Ник. сказала, что можно заразиться, находясь постоянно с больным, и притом долгое время, а я ведь самое долгое могу сидеть у Лизы — час!.. <…>
25 марта.
Подруга Соня свободно владеет формой стиха; как легко читать её стихотворения! Всего их шесть, небольшие, в три, пять и шесть куплетов, и видно, что у Сони есть талант. Сестра Валька тоже сочиняет, попадаются иногда недурные строфы, но она ещё не сочинила такого стихотворения, где бы не было ни одной неподходящей рифмы, ни одной глупости: слово “плач”, напр., она рифмует “калач”. А вот у меня таланта ни к чему нет, да я об этом и не думаю, и не жалею…
26 марта.
Я часто воображаю себя умершей: лежит тело, моя бывшая оболочка, от которой я только что освободилась, я в воздухе невидима, но вижу и слышу всё. Моё тело кладут на стол, совершают над ним панихиды, плачут (впрочем, это едва ли), кладут в гроб, и зарывают в землю. Когда же зароют моё тело в землю, тогда я пойду отдавать отчёт Богу о том, что я сделала в течение своей жизни… В смерти нет ни для кого разницы: умирает Царь, умирает в тот же день и минуту и последний рабочий, — и души обоих одинаково летят к Богу, отдают Ему отчёт о делах своих, и идут потом каждая в место, уготованное им Богом… Завидовать некому: всё временное; а когда сравнишь нашу жизнь с вечностью, то сделается страшно, страшно до того, что я раз чуть было не вскрикнула от ужаса, когда стала представлять себе вечность. Но сколько ни думай человек, он себе не может ничего представить бесконечным, такова природа людская, хотя и говорят “его никогда не забудут, память его вечна”, но если бы действительно вздумали себе представить это “вечно” и “никогда”, то никогда не представили бы. Человек не в состоянии представить себе, ужас объемлет его, когда он углубится в слово “вечно”, и мы до того привыкли ко временному, что неспособны стоять спокойно перед вечностью. Вот почему умирающие очень часто бывают тревожны: дух человека смущается при переходе в вечность. Только те и умирают спокойно, кто жизнь свою провел безупречно… <…>
3 мая.
Вчера был экзамен русский письменный; тема была простая: “Типы недоброжелателей науки по первой сатире Кантемира”. Её я плохо помнила, и сочинение вышло неважно. Плохи дела! И французский скверно, да и русский тоже! <…>
13 мая.
Вчера днём, помолившись в часовне, иду в гимназию переулком, а мне навстречу трое нищих — просят денег. Сперва я отказала, но потом нагнала их: “У меня нет денег, хотите взять мои серёжки?” — “Давай, давай, матушка”, — был ответ. Сама не помню, как отстегнула и сняла серьги — бабушкин подарок — и положила в руку одной старухи. — “Они золотые”, — сказала я ей, и поскорее ушла вперёд. Какое-то странное чувство испытывала я, когда ушла от них; определить это чувство я не умею, но оно с такою силою всю меня охватило, что я даже разозлилась. Отчего это бывает?.. Отсутствие серег моих никто не заметил, пока никто ничего не знает.
15 мая.
Вчера похоронили Лизу… умерла от чахотки. Упокой, Боже, её душу! Последний раз я её видела в марте, и тогда уже видно было, что не долго ей жить, что она уже “не от мира сего”, так странно говорила и смотрела, — рука, как палочка, самая тоненькая. Лиза, Лиза! И умерла-то ты среди казёнщины, и никого близких при тебе не было. Говорят, что её хорошо похоронили наши, много плакали; это не мудрено: хорошая, славная была она. Досадно, что я не была на похоронах, и даже не знала, когда она умерла! Надо как-нибудь летом собраться на кладбище, узнать, где она похоронена. Вот, мы на земле остались и экзамены держим, а Лиза то ведь где теперь? Теперь она знает всё, всё, что на земле делается; ведь она жива, да только не здесь.
Я себе смерть так объясняю: живёт человек, думает, говорит, все его действия мы видим; умер человек, т. е. вылетела от него душа — и тело не движется, лежит. А душа то ведь всё та же. То, что мы называем “я” всегда будет живо и никогда не умрёт; “я” это не эгоистическое выражение; по-моему, “я” это — сама душа, одушевляющая тело. Когда мы повторяем “я” несколько раз кряду и смотрим и тоже время на руки, ноги, плечи, — мы чувствуем, что не это, не это наше составляет “я”, а что-то такое внутри нас, и что “я” только заключается в этой оболочке. Посредством “я” мы чувствуем, ходим, говорим, словом, — проделываем всё то, что проделывают и все люди; но нет “я” — и мы ничего не можем сделать! Посредством “я” совершается всё лучшее и всё худшее в мире: “я” властвует над другими, “я” разрушает царства, города, истребляет народы. И вот, смерть извлекает “я” из тела, и какие бы великие дела ни творило бы “я”, — всётаки тело его беспомощно, и оно уже не может действовать без “я”, а это “я” отдает отчёт Богу о своих делах и поступках. “Я”, живое, вечное из вечных, живущее частью на земле — в теле, а частью в небе, — освобождённое от тела, часто приводит меня в ужас “Я, я, я”, до бесконечности живущее!
О, Господи Боже, как ничтожен человек, пред этим вечным живым “я”. Великий ужас объял бы человека, если бы он непрестанно помышлял о вечности этого “я” и сознавал бы вполне, что его “я” когда-нибудь освободится от тела. Это такой страх, такое чувство собственного ничтожества, что пред ним бледнеют самые жестокие муки, потому что “я” вечно, а земные мучения временны. Смерть — освобождение “я” от зла; я знаю, что “я” живо, никогда не умрёт; что когда-нибудь моё “я” увидит в другом мире и это “я”. И вот, странное чувство возбуждает во мне вид мёртвого тела: другие плачут над ним, как будто человек и действительно умер, я же вижу только в теле ту оболочку, в которой “я” жило на земле; а так как “я” сохраняет все свои способности и познания, приобретённые на земле, то его-то и следует признавать, собственно человеком, а тело только его оболочкой. Раз “я” живёт вечно, то, следовательно, и человек не умер, а только “я” оставило тело. Поэтому-то мне и странно, при виде этой оболочки, лежащей в гробу, — видеть слёзы об этом человеке: плакать можно только об “я”, и просить Бога простить ему его согрешения, вольные и невольные. Вот и Лиза, ведь она живёт теперь, но только в другом месте; и я когда-нибудь увижу её и узнаю, каково ей.
<…> Лиза, Лиза! Вот и меня тоже зовут Елизаветой; и, молясь — упокой, Боже, душу новопреставленной рабы Твоей Елизаветы, — воображаю: так и надо мной будут читать молитву эту, петь заупокойные стихи. Господи, тогда-то мне хорошо будет!
Лиза, Лиза! И зачем только ты умерла?! Если бы я плакать умела, я бы не по-человечески заплакала, но плакать я не умею, как по-настоящему плачут. Вот злиться — умею, до того, что всех, кто разозлит, могу зарезать; руки себе до синяков кусаю и перочинным ножом режу, если разозлиться явно невозможно…
25 мая.
Завтра экзамен “физичный” и последний. Да, дела!.. Сегодня от тёти {Тётя — Евпраксия Георгиевна Оловянишникова.} получено письмо из Берлина с 2 марками, по 10 пфеннигов каждая; и я не только не могла узнать содержание письма, но даже мне не позволяли взять хоть одну из заграничных марок. Дверь мамаши моей заперта сегодня… и подумаешь — из-за чего? — Только сказала маме: не проходи, пожалуйста, через мою комнату, надо ведь заниматься! Мама дошла до двери своей комнаты, и через минуту же, точно маленькая, снова к двери. Тут уж я не вытерпела: так, мама, и учиться невозможно! И что же? Дверь в мамину комнату, прежде бывшая лишь приотворённою, — с шумом захлопывается на задвижку, и уже весь день не отпирается. И чего-чего только к этому случаю не было пристёгнуто: и что-то о манерах, и что-то о благодарности, и что-то о пирожном, и “я тебе покажу, что ты должна слушаться”, на что я, помню, тихонько ответила; “пожалуй”. В результате, конечно, брань, и уже не “дрянь-девчонка”, а нечто посильнее, похуже и вообще для человеческого достоинства пооскорбительнее… Действительно, я могу быть, ну, хоть дрянью, но тем, чем Бог сотворил не людей, а свиней, и даже вообще никого не сотворил, — я не могу быть не только по законам человеческим, но и по закону природы. Я не слыхала от мамы и таких слов и таких поступков уже давно, и странно, что ничего мне от этого не сделалось: всё слушала спокойно, точно не мне говорят. А коли отвыкнешь от таких сцен — трудненько ведь к ним потом привыкать… <…>
26 мая.
Ура! Перешла в 7-ой класс!! У меня всего две четвёрки экзаменационных, а на остальных 5. Про годовые — не говорю, потому что… Какая суета, гам, шум, крик, возня, — словом, всё то, что мне так нравится, что я так люблю в гимназии. Каждая после экзамена бежала в дортуар укладываться: снималось казённое бельё, передники, так что те, которые уходили сегодня, надев для приличия только казённое платье, были совершенно декольтированы и сидели на кроватях. <…>
4 июня.
Сегодня умер Иван Данилыч, наш хозяин. Царство ему небесное! Старый друг его, Иван Антоныч Котласовский, часто бывал у него в последнее время, и теперь бегает и плачет: последнего друга своего хоронит. Переходя двор, подошёл он к окошку нашей передней, где были мы все, и когда мама выразила ему своё сожаление, он только сказал — “Всё кончено… послал телеграммы везде … и старые голубые его глаза были совсем красны, и голос дрожал… Жаль его… Жил человек — и умер; “окна мелом забелены; хозяйки нет” {А. Пушкин, “Евгений Онегин”, глава шестая, XXXII.}. А я ни на минуту не подумала об Иване Данилыче, надеясь, что не умрёт.
Снились мне сны в эту ночь, и преглупые сны. Один такой страшный, я даже закричала: снилось мне, что лежу я на постели у самой двери моей комнаты; а за дверью стоит кто-то и просит у меня ключа от двери (она заперта), чтобы повеситься на моей стороне двери на продолговатой формы задвижке. Я ключа не даю и держу у себя под одеялом; и знаю, что этот кто-то не может у меня ключа отнять, потому что дверь заперта; а кто-то всё просит и умоляет дать ключ. Наконец, кто-то говорит: “а, ты не даёшь, — сама достану”… и начинает дергать дверь и даже хочет просунуть пальцы сквозь щель её, чтобы отодвинуть задвижку. Боже, я испугалась и закричала… Проснулась — слышу бьёт 5 часов. Снова заснула.
И снится мне вновь, будто на море большая буря, я спасаю и собираю вещи какой-то немки, которую очень люблю; тружусь без устали, и вдруг попадаю в дом, где все Дьяконовы. Как только я вошла в дом, мне тотчас дали жену; на ней чёрное платье и цепочка вокруг шеи от часов. Она меня будто бы любит, но вся эта масса жён и мужей интригует, сплетничает и наговаривает друг на друга; между ними есть какой-то старший, но я чувствую себя очень свободно, он оказывается моим мужем. Когда я иду мимо темноватой комнатки, кто-то из мужчин говорит мне: “у твоего мужа десять любовников: Мен, Лен, Зен, Пен”… Я останавливаюсь, ошеломлённая вестью об измене мужа… и проснулась… Я помню всё, что снилось, так ясно и ярко, точно все ощущения были наяву.
Странно. Ну, и снится же такая чепуха! Не знаю, что и вздумалось мне записать эти сны, нелепы и дики они…
Я так думаю, что это от цветов: третьего дня я купила на бульваре два букета каких-то ночных фиалок, полевых цветов с сильным запахом, и вторую ночь ставлю их около своей подушки.
15 июня.
Ровно через два месяца будет рождение моей собственной особы: 15 августа и 15 лет! Чем больше — тем лучше: значительное количество лет внушает уважение и почёт к своей особе других личностей, а этого должен желать каждый. Как бы мне хотелось умереть именно в этот день, ровно в 6 часов утра, когда я родилась, и если бы кто-нибудь прислал ко мне смерть на этот день и час, то сделал бы мне самый лучший подарок на рожденье. Но чего хочется, того всегда долго ждать приходится, это я замечаю уже давно. Вот хочется умереть, а жди, когда сама смерть придёт; хочется книги — жди, когда пришлют из библиотеки; хочется платья — жди, когда материи купят и сошьют. Хуже всего, что смерть не идёт; если бы можно было крикнуть: “эй, ты, пошла сюда, тебя мне нужно!” Хорошо было бы, а то — всё жди… <…>
2 июля.
<…> Я читала где-то, что если намочить платок эфиром и вдыхать его, то человек получает странные ощущения. Ложась спать, я и хочу сейчас испытать это: помочу платок и лягу в постель. И эфир у меня, кстати, есть, его я вчера купила для задушения насекомых.
А-а, так ты не можешь, у тебя духу не хватает… Так будь же ты проклята трижды, проклятое создание!
4 июля.
Прекрасная мысль пришла мне, когда я с мамой провожала Толгскую Божию Матерь: когда окончу курс в гимназии и если мама не согласится на дальнейшее продолжение моего образования, — я поступлю в монастырь! Чем дома жить да небо коптить, уж лучше служить Богу, тем более, что меня в семействе ничто особенное удержать не может. Лучше монастыря и быть ничего не может, я теперь всё о нём думаю. Вот какие иногда прекрасные мысли в голову приходят, и совершенно неожиданно. <…>
9 июля.
— “Ах, какие у вас манеры!” — “Вы не умеете держаться!” — терпеть не могу я этих восклицаний Ал. Ник., не понимаю их, ибо легче мне просидеть над физикой три часа и выучить десять теорем, чем понять; восклицания эти для меня совершенная terra incognita. <…> Подавание руки, разговор, походка — всё это имеет ведь свои названия, а в общем называется “манерой держать себя”, так, что ли? В таком случае это похоже на сложение: каждое число имеет отдельное название, а сумма их — другое, так, что ли? Слова эти даже неудобны, но без них почему-то не могут обойтись как отцы, так и матери, как гувернёры, так и гувернантки; других, я уверена, нет совсем в мире…
12 июля.
Ал. Ник. начинает говорить мне дерзости, и я насилу удержалась, чтобы не назвать её как-нибудь: слишком уж далеко начинает заходить. <…> Мама платит ей 30 рублей в месяц, а у нас гувернантки, знающие иностранные языки, получали 25 рублей, и если она откажется, — ей скоро такого урока не найти, 30 же рублей в её семье большие деньги…
Эта изящная барышня, образец прекрасных манер и деликатного обращения, говорит дерзости своим же воспитанницам, зная, что мы не можем ей отвечать тем же, защищаться, и выходит похоже на то, что самый большой человек бьёт маленького невинного ребёнка. Так поступать нечестно или, иначе говоря, — не по-рыцарски. <…>
19 июля.
Сегодня я одно выражение Ал. Ник. сравнила с выражением пьяного мужика и сказала ей. Поделом! В другой раз так не заговорит. Вот и благородная барышня! Виден человек во гневе своём: изящество наружу, а колкость и дерзость внутри!… Теперь она будет молчать и говорить только “прощайте” и “здравствуйте”. Это очень скверно, я терпеть не могу, когда так говорят, но не извинюсь, не извинюсь. Никогда до нынешнего года я не писала и не думала о ней ничего дурного, а тут и пишу и думаю самые нелестные для неё штуки. Что делать — пишу правду! Защищаться младшему от старших всегда необходимо; я ведь уже в 7-ом классе, мне скоро будет 15, а ей 22 — это почти одно и то же, — следовательно, она, да и никто, безнаказанно мне дерзости говорить не может. Вообще, я не мямля, не ребёнок, а совсем взрослая женщина! Дома думают: “ты — точно малый ребёнок, любишь бегать, играть”. Но, Боже мой, разве взрослые женщины не играют и не бегают, когда соберутся между собою?! Это ведь не грех…
13 августа.
К вечеру вдруг сверкнула молния, но грома нет, и теперь, когда пишу, разразился ливень. Кругом темно, всё стихает, и в природе разливается какая-то теплота… Еще 33 часа, и мне 15! Давно мне хотелось, чтобы цифры совпали, и наконец-то. Скоро время идёт, и пусть идёт оно быстро-быстро, не давая ни минутки нам назад оглянуться, чтобы подумать о прошлом, — всё это глупости одни. О, была бы моя власть, было бы время действительно в образе старого старика, — я бы крикнула на него: ну, скорее, время, скорей, беги, беги, не уставая, быстро, вперёд, не давай никому раздумывать!… — И бежало бы время, чем быстрее — тем лучше, тем ближе к смерти, к могиле. <…>
23 августа.
Разбираясь у мамы в книгах, я взяла себе несколько прекрасных французских книг, и между прочим: “La vie de Iesus par Ernest Renan” {Э. Ренан (1823—1892), “Жизнь Иисуса” (1863).}, страшно обрадовавшись этой находке. Но мама тут как тут: пришла, увидела и взяла {По-видимому, Е. Дьяконова пародирует здесь изречение Юлия Цезаря “Пришёл, увидел, победил”.}, сказав, что рано читать! Но ведь мне уже 15 лет! У меня всётаки остались: “Эмиль” Руссо, “Коринна” Stael, “Приключение Телемака” Фенелона {Роман-трактат Ж.-Ж. Руссо (1712—1778) “Эмиль, или О воспитании” (1762); роман Ж. де Сталь “Коринна, или Италия” (1807); роман-утопия Ф. Фенелона (1651—1715) “Приключения Телемака” (1699).}, Жюль Верн — все в оригиналах; эту книгу я как-нибудь после отыщу у мамы… <…>
25 октября.
На нашем балу танцевала я много, весело мне было и… за это получила замечание, что дурно держу себя. <…> Если я в чём и виновата, то, пожалуй, в том, что пригласила родственника губернаторши; ведь он всё же посторонний, а я, как-никак, всё же ученица… А если меня часто приглашали, то не виновата же я в этом; своею внешностью никогда не занимаюсь, или ровно настолько, чтобы каждый день быть умытой, одетой и причёсанной, да и то подозревают в употреблении чего-то неподобающего — кольдкрема или глицерина. <…>
1890 год
<…> 5 февраля.
“Паки Голгофа и Крест, паки гроб и плащаница” — так, кажется, начинается одна из известных проповедей. У нас — “паки рыдаше и плач, паки гроб”: умерла милая Лена Борисова. О. Клавдий при погребении сказал проповедь, пояснив нам её счастье в смерти. Как она была хороша в гробу! Как невеста лежала она вся в кисее, с большим венком вокруг головы; красивый и при жизни профиль — у мёртвой казался ещё изящнее, тёмные брови и ресницы так нежно выделялись на бледном лице, губы слегка посинели, но ещё сохраняли розоватый цвет, что придавало лицу несколько живой оттенок. Впервые пришлось мне “прощаться”, и сердце у меня страшно забилось, когда я подходила к гробу. Увидев красивое, спокойное лицо покойной — я вся задрожала, сразу почувствовав всю ничтожность пред этим мертвым телом, и, пробормотав: “невеста, невеста” — расплакалась не хуже малого ребёнка. Я вдруг узнала ничтожность моего “я”, мне показалось, что я пигмей перед Борисовой, а она невеста. Вот она теперь увидится с Михайловской, встретятся они. Когда-то и мы все, весь наш класс сойдётся там! Более половины из нас тогда уже будут старухи, а Борисова с Михайловской, бывшие старше многих из нас, — молодыми… А день был ясный, солнечный, кругом всё было так оживлённо, что я после невольно подумала: “спящий в гробе, мирно спи; жизнью пользуйся живущий” {В. Жуковский, “Торжество победителей” (из Шиллера).}… Эх, суета! <…>
12 марта.
Важная новость в мире политическом: кн. Бисмарк, гениальный “железный канцлер”, объединитель Германии, вышел в отставку {Отто фон Шёнхаузен Бисмарк (1815—1898) — 1-й рейхсканцлер Германской империи в 1871—1890 гг.}. 6 марта подал о ней прошение Вильгельму II, 8-го получил её, с назначением генерал-инспектором кавалерии и с возведением в сан герцога Лауэнбургского. Все в Германии поражены этою отставкою, хотя, когда Бисмарк подал прошение — все в Берлине были уверены, что Вильгельм согласится. Газеты приводят причины прошения Бисмарка. <…> Как долго гремело это имя! Не помню, когда именно в первый раз я услыхала это слово: газеты я начала читать с 7-ми лет, к политике же пристрастилась с прошлого года, когда телеграммы, вследствие сообщений о Рудольфе и Марии Вечера, стали очень интересны {30 января 1889 года 30-летний наследник австро-венгерского престола кронпринц Рудольф застрелил свою 17-летнюю возлюбленную баронессу Марию Вечера, после чего покончил с собой. Незадолго до самоубийства Рудольф, женатый на бельгийской принцессе Стефании, пытался добиться у римского папы развода, чтобы жениться на баронессе, но получил отказ. В предсмертной записке влюблённые объяснили свой уход желанием “взглянуть на загробный мир”.}. Когда я подросла, то вполне свыклась с именем Бисмарка; и теперь, прочтя об его отставке, — я была очень удивлена и поражена, в первое время мне показалась даже невозможной такая мысль; я воображала его смерть, похороны — на занимаемом им посту, воображала его памятники, но не отставку. Но невозможное, по моему мнению, оказалось возможным и уже совершилось. Мне ужасно жаль канцлера…
Не глупо ли? маленькая, никому неведомая фигура сидит и расписывает о политике целые страницы своего дневника… Ну, никто не прочтёт. <…>
28 мая.
Урра! Серебряная медаль!! Аттестат!! Мама очень довольна, и я тоже: за лень медаль получить, это даже очень хорошо. “Вот сладкий плод ученья!” {А. Пушкин, “Борис Годунов”.} Теперь скорее в Нерехту, а пока дочитаю “Божественную комедию”, — жаль, что не знаю по-итальянски… <…>
1 июня.
Как хороши были вечера, которые я проводила одна в Нерехте. Бывало, встанешь перед окном своей комнаты наверху и смотришь: внизу раскинулся тёмною массой город, не видно реки из-за темноты, за городом молчаливо чернеет лес. Нерехта спит, кругом всё тихо, в маленьких домишках почти нигде нет огня. И тоскливо как-то становилось: нигде я так ясно не видела всю ничтожность человека, таких людей, как мы… На большой равнине, где-то в средней полосе России, меж зелёных лугов, затерялся городишко Нерехта; люди настроили себе крошечных домиков, живут в них, спят спокойно… А ночь величавая смотрит с неба на землю, покрыв её тёмным покрывалом, и люди кажутся маленькими чёрными точками… тоска, тоска страшная… Как ни думай, человек — муравей, нуль, ничто, несмотря на всю свою премудрость, все науки и изобретения; и с таким приятным сознанием придётся прожить всю жизнь, до смерти…
Как часто играет судьба! Я нередко думаю, отчего я не родилась принцессою, или от родителей, принадлежащих к высшему свету? О, тогда бы мне можно было возвыситься! У меня есть два желания, и одно из них — попасть в этот заколдованный круг, знакомый мне лишь по газетам и мемуарам… Нет, довольно думать о том, чему никогда не исполниться: ты будешь монахиней с чётками в руках и псалтирём на аналое своей кельи… А до монастыря, т. е. до старости, надо много трудиться и учиться…
6 июля.
Вернулась с дачи около Москвы, где гостила у тёти. Какой там чудный лес! Небо голубое, деревья высокие, солнце светит, кругом — ни души, всё тихо, и если бы можно было — я оставалась бы там целыми днями…
На дачу часто приезжали гости — купцы и комиссионеры. За обедом, когда собирались все вместе — молодёжь и они, — не было слышно никакого разговора, тем более смеха и шуток; все молчали, лишь изредка перекидываясь фразами, вроде “он купил на 40 тысяч меди… и дёшево” {Московские родственники Дьконовых, Оловянишниковы, владели колоколо-литейным производством, фабриками церковной утвари, доходными домами, вели широкую торговлю в России, поставляли колокола в Грецию, Болгарию, Сербию, Палестину и др. страны.}. Молчание это не казалось мне странным или принуждённым: я, по рождению русская купчиха, попав в круг людей коммерческих, где мне надлежит быть, сразу поняла, что купцу или приказчику — людям занятым — нет вакации, как то бывает для интеллигента, а поэтому они и устают больше, им не до болтовни…
Скверное впечатление производит Москва летом: пыльный воздух, грязно, шум. На улицах вывесок столько, что я удивилась, — где же живут покупатели для такого множества магазинов? Нет почти дома без вывески, часто очень неграмотной. От прежней, древней Москвы, столько раз описанной в романах, не осталось камня на камне: это другой город, выстроенный на месте старого. В одном стихотворении сказано: “Москва, как много в этом слове для сердца русского слилось {У Пушкина: “Москва… как много в этом звуке / Для сердца русского слилось!” (“Евгений Онегин”, глава седьмая, строфа XXXVI).}. Это правда; но вид Москвы с ее летней духотой, суетой и шумом, не способен возбудить ни малейшего чувства. Только входя в Кремль, невольно проникаешься благоговением: там везде тишина, все соборы дышат чем-то спокойным, давно минувшим; невольно вспоминаешь, чем была прежде Москва, какие в ней совершались события, и ниже склоняешься пред какой-нибудь иконой в сознании своего ничтожества. <…>
4 августа.
Читаю теперь Надсона {Семён Яковлевич Надсон (1862—1887), поэт.}. Модный поэт, его любит, кажется, вся молодёжь; начитавшись критических этюдов Буренина {Виктор Петрович Буренин (1841—1926), критик, поэт. Резкие фельетоны Буренина о Надсоне появились в газете “Новое время” 7 и 21 ноября 1886 г. и 16 января 1887 г.}, я смотрю на него с предубеждением. В сущности, Надсон не повинен в своей славе, раздутой десятками его поклонниц из маленького огонька в большой костёр, и, так как вся его жизнь сложилась неудачно, — он был бы без неё несчастлив: получив плохое образование, он не знал корифеев иностранной литературы, был болен, беден, не особенно развит умственно — и среди всех этих несчастий ему протянула руку фортуна, он стал знаменитостью. Его смерть оплакивали тысячи, и долго, может быть, в глухих захолустьях России будут увлекаться таким поэтом. Надсон — калиф на час; час его пока ещё не пробил, конец, может быть, ещё не близок, но время сделает своё дело. <…> Мастерски написанное одно стихотворение Полонского — “На смерть Надсона” {Стихотворение Я. П. Полонского “Памяти С. Я. Надсона (19 января 1887 г.)”.} — лучше всей поэзии поэта; читая это произведение одного из Мафусаилов современной русской поэзии, чувствуешь не рифмованное нытье, а глубокое сожаление старца о даровитом юноше.
15 августа.
Сегодня мне исполнилось 16 лет! Я вполне горжусь своими годами: приятно сознавать, что в некотором роде, уже совершеннолетняя… {Согласно российским законам, в 16 лет для женщин наступал брачный возраст, гражданское совершеннолетие достигалось в 21 год.} Теперь читаю романы. За 1 + месяца прочла их не меньше 10 книг, все французские. Глупы они страшно, но не могу отстать от них. Передо мной лежат Руссо, de Stael, а в руках “Les exploits de Rocambole” — и классики забыты, забыта ночь, — я не существую, а живу с каким-нибудь Rocambole или sir Williams… {Рокамболь, сэр Вильяме — персонажи авантюрных романов Пьера Алексиса Понсон дю Террайля (1829—1871).} И эту страсть преодолеть не могу.
30 августа.
Встречала о. Иоанна Сергеева, о котором в последнее время так много говорят и пишут {Иоанн Кронштадтский, в миру Иоанн Ильич Сергиев, (1829—1909) — священник, духовный писатель, с середины 1880-х годов пользовавшийся славой проповедника и чудотворца. Резко осуждал религиозную позицию Л. Н. Толстого, личностью и учением которого Е. Дьяконова чуть позднее глубоко увлеклась.}. Я видела его близко, и меня поразили полузакрытые, необыкновенно яркого голубого цвета глаза: они смотрели куда-то вдаль, не замечая никого из многочисленной толпы, нежно-розовый цвет лица, юношеский румянец и голубые глаза о. Иоанна невольно поражали: он казался молодым, тогда как волосы и борода указывали настоящей возраст. Выражение лица у него было кроткое; благословляя народ, он говорил: “здравствуйте, други мои”, “велико имя св. Троицы”. Его слова были для меня странными, необыкновенными: кто-то “не от мира сего” явился с приветом в грешный мир. <…>
16 сентября.
Слушала фонограф Эдисона {Первое ознакомление российской публики с фонографом, изобретённым Т. А. Эдисоном (1847—1931) в 1877 году, произошло в Москве, в 1879-м.}. Я ожидала, признаюсь, большего: мне казалось, что я услышу голос и музыку, как в театре, но на деле не то: фонограф с точностью воспроизводил звуки, но очень глухо, иные даже едва слышно. Получалось впечатление, как будто за три комнаты играют или поют. Но хуже всего воспроизводит фонограф человеческий голос: нужно было напрягать слух, чтобы уловить слово. Зато музыку, особенно высокие ноты, слышно отлично… “Человечество идёт вперёд!” Эту казённую фразу можно смело сказать, услыша фонограф. Я, право, не знаю, чем лучше быть: Пушкиным или Эдисоном? Патти {Аделина Патти (1843—1919) — итальянская певица, колоратурное сопрано. В начале 1890-х воспроизведение записи её голоса на фонограф входило в программу демонстрации фонографа в русских городах.} или профессором? Чем лучше, что лучше, о Господи, право не знаю!..
22 октября.
Когда я умру? Что ждёт нас там, в другом мире? Будем ли мы действительно жить вечно, как сказано в Евангелии? Я не могу этому верить: жить вечно слишком страшно, но и уничтожиться без всякого следа тоже не хочу. Как же быть? Я думаю, думаю, и ничего не могу решить… “Жить вечно”, какой ужас! Если вдуматься в это слово, можно с ума сойти; я иногда думаю долго, и потом чуть не кричу от ужаса… Ах, если бы можно было убить душу, а тело оставить на земле жить и наслаждаться.<…>
25 октября.
Вчера был акт. Я ужасно боялась выходить за медалью и дрожала, стоя в первом ряду. Хорошо помню только ту минуту, когда ко мне протянулась рука губернаторши с раскрытым футляром, на тёмно-синем бархате которого резко выделялась большая серебряная медаль. На акте присутствовало многое множество лиц в парадных мундирах с золотым шитьём. Я полагаю, что их пригласили более для красоты вида: мундиры очень хороши, а из некоторых изящных “знаков отличия” я с удовольствием сделала бы брошку… <…>
18 ноября.
Нельзя ли уйти хотя на неделю из дома? Три года продолжается эта жизнь; прежде я возмущалась — теперь чувствую смертельную усталость… И в этой бессмысленной сутолоке жить ещё 5 лет! {Е. Дьяконова говорит о сроке, отделяющем её от достижения возраста гражданского совершеннолетия, когда она сможет выйти из-под опеки матери.} <…>
2 декабря.
На здешней сцене было представлено “Горе от ума”; Боже, во что превратилась эта гениальная комедия! Софья говорила, как старая сентиментальная дева, Чацкий орал, позировал, то и дело ударяя себя по бокам. Говорят, будто бы артист от волнения перед началом пьесы упал в обморок, даже хотели спектакль отменить, что было бы гораздо лучше. <…> Студенты неистово хлопали в ладоши, шум и гам стоял невообразимый. Мне было скучно…
1891 год
1 января.
С Новым годом!.. Я встречу их здесь ещё четыре, и затем… куда? За границу? Чем лучше быть — профессором или купцом? Всего лучше быть губернаторшей, тогда бы я много сделала для нашей гимназии. Сегодня мне весело…
1 февраля.
Утром посмотрела на себя в зеркало — на меня смотрел урод! Да, это печальный факт, я чуть не бросила зеркало, но сколько ни искала хоть привлекательной черты на лице своём — не находила, и всё более убеждалась в своём собственном уродстве: предо мной была одна из тех физиономий с грубыми чертами, которые я положительно ненавижу… А скоро бал. Мучительное сознание собственной неловкости и незначительности уже теперь охватывает меня… Скверно, скверно!.. После бала я буду на положении Настеньки из “Тысячи душ” {Роман А. Ф. Писемского (1821—1881).} в её первый выезд в свет, с тою только разницею, что с ней хоть один танцевал, а со мною никто не будет… <…>
23 марта.
Как давно не раскрывала тетради. Теперь я гораздо более люблю думать, чем браться за перо; для меня дневник уже не место излияния моих мыслей и чувств, как прежде, а так — тетрадка, которую раз, много два, в месяц возьмёшь в руки и запишешь кое-что, если есть время… <…>
19 апреля.
Неужели это не сон, и “Крейцерова соната” в моих руках? {Законченная Л. Толстым в 1889 году, “Крейцерова соната” подвергалась неоднократным цензурным запретам, однако расходилась во множестве литографированных и гектографированных списков. Опубликована в 1891 году в 13 томе Собрания сочинений писателя после разрешения, данного Александром III 13-го апреля того же года, но 19-го апреля Е. Дьяконова, безусловно, читает ещё не подцензурный текст.} Ах, как весело! Снова начинаю верить в свою счастливую звезду. Звездочка! свети мне чаще и ярче, свети так, как светила сегодня, будь умница… Как хорошо! И какой я наклею нос моей почтенной наставнице — “Не читайте, Лиза, этого произведения, если даже оно и попадётся вам в руки”. А я делаю как раз наоборот…
И то, о чём я даже не мечтала, считая невозможным, исполнилось так просто и легко. У знакомого адвоката заговорили, между прочим, о “Крейцеровой сонате”, и я призналась, что мне и думать нечего её прочесть (я вообще равнодушно относилась ко всем толкам и разговорам об этом произведении, именно вследствие невозможности прочесть его самой). П.П. засмеялся: “Да вот, она у меня, не хотите ли посмотреть?” Я удивилась, едва скрыв своё смущение. — Хоть бы “посмотреть” — и то хорошо. — Принёс. Я осторожно полистала; вероятно, на моём лице изображалась смесь удивления и почтения, которое я чувствую ко всем произведениям Толстого. Заметив это, кругом засмеялись. Шутя, я уверяла всех, что буду помнить, по крайней мере, как держала в руках эту тетрадку. Мне очень хотелось попросить её прочесть, но я не смела, считая это невозможным. Вдруг, к моему великому удивлению, П. П. предложил мне дать её прочесть. Я обрадовалась и на вопросы — не узнает ли мама — сказала, что никто ничего не узнает. — “Мы с вами вступаем в заговор”, — смеясь заметил адвокат. Я простилась и ушла с драгоценным свёртком.
22 апреля.
Только что кончила читать “Крейцерову сонату”. Я читала её, наслушавшись разных суждений и толков, которые сводятся к одному: окружающая жизнь становится противной и гадкой вследствие страшно тяжёлого впечатления от произведения. Содержание, само по себе, действительно ужасно. Рассказ Позднышева — это целая поэма страшных страданий, почти беспрерывных нравственных мучений. Невольно удивляешься, как это люди выносят такую жизнь? Но и Позднышев не вынес её до конца, иначе — он сошёл бы с ума. Тонко и глубоко затронул Толстой все стороны души человеческой… Но, может быть, вследствие моего полного незнакомства с отношениями мужчин и женщин, незнания жизни и каких-то страшных пороков и болезней, — на меня “Крейцерова соната” не произвела чрезвычайно сильного впечатления, и, прочтя её, — я не усвою себе “мрачный взгляд на жизнь”…
1 мая.
Я писала в прошлый раз о “Крейцеровой сонате”, но мне так хотелось спать, что я прервала свои рассуждения. Может быть, это и хорошо?
Я помню, когда читала “Анну Каренину”, то зачитывалась ей до того, что всё забывала: мне казалось, что я не существую, а вместо меня живут все герои романа. Такое же ощущение испытывала я, читая “Крейцерову сонату”, она притягивала меня к себе, как магнит. Это чисто физическое ощущение. “Крейцерова соната” не только не произвела на меня “ужасного” впечатления, а наоборот: я и прежде любила произведения Толстого, теперь же готова преклоняться пред ними. Многие писатели описывали и семейную жизнь и стремились дать образец народной драмы — и никто из тысячи писателей не создал ничего подобного “Крейцеровой сонате” и “Власти тьмы”. Я жалею, что моё перо не может ясно выражать моих мыслей. Я могу сказать, но не написать; говорить легче… Пока жив Толстой, пока он пишет, — нельзя говорить, что наша литература находится в упадке: Толстой сам составляет литературу. Теперь то и дело раздаются сожаления: талантов нет, посредственностей много, ничего хорошего не пишут. Ну и пусть талантов нет и посредственностей много: гений один стоит всех талантов и посредственностей. Оттого-то они и редки. В нашей литературе в один век явилось три гения {Имён Е. Дьяконова не называет, — но по характеру упоминаний в её дневнике можно предположить, что двое из подразумеваемых ею “трёх гениев” это Пушкин и Л. Толстой, третьим же мог бы оказаться Гоголь либо Лермонтов.}; явится ли столько же в будущем столетии? — Навряд ли. — Так имеем ли мы право жаловаться? — Нет, нет и нет… Может быть (!), я буду иметь случай прочесть “Исповедь” {Цензурный запрет на публикацию “Исповеди”, законченной в 1884 году, перестал действовать лишь в 1906-м. До этого момента “Исповедь” распространялась в списках и копиях.} Толстого. Вот бы хорошо!
18 мая.
Экзамены кончились, и всеми нами овладело какое-то грустное настроение. Не было и тени радости. Нам было грустно, оттого что скоро придётся расстаться друг с другом и многие из нас вступят в жизнь. Это “вступление” в настоящую жизнь не для всех приятно, главное же, — никто из нас не знает, что кого ждёт впереди. И теперь всем было как-то тяжело и скверно; заглядывая глубже, можно думать, что нам было бессознательно грустно от неясного предчувствия ожидающей нас будущности. Эта будущность темна; поприще наше, к которому нас подготовляли, — трудно и неблагодарно и непосильно многим из нас. Мы проживём — и не останется от нас на земле даже камня, по которому могли бы узнать о нашем существовании. Нам предстоит тёмная, безвестная жизнь… <…>
23 мая.
Сегодня мне П-ская объяснила всё для меня непонятное, и я впервые в жизни узнала столько гадости и мерзости, что сама ужаснулась. Она мне объяснила смысл слов — изнасиловать, фиктивный брак, проституция, дом терпимости… это ужасно мерзко, отвратительно… Так вот в чём состоит любовь, так воспеваемая поэтами! Ведь после того, что я узнала, любовь — самое низкое чувство, если так его понимают… Неужели Бог так устроил мир, что иначе не может продолжаться род человеческий… К моему величайшему изумлению, оказалось, что и здесь, в Ярославле, существует дом терпимости, несчастные женщины проживают там с жёлтыми билетами… О позор, стыд, унижение! Как их мне жаль! Лучше бы им не родиться никогда… ведь это — ужас! У меня теперь точно глаза открылись. Бог всё премудро устроил, но из этого люди сумели сделать величайший, безобразнейший из грехов; Он справедливо наказывает таких людей страшными болезнями, и болезней этих не надо лечить, — это наказание. Но где же нравственность? Где священники и церкви? Просто голова кружится…
30 мая.
Вчера в последний раз мы одели форменные платья, в последний раз сделали официальные реверансы, собравшись в зале, и получили свидетельства… Сердце сперва готово было разорваться от тысячи разнообразных ощущений: весело и грустно, жалко и страшно… Но потом… В последний раз, расставаясь, может быть, навсегда, крепко обнявшись, мы сказали друг другу “прости”. <…> Проходите скорее 4 года! Что я буду делать в ожидании совершеннолетия — это ещё вопрос, а о том, что буду делать после — о, это я уже решила! Вот тогда… но нет, не буду писать. <…>
31 июля.
Перед тем как поместить в газете объявление об уроке — мною овладело раздумье: что я хочу сделать? Ведь объявления об уроках помещаются только нуждающимися в них бедными людьми. А я-то? Мое желание иметь урок, разве это не каприз? Мне он нужен только для того, чтобы иметь свои деньги, карманные деньги, которых мама давать мне не соглашается. Знакомых у меня нет, следовательно, уроков мне доставить никто не может, я и придумала поместить объявление.
Что сказал бы на это мой гордый и самолюбивый отец? В поисках уроков есть всегда что-то унизительное… О, наверно, папа запретил бы мне и думать об этом, если б узнал, что его родная дочь, не менее гордая, чем и он, сама решилась поместить объявление, как самая последняя городская учительница…
В руке у меня был клочок бумаги с написанным объявлением; стоило разорвать его — и всё кончено… Такие мысли волновали меня, но… Рубикон был перейдён…
2 августа.
Объявление начинает приносить “плоды”: бабушка пришла в ужас, мама очень недовольна, говорит, что я прославилась на весь город, молчит, грозы пока нет, но для меня хуже всего это молчаливое гонение. Все и всё против меня. Теперь я готова сознаться, что поступила довольно необдуманно, не сказав никому ни слова; за эту выходку мне придётся поплатиться.
На семейном совете решено: прекратить печатать объявление и не пускать меня на Французскую выставку в Москву. <…>
1892 год
8 января.
Как сон, прошли эти дни святок — я веселилась. Теперь я всётаки успела ближе познакомиться с обществом, хотя меня держат слишком строго, наблюдают за мной постоянно, находя, что я ещё очень молода для частых выездов. Действительно, я моложе всех барышень, у меня нет такой представительности и самоуверенности, но ведь это приобретается привычкой… Мне уже смешно себя вспомнить прошлогодней гимназисткой, которая дрожала как осиновый лист, подавая впервые в жизни руку гимназисту.
1 марта.
Боже мой, до чего гадка моя жизнь! Ты, в руках которого наша жизнь, — неужели Ты не можешь послать мне избавления? Я не знаю, что теперь выйдет из меня: характер мой стал несносен и всё более и более разгорается во мне ненависть к этой жизни…
Жить так, чтобы не знать, что будет с тобою завтра — вот что увлекает меня; лучше работать и ходить босиком, но быть спокойной в душе, нежели носить туфли, ничего не делать и постоянно волноваться о самой себе. Христианство запрещает самоубийство, но будь я язычницей, — меня уже с 14-ти лет не было бы на свете. <…>
10 марта.
<…> Всё, что написано мною раньше за все эти четыре года, представляет только внешнюю, малоинтересную связь событий. Я делала это из боязни и скрытности, но теперь всё это оставлю. Я даже рисовалась иногда в дневнике, но… повторю слова Марии Башкирцевой: “к чему лгать и рисоваться?” — в особенности мне. Написав свой дневник, Мария Башкирцева думала оставить “фотографию женщины”, и ошиблась: её дневник, выходящий из ряда обыкновенных, не может представить “фотографию женщины” — в нём она писала искренно и правду, что я делаю очень редко относительно себя самой, скрывая большую часть того, что думаю. <…>
13 марта.
<…> Я буду писать о себе, ещё одной “фотографией женщины” будет больше. Но я женщина изломанная, если можно так выразиться, я полна противоречий самой себе, у меня неровный характер. Прежде всего, — что я такое? я и сама не могу сказать. Находятся люди, называющие меня странной. Это неправда: я очень обыкновенна; даже моя наружность — мое отчаяние, — с каждым днем я всё более убеждаюсь в простой, но неприятной истине — что я урод, или очень некрасива. А такое сознание в 17 лет ужасно.
Я обожаю красоту, в чём бы она ни выражалась. Во мне нет также той привлекательности, которая заставляет и некрасивых казаться красивыми; я не интересна, и никогда ни один мужчина не найдёт удовольствия в беседе со мною. Говорят, что я много читала, — и это вздор: читала кое-что без разбора, что попадалось под руку. О моих способностях все и всегда были почему-то высокого мнения, но я совершенно не знаю математики, хотя и кончила с медалью курс гимназии. Судьба дала мне огромное честолюбие, большие планы… но совсем не дала данных для исполнения всех и удовлетворения зверя, грызущего моё сердце. Боже меня сохрани быть завистливой, но я иногда не могу не жаловаться на эту злую мачеху… Если бы случилось так, что я должна была обеднеть, — то могла бы жить как Диоген в бочке. <…> Я вся состою из крайностей, а потому и думаю двойственно: если это так, то так, а если иначе, то иначе, мне всё равно. Я чувствую, что жизнь в нашей семье заставит меня возненавидеть семейную жизнь. Я никогда не выйду замуж, в чём для меня нет беды. Мое одиночество в семье заставляет меня сильно страдать, меня никто не любит; должно быть, — лишний человек в семье. Это чувство ужасно, и я постоянно молюсь, чтобы как-нибудь избавиться от такой жизни. Напрасно: Слышащий всех — не слышит меня. Впрочем, я, кажется, богохульствую, чего не должно быть в дневнике молодой девушки. Можно быть пессимисткой, только не по отношению к религии. Однако, я не смотрю слишком мрачно на жизнь: она очень интересна и занимательна для всякого, и я сомневаюсь, что из двух лучше: умереть, не зная и не увидев жизни, или же умереть, вполне изведав её со всеми её дурными и хорошими сторонами. В первом случае — полное неведение; во втором — знание великой науки — науки жизни…
2 апр. Вел. четверг.
Сегодня в церкви, под звуки печального пения, я вдруг почувствовала, что не могу дать ответа на вопрос: что такое Бог? Давно перестав думать о Нём, — не понимаю Его. Глаза мои наполнились слезами, горло сжало, мне стало страшно, и я упала на колени, упрекая себя за неверие, — грех, в котором до сих пор никогда не была виновата в детстве, ибо мысли о Боге для меня были самыми лучшими.
Начали читать Евангелия. “Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте” {Евангелие от Иоанна,14, 1.}. Это краткое изречение мне кажется почему-то полнее, выразительнее и торжественнее других… Именно так: “да не смущается сердце ваше”… Эти слова, как и всегда, произвели на меня впечатление: казалось, что сам Бог говорит нам, и мой смущённый ум сразу успокоился… <…>
16 июня.
Когда я пишу эти строки, — слёзы навертываются на глазах и рука невольно дрожит. Я видела весь ужас смерти… Мой крёстный был безнадёжен, и вчера утром, когда я пришла к нему,— жена его встретила меня с заплаканными глазами: “Он умирает”. Я бросилась в спальню, и… чуть не вскрикнула от страха и жалости: он лежал с открытыми глазами и ртом, никого не узнавая и тяжело хрипя. Я откинулась в угол, испуганно посмотрев на это страшное зрелище: смерть уже была здесь… ужасно было её приближение. Доктор сказал, что больной ещё может прожить около суток: мозг уже был поражён, но отчего последует смерть, от наростов в мозгу, или от кровоизлияния — неизвестно…
Томительно потянулись часы… И вся погружённая в думы, прислушиваясь к тяжелому хрипению умиравшего, ходила я из угла в угол по комнате… В первый раз в жизни я видела так близко наступление смерти и обратилась к религии. Есть что-то утешительное в вере… Надо веровать. Вот уже скоро душа покинет своё тело… что будет чувствовать она, какова будет жизнь души после смерти, что ждёт её? Я вся замирала под гнетом этих мучительных вопросов. <…>.
Наступила ночь, страшная ночь. С крёстным сделалась перемена: хрип перешёл в стон, и этот беспрерывный стон привёл меня в ярость. Я металась по комнате, бросалась ко всем иконам, прося Бога или о смерти крёстного или об его выздоровлении. Я была зла на всех и на себя за то, что не была в состоянии помочь ему. Наконец, утомившись от гнева и молитв, всё ещё слыша стоны, я немного прилегла на диван и заснула. Проснулась, вскакиваю и бегу: крёстный всё так же. Мне вдруг представилось, как через несколько часов в зале будет стоять гроб, как будут петь панихиду… Я вздрогнула невольно, и мне опять стало страшно…
А смерть безвозвратно брала своё: крёстный перестал уже стонать, только прерывисто и тихо дышал… В спальне было темно. Собравшись все в ней, мы стали молиться. Крёстный дышал всё тише и тише; вот он тяжело вздохнул, открыл рот, сказал что-то, слышно было, будто кровь перелилась по всему его телу, ещё один вздох… Мы замерли. Я откинулась в угол и рыдала неудержимо. Так стояли мы несколько минут. Крёстный не шевелился, глаза его остановились… Открыли стору, и яркий свет озарил тёмную комнату: перед нами лежал мертвец. Невыразимое чувство ужаса, охватившее меня в момент смерти крёстного — заменилось вдруг спокойствием, покорностью неизбежному. Мои рыдания утихли, и я чувствовала, что более не заплачу. Только при переносе тела на стол я вскрикнула от испуга, когда раскрытые глаза и рот его обратились ко мне…
О, мой милый, мой дорогой крёстный! Как жаль мне тебя, твоей несчастной жизни и твоей смерти! <…>
30 июня.
Холера!.. Бедствие это надвинулось в наши края… Матушка глушь уездная — наша Нерехта — чистится, осматривается санитарами, совсем по-столичному. Строится барак за городом, в поезде железной дороги ходит белый вагон. В церквах читают особые молитвы, служат молебны, совершают крёстные ходы. Я была у Троицы в селе. Народу — масса, священник читал специально для “народа” написанную простым разговорным языком проповедь. Любопытно знать, какое впечатление произвела она.
1 августа.
Жестоко ошибаются те, кто считает жизнь пустой, ничтожной, скверной, да и вообще все, которые недовольны жизнью, потому что от человека же зависит сделать её бессодержательной или прекрасной и высокой…
В эти дни я кончила немецкие переводы и думаю приняться за лекции о сущности религии Фейербаха {“Лекции о сущности религии” Людвига Фейербаха (1804—1872), распространявшиеся в России нелегально.}. Судя по введению, они будут интересны. <…>
4 августа.
С берега Кострома — точно русская купчиха расползлась в ширину. Самое замечательное в ней — Ипатьевский монастырь {Монастырь в Костроме, где в 1613 году Михаилу Фёдоровичу Романову было объявлено о его избрании на царство.}. Я была там, но признаюсь, не вполне довольна его посещением: как простым смертным, нам можно было войти только во дворец и церковь, осмотреть только поверхностно, слушая объяснения сторожа, вроде: “вот комната Михаила Фёдоровича, здесь его спальня, зала”. Видела также гробницы Годуновых. Я очень люблю старину, а тут каждый предмет переносит мысль за сотни лет, в другой мир, к другим людям. Какое-то смутное чувство охватило меня, когда я вышла из монастыря: он очень древний, всё в стенах его дышало стариной, а в трёх шагах от него — современный плавучий мост, покрытый грязью и извозчиками. Сразу из старины попадаешь в наш век — это и производит на меня ошеломляющее впечатление.
7 августа.
В нашем роду сохранилась вот какая легенда. Это было очень давно. Один из прадедов как-то много задолжал и не хотел расплачиваться с кредиторами. А в старину векселей не давали, верили на слово. Вот он и придумал, чтобы не платить, отречься от своих долгов, показать под присягой, что у него их никогда и не было. А так как все нерехтяне знали, что он много должен, то удивлялись, как он решается дать ложную присягу. И священники это знали, но думали, что он всётаки опомнится, — ведь присягой не шутят. Повели его присягать на гору, за Нерехту, в присутствии массы народа. Он, не смущаясь, стал присягать, но в эту минуту над его головою разверзлось небо, и среди молний голос произнес: анафема, анафема!.. С тех пор, говорят, род был проклят, а потому его теперь и преследуют несчастья. Я горько плакала, впервые услышав этот рассказ, но и теперь отчасти верю ему… Такие легенды помимо всего ужаса имеют свою тайную прелесть {Вероятно, перифраз характеристики Татьяны в “Евгении Онегине”:
Что ж? Тайну прелесть находила
И в самом ужасе она:
Так нас природа сотворила,
К противуречию склонна.
(“Евгений Онегин”, глава пятая, VII)
15 августа 1899 г. Е. Дьяконова запишет: “Недаром один родственник называл меня Татьяной”.}: есть что-то действительно увлекающее и страшное в них. Грозный фатум обращается в Божие предопределение, и вера в судьбу как бы оправдывается указанием свыше.
12 августа.
Когда я думаю, что вот уже скоро год, как я теряю время, и что впереди предстоят ещё годы терпения — страшное отчаяние охватывает меня. Я хочу одного и только одного: учиться. Я чувствую, что слишком мало знаю и слишком неразвита, чтобы вполне вступать в жизнь. Все другие желания и страсти не существуют для меня; природа же нарочно создала меня так, что благодаря моей внешности, все мечтания о счастье, любви — не для меня. Что толку в том, что у меня розовый цвет лица, красивые губы, белые зубы, тонкая фигура — всё это ещё не составляет привлекательности. Когда я слушаю рассказы моей приятельницы Сони о том, как в неё влюблялись, когда я вижу, что её лицо разгорается, глаза блестят, и вся она в эти минуты смотрит настоящей красавицей — тогда я думаю, что представляю ей живейшую противоположность: чем больше она одушевляется — тем я становлюсь холоднее, она увлекается — я насмешливо улыбаюсь, и, право, не будь у меня такая мещанская наружность, я была бы похожа на Мефистофеля…
Что, в сущности, человек? т. е. такой обыкновенный человек, как и мы все? По-моему, это даже менее, чем ничто. Я удивляюсь, как это люди не понимают своего ничтожества: они создают себе свой особый, маленький мирок, в котором ставят кумиром своё “я”, и стараются других подчинить ему. <…>
24 августа.
Погода чудная, август хочет казаться маем. Я сидела сегодня в саду, на моей любимой полянке под липой; на мне обычное синее платье, на голове лёгкий белый платок с кружевами; грациозно прислонившись к дереву, я сижу на складном стуле и, обняв одной рукой толстый сук, поднимаю голову и начинаю… мечтать… Но как мне было грустно! Я плачу от радости, когда уезжаю сюда, и сколько горя, расставаясь с Нерехтой… С каждым стуком колёс уходящего отсюда поезда — моё сердце замирает, слёзы неудержимо бегут из глаз… Стоя у окна вагона, я вся сосредоточиваюсь на виде исчезающего города, оторви меня кто-нибудь от него в ту минуту — мне кажется, что я умру… Скоро меня уже не будет здесь…
Я опять смотрю и на небо и на знакомые деревья, кусты и цветы, с моего места мне отлично всё видно, и при мысли, что скоро-скоро я должна всё это оставить, что я не увижу этой знакомой, дорогой картины, — страшно сжимается моё сердце, и, забыв всё, я чувствую, как слёзы душат меня…
Но закон и жизнь неумолимо ясно говорят мне одно: ты должна жить, как тебе прикажут, до двадцати одного года…
28 августа.
Наконец решусь сказать здесь мою заветную мечту, мою единственную тайну. До этого года я думала по совершеннолетии поступить на курсы, но мысль о потерянных годах заставляет меня поступить в один из швейцарских университетов. Какие знания нужны для этого, какие требования и формальности — ничего не знаю, я иду ощупью, на авось, с отчаянной смелостью слепого… Что-то будет? А пока в ожидании занимаюсь. Вот эта мысль — источник моего существования. Передо мной есть звезда, и я к ней иду… О, моё счастье! когда нужно — приди ко мне!..
Ярославль, 6 сентября.
Чем чаще я сталкиваюсь с здешним обществом, тем более сознаю, что оно мне чуждо. <…> И с приближением сезона, когда все заняты толками о кружке, о военном клубе, о туалетах — я сижу дома и думаю о предстоящих занятиях языками, музыкой, принимаюсь за латынь, хотелось бы поучиться и по-итальянски…
Как-то в газете я прочитала, что К-ская {С. В. Ковалевская, урожденная Круковская (1850—1891), математик, ради получения возможности продолжить образование вступившая в 1868 году в фиктивный (позднее ставший фактическим) брак с В. О. Ковалевским.} заключила фиктивный брак, с целью уехать за границу для учения. Это меня поразило: такая мысль мне бы и в голову не могла прийти. Но зато и я не К-ская… Однако, пример заразителен: что, если бы и мне сделать тоже! Но здесь никто и не согласится, это невозможно. Притом, я ведь получу свободу, но как долго ждать! А между тем к маме стали уже приходить свахи. Вот беда-то! что за народ! <…>
19 сентября.
Очень редко, при взгляде в зеркало на своё свежее, розовое лицо с серыми глазами, которые, по выражению Сони, — смотрят “открыто и ясно”, — мне думается, что я могу быть не хуже других, т. е. не некрасивой. Но здравый смысл, которого на всё остальное мне часто не хватает, тотчас же останавливает всякие дальнейшие самообольщения: что издали кажется красиво, вблизи у зеркала теряет свою красоту. Впрочем, глупо жалеть о том, что не красавица: не всем же родиться прелестными, надо быть кому-нибудь и уродом. Но вот ещё что: одна из гувернанток учила меня почти целый год кокетству, убеждая, что дело не в красоте, а в том, чтобы иметь право на внимание мужчин. Об этом-то последнем я никогда не заботилась, а она удивлялась и читала мне целые лекции. Я слушала, хлопала глазами и пропускала мимо ушей. Я знаю, что на это неспособна, у меня нет той смелости, без которой кокетство, по-моему, невозможно. В глубине души я сознаю, что могу быть и оригинальной и интересной, умею поддержать всякий вопрос на общественные темы, могу ловко вывертываться из затруднения, когда разговор принимает нежелательный для меня оборот, могу говорить целый час, ничего в сущности не сказав, если нужно — притворюсь непонимающей, тонко сыграю роль беззаботной девушки, но всё это мне редко приходится применять на деле. И притом, это моё собственное сознание, а себе никогда нельзя доверять вполне. Точно так же я не доверяю и людям: излишняя откровенность всегда повредит. Вот почему дневники и всевозможные журналы стоят лучшего друга… <…>
30 сентября.
Тоска страшная… Я сегодня не выдержала и залилась отчаянными, горькими слезами. Моя болезненная мнительность и чувствительность пробуждаются при малейшем поводе… Как скверно и тяжело быть вечно одной! Но, милая Лиза, тебя некому успокоить — ты сама успокойся. Рассудок — прежде всего. Никакие сентиментальности не должны заменять его.
О, если бы всё это бросить, от всего освободиться! Я чувствовала бы тогда, вероятно, то же самое, что чувствует Н. М. Пржевальский, отправляясь в далёкие путешествия. Но мне говорят: “не лучше ли вам выйти замуж?” О, я не так глупа, как думаете вы, свахи и кумушки… Лучше вынести эту домашнюю тюрьму три года, и потом получить свободу, нежели из-за минуты отчаяния заплатить целой жизнью… А как я дорожу этим правом — свободно располагать своею личностью! Бог один знает, какое оно для меня недоступное сокровище.
Завтра Покров Пресвятой Богородицы. Боже всех, Бог Милостивый и Великая Святая Душа, — покрой нас, несчастных, Святым Твоим омофором!
13 октября.
Мне кажется, что моя теперешняя жизнь должна несомненно отразиться в будущем, и влияние её будет гибельно. О, неужели я сойду с ума?! Боже, спаси меня… Я стараюсь всеми силами твёрдо стоять и не колебаться, усвоить себе тот философский взгляд на жизнь, благодаря которому Диоген жил в бочке и отшельники жили годами в пустынях. Но молодость берёт свое, мне хочется жизни, света, дела и знаний, словом — всего, чего я лишена и никогда не достигну, если буду так жить…
“Мать” — жестокое слово, которое для меня звучит горькою насмешкою, — отнимает у меня всё, даже свою любовь ко мне, как своему ребенку. Но Бог с ней, если она меня не любит!
Читаю теперь “Государя” Макиавелли {Трактат Никколо Макиавелли (1467—1527) “Государь” (1513) считался апологией крайнего политического цинизма.}. Эта ужасная книга могла быть написана только в своё время. Читая её, можно воскликнуть: “и до такой гадости, подлости мог дойти человек. {По-видимому, Е. Дьяконова имеет в виду авторскую инвективу в адрес Плюшкина в “Мёртвых душах”: “И до такой ничтожности, мелочности, гадости мог снизойти человек!”} <…> Нет сомнения, что эта книга была достойной своей эпохи. Рассуждения Макиавелли на первые три книги Тита Ливия очень интересны; конечно, нельзя не согласиться, что все советы государю внушены глубоким знанием истории и людей; они дышат практической мудростью, но она-то и бьёт через край! <…>
24 октября.
Иногда, увлеченная Св. Писанием и примерами жития святых — я решаюсь вести добродетельную жизнь, а иногда — совсем наоборот. Почему я такая? Но… Впрочем, вы не знаете, как я честолюбива; этого я не говорю никогда и никому, но в действительности — безумные мечты овладели мною уже с 13 лет. В этом глупом возрасте я уже мечтала о приключениях, о возможности поездки в Абиссинию, чтобы выйти там замуж за негуса; в 15 лет я мечтала образовать женский университет в России, и, вся поглощённая этой мыслью, таинственно заявляла в дневнике: “много надо времени и много надо денег”… Я всё отдала бы за славу. И вот, мечтая таким образом, я в то же время вижу, как это всё глупо, и голос рассудка твердил мне “перестань”… но могу ли я?
Теперь читаю “Коран” Магомета, и это оригинальное произведение не производит на меня ни малейшего впечатления. Я одолеваю его с усилием, а всётаки читаю; ведь это, по меньшей мере, оригинально: читать Коран. О нём все знают, но немногие имеют понятие. Святые книги написаны не простым языком, а каким-то особенным слогом, который производит на нас неотразимое впечатление; такое же впечатление должен был произвести и Коран на арабов; хотя ему до Евангелия — как до звезды небесной далеко. Евангелие слегка напоминает восточный колорит языка. <…>
22 ноября.
Вчера умер Фет. Тот самый Фет, стихами которого я зачитывалась, считая чуть ли не бессмертным. Майков, Полонский, Фет — вот три писателя, на которых держится, как я думаю, вся наша современная поэзия — и уже одного из них не стало! Что толку в том, что в России много поэтов! никакие Фруги и Надсоны не заменят и строчки Фета, возьмите их десятками тысяч, всё же они — не он {Афанасий Фет (1820—1892); Аполлон Майков (1821—1897); Яков Полонский (1819—1898); Семен Фруг (1860—1916) — русские поэты.}. <…>
31 декабря.
В сущности, я очень несчастна… в смысле счастья. Мои мечты и надежды не исполняются, домашняя жизнь так тяжела. Ещё 12-ти летней девочкой, по смутному предчувствию, я твердила стихи:
“Так и рвется душа
Из груди молодой,
Просит воли она,
Просит жизни другой…” *
{* Цитата из стихотворения А. Кольцова “Русская песня” (1840), где чуть иначе: “Так и рвётся душа / Из груди молодой! / Хочет воли она, / Просит жизни другой!..”}
Значит, я тогда уже чего-то искала, заливаясь горькими слезами при мысли, что у меня нет цели жизни. О, детство, детство! Vita brevis, ars longa… {Жизнь коротка, искусство долговечно (лат.).}
О Боже мой! помоги мне! Дай мне больше разума, силы воли, у меня их так мало! Надо иметь веру. И я готова рыдать от отчаяния и молиться, со всей силой веры, на которую способна. Прежде я умела молиться, целыми часами стоя на коленях перед лампадой.
Скоро-скоро старый год канет в вечность… Тысячи людей с радостью и надеждой говорят “с Новым годом!” И я должна радоваться: ещё шаг вперёд по пути к моему совершеннолетию, а вместе с тем и к удовлетворению единственного желания — учиться. — С Новым Годом, господа! И, пожалуй, с новым счастьем! Оставив в стороне личную жизнь, отчего не пожелать всем добрым людям всякого счастья? Ведь понятие о нём до бесконечности разнообразно…
1893 год
7 января.
Однажды я подумала, что мне можно выйти замуж за старика, не моложе 67 лет, очень богатого, умного, образованного, тонкого эстетика, знатока всего изящного, который бы меня вполне понимал и относился бы скорее как отец, нежели муж. По-моему, с таким человеком можно рассчитывать на 10 лет полного счастья, а потом… пожалуй, мне больше и не надо. Счастье очень хрупко, и если выпадет его лет 10, — и этим человек должен быть доволен. Но… нет идеалов в наш век, о них можно лишь мечтать, — так и мне не найти моего идеала…
Это я говорю между прочим. В сущности же, я давно решила не выходить замуж за русского, а за француза.
Не говоря уже о франко-русских симпатиях, — мне ещё недавно пришлось узнать из книги, что от браков с иностранцами, т. е. от смешанных, родятся наиболее умные дети. А ведь, как хотите, очень приятно иметь умных детей…
30 января.
Я окончила читать дневник Марии Башкирцевой. Он не произвел не меня ни малейшего впечатления. Личность автора — в высшей степени несимпатична. Отыщите хотя одну привлекательную сторону её характера, укажите искреннее, сердечное движение в этой книге! “Я” переливается на всех страницах тысячами оттенков, от мрачного до светлого и наоборот. Не понимаю, как могли заинтересоваться этим дневником за границей: Гладстон {В 1889 году британский премьер-министр Уильям Гладстон (1809—1898) откликнулся в журнале “Nineteenth Century” на французское издание дневника М. Башкирцевой.} отозвался о нём, как об одном из величайших произведений конца этого века; другие превозносят эту книгу до небес, потому что в ней, будто бы, “весь отразился век, век нынешний, блестящий, но ничтожный {Реплика баронессы Штраль из 1-го действия лермонтовского “Маскарада”.}, и Мария Б. была его самой типичной представительницей. Бедное XIX столетие! Оно отразилось в самолюбивом, слабом и безнравственном человеке! Неужели оно, подходя уже к концу, не заслужило более лучшего сравнения?.. М. Б-ва, конечно, искренна в своем дневнике, она рисует себя такой, какой она есть; её нельзя назвать талантливой, даровитость — вот её блеск; но чудовищен этот ужасный эгоизм, под блестящей, прекрасной внешностью. Если дать прочесть эту книгу монаху, он скажет: “заблудшая, несчастная душа” и, пожалуй, будет прав. Горько видеть, как увлекаются в наше время подобными книгами…
Вы не подумайте, что я пишу это от женской зависти. Мало ли на свете людей, более стоящих зависти! Я знаю, что в глубине души своей я, в сущности, тоже нездоровый человек, моё нравственное существо с одной стороны истерзано, измучено безобразной домашней жизнью, с другой как-то разбрасывается в разные стороны. У меня никого нет… нет в целом мире человека, который мог быть мне другом, у которого я нашла бы себе поддержку. Но если судьба предоставляет идти одной по своей дороге — нужно ли, смею ли я жаловаться на одиночество?
У меня есть книги, у меня есть разум,— вот кто может и должен быть моим другом. Надо заставить сердце молчать, тогда рассудок свободнее определяет. <…>
17 апреля.
<…> Прямо передо мной портрет Наполеона I; я люблю подолгу смотреть на это прекрасное лицо, на эти необыкновенные глаза, и кажется мне, что лицо оживает, глаза загораются, и вот-вот он встанет передо мною, мой обожаемый герой, пред которым невольно преклоняешься. Сила этого гения имеет для меня какую-то чарующую прелесть. Пусть говорят мне, что он презрительно отзывался о женщинах, — в наше время последний недоучившийся мальчишка может сказать то же, но без всякого права и основания. И если бы я жила во время Наполеона и была француженкой — я воздвигла бы ему храм…
Рядом с Наполеоном — карточка о. Иоанна Кронштадтского. Даже в этом мой смешанный, пёстрый характер даёт себя знать: в моей душе могут мирно уживаться и безграничное поклонение Наполеону и почитание и вера в о. Иоанна…
19 апреля.
Я плакала, читая “Страдания Вертера”. Последние строки — “Милые, как они резвятся! Вместо моей сказки расскажи им историю несчастного друга” — невозможно читать без слёз. Боже, как счастлив тот человек, который может создавать великие произведения, которые по прошествии ста и более лет живут, говорят прямо сердцу и невольно возбуждают людей к чему-то лучшему, высшему будничной жизни? Гении — счастливейшие избранники всего человечества. Смеясь над невозможными любовными увлечениями или относясь к ним свысока-снисходительно, — я, читая Вертера, плачу над теми же страданиями, над той же любовью. Значит, есть в этом романе то, что трогает самые холодные сердца. Или мне, живущей исключительно головой, так незнакомо человеческое сердце, что истинное изображение глубоко трогает меня? — Не знаю… Но теперь нет Вертеров. А Шарлотты? Они-то, может быть, есть, но ведь Шарлотта без Вертера была бы ничто. <…>
8 мая.
…Тёмная ночь, на улицах ни души, слышно, как моросит мелкий дождь… Перечитывая свой дневник, я нахожу, что он похож на записки отчаянного пессимиста. И это — в контраст моей оптимистической роже?! Чёрт возьми, бывают же на свете противоположности!
10 июня.
В Романове, накануне крёстного хода, на который сходится масса народа из разных уездов и деревень, в соборе, полном молящихся, вдруг раздались крики: “пожар, спасайтесь!” Ударили в набат. Произошла паника; все бросились бежать к выходу, а на лестнице сидело множество деревенских женщин, отдыхавших до всенощной; охваченная ужасом толпа, толкая друг друга, искала спасения через их головы…
Несчастные деревенские бабы! я хорошо знаю их привычку тесными рядами усаживаться на лестницах церквей и на паперти, и поэтому-то главным образом они и пострадали при катастрофе: по ним бежала толпа, их головы топтали тысячи ног, и несчастные, не успев опомниться, встать — были убиты.
Что произошло далее — нельзя описать… Убитых оказалось 136 чел., из них 126 женщин. Причина этой трагедии: когда работники затопили в соборе недавно выстроенную печь — послышался запах гари и дыма, и вдруг кто-то крикнул зловещее слово… Священники продолжали богослужение, успокаивали народ, говоря, что никакого пожара нет, но с обезумевшей массой нельзя ничего было сделать, — и вот столько жертв, столько ужасных смертей! Боже мой, до чего ещё тёмен наш бедный народ, если среди него могут случаться такие несчастия!
Спрашивается, где же была полиция? что делает городская администрация? возмутительно и то, что даже не были посланы телеграммы в большие столичные газеты, а между тем находят же возможным и интересным сообщать об отъезде какого-нибудь французского полковника куда-нибудь на велосипеде. <…>
Нерехта, 7 июля.
С тех пор, как я прочла статью Гнедича {Петр Петрович Гнедич (1855—1925) — прозаик, драматург, критик, историк искусств.} в “Русском Вестнике” — “Вопрос о единобрачии мужчин”, я уже не верю нынешним женихам и их любви. Меня возмутила не самая статья, а выписка из комедии “Перчатка” Бьёрнсона {Бьёрнстьерне Мартиниус Бьёрнсон (1832—1910) — норвежский писатель.}, где невеста возвращает жениху данное ему слово, потому что он знал до свадьбы других женщин. И вот, вместо сочувствия несчастной невесте отовсюду поднимаются вопли негодования, и сам жених на вопрос возмущённой девушки — решился бы он жениться на падшей до замужества — тоном оскорблённой добродетели, читает ей же (!) нотации, что всякий мужчина из его круга почёл бы это за позор для себя… Им всё можно, а женщинам они не прощают и ещё считают позорным союз с подобной себе: они же её развращают, и они же смеют отворачиваться от неё, делаясь впоследствии “образцовыми” мужьями и отцами семейств. И это везде, везде! и в России, и за границей! О, Боже мой, Боже мой! Точно что оторвалось у меня на сердце, я хотела плакать, но не могла…
Невольно я подошла к полке книг и перечла вновь “Крейцерову сонату”. Каким глубоко нравственным произведением показалась она мне! Ещё более я поняла величие гения Толстого в его откровенных признаниях, сознании испорченности, в призыве молодёжи к нравственности? Это было известно всем, но Толстой первый осмелился говорить, и за это его обвиняли чуть ли не в разврате. Разговаривая со мной о “Крейцеровой сонате”, мужчины все порицали это произведение с разных точек зрения, учеными словами и выражениями, и ни один из них не сознался, что Толстой прав. Они возмущались… О, как всё это гадко!..
28 июля.
Погода стоит чудесная. Я гуляю по тенистым аллеям сада в самом непозволительном костюме; рубашке и юбке, предоставляя свои открытые плечи, руки и шею жечь солнцу и “прохлаждать” ветру. У нас в доме мужчин нет, и этот костюм в такую жару, уверяю вас, незаменим и прелестен по своей откровенности. Идиллия!.. Мне нравится ощущение солнечного тепла, и когда все другие охают и не знают, куда деваться от жары — я с удовольствием иду по солнцу, чувствуя себя точно в паровой ванне: и горячо, и приятно… А вокруг меня благодать какая! Кузнечики трещат, цветы кивают головками, ярко светит солнце, небо голубое, воздух чистый и тишина всюду тишина… Чёрт возьми, как эта хорошо!.. Здесь я совсем обленилась, и лекции Фейербаха не раскрываются уже третью неделю. Раз в год, по приезде сюда {В Нерехту.}, я отдыхаю, буквально забывая всё. <…>
12 сентября.
На сельскохозяйственной и промышленной выставке северных губерний меня очень привлекает и интересует отдел промышленности. Не сказывается ли в этом мое купеческое происхождение? Хотя мы уже числимся только почётными гражданами, но наши родные, всё больше очень самостоятельные купцы, и целый ряд моих предков, с какой стороны ни поглядишь, — с бабушкиной, с дедушкиной, отцовской, материнской — всё торговые люди… <…>
20 сентября.
Я прочла “Дон-Жуана”. Байрон удивительно соединяет в его лице невинность и порок; детскую ясность души с испорченностью рано развившегося юноши; поэма проникнута поэзией и цинизмом… и можно только удивляться этому “безгранично гениальному” произведению, как говорит Гёте. Мне кажется, в лице Дон-Жуана порок никогда не имел более привлекательной формы, нигде ещё не описывалась любовь и падение так поэтично и вместе с тем так цинично, свободно и резко. Много раз читала я всевозможные циничные описания у Золя, но у него совсем нет поэзии: одна грязь, иной раз отвратительная по своей правде. А в “Дон-Жуане”? — Вот отрывок {В прозаическом переводе А. Л. Соколовского (1837—1915).}: “Итак, свершилось! Сердца их соединились на уединенном берегу; звезды, венчальные свечи их свадьбы, проливали ослепительный свет на их пленительные лица. Океан был свидетелем, а грот их брачной постелью. Соединённые собственными чувствами, они не имели иного священника, кроме уединения. Они — муж и жена! Они — счастливы! Их молодые глаза видели ангелов друг в друге и рай — во всей земле”. Когда я прочла последнюю песнь “Дон-Жуана”, я машинально взялась за “Онегина”. Как похожи эти два типа, и в то же время какая между ними разница!
22 сентября.
Я сейчас раздевалась, чтобы лечь спать. Заплетая косу, я подошла к зеркалу, зажгла свечку. Рубашка нечаянно спустилась с одного плеча… Боже мой, какая жалкая, уродливая фигура! Худые, детские плечи, выдавшиеся лопатки, вдавленная, слабо развитая грудь, тонкие, как палки, руки, огромные ноги, неприличных для барышни размеров. Такова я на 20-м году моей жизни. Я чуть не плакала от отчаяния. За что я создана таким уродом? Почему у сестёр красивые, прелестные плечи, шея, волосы, маленькие ножки, а у меня — ничего, ничего?! И ведь никто не верит, что я считаю себя совершенно искренно уродом. О, дураки! они судят только по лицу, пока не обезображенному оспой… Да, только в одном дневнике можно откровенно признаться, невольно смеясь над собой: что может быть смешнее маленького урода, который много о себе думает, с сумасшедшими мечтами, всевозможными планами, жизнь которого вертится около своего “я”, и… на которого, как и следует ожидать, никто не обращает внимания? Это может быть только смешным и глупым. Такова-то и я. И вот почему я никогда не думаю о мужчинах, — влюблённый урод смешон и жалок… Как приятно теперь жить с сознанием собственного безнадёжного уродства! И мне хотелось разбить все зеркала в мире — чтобы не видеть в них своего отражения… <…>
…12 ноября.
<…> В доме появились свахи; они взялись за дело очень усердно и по-старинному: предлагают “показать” меня женихам… О, Господи, мало, видно, ещё подлости и гадости людской на земле! Наши женихи и обожатели, нажившись вдоволь со всякими.., идут теперь справляться о приданом, о нашей нравственности, чтобы жениться “как все порядочные люди”!… Я встала на колени и, вместо молитвы, горько заплакала. <…>
20 ноября.
Кончила читать (тайно от мамы) первую часть “Духа Законов” Монтескье {“О духе законов”, трактат Ш. Монтескье (1689—1755), вышедший в свет в 1748 г.}, наслаждаясь новым, совершенно незнакомым мне предметом, увлекаясь ясностью изложения, проникаясь глубоким уважением к сущности сочинения и к его гениальному автору. “Недостаточно заставить прочесть, надо заставить мыслить”,— говорит Montesquieu, и теперь у меня вся голова наполнена этой книгой. Сравнивая это произведение с “Государем” Макиавелли и время обоих авторов — один из них мне кажется дьяволом, другой чудным, светлым ангелом. <…>
29 декабря.
Странно: во мне точно два человека: один — домашний, который живёт в семье, болтает вздор, ссорится с матерью, а другой — живёт совершенно особенно, своею внутренней жизнью, отдаваясь то радости, то печали. Это — мирок моих книг, учебников, мечтаний, сентиментальных бредней, мирок моих мыслей, моих чувств и впечатлений, который мне некому показывать, моя фотография, одним словом, — мой дневник. Первого человека видят во мне все и вовсе не одобряют; о втором никто не догадывается, да и знать никто не захочет: кому какое дело до меня? Я так и живу раздвоенно.
1894 год
1 января.
Вот и опять Новый год. Вчера я гадала, лила олово, и мне вылился свадебный венец — все были в восторге. Но неужели это гадание действительно предвещает то, над чем я смеюсь: такая перспектива нисколько не привлекает меня…
Наверное, ни одна молодая девушка не проводит так этого вечера: в большом кресле, полураздетая, с распущенной косой, озираясь при малейшем шуме; украдкой увлекаюсь я Карлейлем, его замечательной книгой “Герои и героическое в истории” {Труд Томаса Карлейля (1795—1881), английского историка и философа “Герои, культ героев и героическое в истории” появился в русском переводе в 1891 году.}
7 января.
Боже мой, до чего я дошла! Я назначила свидание студенту-репетитору, у которого тайно ото всех, через брата, доставала себе читать все последние книги {В дальнейшем фигурирует в записях как “В.” и “студент”.}. Моё холодное бесстрастие девушки, поведение которой в отношении молодёжи безразлично, чисто как вода, — куда оно делось? Что, наконец, он подумает обо мне? Ведь, может быть, он не понял моей единственной мысли, заставившей меня решиться на подобный поступок: страха перед родными, если они обо всём узнают, и любви к чтению, потому что книги очень интересны, и я их нигде, кроме него, достать не могу. Но, впрочем, безразлично, — пусть я окончательно упаду в его глазах; перед собой я сознаю, что не совсем виновата, что мне есть ещё оправдание в этом смелом поступке. Будь что будет!
9 января.
Обстоятельства мне благоприятствовали: мы встретились на катке, и я ему сообщила новый план для тайного чтения книг, без посредничества Шурки. Он его одобрил и долго говорил о той странной обстановке, в которой живёт наша семья. Случайно разговор коснулся брака; мой собеседник очень удивился, когда я заметила, что отношусь к нему совершенно безразлично. — “Вы рассуждаете, как старуха! Слишком рано вы разочаровались в людях. Непременно надо вам принести Макса Нордау {Макс Нордау (1849—1923), врач-психиатр, писатель, публицист, работы которого, содержащие резкое осуждение современной культуры с позиций научного позитивизма и “здравого смысла”, были чрезвычайно популярны на Западе и в России в конце XIX — начале XX в. Одним из объектов критики М. Нордау был Л. Толстой, в особенности как автор “Крейцеровой сонаты”.}. — Что ж, если я так рассуждаю — этому меня научает жизнь”, — грустно сказала я. — “Но потом вы можете очень раскаяться. — Это почему же? — Да потому, что вы вдруг встретите человека, которого полюбите…” Я ожидала это возражение, и приготовилась к нему. — “Полюбить? Merci! — засмеялась я, — этого никогда не случится. — Отчего? — Я ни в каком случае не могу рассчитывать на взаимность, а любить так, одной, — против этого восстанет моё самолюбие”. “Но ведь в этом же вы не властны, — уверенно ответил студент. — Будто бы? Напрасно так думаете: это зависит от самообладания…” Я немного позировала перед ним; не знаю, почему, но мне иногда доставляет удовольствие казаться хуже, чем есть в действительности.
11 января.
Он принёс мне “Исторические письма” Миртова {П. Миртов — псевдоним Петра Лавровича Лаврова (1823—1900), публициста, философа, социолога, идеолога народничества.}, литографированные… Как я боюсь… но смелым Бог владеет! Вечером мама пригласила его к чаю. Я узнала в нём человека несколько свободомыслящего, отрицающего богатство храмов Божиих (это “излишняя роскошь”), не признающего святых, сомневающегося в их действительной святости и в том, точно ли их души в раю, или же где-нибудь в другом месте. Я много читала об атеистах в книгах, уверена также, что все студенты безбожники, но говорить с ними о религиозных убеждениях, к счастью, мне не приходилось. И сегодня, забыв свою обычную сдержанность, говорила много и слишком увлекаясь, так что со стороны, пожалуй, могла показаться ему даже смешной…
12 января.
Печальный день… Папа, где бы ты ни был, знай, что я всегда помню и люблю тебя! Под звуки старинных мотивов, которые мама играла сегодня вечером, закрывая глаза — я опять как будто очутилась в Нерехте, маленькой двенадцатилетней девочкой, в то памятное Рождество, когда мы приготовились покинуть её навсегда… Тогда умер папа. Он был четыре года душевнобольным. Ясно помню, что в это время он ходил по дому, не узнавая уже никого из окружавших… Но папа продолжал любить нас: я его не боялась даже в самые ужасные моменты его буйных припадков и неистовых метаний… И он бывал всегда кроток при встрече с нами…
13 января.
В дружеской беседе подруга Катя пыталась склонить меня к равнодушному отношению к мужчинам, не оставшимся девственными до брака. — “Ты удивляешься? Но — увы — все без исключений они таковы”. — “Но ведь это же гадость, Катя, это нечестно!” — проговорила я, и слёзы так и брызнули у меня из глаз.— “Какая ты нервная, милая, — они же не могут оставаться чистыми, себя сдерживать, они лечатся от этого”. — “И всётаки, — бессознательно повторила я, — это гадко! Они до брака удовлетворяют свою чувственность, а после эти самые подлецы требуют от нас безукоризненной чистоты и не соглашаются жениться на девушке, у которой было увлечение до брака. Нет, уж если поведение супругов должно быть одинаково, тогда и мужчины должны жениться на проститутках… Я убеждена, как и ты, что каждый мужчина — скверный человек, и поэтому спрашиваю тебя — стоит ли любить таких? Я потребую от своего жениха того, чего он не может мне дать — девственной чистоты, чтобы он был подобен мне; иначе говоря — никогда не выйду замуж… Пусть меня считают глупой идеалисткой, но мне невозможно подумать, мне гадко будет вступить в брак с человеком, у которого я заведомо буду десятой женою по счету. Это так скверно и так невыносимо, что я лучше лишу себя счастья иметь детей, и поступлю в монастырь… Допустим, наконец, что жить без любви невозможно, — так я всеми силами постараюсь вырвать эту любовь из моей души, но не отдам её какому-нибудь современному приличному подлецу, потому что это — унижение, как ни старайся ты его оправдать… Таковы мои убеждения, их не вылечишь никакими книгами…”
Наш разговор был прерван…
19 января.
Сестры сейчас мне сказали, что мама устроила шпионство за мной: сама входит в мою комнату, когда меня нет, посылает прислугу подсматривать, как бы я не встретилась со студентом. С “Историческими письмами” в ящике комода я не могу быть равнодушна к этому; на этот раз попадусь не только я, но и он… Боже мой, наверное, душа Вечного Жида была спокойнее, нежели моя теперь…
4 февраля.
Хочу просить студента принести мне лекции государственного права, именно те, где читается о гражданском управлении России. Мы, русские девушки, к стыду нашему, даже не имеем об этом понятия, курс наших гимназий краток, и так мало стараний сообщать нам сведений о своем отечестве; огромное большинство, почти все женщины среднего круга, в особенности из купечества, совсем не знают, как управляется страна, а ведь это вопрос очень живой и серьёзный. За границей общественные вопросы с большим интересом изучаются всеми. <…>
Ложась спать, я подумала, что ведь никто и никогда не любил меня так, как могут любить и любят других, что я даже никогда никому не нравилась, и мне стало грустно. А зеркало безжалостно отражало мои обнажённые худые, тонкие руки, всю мою хрупкую, худощавую фигуру, мои длинные волосы и жалостную розовую физиономию… Впрочем, это говорит во мне только самолюбие и женское тщеславие, что за любовь в наш век?..
Возвращусь к разговору с Катей, о котором я писала недавно… Повторяю, я потребую от будущего мужа, идя с ним к алтарю, своей чистоты. Мне все наверно скажут, что я требую слишком многого, но я могу сказать одно: мысль, что я для мужа, каков бы он ни был, буду не первая, а десятая жена по счёту, что он отдавал себя уже ранее другим, после чего пришёл ко мне,— эта мысль приводит меня в ужас и отвращение, я не могу её перенести. Мне скажут опять, что я хочу невозможного; но ведь мужчины приходят же в ярость при мысли, что их жена ранее принадлежала другому. Вот такие мучения Отелло и я должна буду испытывать с той только разницею, что для него неверность жены была в сознании, а для меня испорченность моего будущего супруга — ужасная действительность. Теперь мне всякий претендент становится противен; чувства любви, о котором нам твердят, что оно свято, высоко, прекрасно, — в них и не допускаю: оно свято для девушек, но вы—то, современная влюблённая молодёжь, ведущая всех невест к алтарю, вы не можете его испытывать. Это чувство может быть действительно высоко, когда оно не унижено, не оскорблено развратом, когда женщина для мужчины ещё не предмет наслаждения, и чистое отношение к ней совершенно не потеряно; в таком случае любовь — настоящая любовь, а всякая другая, которая приходит после, к человеку уже потерявшему свою чистоту, узнавшему женщин, — только оскорбляет “святое” чувство. Всякий из них способен влюбиться, но полюбить так, как в первый раз в жизни — он не может, ибо человек потерял уже свежесть и нетронутость чувства. Он, конечно, любит жену, детей, примерный семьянин, все удовлетворятся этим, — но в моей душе подымается мучительное чувство, муж мне гадок, противен… Подумайте, сколько глубочайших жизненных драм скрывается во всём этом. <…>
12 февраля.
<…> Прочла “Марию Стюарт” {Трагедия Ф. Шиллера.} в оригинале. Эта страстная трагедия как нельзя более соответствует моему теперешнему настроению. Читая монологи Марии Стюарт, кажется, что они написаны не пером, а кровью — так всё ярко, страстно, живо… У Гёте — совсем другой язык. Шиллер производит на меня большее впечатление, нежели он, и не потому ли, что Гёте я часто не понимаю, тогда как Шиллер говорит прямо сердцу.
Гёте был бог, и в своём божественном спокойствии, казалось, забывал иногда о существовании людей; Шиллер был тоже бог, но в то же время и человек: высоко стоя над толпою, он знал и понимал все глубины человеческого сердца, и сам жил его жизнью, его радостями и страданиями. Первому роду гения человечество удивляется и больше боится, чем любит; второму большинство не удивляется, вовсе не боится, но любит такого гения, как Шиллер, всем сердцем.
Мне кажется, что у нас, русских, Пушкина можно сравнить с Гёте, Шиллера — с Лермонтовым, но только отчасти, потому что Лермонтов слишком мало написал. Из всех русских писателей я Пушкина люблю более всех, и перечитываю его бесчисленное множество раз.
13 февраля.
Мне необходимо забыться… и потихоньку, вместе с m-lle Marie, я поехала за город на фабрику Карзинкиных. Огромные здания из красного кирпича, кругом угрюмые кучки рабочих — всё это мне вдруг напомнило что-то старое, давно забытое. Вспомнилась наша собственная фабрика, только в меньших размерах, куда иногда я ходила с отцом… В праздник здесь работы не было, и мы только вошли на минуту посмотреть в новом корпусе паровую машину-гигант, приводящую в движение всю фабрику. С почтительным удивлением смотря на колоссальные винты, массивные колёса и составные части какой-либо машины, — невольно чувствуешь своё ничтожество перед такою силою и ещё яснее сознаешь, что тут господин — мужчина, а мы — какие-то беспомощные, слабые создания…
Фабрика Карзинкиных отчасти представляет симпатичное явление последнего времени, когда дошли до сознания, что нужно не эксплуатировать труд рабочих, а разумно пользоваться им, создавая при этом такую обстановку, в которой труд не был бы борьбой за существование, а нормальным условием жизни. Отрадно было видеть городок труда, устроенный по правилам гигиены и порядка, где трудящийся люд, кроме денежной платы, получает и квартиру, и увеселения, и возможность учить своих детей. Недалеко то время, когда подобных фабрик будет ещё более, и на них перестанут смотреть как на источник заразы всякого рода, а наоборот — они станут маленькими центрами просвещения и народного образования. Тогда фабрики будут иметь двойное значение: кроме промышленности, они будут развивать народ, образовывать его… <…>
1 марта.
Великий пост. Я не люблю изменять раз установленных привычек по отношению к церкви. У меня их немного, но я держусь их крепко. Воспитанная в семье, где ещё сохранились отчасти прежние старые требования относительно говения и поста, — я сохраняю их, и нарушение буду считать грехом. По-моему, и то, и другое необходимо исполнять. <…> В сущности, мне следовало бы быть настоящей атеисткой, судя по моей семье: отец никогда не был особенно верующим, совершенно равнодушно относясь к церкви; мать — вследствие своей очень самолюбивой натуры — тоже равнодушна к религии и её обрядам, насмехается над священниками, а по праздникам читает французское Евангелие; нас же, детей, воспитывала в духе религиозном, сама не подавая никакого примера. Что казалось бы могло выйти из такого воспитания? Но у нас в семье ещё живы две бабушки, две старинные русские купчихи, которые свято соблюдают наши дедовские обычаи по отношению к церкви; обе имели на меня большое влияние, поэтому из меня и вышла верующая. <…>
18 марта.
На исповеди о. Владимир спросил меня: “Не имеете ли каких грязных помыслов, встречаясь с мужчинами?” Этот суровый вопрос вызвал с моей стороны недоумение: “Какие же это помыслы?” — Но строгий священник не довольствовался моим неведением и продолжал: “Да, разные помыслы… не приходят ли они вам на ум?” — “Нет”, — отвечала я, очень смутно соображая, что и мужчин-то не встречаю почти нигде, а у нас дома тем более… <…>
7 апреля.
Какая же я, однако, женщина! Сегодня тётя прислала мне из Москвы чёрную шляпу, и вот сейчас, вечером, я не могла удержаться, чтобы не примерить её ещё и ещё раз; я бросила “Историю всемирной торговли” Этельмана, которая меня очень заинтересовала, и подошла к зеркалу. “О, женщины, ничтожество вам имя!” — так восклицает Шекспир. Уж не ради этого ли пристрастия к мелочам и любви к нарядам: он так называет нас? Если из-за этого, то, пожалуй, он прав. Ведь все наши наряды, тряпки, конечно, ничтожество, необходимые мелочи жизни, которыми нужно заниматься ровно настолько, чтобы не быть смешной педанткой или Диогеном в юбке; посвящать же им всё время, думать и относиться к ним серьёзно — это действительно делает женщину ничтожной. Я поэтому редко переношу разговоры о нарядах, и вообще не особенно люблю ими заниматься; но не могу удержаться от удовольствия, которое мне доставляют надетые новые платья, шляпы, и всегда с интересом пробегаю хроники моды. А почему? Да потому что я… всётаки же женщина!
10 апреля.
Когда подумаешь, что пройдёт сто лет, и все мы, наша жизнь, все окружающие нас друзья, родные, знакомые, даже толпа на улицах — всё это умрёт, исчезнет, не оставив после себя даже и следа, как исчезла, напр., в прошлом вся жизнь таких же людей, как мы, когда подумаешь об этом — сразу как-то своя личная жизнь, свои страдания покажутся мельче, ничтожнее, отойдут гораздо дальше. То несчастье, которое в данную минуту занимает нас всецело, вовсе уж не будет казаться так велико, если продлится даже несколько лет. А через сто лет? — Всё, всё опять другое, новое, нам неизвестное. Что значим мы, мелкие людишки, в этом вечном всесильном perpetuum mobile {вечный двигатель (лат.).} времени? Но мы всётаки ценим себя, и не думаем, что через короткий период времени от нашей жизни, её радостей и страданий не останется даже воспоминания,— они исчезнут бесследно. Как, значит, мы любим увлекаться и жить настоящей минутой! Верно, человека не переделаешь… <…>
20 мая.
Студент увлечён моей младшей сестрой, я настолько не нравлюсь ему, что он не считает нужным даже скрывать это. Что ж, Бог с ним! Впервые познакомившись довольно близко с молодым человеком, теперь я вижу, что мне, уроду, нечего ожидать внимания и вежливости от молодёжи, если я не вызываю у неё эстетического чувства… Какие, в сущности, пустяки иногда волнуют меня!..
29 мая. Они шли вдвоём по аллее, такие молодые, красивые, стройные: Валя шла опустив голову, он старался смотреть ей в глаза, и обоим было весело; а я стояла за деревьями и смотрела на них. Вдруг что-то кольнуло меня: я вспомнила, что ещё нынче зимой он так же разговаривал со мной, хотя немного интересовался мной… а теперь? Слезы навернулись у меня на глаза, и я побежала к пруду, обошла его и, став у забора, могла немного овладеть собой.
Что это? Или я завидую Вале? Эта зависть — такое гадкое, скверное чувство, в особенности по отношению к родной сестре! Нет, нет! Я ещё не настолько испорчена. Если вследствие излишней пылкости воображения мне казалось, что он относится ко мне иначе, нежели теперь, — от этого пострадало лишь моё самолюбие, а так как я хорошо владею собой, то сумею его скрыть от всех. Я встретилась с ним, жизнь нас случайно столкнула, а потом, завтра, — мы разойдёмся, может быть, навсегда. Наверно он сохранит обо мне воспоминание, как о своей хорошей знакомой… В сущности, мне даже хотелось бы, чтобы он полюбил Валю и женился на ней. Была бы хорошая пара, и тогда я могла бы назвать его братом. <…>
14 июня.
Карно убит! {Сади Карно (1837—1894) — президент Франции в 1887—1894 г.г. 25 (13) июня 1894 г. убит в Лионе итальянским анархистом С. Казерио, мстившим за смерть террориста О. Вайана, казнённого по приговору французского суда.} Его убили при приветственных кликах народа, которому он только что произнёс прекрасную, задушевную речь и которым всегда управлял так разумно, безукоризненно-тактично… Насколько я люблю этот народ — настолько же и сожалею… Какая бессмысленная, адская, зверская жестокость! Анархисты — не люди; это проказа рода человеческого, отродье дьявола. Чего хотят эти звери? Что может быть бессмысленнее и ужаснее убийства любимца нации, идеально-безупречного гражданина, вся жизнь которого была посвящена на благо отечеству? Что сделал он какому-то безвестному проходимцу? И вот этот зверь среди толпы народа убивает… Нет, мне не найти достаточно слов для выражения негодования! Я решительно не могу ни о чём другом думать, и с трудом могу это скрыть. И теперь — я хотела бы обнять всю Францию, утешить её, как сестру! Но… я могу только писать! <…>
3 июля.
К тёте сюда {К Е. Г. Оловянишниковой, на её подмосковную дачу в Кусково.} приехал близкий друг нашей семьи, которого я знаю почти с детства. В нём я всегда уважала доброту характера и стремление к самоусовершенствованию. Живя постоянно в разных городах, я с удовольствием с ним переписывалась. Теперь, воспользовавшись случаем, мы в первый же вечер уединились ото всех на террасе и разговорились совершенно откровенно.
Разговор касался преимущественно нравственной стороны жизни, её задач и цели… — “Вспомните, Петя, как вы однажды спросили, размышляю ли я когда-нибудь над молитвой Господней? Задавая другим такие вопросы, я решаюсь спросить вас, как вы лично относитесь к ним?” — “Конечно, я стараюсь по возможности разрешать их в жизни, хотя это иногда бывает и трудно”… — “Хорошо. Однажды вы сказали, что смотрите на женщину не как на игрушку или развлечение, а как на человека вполне вам равного; прав ли поэтому автор “Крейцеровой сонаты”?” Я чувствовала, что задаю такой вопрос слишком поспешно, что я сбилась с задуманного пути, но я шла напрямик… — “Позднышев, конечно, говорит правду, хотя он сам был не менее испорчен, нежели другие”, — ответил Петя.— “А всётаки он требовал от жены, чтобы она была чиста и невинна, не так ли?” — “Да, конечно”.— “Ну, а вы, стоя пред алтарем, бываете ли такими же… неиспорченными (я немного запнулась, говоря это слово, и невольно мой голос дрогнул), как ваши невесты?.. Лично вы — продолжала я вдруг с отчаянною смелостью — такой?” — “Нет, я испорчен”, — произнёс Петя совершенно спокойно. Меня точно острием ударили в сердце. Я хотела что-то сказать, но не могла, и вдруг, закрыв лицо руками, разрыдалась горько и неудержимо.
Мой идеальный, честный, глубоконравственный друг, каким я его себе представляла, теперь рассыпался в прах, и ничего от него не осталось! Точно был человек, и не стало его. Мой прекрасный сон — исчез, а с ним и моё убеждение, что существуют на свете идеальные люди. Я не могла сразу опомниться; хотя вполне сознавала, что мои слёзы неуместны…
Петя молча принёс воды. — “Выпей, Лиза, успокойся”, — повторял он. Через минуту я опять овладела собой, — “Не надо воды…” — тихо сказала я, не глядя на него, и отвернулась к подоконнику, где лежали развёрнутые газеты. Строчки мелькали перед глазами, и точно сквозь сон, я слушала отрывочные фразы Пети.— “Ты, Лиза, ещё не знаешь жизни… надо тебе сказать, что существуют обстоятельства.., Впрочем, ты подумаешь, что я, говоря это, стараюсь оправдаться…” Я молчала и смотрела в газету, — мне уже не нужно было слушать его. Эти оправдания я знаю наизусть, знаю и жизнь; я думала только, что Петя с его возвышенными стремлениями, религиозностью, нравственными качествами — является исключением из окружающих лиц; но вот и он — такой же,— с полным спокойствием говорит о своём падении, и ни слова раскаяния нет в его словах… О, глупая наивность в двадцать лет: ведь нет уже таких людей, и тебе их никогда не встретить! Но Петя не понял ни моих слёз, ни моего молчания. Если б он знал, что в эту минуту он видел перед собой человека, который оплакивал свой исчезнувший идеал? Это очень глупая фраза, а между тем это правда. Иметь идеал — смешно, по меньшей мере, но я не боюсь насмешки… И Петя вдруг стал для меня уже другим человеком, похожим на всех…
18 июля.
Сегодня рано утром тётя поехала со всей семьей в Обираловку встречать о. Иоанна, который ехал в Москву. Я давно, года три, его не видала и, конечно, воспользовалась случаем получить его благословение. В Обираловке ждать поезда пришлось минут 20. Мы взяли семь билетов первого класса, чтобы, войдя в вагон о. Иоанна, ехать с ним вместе в Кусково, и стояли на платформе в ожидании поезда. Народу на станции всё прибывало, а когда подошёл поезд — было уже тесно. Торопясь войти в вагон (поезд стоял всего две минуты), я видела только благословляющую руку, которую ловили и целовали десятки других… <…> Он немного постарел с тех пор, как я видела его в последний раз; его кроткие лучистые голубые глаза остались те же, только выражение лица было измученное, сильно усталое. Золотой наперсный крест с синей эмалью, тёмная шелковистая ряса на лиловой подкладке и старенькая соломенная шляпа… Мы вошли все и по очереди подходили под благословение. Я пристально смотрела на о. Иоанна и мысленно просила его помолиться за меня и за маму. <…> Видно было, что он очень утомлён, постоянно зевал, глаза его невольно смыкались… Вслед за нами к нему привели нервнобольную, которая, получив благословение, упала на скамью в сильном припадке. Её крики раздались по всему вагону. Все замолчали. О.Иоанн встал и положил ей руку на голову. Больная начала кричать ещё более. Продержав руку несколько времени, о. Иоанн прикрыл ей лицо платком и велел унести, а сам, расстроенный этой тяжёлой сценой, подошёл освежиться к открытому окну. <…>
В Кускове станция была переполнена народом. У окна вагона была лавка, и о. Иоанн, высунувшись до половины, пожимал протягиваемые ему со всех сторон руки. Мы поскорее выбрались из толпы… <…>
19 июля. Москва.
Вторично осматриваю Третьяковскую галерею — на меня сразу нахлынула такая масса художественных впечатлений, что даже закружилась голова… Картины Репина, Айвазовского, Верещагина, — всё, что есть прекрасного в нашей живописи, все лучшие художники, о которых я читала только в газетах — были здесь пред моими изумленными глазами… Многие считают лучшею картиною всей галереи Репина “Иван Грозный у тела своего сына”. Картина эта замечательна, и действительно производит сильное впечатление: лицо Грозного выражает бесконечный дикий ужас пред своим злодеянием, и оно, главным образом, приковывает к картине. Вы смотрите пристально на неё, невольно заражаетесь этим ужасным выражением Грозного, вас тянет к картине, и в то же время страшно — кажется, что боишься войти в эту комнату… Говорят, что некоторым делается дурно, при виде этой картины… <…>
7 августа.
Я пока стою в стороне от действительной жизни, только наблюдаю и думаю. Моя жизнь — пока ещё не жизнь. А ведь мы переживаем опасное, хотя и очень интересное время. Читая “Вырождение” {Сочинение Макса Нордау.}, я часто говорила об этом с кузиной Таней {Под этим именем в дневниках Е. Дьяконовой фигурирует Мария Ивановна Оловянишникова (1878—1948).}. <…>
15 августа.
Сегодня мне исполнилось 20 лет. Стыдно и грустно думать, что столько лет напрасно прожито на свете… Чем дольше мы живём, тем менее мы мечтаем, тем менее осуществимы наши грандиозные планы. Жизнь знакомит нас с действительностью, и мы постепенно спускаемся с облаков. Помню, как девочкой 15-ти лет мечтала я о создании в России женского университета, совершенно похожего на существующие мужские по программе, думая посвятить свою жизнь на приобретение необходимых средств, для чего хотела ехать в Америку наживать миллионы; и достаточно было двух лет, чтобы понять несостоятельность подобных мечтаний. Теперь же я думаю только о том, как мне поступить на будущий год на высшие женские курсы. Сегодня мама отказала мне в разрешении, и я не знаю, что предпринять. <…>
8 сентября.
С Валей вдвоём мы говорили о браке, и никто не мешал нам задавать друг другу откровеннейшие вопросы. Я спросила её, когда она узнала, в чём состоит брак? — “В тринадцать лет”,— “Кто же тебе объяснил это?” — “Да никто; я узнала отчасти из разговоров прислуги, отчасти из книг, ведь в библии же писано об этом”… Моя сестра, несмотря на свой 17-летний возраст, читала все романы Золя и Гюи де Мопассана, и я помню, как часто мы возмущались бездной порока и разврата, описываемой так откровенно Мопассаном, невольно чувствуя отвращение к этим “порядочным молодым людям”, которые на нас женятся… — “Знаешь ли, когда я думаю о В. {Студент, он окончил курс, и уже уехал отсюда (примечание Е. Дьяконовой).} — мне легче на душе; ведь все-таки не все люди такие”, — сказала Валя. — “Ты думаешь, что он ещё невинен?” — “Да, конечно. Он — такое дитя природы, и ведёт строгую, умеренную жизнь; он мне кажется таким чистым…” Я засмеялась. Валя остановилась: “Что ты?” — “Успокойся милая, он нисколько не лучше других, и это ничего не значит, если он “дитя природы”, по твоему мнению”. — “К-а-ак? Он, думаешь ты, испорчен? О, нет, Лиза, не разочаровывай меня, я хочу верить, я не могу…” Валя смотрела на меня умоляющими глазами, и всё её хорошенькое личико выражало страх перед тем, чего она не хотела знать. Её чистое, молодое существо готово было возмутиться моими словами, которые разрушали её веру… — “Погоди, Валя, не возмущайся. Я тебе сейчас объясню: есть два рода молодых людей, Одни — предаются разврату, не стыдясь своего падения, и говорят о нём совершенно спокойно без малейшего угрызения совести, как о доблести, как о естественном и необходимом, — тут мой голос едва не дрогнул: вспомнила Петю. — Это худшие люди, они поступают гадко и нечестно. Другие же, падая вследствие воспитания или ложных условий нашей жизни, даже вследствие своей натуры, всётаки сознают, что они поступают гадко, и поэтому, если и предаются женщинам, то потом чувствуют угрызения совести. Эти — относительно честные люди, и лучшие, из которых мы можем выбирать. Конечно, я с тобой согласна, что есть люди непорочные, но я их не встречала ни разу в жизни…” — “Лиза, я согласна с тобой, — прервала меня сестра, — но пусть другие, только не он, я в него верю… пощади, я не хочу тебя слушать”… Я пожала плечами: не мне разбивать эту веру; пусть когда-нибудь она на деле узнает, как я узнала от Пети. И мне стало грустно…
9 сентября.
Была я у бабушки; она возмущается нынешними девицами: “Вы всё узнаёте прежде времени; девицы, а уж всё знают про замужество! Поэтому Бог счастья и не даёт. И совсем не след читать эту “Крейцерову сонату”; прежде девицы никогда ничего не знали, а выходили замуж и счастливы были; а нынче всё развитие, образование. Совсем не надо никакого образования, тогда лучше будет!” Бабушка полагает всё зло в “Крейцеровой сонате” и в образовании! Вот тема для юмориста! <…>.
20 октября.
Государь очень болен; все боятся, что он умрёт. Принцесса Алиса {“Будущая императрица Александра Федоровна (1872—1918).} поспешно выехала в Ливадию {Летняя царская резиденция в Крыму.}, о. Иоанн Кронштадтский тоже приехал туда, был принят Государем и молился вместе с ним. Всюду служат молебны; все озабочены, и только и разговора, что о возможной смерти Государя. Газеты всей Европы единогласно выражают сожаление о болезни Государя, которого называют Миротворцем. Если бы не его воля, то была бы война. Но с кем? Я ведь ничего не знаю, да и вообще мы мало знаем о внешней политике и о том, что делается в высших сферах. <…>
Все эти дни я усердно занимаюсь и преподаванием, и собственными уроками, и работой, и только по вечерам читаю “Основания политической экономии” Милля {Джон Стюарт Милль (1806—1873) — английский философ, экономист, общественный деятель.}.
21 октября.
Государь скончался вчера, в 2 час. 15 мин. Пополудни {Смерть наступила от почечной болезни, возникновение которой связывали с ушибами, полученными Александром III при крушении поезда в 1888 г.}. Мы в это время только читали телеграммы из Ливадии об опасном его положении. Александра III не стало! <…> При нём произошло франко-русское сближение; дружба России возвысила Францию перед лицом всей Европы, и популярность Александра III в этой стране беспримерна {В 1881 году Александру III удалось путем переговоров с императором Вильгельмом I добиться отвода сосредотачивавшихся на французской границе германских войск. В 1891—1893 г. г. был заключен франко-русский союз. В 1891 г. во время визита французских военных кораблей в Кронштадт Александр III стоя, с непокрытой головой, слушал “Марсельезу”, гимн республиканской Франции.}. <…>
Замечательно похожи судьбы России и Франции: она в этот год потеряла своего президента, мы — своего Государя. Даже в частной жизни двух правителей находим тождественность: старший сын Карно был женихом, когда убили его отца; а к нашему Наследнику приехала его невеста…
22 октября.
Живя в ограниченном кругу, я так далека от общества, его интересов, политического движения, что рассказы одной знакомой были для меня новостью… Оказывается, что нигилистическое движение, которое я считала давно уже подавленным, существует… В разговоре мы даже не называли этих лиц, а говорили просто “они” и “эти”… — “Вот, что скажет теперь фабрика Карзинкиных, туда уже отправили полицию”, — сказала Л-ская… — “Фабричный народ — самый опасный, там часто бывают бунты. К тому же, они всегда стараются распространять свое учение прежде всего между фабричными. А ведь у Карзинкиных такая масса народа”… Я слушала с интересом: вот отголоски общественного мнения; вот первое, что всем приходит на ум после перемены власти… <…>
4 ноября.
Никогда в жизни время не проходило так монотонно и однообразно для меня, как теперь. Ужасающе долго тянутся зимние дни… Я и сестры живём буквально как затворницы, не видя никого посторонних. Семейная жизнь представляет картину самую без—отрадную, тяжёлую и ничего хорошего не предвещающую. Неврастеник-мать ненавидит и преследует нас, как умеет, посеяв неприязнь между всеми… И мы, три сестры, стоим в этом омуте грязи житейской и инстинктивно чувствуем, как непомерно вырастает наше терпение. Откуда взялось оно — не знаю; но у меня теперь спокойнее на душе. <…>
13 ноября.
Рубинштейн умер! {А. Г. Рубинштейн (1829—1894) — композитор, дирижер.} Вот великая потеря для России и целого мира. Говорят, что покойный композитор был очень потрясён смертью Государя, который любил его. А. Г. умер внезапно от паралича сердца. А я надеялась когда-нибудь услышать этого царя музыки.
19 ноября.
Десятый раз перечитывала “Отцов и детей”. Я знаю почти наизусть этот роман. В нём мои симпатии постоянно привлекает Анна Сергеевна Одинцова, её холодность и спокойствие; моё самолюбие удовлетворяется тем, что Базаров, всё отрицающий, ни во что не верующий, циник и нигилист — полюбил именно такую женщину, и несчастливо. Она оказалась неизмеримо выше его. <…>
Я теперь думаю, каким чудесным образом сохраняет меня судьба! Если бы кто-нибудь признался мне в любви, — что же вышло бы? Ведь я так далека от подобной мысли, совершенно неразвита в этом отношении, и, наверное, испугалась бы до полусмерти… <…>
23 ноября.
Нечаянно попался мне на глаза дневник за прошлый год. Это было как раз в то время, когда В. начал приносить мне книги потихоньку от мамы. Год прошёл, и ничего уже нет! Не осталось ничего, кроме воспоминаний о пережитом прошлом, воспоминаний, о которых никто из нас никогда не скажет друг другу. Тем лучше! Дай Бог всякому душевного мира и спокойствия…
Чувства редко бывают вечны, а любовь — в особенности. Вообще, на земле человеку даётся всё, с целью показать, что из всего того, что он имеет — ничего нет постоянного. И все его старания сделать земное “вечным” разбиваются безжалостно то “рукою времени”, то людьми же, то обстоятельствами, то ходом всемирной истории (как кажется человеку), а в сущности — рукою Провидения…
30 ноября.
Чем ближе приближается день моего совершеннолетия — тем чаще приходится слышать разговоры о моём будущем, т. е. о поступлении на курсы. <…>
Недавно был у нас дядя {Иван Порфирьевич Оловянишников (1846—1898), московский купец 1-й гильдии, владелец колокололитейного производства, поставщик Двора е.и.в.; муж Е. Г. и отец М. И. Оловянишниковых.}, и несчастные курсы вновь выступили на сцену. — “Вы желаете учиться?” — спросил он меня своим обычным добродушным тоном. Я молчала, но мама тотчас же рассказала за меня, что я ужасная дочь, и т. п. — “Совершенно лишнее дело идти вам на курсы, — авторитетно согласился с ней дядя, — туда идут те, кто без средств, а вам на что?” Этого возражения я не ожидала, но если дядя, как человек коммерческий, переводил разговор на практическую почву, — я решилась взять ему в тон,— “С какой же стати мне жить весь век, сложа руки? Я хочу трудиться, как и все, а для этого нужно учиться, чтобы знать больше, закончить своё образование”. Но дядя стоял на своём: — “Если желаешь трудиться, — набери ребятишек и учи их грамоте”. — “Да я с удовольствием буду их учить, только дайте мне самой прежде доучиться”. — “Замуж надо тебе, вот что, — решил сразу дядя, — жениха хорошего, “умного” какого-нибудь” (“умными” он насмешливо называет людей с высшим образованием). Все мои возражения не привели ни к чему. Но вдруг Валя, до сих пор молчавшая, налетела из своего угла на дядю: “Вот вы против курсов, дядя, а между тем посмотрите, как время идёт вперёд. Наша бабушка умела читать и писать, а своих дочерей она уже в гимназию отдавала; они не кончили курса, но мы, их дети, уже кончили курс. Следовательно, вполне естественно, что мы хотим идти на курсы, а наши дочери, те должны будут получать беспрепятственно высшее образование. Ведь требования образования идут вперёд”. Дядя только посмотрел на девочку (как он нас называет) и, должно быть, удивился её смелости. Так он и уехал от нас, наверно, в глубине души сожалея о том, что у нас нет отца, который мог бы нас воспитать как следует, т. е. не дал бы нам возможности забрать подобные опасные идеи в голову, и выдал бы нас всех замуж за “хороших” людей.
2 декабря.
Что даёт мне право на 24 часа в сутки абсолютно свободного времени? Скажут: вполне естественно, сударыня, у вас есть “средства к жизни”. Но ведь мужчины, как бы они ни были богаты, живут и всётаки работают, служат, учатся. Почему же нам, девушкам обеспеченным, предоставляется дом, тряпки, женихи, и… больше ничего? <…>
По происхождению я — чистая купчиха, ярославско-ростовско-нерехтская, но по званию не принадлежу к этому сословию; но все мои родственные связи в нём, и поэтому я не могу, мне трудно создать для себя связь с так называемой интеллигенцией. — А в нашем купеческом кругу встречаются такие картинки, которые показывают, как мы недалеко ещё ушли от времён Островского. <…>
7 декабря.
Познакомилась со студентом Э-тейном и впервые рассказала постороннему человеку, на какие курсы хочу я поступить и какие препятствия представляются мне. Я говорила с мужеством отчаяния: мне решительно не к кому обратиться за советом. Какова же была моя радость, когда он отнесся ко мне с полным сочувствием и даже дал адрес знакомой курсистки. Из моих слов Э-тейн ясно видел всю мою беспомощность, и невольно, в ответ на его мысли, которые я угадывала, — рассказала ему, как строго, замкнуто проходит моя жизнь, как трудно мне знать что-нибудь, и как относятся мама и мои родные к моему желанию. — “Да это целый роман, — смеясь, сказал он. — Героиня за четырьмя стенами, не знающая действительной жизни”. — “Да, героиня без героя”, — подтвердила я. Очевидно, ему мало были знакомы нравы купеческого круга, и я увлеклась своим рассказом о наших предрассудках. — “И вы могли вести такую жизнь? Знаете, я бы на вашем месте сбежал, честное слово!” — возмутился студент. — “Но бежать ведь совершенно бесполезно: все бумаги были у мамы, меня всё равно не приняли бы на курсы…” — “Ну, вы написали бы письмо какому-нибудь студенту с просьбой избавить вас от такой обстановки”. — “Как? что вы говорите? писать студенту? — искренно удивилась я (подобная мысль и в голову не могла мне придти — до того во мне сильны привитые воспитанием понятия о приличиях). — Да зачем же?” — “Да затем, что он по человечеству должен был бы помочь вам, как всякий благородный человек”. — “Но… писать студенту, ведь это неприлично”, — возразила я. — “Э, бросьте вы там ваши прилично и неприлично; идти напролом — вот и всё! И если вы добьётесь своего — поступите на курсы, — то, так сказать, уже во всеоружии”, — заключил Э-тейн. — “Это как же?” — “Очень просто: языки знаете, материально вы обеспечены”. — “Ну, нельзя сказать, чтобы вполне”, — прервала я, вспомнив свои опасения, что на 700 рублей я едва ли проживу в Петербурге. — “Всётаки рублей на 500 в год можете рассчитывать?” — “Могу”, — сказала я, и мне стало совестно, что мне не хватит средств. Ведь живут же люди! — “Ну, вот; желание учиться у вас, конечно, есть, иначе вы бы и не шли на курсы?” — “О, конечно! — воскликнула я. — Я, кажется, весь день буду сидеть за лекциями, только бы поступить!” — Он засмеялся: “Ну, не просидите, это невозможно. Повторяю, вы поступите во всеоружии”. — “Ну, какое это всеоружие! У меня нет никаких знаний”. — “Но за ними-то вы и идёте…”
Трудно передать то радостное настроение, которое овладело мною: мне вдруг показалось всё так хорошо, так весело! Вернувшись домой (с адресом!), я легла в постель и долго не могла сообразить, правда ли это было, или весь этот разговор — сон. А на душе было так светло, как никогда. Точно крылья выросли. Я опять начала надеяться…
9 декабря.
<…> Отчуждение матери от нас, её дочерей, дошло до крайности, — мы редко встречаемся, не говорим с ней ни слова.
Ещё более: недавно она пришла ко мне: “Вот вы жалуетесь на меня, что я не говорю вам ничего; есть жених, получает 160 рублей в месяц, ищет невесту; не хочешь ли выйти замуж?” Я молча указала маме на дверь комнаты братьев, которые слышали все её слова, но она как будто не видела моего жеста и продолжала ещё громче: “Получает 160 рублей… мне хвалили его…” Я встала, и тихо, чтобы не слыхали дети, сказала: “Прошу раз навсегда не говорить мне ничего подобного. Дайте мне лучше разрешение поступить на курсы”. Этого было достаточно, чтобы мама ушла, и её изящная, девически-стройная фигура с красивым тонким лицом исчезла за дверью. Через несколько минут ко мне вошла младшая сестра. — “Сейчас мама сказала мне: Лиза не хочет идти замуж, не хочешь ли ты? Я, разумеется, ответила, что не желаю, и хочу учиться”. Этого достаточно, чтобы понять, до чего дошло пренебрежение матери к нам, молодым девушкам; не достаёт ещё одной последней ступеньки, и наша связь с нею порвётся. Да простит мне Бог, но я уже давно перестала любить мать, как должна бы любить и как любила в детстве. Теперь мы, можно сказать, круглые сироты. Отца у нас нет, мать существует для нас только фиктивно, но никак не нравственно. Что будет дальше? <…>
20 декабря.
Прочла “Исповедь” Руссо. Почти до конца читала её с большим интересом: весь тон этой книги, искренность признаний невольно трогает и увлекает; интерес ослабевает только в конце, когда Руссо наполняет страницы мелочными подробностями и рассуждениями о своих друзьях. Его подозрительность, его постоянная жалоба на изменяющих ему без причины друзей — всё это придает книге, вначале такой занимательной, характер чего-то мелочного, недостойного великого человека. <…>
Руссо не лучше и не хуже многих — с той только разницей, что он прямо признаёт за собой те вины и ошибки, которые всегда скрываются другими. <…>
Мне пришлось читать дневник Марии Башкирцевой, молодой девушки, чистой и невинной. Она тоже искренна, но чтение её дневника оставляет скорее тяжёлое впечатление: холодный, блестящий эгоизм на всех страницах, она ни в чём не виновата, она очаровательна при своей красоте, уме, таланте… Но… нет! высшей справедливостью дышат до сих пор слова: кающийся грешник лучше многих праведников.
Наблюдая жизнь, необходимо каждому развить в себе снисходительность к людям, способность извинять, оправдывать их поступки, в то же время стараясь не отступать от своих убеждений. И это мне удаётся, в особенности во всём, что касается нравственности, любви, увлечений. Поэтому-то я состояла и состою поверенной всех моих подруг, масса чужих тайн и романов мне доверяется без всякого любопытства с моей стороны. Теперь я хорошо понимаю, каким образом я приобрела доверие тех, кто в гимназии видел во мне только какое-то отвлечённое существо “не от мира сего”, вечно занятое книгами: по окончании курса я сошла со своих облаков к людям, присмотрелась к их жизни. <…>
21 декабря.
Всё более и более, с глухим отчаянием сожалею я об этих трёх безвозвратно ушедших годах! Поступив на курсы, я кончу их не ранее 25 лет — стыд подумать! Учиться до таких лет, ничего самостоятельно не делая, а ведь жизнь так коротка! Она пройдёт, и не увидишь её; не надо терять ни одной минуты без пользы, без дела — я же теряю годы!! О, Боже, Боже, здесь не выразить словами того мучения, которое овладевает мною!
Я до того увлекаюсь этими мыслями, что мне кажется — мое желание никогда не исполнится, что я не доживу до этого времени и умру нынешней весною. Расстроившись до последней степени, я начинаю чувствовать себя скверно; сердце замирает. Машинально прижимаю к нему руку и думаю, что у меня развивается порок сердца, что мне надо бы советоваться с доктором, но это уже бесполезно, и нынче весной, как раз в то время, когда надо будет посылать прошение, — я умру! И тотчас же представляю себе, как я буду умирать, не высказывая малодушного сожаления о жизни и скорой смерти, что должна буду я сказать сестрам и братьям при прощании… Картина выходит до того трогательная, что слёзы навертываются на глазах от жалости к самой себе и своей погибшей жизни.
Смешно, право, а между тем моё душевное состояние в последнее время именно такое. Никто не подозревает его: я овладеваю собой в присутствии других…
Теперь я возмущаюсь на самоё себя, что была покорна, позволив матери так жестоко разбить мою молодость… Я могла бы наполнить жалобами море, а не листы этой тетрадки! А между тем, возмущаться—то и не нужно и грешно: надо вспомнить Бога, крест страданий, требования религии, но не так-то легко мне совладать с собою… Недаром же с молодых лет, по вечерам я простаивала долгие часы на молитве, обливаясь слезами, прося у Бога лишь одного — прощения в своих грехах, и каялась до того, что забывала всё окружающее: мои глаза видели только икону, какая-то сила влекла меня к ней, и казалось мне, что я уже не в комнате, а подымаюсь куда-то выше и выше. Неизъяснимое наслаждение охватывало меня всю, и, чем больше я молилась, тем легче становилось мне, и я ложилась спать совершенно спокойная и счастливая, ещё не вполне опомнившись от этого страстного покаяния. И теперь, как и прежде, я молюсь так же страстно, обращаюсь к Богу с моими отчаянными мольбами и слезами… И всётаки у меня не хватает терпения, исчезает покорность судьбе…
Ах, когда подумаешь, сколько качеств надо иметь, чтобы называться истинным христианином — окажется, что мы все, более чем наполовину, язычники. <…>
1895 год
8 января.
Я встретила Новый год у себя на родине. Никогда я так не молилась, никогда у меня не было такой глубокой мольбы к Богу, как на нынешний год. Чего хотела я? — Я молилась о счастье сестры, если ей суждено быть счастливой, просила счастья им обоим; себе просила я — исполнения моего желания, осуществления моей заветной мечты, моей цели, к которой я иду. Две просьбы только, не велико число, но велико их значение: это была молитва о двух жизнях. И чувствую, что не только две, но даже и одна из них, может быть, не исполнится…
13 января.
В семейном кругу вновь заговорили о курсах. Мама не только не даёт позволения, но прямо старается восстановить родных против меня всем, что может пустить в ход: слезами, притворством, отчаянием, любовью ко мне, дальностью расстояния, etc. Такие доводы производят влияние. Видя, что я отказываюсь от папирос, предложенных дядей, меня серьёзно и не без колкости спросили: “А как же будешь там-то, на курсах? ведь все курсистки курят”… Я могла только улыбнуться: “Далеко не все”, — сказала я, едва удерживаясь от смеха. Но… мне не поверили, и в дальнейшем говорили со мной мало и пренебрежительно. Дядя же, добрый и милый дядя, который нас так любит и обращается как с маленькими девочками,— усадил нас около себя и прямо заявил: “Ну, вот; посижу с вами теперь, пока вы ещё не уехали на курсы, пока вы ещё хорошие девочки”… Совершенно тронутая слезами мамы, бабушка растерянно повторяла: — “Уж очень далеко уедешь, Лиза; ну на что тебе эти курсы?..”
Ах, тяжело; вижу, что без борьбы не выйду я из моего болота. Предрассудки — такая глухая стена, которую необходимо не разбирать, а прямо ломать силою, чтобы скорее увидеть свет… <…>
19 января.
Обе сестры П-вы в высшей степени симпатичные девушки. Младшая, Маня, учится на курсах; она сообщила нужные сведения о них и обещала узнать, могут ли принять меня без разрешения родителей, ввиду того, что в августе я буду совершеннолетняя. Таким образом, моя судьба, так сказать, висит теперь на волоске — от ответа Мани зависит всё; потому что разрешения мама по доброй воле не даст никогда: она играет комедию, обещая подписать бумагу, и, как ловкая актриса, переходит тотчас же на драматическую роль, — слёзы и отчаяние при виде пера и чернил. Да простит мне Бог, но ведь это, в сущности, притворство, нервный каприз неврастеника, который заставляет приносить в жертву своему произволу жизнь других… <…>
23 января.
Я так устала, так устала, что даже равнодушно отношусь к моей собственной судьбе; а между тем, в ближайшие дни должна ожидать её решения. Но меня это даже и не интересует, точно дело касается постороннего лица, а не меня…
Недавно мне приснилось, что я умираю: кто-то перерезал мне жилу на ноге, — это была моя казнь, — кровь полилась; я упала на колени, закрыла лицо руками, и повторяла только: “Господи, помилуй меня!” Я чувствовала, что с каждой минутой теряю более и более силы, как вместе с кровью, которая лилась ручьём, жизнь мало-помалу исчезала. В глазах пошли зеленые круги, я зашаталась… “Это конец”, — промелькнула у меня последняя, неясная мысль; всё кругом померкло, и я полетела в тёмную бездну… Я в ужасе проснулась: о, слава Богу, это только сон! Сколько раз снилось мне, что я умираю, но никогда ещё сон не был так жив и никогда наступление смерти не рисовалось так ясно. Отчего? — Недавно я с увлечением прочла “Историю жирондистов” {Труд поэта и публициста Альфонса де Ламартина (1790—1869) “Historie des girondins” (1847); в русском переводе появился в 1871—1872 гг.}; описание последних дней жизни и смерти этого несчастного короля врезались в память: я живо воображала это время и старалась испытать в себе душевное состояние короля при известии об осуждении его на смерть в 24 часа. Под влиянием этих мыслей мне мог присниться такой сон.
31 января.
…Как женщина я не существую для мужчин; но и они как мужчины — не существуют для меня. Я вижу в них только учителей, т. е. людей, которые знают больше меня, и знакомство с которыми может быть приятно и полезно, если я могу извлечь для себя какую-нибудь пользу. Но раз они не могут быть учителями, раз они не стоят гораздо выше меня — тогда они для меня не существуют; я могу быть знакома с ними, но для меня они не представляют ни малейшего интереса. Я давно твёрдо убеждена в этом; последние дни только подтвердили мои мысли…
2 февраля.
Да будет благословен сегодняшний день! Мне кажется, что я снова начинаю жить! Несмотря на сильный ветер и снег я пошла на каток. Там меня встретил Э-тейн и поехал со мной.— “Знаете ли, я ведь имею сообщить вам приятное известие”, — сказал он. “Какое?” — удивилась я. “Маня пишет мне, что она справлялась у директора курсов и узнала, что вы можете посылать бумаги теперь без разрешения родителей, если в августе вы совершеннолетняя”.— “Быть не может!” — радостно воскликнула я. — “Вы не верите? — засмеялся он,— так вот я вам прочту письмо”. Мои сомнения сразу исчезли… — “Как я счастлива, как я вам бесконечно благодарна!” — повторяла я, чувствуя, что в душе моей подымается буря восторга,— “Ну, позвольте; радоваться тому, что вы видите себя близко к цели, конечно, можно, но я-то сделал для этого немного”. — “Это для вас, а не для меня, — возразила я. Мною овладевало возбуждение.— Вы становитесь для меня человеком, с которым будет соединено воспоминание о самой лучшей, самой большой моей радости”, — сказала я студенту. Тот молчаливо улыбнулся… Моё надломленное, утомлённое до бесконечности существо вдруг узнало в себе новую силу. Точно больному дали лекарство, от которого он выздоравливает…
Надежда — прекрасное слово! Да, я могу теперь надеяться; я снова могу жить!.. И мне хотелось болтать без умолку, смеяться так, как я давно уже не могла смеяться.
Я каталась недолго. Было темно, когда я шла домой; но обычно длинная дорога не казалась мне длинной, и тёмные сумерки казались светлее солнечного дня.
18 февраля.
<…> А знаете ли, чего мне сегодня захотелось? Смешно сознаться даже самой себе. Видя, как дети {Младшие братья, Володя и Саша.} ласкаются к сестрам, обнимают их — мне вдруг страшно захотелось испытать на самой эту детскую, братскую ласку, которой я никогда ещё не видала по отношению к себе. Сестры относились совершенно равнодушно к этим “нежностям”, как они их называют; но я… чего мне так хотелось, того, наверное, не увижу никогда! Дети как-то стоят ближе к сестрам, и любят их несравненно больше, нежели меня; им и в голову не может прийти, что я старшая сестра, потому отношусь к ним строго, что люблю их разумною любовью и желаю, чтобы из них вышли порядочные люди… Впрочем, говорят, что дети ласкаются только к хорошим людям, они инстинктивно чувствуют, кто их любит. Во всяком случае, здесь нет ничего хорошего для меня; я, значит, по существу дурной человек. Что ж, это, быть может, и правда!
24 февраля.
Петя прислал мне свою карточку; она была завернута в бумажку, и на ней было написано: “Лиза, посылаю свою карточку и прошу на меня не сердиться. Желаю всего хорошего, Петя”. И этот тоже просит на него не сердиться! Как странны люди! Одним словом, одним разговором часто могут они причинить больше зла, нежели поступками, и не заметят этого; разве только мимоходом бросят вам: “не сердись”… — За что? В сущности, и Петя по-своему прав, а виновата опять-таки я, вообразив его не тем, чем он есть. Единственным извинением моим служит неопытность, уединённая жизнь, которую я веду, полное незнание людей, слишком живое воображение… <…>
16 марта.
Прочла последний рассказ Толстого: “Хозяин и работник” {Рассказ Л. Толстого “Хозяин и работник” был напечатан в журнале “Северный вестник”, No 3 за 1895 г.}. Едва только он появился в печати, как уже единогласно признан критикой за шедевр даже между произведениями великого писателя. Действительно, — можно ли написать лучше, проще, возвышеннее? В нем — и сила, и великая христианская идея. <…> Фигура хозяина выступает не вдруг, а постепенно; сначала мы видим только хитрого мужика-богача, который думает только о торговле и барышах, но под влиянием смертной опасности, пред лицом неминуемой гибели, — в хозяине вдруг пробуждается “нечто”, и это “нечто” все растёт и растёт, захватывает всё его существо и заставляет наконец спасти Никиту, а самому погибнуть. Подобное превращение <…> может казаться неестественным: так велико расстояние между христианином-идеалистом и деревенским барышником. Но для гения Толстого это расстояние совсем не велико, и превращение Василия Андреевича совершается так естественно и просто, последние минуты его жизни так трогательны, что читатель даже нисколько не удивляется его перерождению. Чтение этого рассказа возбуждает лучшие чувства, и поэтому самое произведение, несмотря на свою простоту, — возвышенное. В нашей литературе нет рассказа, равного этому по силе и глубине мысли, простоте содержания и совершенству формы. О, если бы хотя 1/100 наших писателей могла писать так!
1 апреля.
Не далее, как несколько часов тому назад, я виделась с В… Я получила от него вчера утром письмо, в котором он писал, что приедет сегодня. Уже издали заметила я его высокую фигуру, когда мы шли навстречу друг другу… Он крепко сжал мне руку и, сказав “спасибо”, тотчас же начал объяснение, результатом которого явилось назначенное на завтра последнее, решающее свидание с Валей…
Ей я сказала: “Ты должна прямо и честно объясниться с ним. Это будет самое лучшее. От него будет зависеть принять во внимание твоё намерение поступить на курсы — и он тебе это скажет…”
2 апреля.
…Валя была страшно взволнована и едва могла говорить… — “Он сделал мне предложение… мы пришли к соглашению. Я даже не ожидала, что он решится сказать маме, что женится под условием моего отъезда на курсы в нынешний же год. Он хочет теперь, чтобы я сначала узнала жизнь, пожила в Петербурге… А чтобы мама не испугалась четырехгодовой отсрочки, мы решили немного схитрить и сказать ей, что венчание отлагается только на год, на время которого я уезжаю учиться. Вот как хорошо мы всё устроили… И вдруг… сейчас он говорил об этом с мамой… и… она… не соглашается”, — разрыдалась Валя… Нам было страшно тяжело. Вечером разговор с матерью был целой путаницей тупого, закоснелого эгоизма и жестокости, которой она нимало не скрывала перед нами. — “На такое условие я никогда не буду согласна. Она — моя дочь и должна жить со мною. Я её никуда не пущу учиться. Свадьба должна быть без всяких условий, тогда муж будет её попечителем, и я не буду касаться дочери”. Сказав эти слова, мама более не спускала глаз с В. и сестры, ни минуты не оставляя их вдвоём: она боялась, чтобы они, по её словам, “не дали друг другу слова”…
4 апреля.
Ох, сколько пережила за эти три дня! Мама теперь устранена от дела совсем: ей сообщили, что условия её приняты, и свадьба “состоится”… Но В. твердо решил не отступать от своего намерения дать сестре полную свободу по выходе замуж. — “Я не возьму её с собой… Пусть тотчас же после венца, так как ей неудобно оставаться здесь, едет со мною в Петербург и там живёт до начала учения. Я её устрою на курсах, а сам потом уеду домой”… Он говорил это просто и уверенно, и лишь едва удалось мне подметить грустную нотку в его голосе, как говорят люди, пришедшие к какому-либо окончательному решению. Нет сомнения, он говорил о браке, но о таком, который сначала должен быть фиктивным. Меня тронуло такое благородство человека, а Валя ценит его безгранично… Теперь осталась одна практическая сторона дела… Свадьба предполагается через год…
5 апреля.
Уехал В. Прекратились наши волнения, свидания и переговоры. Я испытываю удовлетворение в том, что теперь всё зависит от них обоих, и мне можно устраниться… Как бы ни кончился год ожиданий, — это будет уже личное дело сестры…
В нашу общую жизнь, однообразную и монотонную, как серенький осенний день, вдруг ворвался солнечный луч и упал на младшую сестру. И блеск этого луча озаряет её бессознательно, даже против воли… <…>
1 мая.
Мне интересно наблюдать Валю. Я теперь схожу со сцены, которую заняла, было, на время, сажусь в ряды зрителей и наблюдаю… Должно быть, мне судьба быть зрительницей… Удивительно: ведь есть же такие люди, которые, не зная любви, весь век свой живут спокойно, вдали от неё, не имея понятия о романах. Но мне, мне… судьба дает иные роли: то наперсницы, как в старинных французских драмах, то посыльного, то секретаря, то советника, то ходатая по секретным делам, — и это почти во всех романах, которые мне встречались за небольшой сравнительно период времени, от 15 (когда одна моя подруга впервые решила, что я уже не “ребёнок” и что мне “можно всё сказать”) до 20 лет. <…>
29 мая.
Сестра сказала мне, что ей едва ли придётся поступить на курсы, потому что В. будет её мужем, Так как я была убеждена, что их брак будет на время фиктивным, то я с удивлением спросила её: — “Почему ты так думаешь?” — “Это же видно из его письма: он пишет о поцелуях”…— “Ну, так что ж? Он хочет сделать тебя своею женою”, — спокойно заметила я.— “Как? Да неужели же ты не знаешь, что это и есть настоящий брак? Разве ты не понимаешь, что если он будет меня целовать, то это и значит, что мы сделаемся настоящими мужем и женою”… Широко раскрыв глаза и не веря своим ушам, слушаю я Валю. 18-летняя девочка, читавшая все прелести Золя, Мопассана и других, им подобных, “Крейцерову сонату”, горячо рассуждавшая о нравственности и уверявшая меня, что она уже давно “всё знает”, — эта девушка, дав слово В., не знала… что такое брак! Иногда я заговаривала с ней по поводу читаемых романов, и моя сестрица всегда так горячо и авторитетно рассуждала, так свободно употребляла слова, относящиеся к самой сути дела, что мне и в голову не могла придти подобная мысль. И вдруг, случайно, почти накануне свадьбы, я узнаю от неё, что она ещё невинный младенец, что она… не понимает и не знает ничего, — “Валя, послушай, ну вот мы с тобой читали, иногда говорили об этом… Как же ты понимаешь?” — “Конечно, так, что они целуются… от этого родятся дети, — точно ты не знаешь”, — даже с досадой ответила сестра. Я улыбнулась,— “Что же ты смеёшься? Разве есть ещё что-нибудь? Разве это не всё? Мне одна мысль о поцелуях противна, а вот ты смеёшься. Какую же гадость ты ещё знаешь?” — с недоумением спрашивала Валя…
Каково было моё положение! Кто мог предполагать, что Валя, читая, не понимала самой сущности, даже не подозревала о ней. Впрочем, она не читала никаких медицинских книг, сказок Боккаччо, где с таким наивным цинизмом описывается то, что теперь даже Золя и Мопассан заменяют многоточием, — и, сообразив по-своему, думала, что узнала “всё”, и рассуждала о браке весьма свободно. Таким образом, выходя замуж, сестра была похожа на овцу, которая не знает, что её через несколько времени заколют. Я слыхала и раньше, что ужаснее этого нет ничего…
Вечером пришла к нам Маня, и я, мучаясь всеми этими соображениями, жалея о наивности сестры, спросила её совета. Она прямо сказала мне, что я должна, как старшая сестра, заменить ей мать. И вот, смущаясь и стыдясь того, о чём должна буду говорить, злясь на самоё себя, — одним словом, в скверном, нерешительном состоянии, я усадила Валю подле себя и тихо-тихо объяснила ей всё. Валя была поражена… Перед ней отдернули занавесь жизни и, смутно соображая, — она поняла. В первую минуту для неё это было невероятно, полно ужаса и отвращения…
Как тяжело, но жизнь всё делает по-своему! <…>
21 июля.
Присланное мне письмо В. не было особенно интересно, и я рассеянно его пробегала, как вдруг в конце несколько строк: “Во время нашего свидания на Пасхе я видел, что с Вами случился какой-то переворот, что Вы уже не та, которую я знал раньше. Что именно произошло, я не знаю и из коротких бесед вынести не мог, но я только ясно видел, что что-то такое произошло и Вы теперь можете спокойно пойти даже на пытку, самую изысканную. Тут не то разочарование, о котором Вы мне писали на каникулах, а что-то более тяжёлое”. При чтении этих неожиданных фраз — всё пережитое за этот год в одно мгновение нахлынуло на меня, точно волна… Замерло сердце, я задрожала от боли, вскочила, уронила письмо — и стояла так, ничего не понимая, не видя. Я опомнилась, когда почувствовала, что глаза застилает, что лицо мое влажно от слёз… Я с трудом овладела собой; мне было стыдно и досадно, и я выбранила себя за это крепким словцом…
“Вы теперь можете спокойно пойти даже на пытку, самую изысканную” — это он угадал. Я так привыкла скрывать ото всех свое душевное состояние, что мне и в голову не могло придти, что могут хоть что-нибудь заметить… Или это сквозило помимо моей воли? Но я уверена по-прежнему, что глубже заглянуть ко мне в душу, проще понять меня как человека — никто “из них” не догадается. <…>
10 августа.
Когда недавно В. приезжал сюда на несколько дней, он сказал Вале, что он такой же, как и она, т. е. не знает “других сторон жизни”. Следовательно, любовь его чистая, идеальная. — “Иначе я никогда не осмелился бы”. — “Я очень рада”, — сказала сестра. Вместо ответа В. поцеловал её руку… Наконец-то на наших глазах состоится идеальный брак — союз одного мужчины с одною женщиной, такой, которого требуют законы нравственные и религиозные… Как это хорошо! И не без внутренней радости подумала я, что отчасти способствовала этому браку, что я передала ему сестру.
Валя хочет поступить на курсы, и В. в продолжение четырёх лет учения не должен пользоваться правами мужа. Люди опытные говорят, что это положительно невозможно; и Валя уже теперь сомневается, может ли он остаться таким же, как и она, до 29 лет, постоянно видя её… Но, взвесив все жизненные обстоятельства, я нахожу, что шансы его и сестры — равны: сестра, когда задумала поступить на курсы, и слышать не хотела о замужестве — и он был несчастен; теперь она согласна, но с условием, исполнить которое он дал клятву. Пусть они повенчаются, пусть сестра в этом случае поступит, как иногда я поступала в решительных случаях: закрыв глаза, бросится плыть по течению… <…>
15 августа, 1-ый ч[ас] н[очи].
Сегодня день моего совершеннолетия. Утром мама, крепко обняв меня, поздравила, заплакала и вдруг начала целовать без конца с какою-то страстною нежностью… Я стояла неподвижно, опустив руки… Я, которую до глубины души трогает всякая неожиданная ласка, — чувствовала, что внутри ничто не шевельнулось, что нет ответа на эти ласки. Я не сделала никакого движения, чтобы высвободиться из объятий мамы, и только время от времени, по какому-то чувству приличия, которое все же не позволяло мне не отвечать ничем на эти ласки, — машинально целовала её руку… Уж теперь я не могу… полюбить её вновь. Слишком много вынесено, слишком часто ко мне были жестоки; перед тою же матерью, которая, поддавшись минутному настроению, обнимала и целовала меня, — мне приходилось плакать мучительными слезами горя, и в ответ встречала я злую, холодную насмешку. Миновало теперь это время, мне уже не больно, слёз больше нет, — но зато и рука моя не поднялась обнять маму… Я вежливо благодарила её за подарок и поздравление, почтительно целовала её руку; — я была искренна, как всегда; язык не повернулся сказать те слова, которых не было на сердце.
Не передать словами моё состояние духа весь этот день! Это была даже не радость. Нет, это было глубокое чувство внутреннего освобождения, которое переломило меня до такой степени, что на душе не оставалось места ни для чего другого. Точно грубый покров разрывался во мне — и нежная ткань души просила жизни. Я чувствовала, что стою на рубеже прежней и предстоящей новой жизни — и не могу ещё осмотреться сразу; и почти не могла дышать — в груди было тесно, воздуха не хватало… Хотелось остаться только наедине с собой…
И мне было тяжело принимать участие в общем веселье, я не могла разговаривать, вся поглощённая одною мыслью: что будет завтра и потом?…
Я не имею понятия о том, как освобождают от попечительства по достижении совершеннолетия, какие нужны для этого формальности, когда будет раздел {Раздел наследства, оставшегося от отца.}. Мое положение остается всё ещё очень неопределённым, потому что я должна ожидать от мамы всего. Но завтра к секретарю Сиротского суда уже явится “совершеннолетняя наследница”, — как значится в бумагах.
Вчера я была за всенощной и молилась так, как редко приходится: без слов, даже мысленно не высказывая ничего, я стояла перед иконой и грустно смотрела на неё… И чем больше я молилась, — тем сильнее становилась уверенность, что всё кончится хорошо, что я поступлю, что меня непременно примут.
Часть 2
На Высших Женских Курсах
1895 год
С.-Петербург, 22 августа.
Я пишу в небольшой комнате, которую мы с сестрой наняли в каких-то номерах сегодня утром, приехав с вокзала Николаевской ж. д.
Третьего дня, возвращаясь домой, я увидела сестру, бежавшую ко мне навстречу: “Лиза, иди домой скорее, пришла бумага с курсов!” — “Ты видела конверт?” — спросила я. — “Да, пакет большой”. — “Ну, значит, бумаги возвращены; меня не приняли”, — сказала я и хотела бежать поскорее, но ноги не слушались и подкашивались.
Я вошла прямо в залу, в комнату мамы; толстый пакет лежал на столе. “Что это тебе прислали?” — спросила мама.
Я ничего не ответила и, взяв пакет, побежала к себе в комнату; заперлась… Руки у меня опустились, я села в кресло… Не надо было и вскрывать конверта, чтобы убедиться в его содержимом. Машинально разорвала я его, — мой диплом и другие документы упали ко мне на колени; выпала и маленькая бумажка, которой извещали меня, что я не принята на курсы “за неразрешением матери”. Я сидела неподвижно. Удар грома, молния, упавшая у моих ног, не могли бы теперь заставить меня пошевельнуться… <…> Я чувствовала, что глаза мои влажны, но слёз не было… Я лежала неподвижно, точно меня придавили свинцом, точно меня кто сильно ударил… Что ж теперь? — ехать за границу, тикать в Петербург?..
А сестры наверху с тревогой ожидали меня.
Сколько прошло времени, — не знаю, но я всётаки встала, пошла к ним и молча подала им бумажку. Те прочли и молча опустили головы. Я начала говорить, что сейчас пойду к матери, в последний раз просить её согласия, и сказать ей, что я еду в Петербург. Как ни старалась я быть спокойной, но голос мой дрожал и прерывался. — “Если она не даст согласия, то я поеду за границу, тогда… только вы не говорите, что я вас бросила”, — не выдержала я и закрыла лицо руками. “Лиза, полно, не плачь”, — успокаивали меня сестры. — “Нет, Валя, ведь ты ещё не замужем, а мне хотелось бы, чтобы ты вышла при мне. Тогда я могла бы быть спокойна за тебя и за Надю”, — сквозь слёзы сказала я. — “Ну, полно: о нас нечего беспокоиться; надо думать о тебе”, — утешали меня сестры.
Времени терять было нельзя, я пошла к матери; но разве когда-нибудь её железная воля могла быть сломлена? Холодный отрицательный ответ; ироническое: “Поезжай. Куда ни сунься, без согласия матери тебя не примут”… Оставалось решить, когда ехать в Петербург. Решила завтра. Весь вечер пролежала у себя в комнате, в каком-то полусонном состоянии и не могла ни двигаться, ни говорить.
Но вечером, часов в 9, за полчаса до отхода парохода, я вдруг решила ехать; чем скоре, тем лучше. У мамы в это время сидел чиновник из Сиротского суда {Местная судебная инстанция, занимавшаяся делами попечения о малолетних сиротах и вдовах из купеческого, мещанского, ремесленного сословий.}; дети убежали играть. Мы были втроём на антресолях. Минута была самая благоприятная. “Надя, я иду! — сказала я сестре, — одевайся”. Наши сборы были недолги. Потихоньку спустились мы с лестницы, чтобы незаметно уйти чёрным ходом. Но в коридоре нас ждала горничная. Мама, очевидно, подозревала что-то и велела ей сидеть внизу у лестницы. “Пожалуйте к мамаше” — сказала мне моя дуэнья. Я быстро и решительно вошла. Мама сидела с чиновником. По моему дорожному костюму она сразу поняла, в чём дело. — “Куда ты едешь?” — “В Петербург”, — твердо отвечала я, сама удивляясь странной звучности своего голоса. — “Как, и не простившись со мной?” — продолжала мама тем же удивлённым тоном. Я отлично видела притворство и ничего не ответила. — “Зачем ты едешь?” — продолжала мама, как будто нарочно разговаривая при постороннем о семейном деле. — “Мне пора…” — сказала я и повернулась, чтобы выйти. — “Как ты можешь… без спросу?..” — слышала я вслед… И всё это не скрывая, при постороннем… О-о! Если б этот звук мог выразить стон души человеческой, который был готов вырваться у меня, когда я вышла из залы.
Надо было торопиться. Быстро сбежали мы по чёрному ходу вниз, мимо изумлённых горничных; пробежали по двору. Луна ярко светила. Мы не шли, а бежали по улице, торопясь нанять извозчика. Наконец, через полчаса, мы были на пристани; несколько минут спустя были уже на пароходе и поехали в Рыбинск.
Никогда не забуду я этой ясной, холодной августовской ночи. Мы ехали более суток… дорога длинная, скучная… Я старалась спать как можно больше. Иногда только в голове проносились какие-то обрывки мыслей: “вот приеду в Петербург, поговорю с директором… почему он в марте позволил мне подать прошение, а затем вдруг отказал в приёме “за неразрешением матери”? Как он узнал, что у меня есть мать? Если ничего не удастся, выправлю себе заграничный паспорт”…
…Сюда мы приехали вчера утром. Я не обратила ни малейшего внимания на столицу, которую видела в первый раз в жизни. Прямо из номера я поехала в Исаакиевский собор; что-то подсказывало мне: поезжай сначала туда, иначе ничего не выйдет. Я быстро вошла в собор, упала на колени в тёмном углу и пробормотала горячую, бессвязную молитву; потом бросилась на первую попавшуюся конку… С непривычки мне было очень неловко пересаживаться с одной конки на другую; наконец, сойдя со второй, с помощью какого-то доброго человека, я пошла на 10-ю линию, д. No 33 {Высшие женские курсы (Бестужевские) располагались в Петербурге по адресу: 10-я линия Васильевского острова, д. 33-35.}. Два швейцара в ливреях стояли у крыльца. Я поднялась по каменной лестнице в большую прихожую. В доме шла переделка; всюду виднелись столы, вещи, вынесенные из других комнат, стояли ведра с краской и валялись кисти.
Я спросила, можно ли видеть директора. “Он только что уехал, — ответил швейцар, — пожалуйте в канцелярию к его секретарю”. Молодой человек сидел у письменного стола и писал. Он весело и любезно осведомился, кто я такая, и, узнав, как меня зовут, воскликнул: “А, это вы! Знаете ли, у нас из-за вас возникло целое дело!”. Я с недоумением посмотрела на него. — “Дело в том, что вы были приняты”. “Позвольте, как же это? — прервала я его, — 20 числа я получила бумагу с отказом”. — “Вот именно. А между тем вы были приняты, и вам послана повестка 9 августа. Но мы получили письмо от вашей матери: она перехватила эту повестку и написала нам, чтобы директор не принимал вас, потому что она, вследствие разных домашних обстоятельств, запрещает вам поступать на курсы. Тогда мы выслали вам обратно бумаги с отказом”. Я слушала молча… мне нужно было сохранить приличное спокойствие, надо было собрать всю силу воли, чтобы на лице не было заметно того, что происходило у меня на душе. <…>
На другой день, съездив с сестрой в Петропавловский собор, я приехала на курсы. Целый час пришлось дожидаться директора: он ездил с докладом к министру. <…>.
Наконец директор сказал мне: “Пожалуйте. Всё, что я могу для вас сделать — посоветовать обратиться к попечителю округа с прошением, в котором вы изложите обстоятельства дела. Он человек добрый, может и сделает для вас что-нибудь”. Он дал мне адрес М.Н. Капустина {Михаил Николаевич Капустин (1828—1899), ученый-юрист, в 1852—1870 гг. профессор Московского университета, в 1870—1883 гг. директор Демидовского лицея в Ярославле, в 1883—1899 гг. действительный тайный советник, попечитель Рижского, а затем Санкт-Петербургского учебного округа.} и сказал, что я могу его застать дома в три часа. <…>
Я вошла в небольшую гостиную; лакей понёс моё прошение в кабинет, оттуда слышались голоса; моё прошение прочитали вслух, и не успела я поднять глаза, как высокий и худой старик очутился передо мною: “Видите ли, сударыня, дело такого рода… я ничего не могу сделать. Хотя вы и совершеннолетняя, но послушание родителям тоже дело необходимое. Всё, что я могу сделать, это написать вашей матери письмо, уговорить её позволить вам учиться. Может быть, она и послушает меня, старика”. <…> “Ваше превосходительство, всё равно это бесполезно. Если вы не примете меня здесь, я уеду в Швейцарию, мне ничего более не осталось”, — говорила я, и голос мой зазвенел, в нем чувствовалась энергия отчаяния: я чувствовала в себе силу, защищая своё право. “О, какая же вы самостоятельная!” — удивился попечитель. <…> “Ну, хорошо; я поговорю о вас с министром; приходите завтра, постараюсь сделать, что могу”. <…>
24 августа, вечером.
Я принята! О, наконец-то я добралась до пристани. Курсы для меня — пристань, с которой я отправлюсь “в плаванье по волнам моря житейского”. Когда сегодня я шла к попечителю — странное дело: несмотря на то, что я уже ни на что не надеялась, я думала: неужели моё случайное знакомство с Э-тейном, потом с одною из слушательниц курсов и моя переписка с нею — неужели и это было напрасно? <…>
Попечитель был занят: в его кабинете слышался женский голос. Я ждала у стены в гостиной. Через несколько минут нарядная дама промелькнула мимо меня в прихожую, попечитель вышел вслед за ней в гостиную. — “А, это вы? Пожалуйте сюда”, — проговорил он, уходя в кабинет. <…> “А знаете ли, всётаки я написал письмо вашей матушке; быть может, она послушает меня, старика”. Я невольно подумала: экий упрямый старичок, всётаки сделал по-своему, ведь я уже вчера говорила ему, что это бесполезно. <…> “Вот ваше прошение, можете передать директору”. Я удивилась, развернула бумагу, там было написано: “Г-ну директору Высших Женских Курсов. С согласия его сиятельства, господина министра, разрешаю принять в число слушательниц с размещением в интернате”. — “Так меня примут? — радостно воскликнула я. <…> Но (я вспомнила характер моей мамы) извините… если моя мать напишет вам резкое письмо… Вы не рассердитесь на меня и не велите исключить?” — взволнованно заговорила я. — “Ну, мало ли я получал в жизни резких писем, — спокойно и добродушно ответил прекрасный старик. — Не беспокойтесь, конечно, вас не исключат”. Говоря это, он двигался взад и вперёд по комнате и разбирался на столе, не глядя на меня, точно он старался не замечать выражения благодарности, точно он не хотел, чтобы кто-нибудь знал о том, что он поступил хорошо. Он подал мне руку и прервал меня: “Теперь, когда вы приняты, вы должны поддерживать репутацию курсов”. — “Я буду подчиняться всем правилам, ваше превосходительство”. — “Вот именно; политикой не занимайтесь и вообще ведите себя так, чтобы не уронить достоинства курсов”. — “Я буду считать за честь учиться на них”, — сказала я, стоя уже в передней. — “Да, именно, считайте за честь; следуйте моим советам”, — быстро кончил наш разговор попечитель, хотя давно уже простился со мною.
Взволнованная, вышла я на улицу; в прихожей дожидалась меня Надя и там, слыша, что я плачу, и вообразив, что меня не приняли, и сама заплакала. Но одного взгляда на моё лицо достаточно было, чтобы убедиться в противном.
Сегодня в 12 часов я пришла к директору и молча подала ему конверт с прошением попечителю и остальными документами, которые были мне возвращены. Он любезно поздравил меня с поступлением. — “Но всётаки, вы постарайтесь убедить вашу мать; это, во всяком случае, неприятно; вы будьте к ней почтительны”. Я обещала директору исполнить всё. Сегодня выехала с сестрою в Москву.
Интернат Высших Женских Курсов, 8 сентября.
<…> 4-го я приехала сюда. Днём был молебен; приехал и М. Н. Капустин и некоторые из профессоров. Мы все подходили к кресту мимо директора и попечителя. Я стояла одна в этой шумной толпе. Ни души знакомой кругом; я перекинулась двумя-тремя словами с некоторыми из слушательниц; у всех из них были свои землячки, только что приехавшие, у меня знакомых не было никого <…>.
На другой день начались лекции, т. е., собственно говоря, была читана одна по русской истории. Я вошла в аудиторию с чувством какого-то ожидания, свободно, без всякого благоговения, но отнеслась ко всему со спокойным интересом. Я уселась на скамье повыше; шум и крик стояли в аудитории. Вдруг всё стихло. На кафедру вошёл профессор русской истории С. Середонин {Сергей Михайлович Середонин (1860—1914) — историк. Исследовал и публиковал сочинения иностранцев о России.}. Это ещё не старый человек, очень некрасивый, с короткими руками и каким-то скрипучим голосом. Он прочёл вступительную речь. Едва он начал говорить — я впилась глазами в его лицо, ловя каждое слово, и так и застыла в этом положении до конца лекции. Предмет был интересен, а читал он плохо; ему сильно мешал картавый выговор и какой-то страшный звук голоса.
Он говорил о движении исторической мысли, начиная с первого писанного учебника русской истории. <…> И первая же лекция показала мне моё круглое невежество: я ничего не читала по русской истории, и поэтому вся лекция для меня была новостью.
12 сентября.
Сегодня мама прислала своё согласие, форменное разрешение на имя директора. Сегодня же я получила от сестер письмо, в котором они сообщали, почему она согласилась. Оказывается, она всётаки не поверила моим словам, что меня приняли, и, послав отказ в ответе на письмо попечителя, была уверена, что меня не примут. Спустя несколько дней она опять получила от Капустина письмо (только теперь случайно узнала я, что он решил добиться согласия мамы таким образом: время от времени писать ей письма и уговаривать её, несмотря на её отрицательные ответы), и так как я ещё раньше сказала ей, что в случае чего — еду за границу, то вдруг она испугалась такой близкой возможности моего отъезда; и вот, в силу всех этих обстоятельств, согласие было написано, подписано и отправлено тогда… когда, в сущности, уже его и не нужно было. <…>
Вечером я была у Капустина, благодарила его за участие. Он вышел ко мне, поговорил немного о письмах. — “Ну вот и прекрасно. Всётаки она (т. е. мама) согласилась; гораздо лучше начинать всякое дело с материнского благословения, с её согласия”. <…>
26 сентября.
Наконец-то я слышала Гревса {Иван Михайлович Гревс (1860—1941) — историк Рима и Средневековья, краевед, педагог.} — этого любимого профессора наших слушательниц, которого ожидали с таким нетерпением и который, наконец, приехал и вчера читал вступительную лекцию. За полчаса до начала аудитория уже переполнилась народом: всюду, где только можно было встать и сесть, даже на кафедре, так что профессор вошёл, с трудом пробираясь между слушательницами. Он средних лет; худощавый брюнет с длинным и тонким лицом, с тёмными глазами, очень болезненный на вид. Войдя на кафедру, он закашлялся и долго не мог начать; форточка была отворена — её затворили; он оправился и обратился к нам: “Возвращаясь после годичного перерыва (он прожил целый год за границей) к обычным занятиям в дорогой для меня среде, я обращаюсь с приветствием к вам, с пожеланием успеха в ваших занятиях. Но прежде чем приступить к чтению лекций, мне хотелось бы выяснить вам вашу задачу, которую вы будете выполнять в общественной деятельности или в семейной обстановке, — вы — интеллигентные представительницы русского общества будущего 20 столетия”… — такими словами начал И. М. Гревс свою прекрасную речь. И он выяснил нам эту задачу; запишу приблизительно содержание его речи. “Роль интеллигентной личности в обществе. Общество как сумма факторов интеллигентных, имеющих своё развивающее влияние. Интеллигентный человек для своего развития должен заниматься наукой. Может ли масса действительно служить обществу как свет (сумма интеллигентных факторов в обществе — то, что по-франц. наз. светочами — les lumieres). Современный взгляд на науку Брюнетьера {Фердинанд Брюнетьер (1849—1906) — французский критик, историк и теоретик литературы. В 1890-х годах эволюционировал в своих взглядах от позитивизма к религиозному мистицизму.} (“банкротство науки”) — который отвергает значение наук, потому что они не дают ответа на вопросы филологические, о происхождении религий и др.; он признаёт и несостоятельность когда-либо ответить на эти вопросы, и за разрешением их советует обратиться к религии: мистическое настроение общества. Два течения в современном взгляде на науку: отрицание умственного труда (Лев Толстой: сказка о труде головою {“Сказка об Иване-дураке и его двух братьях: Семене-воине и Тарасе-брюхане, и немой сестре Маланье и о старом дьяволе и трёх чертенятах”, написанная Л. Толстым в 1885-м и напечатанная в 1886-м, в 1887-м была запрещена. Цензурный запрет снят только в 1906-м.}) и экономический материализм в истории.
О значении идеи в истории; её призвании к работе прогресса. Идейное начало в истории общества. “Будем стремиться хорошо мыслить” — вот основной принцип нашей морали, медленный прогресс общественного строя. Прогресс проникает туда, где с ним соединяется мысль. Надо работать над устранением препятствия для развития прогресса в обществе; эти препятствия состоят в косности общества, фанатизме религии, деспотизме государства. Мысль — руководитель прогресса. Изучение истории. Что нужно знать человеку? Человек — существо общественное и религиозное (в философском смысле слова)”. <…>
25 октября.
Середонин образовал практические занятия на нашем курсе таким образом: <…> предложил читать группами сочинения известных авторов по школам, начиная со школы родового быта, а потом излагать вкратце содержание этих сочинений. <…> Статья, которую предстояло мне изложить, называлась “Взгляд на юридический быт древней России”; в связи с ней нужно было излагать и другую: “Разбор сочинений Терещенки” <…> того же автора {Работы историка Константина Дмитриевича Кавелина (1818—1885), помещённые в 4-томном издании его сочинений (1859).}. <…>
Только усевшись за письменный стол, я сообразила, какую глупость я делаю, и растерялась. За что я бралась? <…> Сумею ли я написать хоть строчку? если я не сумею изложить как следует содержание этой статьи, которой так заинтересован чуть ли не весь курс, то что же будет? Это значит осрамиться перед всеми… Я чувствовала, что струсила не хуже последнего школьника перед экзаменом. И в то же время я возмутилась своей глупостью. Если я не сумею — то ведь это будет так глупо! Боже мой, неужели же я не могу, не способна даже и на это? <…>
Ах, Боже мой! Что—то будет завтра? Сердце так и замирает, как подумаешь. И добро бы я взялась излагать малоизвестного автора, — тогда всё пошло бы ладно. А то ведь — Кавелин! с ним всякая знакома, у многих есть конспекты, и вот они будут проверять… <…>
О, завтра, завтра! Единственная надежда, что времени — один час — не хватит для трёх изложений. Середонин сказал, что изложение должно быть кратко, не более 10 минут. Но при всём моём желании я никак не могла изложить так кратко. Все мысли Кавелина так верны, имеют такое существенное значение, что почти невозможно излагать статью так, чтобы всё чтение заняло не более 10 м., в таком случае пришлось бы выпустить половину.
Итак: с одной стороны моё изложение противоречит желанию профессора, с другой — неизвестно, как отнесётся к нему большинство, с третьей — оно противоречит моему искреннему желанию — не читать его (раз оно написано — volens-nolens — надо прочесть).
1 ноября.
А с четвёртой стороны — всё обошлось благополучно. Я волновалась, входя на кафедру (аудитория была полна), и руки мои задрожали так сильно, что я разозлилась сама на себя… но чем больше я читала, тем становилась спокойнее: начала — так надо же кончить. Я читала громко и ясно, но очень быстро и нервно сначала, и совсем хорошо под конец, когда вполне овладела собою. Профессор стоял рядом со мной и делал пометки. <…>
29 ноября.
В нашей временной квартире постоянный шум и движение, несмотря на то, что нас живёт всего 8 человек; живя в небольшом обществе, конечно, легче ближе познакомиться, чем в большом интернате. Всё это хорошие люди; все более или менее усердно занимаются, интересуются предметами, читают… Но… почему же их общество опять-таки не может удовлетворить меня? <…> Не слыхать ни одного интересного разговора или спора; меня поражает отсутствие каких-либо высших жизненных запросов или научных интересов, когда мы сходимся вместе за чайным столом. Так себе, болтаем пустячки, а иногда даже несносный вздор; со стороны послушать — даже тошно станет <…>. Тяжелее всего то, что всегда приходится быть на виду, и как бы ни была расстроена, всётаки должна сдерживать себя, чтобы — Боже упаси! — не ответить кому-либо на навязчивые вопросы слишком односложно, или нервно или с явным нежеланием продолжать разговор. Сейчас же обидятся, придерутся; найдутся охотники поддержать; и вот мне вскоре после того реферата, который меня так расстроил, что я на назойливые вопросы “как? ну что? расскажите!” односложно ответила “нечего рассказывать” — уже пришлось выдержать целую бурю негодования, которая поднялась после этого краткого ответа — “Как, вы не хотите отвечать? Как это нелюбезно с вашей стороны!” — “Да чего от Д-вой ожидать?! Ведь уже про неё давно известно, что она на курсах всех обрывает! Её даже боятся; я знаю нескольких, которые жаловались мне на её грубость… Немудрено, если с вами никто не захочет сойтись… вы оттолкнёте своею грубостью…” — щедро сыпались обвинения из уст “развитых” девиц, которые никак не могли сообразить самой простой вещи, что я так была расстроена, что человеку прямо не по себе, что он не может же быть всегда, во всякую минуту, быть готов к их услугам. Тогда, за мною вслед пришла в нашу общую квартиру одна сестра П-р, — и крикливо, как торговка, размахивая руками, начала рассказ о реферате; все слушали с любопытством… — “Вот, г-да, кто расскажет, так уж расскажет,” — и все, как стадо баранов, повернулись в её сторону; я слышала похвалу П-р, которая очевидно предназначалась как шпилька по моему адресу.
Чтобы прекратить все подобные заявления, я, скрепя сердце, сказала, когда П-р кончила: “Господа, как видите, реферат был настолько плох, что мне прямо было неприятно о нём рассказывать!..” Никто не слыхал моих слов, потому что уже начался другой спор…
И вот сегодня, когда я, наконец, опять увиделась с М.Е. {Вероятно, старшая знакомая Е.Дьяконовой по Ярославлю, тоже курсистка, упоминавшаяся в записи от 19 января 1895г. как Маня П-ва (ср. запись от 16 июня 1896г., из которой видно, что М.Е. и Маня П-ва — одно и то же лицо).}, придя в её тихую, милую комнатку, когда я опять могла видеть и говорить с близким человеком, я не выдержала, — и невольно у меня вырвались рыдания, и, упав головой на колени М. Е., я расплакалась, как ребёнок.
Она испугалась: “Да разве можно быть такой нервной, Лиза? Здесь, в Петербурге — это невозможно; вам надо лечиться”…
“Нет! уверяю вас, что я вовсе не нервная. Это я только так… потому что у себя, в интернате, никогда не показываю им ничего, и меня никто не считает нервной”, — с трудом говорила я, стараясь овладеть собой.
Это и в самом деле глупо. Что за вздор — нервы. Эх, если бы была возможность, я вылечилась бы своим способом: холодная ванна каждый день; потом гимнастика… Жаль, что здесь нет ни того, ни другого. А то это — лучше всяких лекарств. Но самое лучшее — уметь владеть собой. Что за глупые создания мы, женщины! Неисправимы! Слёзы и нервы {Е. Дьяконова цитирует, по-видимому, название стихотворения Н. Некрасова “Слёзы и нервы” (1861).}, — очевидно, прирожденные средства нашего пола.
6 декабря.
Завтра в Дворянском собрании вечер в пользу доставления средств нашим курсам, приглашены известные артисты: Фигнер, Тартаков {Николай Николаевич Фигнер (1857—1918), Иоаким Викторович Тартаков (1860-1923) — солисты Мариинского театра.}, ещё кто-то и артистки. Заранее предвидя, какая скука меня ожидает на вечере, когда, по окончании концерта, начнутся танцы, я решила быть действующим лицом, т. е. что-нибудь “делать” — по хозяйственной части, продавать, помогать кому-нибудь; это, мне кажется, всё же лучше, чем, не имея ни души знакомых (а курсисток, наверно, потеряешь в толпе, да у них есть свои знакомые), слоняться бесцельно по зале или подпирать её стены, когда перед твоими глазами будут кружиться пара за парой. Впрочем, говорят, в третьем году на вечере профессора говорили речи, между ними — Гревс, Семевский {Михаил Иванович Семевский (1837—1892) — историк, журналист.}… Было интересно, и хорошие мысли возбуждались в молодёжи, но зато распорядительницу бала потребовали к градоначальнику. Эх, жизнь!..
“По нынешним временам”, вместо того, чтобы слушать прекрасные, увлекательные, пылкие речи, я буду продавать прохладительные напитки в качестве помощницы распорядительницы. <…>
Я чувствую, что буду недовольна собой… К чему я взялась за это дело? — Ведь я могла бы уехать тотчас после концерта. Но я же знаю, что не уеду: странное свойство человеческой натуры — противоречить самой себе.
Меня уверили, что продавщицам надо быть одетыми в светлые платья. Я выписала из дому свой единственный вечерний туалет, к слову сказать, очень нарядный и изящный, и завтра — к своему собственному удивлению — обращусь из скромной, просто одетой и гладко причесанной курсистки в изящную барышню. Да, я буду зла на себя… и тем более, что заранее знаю, как наши интернатки щедры на комплименты, чисто институтские аханья и восклицания по поводу платьев… — “Господа, Дьяконова будет очень интересна на вечере… она будет в розовом платье, — вы не видали? какая прелесть!” — слышу я уже и теперь. <…>
10 декабря.
Был вечер, сошёл весьма удачно, как это, впрочем, и всегда бывает; наш вечер даёт Обществу для доставления средств В. Ж. К. около 4-х тысяч чистого дохода. <…>
У меня нет никого знакомых; даже ни одного студента, хотя почти у всякой курсистки их наберется несколько человек. Сидя за столом, машинально наливая стаканы оршада, лимонада и получая деньги, я думала: нельзя сказать, чтобы это было весело… вот у других продавщиц знакомые помощники-студенты, они разговаривают очень оживлённо, видно сейчас, что им весело… А тех, которые продают цветы (для этого нарочно выбрали трех самых изящных блондинок), наверно, окружили знакомые… Хотела ли я быть на их месте, сидеть в первой комнате, в зелёной беседке? — Нет; потому, что и меня тогда окружали бы, как окружают их теперь, путейцы, техники, студенты, артисты — пришлось бы и мне также мило улыбаться, вести ту же пустую и незначительную болтовню о погоде, о театрах, о вечерах, — одним словом, “светский” разговор… <…>
В самый разгар нашей торговли к нашему столику подошёл студент и попросил позволения присесть на свободный стул. <…> Мы разговорились; потом он встал и предложил мне оставить на несколько времени мою обязанность и пойти отдохнуть. Я пошла с ним бродить по залам… мы ходили, разговаривали, и ничего: разговор клеился. Наконец, он представился и, в свою очередь, спросил у меня моё имя и фамилию. Так мы познакомились, и он даже попросил позволения навестить меня в интернате. Я согласилась, удивляясь в душе такому быстрому ходу знакомства с человеком, о котором полчаса тому назад и понятия не имела; но в то же время сообразила, что ничего не потеряно: или это знакомство не состоится, если он придёт и не застанет меня дома, и не осмелится придти в другой раз, — или просто забудет о моём существовании, и его просьба о позволении бывать у меня окажется пустыми словами — тем лучше, я буду осторожнее относительно подобных субъектов; если же, паче чаяния, он и вправду придёт и дома застанет, — тогда я буду иметь возможность доставать через него книги из университетской библиотеки. Как я теперь присмотрелась к нашей жизни, то вижу, что студент, в сущности, необходим именно для книг, для того, чтобы он доставал билеты, вообще — для услуг. Говорю так потому, что к нашим интернаткам постоянно ходят студенты, люди очень интересные, и наши тяготятся их посещениями, которые у них отнимают время для занятий, но всётаки поддерживают знакомство именно ради “услуг”. А так как я тоже сомневаюсь в том, чтобы была возможность познакомиться с интересными людьми, то надо желать более доступного, ну, хоть кого-нибудь для “услуг”, и главное — ради книг! Как они мне нужны! И как трудно их достать…
14 декабря.
На днях утром я пошла на лекцию богословия. Добрый батюшка {Священник Рождественский.} вошёл, смиренно сам прочёл молитву: Царю Небесный <…> и начал защищать учение Библии от взглядов разных учёных и их теорий… Он старался доказать, что Библия не противоречит науке, что сами учёные, несмотря на то, что некоторые из них отрицают существование Бога, необходимость религии, всётаки должны признать, должны вывести из изучения истории человечества, что в человеке всегда жила могущественная потребность в религии, в стремлении узнать Бога, объяснить себе явления природы, её возникновение; человеку всегда была присуща мысль о вечности, о том, что со смертью не всё в нас исчезнет, а останется нечто. Человек всегда старался проникнуть в тайны неизвестного, за гробом… Батюшка говорил заикаясь, путаясь в словах, и поэтому… как слаба казалась его защита веры! <…>
Через два часа, в той же аудитории, Гревс читал интересную лекцию о христианстве как историческом явлении, имеющем огромное значение в истории народов. И здесь впервые я услышала речь о христианстве не с той обычной строго-религиозной точки зрения, с какой я обыкновенно привыкла смотреть на него. Не касаясь вопросов религии, Гревс разбирал вопрос об изучении этого исторического явления. <…> Само собою разумеется, что в числе писателей, занимавшихся этим вопросом, Гревс выше всех ставил Ренана и его “Les origines du christianisme”, разбирая содержание каждой книги {8-томный труд Эрнеста Ренана (1823—1892) “Происхождение христианства” (1863—1883).}. Ренан рекомендовался нам для чтения, Ренан назывался великим гением; благодаря его деистической теории — как сказал профессор — человечество прогрессирует, и, таким образом, ему удастся когда-нибудь придти к познанию истинного Бога… Бедный батюшка!
15 декабря.
Завтра уезжаю домой. Устала до последней невозможности; почти сплю за тетрадкой. Домой! Как-то меня встретит мама? Говорю — неизвестно, настолько мало её знаю. А меня все ждут с нетерпением… О, как я буду рада видеть их всех, сестёр, братьев! Сколько я могу им рассказать, сколько надо сообщить… Уже глаза слипаются… не могу писать больше…
Ярославль, 25 декабря.
Вот уже целая неделя, как я дома, и не вижу, как время идёт… Первые радостные минуты встречи со своими, потом — бесконечные разговоры и рассказы. Дома, конечно, ничего не изменилось. Но мама удивила меня своим отношением ко мне: она встретила меня очень ласково и, кажется, была очень успокоена, видя, что я нисколько не переменилась, что ничего ужасного со мною не случилось и что курсы не оказали на меня никакого “вредного” влияния. Вполне игнорируя курсы, она, тем не менее, с любопытством расспрашивала меня о моём житье в интернате, и, так как то, что я рассказывала, было вполне успокоительного характера, то ей не к чему было придраться, и она была спокойна. Но зато она с необыкновенной для меня щедростью принялась заботиться о моих туалетах, находя их слишком плохими. Рассчитывая существовать в Петербурге исключительно на собственные средства, я, конечно, не могу теперь одеваться так, как одевалась прежде… И вот маме надо было найти хотя бы одну, по её мнению, неприглядную сторону моего существования; не находя её в моих рассказах, но найдя её в моём туалете (к слову сказать — вполне приличном), она обратила теперь на неё все свои заботы и, к великому моему удивлению, заботится о моих платьях совершенно так, как будто бы у нас не было отдельного имущества, а она обязана нам всё делать. Я прихожу в ужас от такой беспощадной траты денег, но маму убедить — невозможно. С непривычки мне кажется обидным принимать от неё столько подарков, даже невозможным, неестественным, смешным быть одетой на “чужой счет”, как я выражаюсь. А главное — мне ничего не надо; я неустанно твержу это маме и, по-видимому, только больше подливаю масла в огонь. <…>
Странная женщина моя мать! Или — стоит поставить себя раз вполне самостоятельно, то она, в свою очередь, начнёт относиться по-человечески? Удивляюсь. Когда подумаешь обо всём, что пришлось вынести из-за неё в эти годы, — горечь и злоба подымаются в душе; когда же видишь перед собой её теперь, по отношению ко мне — добрую и ласковую, по отношению к сестрам и младшему брату — по-прежнему строгую, по отношению к старшему брату — слепо любящую и подчиняющуюся, — то чувствуешь к ней какую-то жалость… <…>
Я была так рада видеться с сестрами; мне так хотелось передать им всё, что я узнала, всё, что видела и слышала, в особенности Вале, которую я заранее считаю будущей слушательницей… Мне хотелось, чтобы она, поступая, была бы уже au courant {в курсе (франц.).} относительно всего, с чем мне неожиданно пришлось столкнуться, и я посвящала её во все те стороны нашей жизни, какую мне приходилось наблюдать. А между тем — в ней произошла перемена, которой я никак не ожидала: она стала как-то уже чересчур благоразумно смотреть на жизнь; говорит, что все клятвы В. относительно их фиктивного брака — наивный вздор, одни слова, и теперь, собираясь выходить за него, уже твёрдо уверена, что ей придётся сделаться женою своего мужа, и печально поникнув головой, прибавила: “Может быть, и на курсы мне не удастся поступить”. — “Ну, уж этого не может быть! Ты поступишь! — вскричала я. — Мы с тобой будем вместе…” Но сестра неотразима. Отчего же это? Или мы обе были так наивны нынче весною, что верили в возможность осуществления фиктивного брака? Но для меня и теперь, — при сильной воле, это можно сделать; все же утверждают, что невозможно, немыслимо… никто не верит в возможность идеальных отношений…
1896 год
1-е января.
Новый год! В первый раз в жизни встречаю я его как самостоятельный человек, более или менее свободный; в первый раз в жизни прошлый “новый год” внёс в мою жизнь новое, то “счастье”, о котором я столько лет мечтала, к чему я так стремилась, надеждой на которое жила… Новый год застает меня уже как слушательницу курсов… и отчасти — новым человеком. О, если бы я могла действительно сделаться новым человеком, человеком в лучшем смысле этого слова!
7 января.
В конце декабря В. приехал сюда, и теперь проводит все дни со своей невестой. Свадьба его и сестры предполагается в апреле. Он — счастлив; сестра же напоминает мне ребёнка, которому дали интересную и замысловатую игрушку, под названием “жених” и он не может натешиться ею. Со всем тем она прелестна, наша Валя, полуребёнок, полуженщина. Рядом с ним она кажется такой пассивной… несмотря на все уверения В., что он будет исполнять все её желания, что он будет у неё “под башмаком”, — думается мне, что наоборот: Валя будет слушать его… Как подумаешь, что во всём этом деле она была, в сущности, пассивным лицом, что она больше плакала, чем действовала, мне становится её жаль. Но чем далее, тем более сестра привыкает к В. и к своему положению невесты. Её начинает интересовать предстоящая жизнь; домашняя обстановка с каждым годом становится всё тяжелее и невозможнее… до совершеннолетия ей ещё долго ждать, и перспектива в недалёком будущем получить свободу, стать самостоятельным человеком — начинает ей улыбаться. В. она начинает называть всякими уменьшительными именами… Меня удивляет его сдержанность: в нашем присутствии он обращается с сестрою как и с нами, церемонно называя её по имени и отчеству и ничем не выдавая своего чувства. А между тем — стоит мне уйти, и он, по словам Вали, сейчас же переходит на “ты”, целует её ручки… Я стараюсь, чтобы они как можно больше бывали наедине, ухожу в свою комнату, читаю…
9 января.
Я никогда не забуду своего проступка… которому нет извинений и за который совесть постоянно будет упрекать меня. Дня за три до Рождества я получила письмо от Ю. П. Щ-ной, которая просила меня разузнать о здоровье её внучка — кадета здешнего корпуса. Я отправилась туда, встретила в приёмной воспитателя, который и сообщил мне, что мальчик болен воспалением в лёгких, но теперь поправляется, так как кризис уже был и кончился благополучно. “Да вы не хотите ли сами видеть мальчика?” — спросил он меня. Я почему-то думала, что мальчик, наверно, будет стесняться незнакомой девушки, вдобавок посещающей его в лазарете: кроме взаимной неловкости ничего не выйдет из этого свидания, а между тем воспитатель дал о нём самое успокоительное известие. — Зачем же я пойду в лазарет? — решила я, и отказалась, попросила передать ему коробку конфет и уехала. Написала обо всём Ю. П. В Новый год получаю от неё письмо. Опять просит сходить узнать о мальчике, отпустят ли его к родным для поправления здоровья (мальчик — кавказец и плохо переносил наш климат). На другой день я пошла в корпус. На этот раз нужно было видеть директора. Не успела я договорить своего вопроса, как он прервал меня: “Евфорицкий скончался сегодня”. — “Как? — я была поражена. — Да ведь я же недавно была здесь, справлялась о нём, и мне сказали, что ему лучше?” — “Да, и было лучше; но мальчик был очень слабый, у него не хватило сил поправляться, и он умер просто от истощения. Вообще наш климат южане трудно переносят. У меня на руках еще 5 или 6 таких мальчиков, и я за них не ручаюсь”… — “Когда же он умер?” — “Сегодня в 3 часа”. Я взглянула на часы: было половина пятого. Приди я двумя часами раньше, или вчера же, я застала бы мальчика в живых. “Можно его видеть?” — спросила я. — “Пожалуйста; пройдите в лазарет… тело не тронут до приезда доктора”.
Мы прошли по длинному коридору в небольшую, слабо освещенную палату, в которой стояли всего две постели. На одной из них лежал мальчик, прикрытый одеялом, в спокойной позе спящего человека. Это и был маленький покойник. Я подошла к постели. Лица его не было видно; он лежал спиною ко мне… Чёрная, гладко остриженная детская головка… Ничего ему больше было не нужно, бедному маленькому человечку, оторванному от семьи, от родного юга, и случайно брошенному на наш север (как сын военного, он учился на казённый счет). Не нужно было бесполезных сожалений… не нужен был ему и мой приход… Мне надо было придти к нему раньше, мне надо было принять участие в бедном ребёнке, который так тосковал по родине и у которого здесь не было ни родных, ни знакомых. А я? Поверив словам воспитателя и не справившись у доктора, не побывав в лазарете, я преспокойно уехала домой, как будто бы и впрямь исполнила долг свой… А потом? Да ведь первые дни праздника я не подумала о нём; затем поехала в Нерехту на два дня… Я проводила время среди своих, а мальчик — все эти дни угасал тихо, медленно и одиноко. Если б я стала навещать его… почём знать? Ведь это была бы единственная светлая сторона его жизни в казённых стенах лазарета… если бы я приняла в нём участие, — я была бы единственным более близким ему человеком, заменив ему хоть отчасти родных.
Но я ничего для него не сделала. Умея сочувствовать гуманности и горячо принимать к сердцу все вопросы, касающиеся её, я, как только на практике представился случай для применения человечности и сочувствия — сама пропустила его. Вот что значит мало любить людей! Если бы я была добра, то в этом случае поступила бы как должно, по влечению сердца… А я… нет, верно нет во мне этой доброты!.. И вспоминать теперь не могу, как возмутительно равнодушно, безразлично было моё поведение в этом случае.
Мне кажется, что я никогда не забуду этого лазарета, кровати и лежащего на ней мальчика. Пусть эта картина будет моя живая совесть… Ах, нет ничего тяжелее, нет ничего хуже упрёков совести! Вот уже неделя прошла с тех пор, а я их чувствую так же живо, как будто это было вчера!
Нет, правы, пожалуй, все, которые меня не любят (по моему мнению), правы все, которые видят во мне одни недостатки и строго судят меня. Правы они! Ничего лучшего я не стою! Ничтожная, мелкая, дрянная душонка! Скверная натуришка! Эх! туда же, говорю о развитии, учусь… а коснулось дело самого простого житейского случая, в котором представлялась возможность сердечного отношения к человеку — и я спасовала… да ещё как! вот вам и развитие! Я чувствую себя страшно виноватой, и мне нет извинения; я должна просить прощения у Ю. П., рассказать ей обо всём. Но… что же из того? — получу прощение, да от этого мне будет не легче…
СПб. 25 января.
Началась моя обычная жизнь, от которой я оторвалась больше, чем на месяц; всё это время я ровно ничего не делала, ничем не занималась, почти ничего, относящегося к курсу, не читала. Как это случилось? я и сама не знаю: домашняя ли обстановка имела на меня такое влияние, или бестолковое распределение дня, от какого я, было, совсем отвыкла, или позднее вставание, или бесконечные разговоры, или же, вернее, моя любовь (в данном случае оказавшаяся излишней) к литературе, которая заставила меня читать некоторые произведения, которые не могла прочесть здесь, — но, во всяком случае, я виновата, и никто больше.
Следствием такого времяпрепровождения было то, что я, хотя чувствовала себя прекрасно в своём семейном кругу, но в голове сделалась какая-то пустота, которую, казалось, ничем не заполнишь: ни мысли в голове! — какое скверное сознание… Чувствуешь, что вот пусто до того, что хоть шаром покати.
И я дошла до того, что могла целые дни просиживать, сшивая себе воротнички и рукавчики (стыд!)… Только в разговорах с сестрами время шло так хорошо, что иногда жаль их становилось, и мне хотелось ещё остаться. Но, с другой стороны, когда праздники кончились, началась наша будничная, томительно-однообразная, монотонная жизнь: сегодня как вчера, а завтра, — как и в прошлом, как и в третьем году.. Когда, проснувшись утром, я уже не увидела брата, ушедшего в гимназию, а на антресолях у сестёр сидела ученица, я почувствовала, что мне пора, пора ехать, что надо приняться за дело. Туда, туда! скорее выбраться из этой стоячей воды! Я решила не дожидаться конца отпуска и выехала раньше. И хорошо сделала: лекции уже начались. Но вместо занятий научных, пришлось всё время заниматься делами В. С той минуты, когда он пришёл ко мне на курсы, всю свою личную жизнь я совершенно забыла, моё время мне уже не принадлежало: состояние духа В. в первый день, как я его увидела, было очень тревожное.
Незадолго до приезда В. у сестры явился ещё один влюблённый и писал ей трогательные послания, прося её повременить свадьбой, если она выходит без любви, и дать и ему, быть может, надеяться на счастье… Бедная Валя! она плакала, читая это письмо, так же, как и в прошлом году, читая письмо В., и, ни слова не говоря нам, не находя опоры в самой себе, она написала своему жениху такое послание, что он, себя не помня, приехал в Ярославль. Они объяснились. В. говорил мне, что он готов был порвать всё, узнав, что сестра колеблется, едва только появился другой претендент на её руку, и увидев её полную бесхарактерность в данном отношении. Грустно и смешно подумать: сестра поступала совершенно по-детски, — и невольно становилось жаль её. Свидание с В. поправило дело: она увидела его около себя, опять начались длинные прогулки, разговоры, всё это настолько укрепило её симпатии и привычку к В., что она совершенно забыла о своём другом поклоннике. Дитя, дитя! милое, хорошее дитя! и при всём этом — она наша сестра вполне. Она вовсе не влюблена в В., не увлечена им, и нельзя сказать, что его любит, нет: она такая, как и мы, и это чувство незнакомо ей. Но между ею и В. есть столько общего, он так близок к нашей семье, эта история его любви, которая продолжается вот уже около двух лет, — всё это настолько возбудило её симпатии, привязало её к В., что теперь она только ему и доверяется вполне, привыкнув к нему… И вот передо мною постепенно раскрывается состояние души человека, который от равнодушного отношения постепенно переходит к хорошему, спокойному чувству симпатии, доверия, привязанности: скоро она готова будет сделаться “его”… Такова теперь Валя, выходя за В. От него будет зависеть дальнейшее его счастье: если он сумеет воспользоваться этим хорошим к нему отношением и ещё более привлечёт сестру к себе, — тогда счастье его упрочено. За сестру нечего бояться: она не принадлежит к числу тех героинь романов, которые, выйдя замуж по спокойной привязанности, вдруг, ни с того ни с сего, влюблялись в первых попавшихся людей, сумевших возбудить в них страсть. Она — не из таких; допустим, что подобные натуры не так поэтичны, но что делать: ведь мы все в подобном случае прозаики, и весьма обыкновенные, дюжинные женщины.
В. приехал сюда искать места, не имея хотя бы рекомендательных писем; бедный мальчик, конечно, не получил места, и вдобавок его продолжало мучить поведение сестры, которая после его отъезда вновь виделась со своим поклонником; она не хотела так поступать, но у неё не хватило духу отказать ему разговаривать с нею (тот, к счастью, опомнился, понял всю невозможность своего поведения и более не говорил с нею о своей любви). В. чуть было не наделал глупостей — хотел ехать обратно в Ярославль. Мне нужно было его удержать, успокоить, уговорить и утешить, если можно, что я и делала, как умела. Иногда мы проводили время в воспоминаниях прошлого, и все перипетии этой истории как бы вновь вставали перед нами; говорили о сестре, о Малороссии, о нём самом, или же оба молчали: он, погружённый в свои вечные мечты о Вале, я — о них обоих, и о нашем положении, из которого Валя может выйти сейчас только посредством замужества… и тогда мне хотелось ещё с большей уверенностью довести это дело до благополучного конца; сестре теперь нечего колебаться: пусть сначала выйдет замуж, а потом — поступит на курсы.
В первое время, когда я приехала сюда, когда я наслаждалась, так сказать, своим положением свободного человека, мне становилось мучительно жаль Валю, когда я раздумывала над её положением. Она не увидит такой жизни; ей не придётся жить так, как мне, независимо… ей не жить тою свободною, чисто студенческою жизнью, какою мы живём: она будет на курсах уже замужней женщиной. И в эти минуты мне становилось её до боли жалко, и хотелось мне порвать всё, или же сделать так, чтобы отложить свадьбу на несколько лет… Мне становилось как-то больно при одной мысли, что сестра уже не будет носить одну фамилию с нами, что она уже не будет принадлежать нам. Поступи я годом раньше на курсы, испытай сначала эту жизнь, — быть может, я не стала бы устраивать брака сестры с В.; я сказала бы: подожди, пока кончишь курсы. Но я понятия не имела о курсах и о здешней жизни; я дала начало… потом, когда всё постепенно улаживалось и устраивалось, потом — мне ли было разрушать всё? А между тем сознаю, что если бы по приезде на Рождество я поддалась такому сожалению, поверила своему чувству, то, пожалуй, могла бы отговорить сестру выйти за В.; могла бы сделать так, что она дожидалась бы 21 года и потом поехала сюда… Я убедила бы сестру, потому что знала то настроение, с которым меня ждали дома. Но… мне ли было разрушать? И почём знать: быть может, она в обществе В. скорее найдет удовлетворение, быть может, жизнь её с ним будет для неё более интересной…
Только однажды, осенью, я поверила этому чувству, написав Вале такое письмо, из которого она не могла ничего понять; потом, на её вопросы я отвечала, что писала под влиянием минуты, а приехав домой, видя её весёлою и довольною с В., я как-то сразу успокоилась. О, если бы только “всё кончилось благополучно”…
В. уехал. Принимаясь за занятия, я чувствовала, что отупела до такой степени, что боялась взяться за что-нибудь: мне всё казалось, что я уже не могу ничем заниматься, что у меня такая плохая память…
11 февраля.
Была на студенческом “чаепитии”, которое ежегодно устраивается в день университетского праздника. {8 февраля 1819 г. — дата основания Санкт-Петербургского университета.} <…>
8-го, утром, я получила небольшой оранжевый билетик, на котором была написана фамилия распорядителя и адрес: Бассейная, кухмистерская Вишнякова, 4. <…> Поднимаясь по лестнице, я уже слышала шум и гвалт. Отворив дверь в прихожую, я чуть не остановилась на пороге: предо мною была такая масса студенческих мундиров, что в глазах зарябило. Для дам была приготовлена отдельная раздевальня. Там был уже полный беспорядок: шубы лежали кучами на полу, калоши, шляпы, муфты, — всё это складывалось вместе, где и как попало. Трюмо, казалось, смотрело на нас с насмешкой, точно удивляясь: как оно попало в эту заваленную платьем комнату, где царствовал полнейший беспорядок и где в нём отражались не изящные бальные наряды, а тёмные, строго закрытые платья и гладкие причёски…
Я вошла в первую комнату: студенты толпились у входа и проводили в зал. На нас, курсисток, они не обратили ни малейшего внимания. Я пошла дальше. В зале толпа медленно двигалась взад и вперёд; лёгкое облачко табачного дыма стояло над нею. Я нашла двух знакомых курсисток и присоединилась к ним, чувствуя себя, как в лесу, среди этой огромной, чуждой толпы. Сесть было некуда, все чайные столы были уже заняты; груды сухарей и бутербродов, стоявшие на столах, быстро таяли; из соседней чайной, в которой разливали чай, барышни то и дело сновали со стаканами в залу. <…> Но вот толпа мало-помалу начала останавливаться, собираться в кучки, точно в ожидании чего—то. Раздались голоса: “слова, слова! — шш!…” пронеслось в толпе, и все мгновенно притихли. <…> Я пробралась к центру комнаты и, следуя примеру предусмотрительных людей, влезла на стол, чтобы лучше видеть и слышать ораторов. Едва только я успела занять такую удобную позицию, как кто-то провозгласил: “Леонид Егорович Оболенский просит слова”. — “Слова! слова!” было ответом. На стуле появился человек средних лет, среднего роста, с окладистой бородой, лысой головой и умным, симпатичным лицом {Леонид Егорович Оболенский (1845—1906) — публицист, литератор, философ, теоретик либерального народничества.}. Он говорил твёрдым, звучным голосом: “Господа, то, что я хочу сказать сегодня, будет как бы продолжением той беседы, которую многие из вас слышали… (он намекал на заседание Историч. Об-ва, бывшее незадолго до Рождества, на котором поднялись горячие споры и на котором я не была), — но на этот раз я взгляну на вопрос с другой точки зрения”… И заговорил о примирении между марксистами и народниками на почве практической деятельности, оставляя спорную почву — теоретические убеждения. Он говорил горячо и умно, его речь была совсем чужда узкой партийности, в ней была видна широта взгляда, гуманность, — одним словом, она имела идеалистический оттенок, и по всему этому не могла не понравиться мне. Слушая эту речь, я чуть не с отчаянием чувствовала, что ничего не понимаю. Увы! я ничего не знала ни об учении Маркса, ни о народниках, не читала новых работ наших молодых писателей-экономистов; имена Струве {Петр Бернгардович Струве (1870—1944) — экономист, философ, историк, публицист, в 1890-х годах “легальный марксист”.}, Яроцкого {Василий Гаврилович Яроцкий (1855—1917) — экономист, юрист.} были мне знакомы только понаслышке; я даже не читала журналов за последнее время. Но надо было стараться понять, что возможно, о сущности этих направлений из речей. Кончил первый оратор; рукоплескания. На его месте появился проф. Яроцкий. Не успел он сказать нескольких слов о роли интеллигенции в обществе, как с другой стороны, почти рядом со мной, поднялся высокий рыжеватый господин в очках — Струве и, отчаянно заикаясь и останавливаясь на каждом слове, стал возражать первому…
— “Вы говорите о примирении… вы советуете соединиться для совместной работы, как будто говоря о том, что человек руководствуется теоретическими убеждениями. Какова же должна быть практическая деятельность, если человек не будет руководиться своими убеждениями, и каковы же будут его убеждения, если он не будет проводить их в жизнь?.. Ни о каком примирении не может быть и речи”… — Вот та основная мысль, которую я могла заловить из этой беспорядочной, полной перерывов и заминок речи. Струве, быть может, хороший писатель, но как оратор он лучше бы сделал, если бы не говорил вовсе.
Это было началом спора между народниками и марксистами. Заговорили какие-то студенты, возражая то народникам, то марксистам. Главным пунктом споров была речь Оболенского: кто хотел идти на “примирение”, кто не хотел. Слышались слова: народ… его благо, его польза, все те слова, о которых столько раз читала в книгах. Спорили горячо, но убедить друг друга всётаки не могли, и каждый остался при своём; молодежь жадно слушала, награждая ораторов шумными аплодисментами.
А народ, из-за которого шли здесь такие горячие споры, — он, наверно, спал теперь крепким сном после тяжёлого трудового дня, в своих маленьких деревушках, затерянных среди необозримой снежной равнины… и, наверно, ему и не грезилось, да и в голову придти не могло, что в эту ночь, там, далеко, “господа” судят и рядят о его положении и говорят мудрёными, учёными словами. Любопытно, что сказал бы нам деревенский мужик, если бы он мог попасть на это собрание? Почесал бы он в затылке и ушёл, или, уловив слово “помочь”, понял бы его в смысле денежном?
Ещё интереснее было бы привести на это собрание заводчика или фабриканта-миллионера, который послушал бы марксистов: усиление капитализации, рабочий пролетариат. — Что бы он сделал? Или, уверенный в своей силе, он с презрением посмотрел бы на людей, толковавших на разные лады о капитале, не имея ни его, ни фабрик и заводов, а между тем хотевших произвести такую-то эволюцию? Или же он струсил бы и ушёл поскорее, со злобой в душе? Во всяком случае, от него в 9 случаях из 10 нельзя было бы ожидать сочувствия…
Но вот какой-то студент вскочил на стол и, обращаясь к присутствовавшим, просил сказать речь другого характера, не исключительно экономического, потому что человек живёт не одним телом, но и душою,— и нельзя сосредоточить всё внимание на одной материальной стороне жизненных вопросов. Это было как бы началом другой половины речей: идейного содержания. Послышались голоса, вызывавшие популярного профессора Кареева {Николай Иванович Кареев (1850—1931) — историк, социолог.}, но вдруг раздались оглушительные аплодисменты, и на столе появилась сухощавая фигура старика с вдумчивым выражением глаз и длинною седою бородою. Это был проф. Лесгафт {Петр Францевич Лесгафт (1837—1909) — педагог, врач.}, известный всей здешней учащейся молодёжи. Он сказал коротенькую речь о житейской философии, которую всякий человек создаёт себе, и советовал обратиться к философии мужика, которому все так хотели помочь и которого все так мало знают. Его проводили гораздо меньшими аплодисментами,— явное доказательство, что речь почтенного профессора оказалась ниже ожиданий. Потом появилась львиная голова Кареева; говорит он хорошо, хотя и пишет чересчур “размазывая”. На этот раз он сказал всего несколько слов о значении науки, не желая никому возражать, потому что, по его словам, атмосфера была и без того “насыщена электричеством”. Да, правда, нельзя сказать, чтобы настроение было мирное…
Но все эти речи, все споры, все обращения к молодёжи наводили на мысль: к нашей молодёжи обращаются теперь с такими же словами, как обращались и 10, и 20, и 30 лет тому назад; те же слова, те же идеалы… почему же, однако, обо всех этих прекрасных идеях говорят и до сих пор, как будто они в жизнь не проводятся? Ведь прежняя молодёжь, по выходе из университета, должна была бы дружно стремиться к их осуществлению? Или молодёжь так скоро отказывается от юношеских убеждений по окончании курса? Ведь в большинстве случаев люди в зрелые годы сожалеют о годах молодости, об утраченных идеалах, твердят о разочаровании…
Вот на эту мою мысль и ответил один симпатичный оратор, который напомнил молодёжи, чтобы она увлекалась этими идеями не только в стенах заведения, но и в жизни проводила их, не страшась страданий.
Последнюю речь говорил Мякотин {Венедикт Александрович Мякотин (1867—1937) — историк, публицист.}. Это была самая лучшая из всех слышанных. Она была хороша тем, что расширяла и объединяла всё сказанное предшествующими ораторами: пусть марксисты и народники, сходясь в практическом отношении, работают вместе на пользу народа, руководясь наукой и не пренебрегая изучением жизни; в то же время для более полного изучения своих теоретических убеждений они могут, они должны спорить, стараться научно выяснить себе основные вопросы. — Никому так много не аплодировали, как этому оратору.
Я уехала тотчас после этой речи, решив, что более никто говорить не будет, потому что ничего никто лучше не скажет, — так и было. <…>
25 февраля.
Я так редко пишу… теперь, когда моя жизнь изменилась, когда я добралась до пристани. Казалось, — тут-то бы и писать, писать без конца, обо всём, и всю свою внутреннюю жизнь раскрывать в молчаливых беседах со своим неизменным молчаливым другом. Но выходит наоборот: я беру его всё реже и реже, случайные записи принимают чисто внешний характер. Я живу, жизнь захватывает меня; дни летят за днями, а тетрадка лежит себе в портфеле, точно забытая, ненужная… даже затрудняюсь, как писать. Я занимаюсь целыми днями, и всё недовольна собою, и всё мне кажется, что я делаю мало; иногда меня охватывает безумное сожаление о прошлом, об этих четырёх годах, — и это хуже всего. Положим, они — в смысле житейском — не совсем потерянные: за это время я, могу сказать, — окрепла духом, развилась, хоть немного, узнала жизнь и людей; на курсы я поступила не юной, неопытной девушкой, а человеком со сложившимися уже убеждениями, со своими выработанными взглядами, но зато моё умственное развитие, моё круглое невежество во всех отраслях знания — приводит меня в отчаяние. — Читаю ли я историю, занимаюсь ли славяноведением или логикой, — внутренний голос твердит мне: ты могла бы это всё узнать раньше, — тогда у тебя были средства на книги, ты могла бы учиться по ним, а ты — предпочитала истратить их на тряпки и брать ненужные уроки. <…> И вот результат: я — на курсах; на первых уже порах написала совершенно неверно, чисто по-детски, изложение данной профессором статьи, ясно узнав в этом всю свою неразвитость и неспособность.
О, Боже мой, да что же я такое? Я стремилась к образованию, будучи совершенно неспособна, ниже всякой посредственности? Ведь мои способности, о которых мне столько твердили в детстве (я положительно могу одобрить себя за то, что всегда относилась крайне критически ко всем выражавшимся мне похвалам, искренно считая себя вполне недостойной их), моя память — они, должно быть, ослабели, притупились во время моего тяжёлого 4-летнего домашнего плена, — в продолжение которого им, к несчастью, было так мало пищи и слишком много таких житейских дрязг, что они могли только систематически притупляться. О, бедная Лиза! {Вероятно, аллюзия на повесть Н. Карамзина.} несчастное, жалкое существо! <…>
27 февраля.
<…> Как-то раз одна из наших интернаток, в минуту откровенности, разговорившись о своей жизни, довольно ясно намекнула, что ей пришлось уже многое пережить, и потом спросила меня: –- “А вам пришлось испытать что-нибудь подобное?” Я ответила отрицательно. Она удивилась: “Значит, вы всю жизнь прожили как под колпаком, не встречаясь с людьми?” — спросила она. “Да, в данном случае — не пришлось”, — невольно усмехнулась я и мысленно добавила: “Да и не придётся”, потому что здесь моя однообразная студенческая жизнь, с ограниченным кругом знакомств, опять-таки своих же товарок-курсисток, пройдёт так же однообразно и спокойно и даже, пожалуй, без всяких сближений со студентами, как и в этот год, а пройдёт это время, и если мне удастся осуществить своё намерение — получить место в деревне, — так будет ещё менее случаев для каких бы то ни было знакомств.
Это — немножко скучно, но что же делать? Если жизнь так складывается… не всем же всё даётся. Читая всевозможные рассказы, романы, этюды, где говорится о печальном положении женщины, которую никто никогда не любил, я отношусь к этому как нельзя более хладнокровно. Что ж? Ведь не всем же; а если я не принадлежу к этому избранному числу, — значит, так и надо, так и лучше… Но жизнь никогда не может оказаться скучной и печальной, если её пополнить разумною, интересною Деятельностью и руководиться при этом любовью к людям вообще.
Однако, вот что действительно было бы хорошо и удобно — иметь хоть одного знакомого студента, только человека интересного, с которым можно было бы обо всём поговорить. <…>
1 марта, веч.
<…> Когда мне говорили, что на курсах в Бога не верят, и предсказывали, что я непременно сделаюсь неверующей, — я всегда была уверена, что этого не будет, что мои религиозные убеждения тверды, и их не так легко поколебать не только курсисткам, но даже самим курсам, даже лекциям профессоров. Когда я оборачиваюсь назад, то вижу, что я верила прежде как-то не рассуждая, не вдумываясь хорошенько, на что, собственно, я опираюсь, и что мною руководит в моей вере: верила — ну и верила, совершенно машинально, в силу, должно быть, бессознательно отразившейся на мне веры предшествовавших поколений, которые веровали так же просто, как и сами жили. И вот теперь я читаю эти лекции серьёзно, внимательно следя за каждым словом, стараюсь поставить себя на место неверующих, спрашиваю себя: а это доказало бы мне? произвело бы на меня впечатление? Но стать всецело на их точку зрения мне не удается. Я не могу отказаться от веры. Я чувствую, что что-то есть во мне, что составляет часть меня самой, что отбросить я не в силах, что живёт во мне с детства. Или во мне есть та мистическая жилка, заставлявшая меня в детстве зачитываться житиями святых в огромных Четьи—Минеях, которые брала моя бабушка у о. Петра “почитать” и которые увлекали меня мечтать о пустынях, где спасались святые подвижники, о путешествии туда, о келий где-нибудь на скале, где я непременно хотела жить после, “когда вырасту большая”.
Теперь я поняла, что надо выделять при слове “вера”. Ведь если во всём следовать учению церкви, то мало ещё просто признавать существование Бога. За ним идёт целый ряд догматов, Библия — в ней учение о происхождении мира, человека. Но вот в этом-то наука и сталкивается с религией и противоречит ей. Разве современная естественная наука не утверждает теории постепенного развития? Геология — та считает существование земли десятками тысяч лет; сравнительное языкознание не станет руководствоваться в своих изысканиях сказанием о строении Вавилонской башни и смешении языков. Религия же в Библии даёт нам ответы на все эти вопросы в строго-религиозном духе. Наконец, нам известно и учение о Божественной личности Иисуса Христа и учение о Нём, как об исторической личности, отрицающее Его божественное происхождение, и которое наш батюшка наверное опровергнул бы по пунктам. Вот те самые резкие, в глаза бросающиеся противоречия, с которыми мне пришлось столкнуться…
Итак, мало одного основного вопроса: верить или не верить в Бога? Если верить, то как? Следовать ли учению церкви, или создавать себе свои выработанные теории? Если следовать учению церкви, то принимать ли и внешнее выражение этой веры в религиозных обрядах? Если принимать, то все ли обряды, какие из них нам кажутся более важными, имеющими внутренний смысл, и какие кажутся излишними, а иногда и устаревшими, непригодными при современном уровне умственного развития общества? Вот те вопросы, на которые наталкиваешься при виде всех вышеприведённых противоречий и взглядов, высказываемых мне некоторыми из знакомых курсисток. Хотя у меня их и очень немного, но какое разнообразие во взглядах и убеждениях! От убежденной материалистки все ступеньки до наивно детски-верующей. И насколько мне удалось подметить, неверующие, или настолько сомневающиеся, что их сомнение граничит с неверием, отрицающие все обряды, всю внешнюю сторону религии, — и есть наиболее развитые, наиболее интересные и образованные. Так что здесь я вижу справедливость мнения, которое не раз приходилось читать: что интеллигентная часть общества отличается если не полным неверием, то полнейшим религиозным индифферентизмом. Это очень печально. Вот мне и нужно ответить себе на эти вопросы, если я признаю Бога… Впрочем — есть ещё один: почему я верю? И вот я отвечаю… не сразу. Почему? — должно быть, для меня, как и для всего человечества вообще, во все времена, это составляет необходимую потребность духа, существенную часть меня самой, моего “я”. Сознательно я признаю существование Высшего Существа, Творца всего сущего; я не сомневаюсь…
Ярославль, 30 апреля.
Совершилось… Вчера состоялась свадьба сестры… Она стояла под венцом прелестная в своем белом атласном платье, длинной белой вуали и венце из флёрдоранжа, тоненькая и стройная; рядом с ней стоял В., такой высокий и эффектный при ярком свете свечей; оба они так похожи друг на друга и составляли красивую пару. Вечером проводили их на вокзал. Поезд тронулся; молодые вышли на платформу; Валя махнула платком раз-другой… и поезд медленно исчез в тёмной дали. С этого момента для неё началась новая жизнь.
Новая жизнь! Наша Валя — и замужем! Так дико, так странно звучит это слово… Увы! это правда, правда, — её нет и из каждого угла антресолей, кажется, смотрит её отсутствие… Как мне тяжело! Сегодня с утра встала и бродила весь день. Я испытывала такое ощущение, точно потеряла близкого человека, и именно потеряла (не в смысле смерти), человек этот исчез… Боже! как мучилась я в последнее время!.. В. дал Вале слово, что она будет на курсах, что он получит место в Петербурге — так было в прошлом году, когда Валя дала ему свое согласие под этим условием. Место он не получил; что же оставалось делать Вале? — отказывать ему накануне свадьбы она считала нечестным. Теперь я начинала жалеть сестру: взвешивая все обстоятельства, я находила, что сестра жертвовала слишком многим: ведь до свободы ей оставалось всего полтора года. В. брал слишком много, едва ли сознавая это. Сравнивая их, я находила даже, что он её не стоит, что она слишком хороша для него: красивая, с небольшим, но независимым состоянием, очень неглупая от природы и с сильным стремлением к умственному развитию, с хорошим характером, моя сестра представляла собою очень интересную девушку. В. выбрал именно её, лучшую из нас. Глухое озлобление поднималось во мне против него, и я чувствовала, что как-то враждебно отношусь к нему. И в то же время я не могла и не смела ничем выражать своего горя; я расстроила бы сестру, только разбередила бы больное место. <…>
Я холодно поздоровалась с ним по приезде и не говорила почти ни слова; — он, в свою очередь, вовсе не был расположен объясняться, считая себя во всем правым… Наконец, я не выдержала… Поздно вечером, когда мы молча сидели втроем в комнате сестры, я заговорила о лекциях, которые хотела дать ей; я говорила ободряющим тоном, чтобы не расстраивать Валю, но не выдержала, и слёзы навернулись у меня на глазах. Я отвернулась, не желая, чтобы В. видел моё волнение. Он тихо встал и вышел в другую комнату. Пользуясь его отсутствием, я села рядом с Валей и тихо-тихо, едва слышным шепотом начала её утешать, говоря, что пока я на курсах, пока у меня есть лекции и книги, я всё буду давать ей, чтобы и она имела возможность заниматься так же, как и я.
Валя слушала молча… Слёзы были у неё на глазах… Совсем потеряв всякое самообладание, я плакала так же, как и Валя, и невольно в словах моих звучало сожаление… Вдруг громкое, какое-то судорожное рыдание вырвалось у Вали, и она упала головою на стол…
В. вбежал в комнату: тут только я сообразила, что сделала, — и сердце так и остановилось… Он нежно её успокоил и начал что-то тихо говорить ей; — я вышла… Отвратительное малодушие! Разве можно было так поступать…
Когда В. уходил, я переговорила с ним одна, в прихожей; он выразил сомнение, что она могла плакать о том, что не попадёт на курсы. — “Ей нет запрета; хочет — пусть идёт, — я переведусь в Петербург, прикомандируюсь кандидатом при Окружном суде: без жалованья, конечно, не смеют отказать в прикомандировке … Я могла только покачать головой, — уж который раз надеется он попасть в Петербург. Конечно, сестра могла бы ехать учиться и одна, но я настолько знаю её натуру, что могла заранее поручиться: она не оставит В., хотя бы из жалости к нему, так как знает, как тяжела будет для него разлука с нею… В., по-видимому, не мог стать на место Вали, чтобы вполне представить себе всё её горе; а мои мечты о совместной жизни с сестрой, о дружных занятиях, всём том, что мы будем вместе изучать, — моя радость при мысли о том, что буду не одна, а с сестрою, с близким мне человеком — всё рушилось, как карточный домик от лёгкого ветра… <…>
И когда на другой день сестра стояла под венцом такая тоненькая, такая прелестная, детски милая, с задумчивым выражением тёмных глаз, устремлённых куда-то вдаль, я находилась среди подруг барышень, стараясь спрятаться от взоров любопытных, и слёзы неудержимо катились из глаз. Я плакала, как ребёнок, дав себе волю, забыв, где я нахожусь, и видя только одно: благодаря моему участию, на моих глазах совершается то непоправимое, вследствие чего Валя теряет возможность быть со мною там… Я плакала о ней в последний раз, потому что больше я не могла бы плакать… да больше я и не смела бы… <…>
В. держался хорошо, со своей обычно-ленивою манерой. Он дал Вале первой вступить на атлас… После окончания венчания о. Владимир сказал речь новобрачным, в которой меня поразили слова: “если вы предстали здесь, пред алтарём, — значит, здесь ваша доля, и не в каком другом месте”. Что это? Ведь точно нарочно он давал ответ на мой безмолвный вопрос судьбе.
Потом был семейный обед у бабушки… Вскоре мы переодели Валю в дорожное платье и проводили молодых на вокзал… Для Вали началась новая жизнь…
9 мая.
На днях получила первое письмо от Вали, сегодня — второе. Она в восторге от Киева; из первого письма видно, как её всё занимает — и путешествие, и её новое положение, и муж, услужливый и нежный, ухаживающий за ней, как за ребёнком. Читая это письмо, такое весёлое, счастливое, я испытала невольно радостное чувство. Слава Богу, она счастлива, лишь бы она была счастлива… Надо, чтобы первые дни её новой жизни не омрачались никакими тучами… Я не скажу ей ничего больше о Петербурге, время — залечит её горе; средства к образованию всегда у неё будут, а пока пусть живёт радостно, забыв о прошлом и не думая о будущем…
Во втором письме Валя пишет об отъезде в город П., а оттуда в имение мужа, и ей невольно приходит на мысль, что она должна будет жить в провинции, а не там, где мечтали мы обе… Так грустно и покорно говорит она, что старается себя утешить тем, что её горе — ничтожно в сравнении с массою страданий всего человечества: “в этом всё моё спасение, чтобы не плакать от отчаяния по тому, что так ещё недавно похоронила. А плакать мне теперь уже нельзя, чтобы не мучить его”.
Что же мне было делать, прочтя эти строки? Плакать опять? слёз уже не было… а то, что тяжело лежит на сердце, — останется, и дольше, чем будет печалиться Валя. <…>
16 июня
<…> Маня П-ва приехала {В Ярославль, на летние каникулы.}, и я на днях была у них… С тех пор как я узнала, что она отозвалась обо мне своей сестре: “мы — разные люди”, я чувствую, что этими словами мне нанесена тяжёлая обида. Какое горькое чувство подымается во мне, когда я вспоминаю, к_а_к_ я смотрела на Маню, поступая на курсы, с каким восторгом и уважением относилась к ней: смотря на неё снизу вверх, знавшая всё её превосходство, — я была готова учиться у неё, слушать её, говорить с ней обо всём, словом, найти в ней, на курсах, старшего товарища, который помог бы мне разобраться в новой жизни и обстановке, меня окружавшей. Не тут-то было! М.Е. прежде всего была занята своею жизнью, своими делами и, как приехала, так и погрузилась в них, только раз побывав у меня. Против ожиданий, я была предоставлена себе самой. Мне никогда не удавалось даже поговорить с ней об интересовавших меня научных вопросах, и я, хотя и чувствовала необходимость помощи человека, более меня знающего, — всётаки должна была справляться с затруднениями, как умею сама, или сообща со своими однокурсницами, немногим более меня знающими. Я также никогда не говорила с нею о моих убеждениях, но некоторые из её взглядов я знала, и из моих возражений она могла вывести заключение, в чём я с нею не согласна. Это — политические и религиозные убеждения.
Я прямо заявила ей, что не люблю либеральничанья на словах, а это-то как раз и развито у нас; такое либеральничание заходит очень далеко… в словах и мечтаниях наших слушательниц. Послушать их — весь мир перевернуть надо, — и на место всех “отживших форм правления водрузить знамя социал-демократической республики. Всё это, может быть, и очень благородно и возвышенно, но, к сожалению, мыслимо только на словах, а не на деле. Притом, подобные очень быстрые рассуждения грешат отсутствием серьёзности, основательности, знания народной жизни и истории вообще. Видно, что говорят люди со всем пылом молодости; зная, что вот это плохо, — предлагают тотчас же радикальную меру для исцеления, не справляясь, подходит ли она по характеру к народу, его развитию, его истории, или нет. <…> М. Е. сразу решила, что мы — разные люди. Ведь это было больно мне слышать! Вся моя гордость была возмущена… Так вот как! Вот почему М. Е. так мало видалась со мною, заходя ко мне только “по делу”, которое заключалось в передаче мне двух-трёх десятков книжек по политической экономии, изданных для народа (к слову сказать, написанных очень грубой подделкой под народный язык). Я брала их, бережно сохраняла до востребования, а потом М. Е. приносила другой сверток… и так было раза два, “без дела” она не являлась. Нечего сказать, хорошо же было её ко мне отношение: говорить про человека “разные люди” и потом идти к нему же в случае серьёзной надобности; знать разницу наших взглядов — аза сохранением тайны и компрометирующих предметов всё же обращаться ко мне. Ведь М. Е. знала, что я не особенно сочувствую этим общедоступным изданиям для народа. Положим, книжка написана горячо, ясно видно благородное стремление заступиться за меньшого брата, открыть ему глаза на его положение. Но в том-то и дело, что нельзя горсти людей воздействовать на массу. Мужик и рабочий и без этих книг понимает, когда его притесняют… и нельзя рассчитывать, что подобные брошюры расширят его самосознание… Я прежде всего ставлю сознательность действия, обдуманность его. А тут надеются, что прочитал простой человек несколько брошюр — и готово… Каковы же будут его убеждения, если он нахватается их с чужого голоса, да ещё из книг! Нет, господа, ведь народ разовьётся самостоятельно и настолько, что потребует сам себе некоторых прав, — тогда не нужны будете вы со своими брошюрами, хотя бы их составляли с наилучшими и благороднейшими целями… <…>
9 августа, на Волге.
Я возвращаюсь с выставки {XVI Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде.}; пробыла в Нижнем 11 дней и за всё это время, к великому моему сожалению, не могла, не имела никакой возможности записывать день за днём всё виденное и слышанное. Теперь придётся разбираться в этом хаосе впечатлений <…>
Да, побывала и видела… всю нашу Русь-матушку, собранную тут со всего необъятного её пространства, со всеми её богатствами, со всей её бедностью, со всей её учёностью и всем её невежеством… <…>
Когда я пришла в горный отдел, около студента горного института уже собралась группа посетителей, которые и слушали объяснения “добычи платины”, как выговаривал студент. <…> То и дело попадались на глаза фотографические снимки недавно построенных заводов, или же диаграммы, показывавшие быстрый рост промышленности какой-либо из отраслей горного дела. Пора взяться за ум! И русские, кажется, понемногу берутся: не всё предоставлять иностранцам пользование нашими природными богатствами… Завод Юза основан англичанином, бр. Нобель — тоже не русские… — долго ли мы будем идти позади? Вот уже 200 лет, как мы всё учимся и учимся у иностранцев; недаром, впрочем, сложилась русская пословица: век живи, век учись… <…>
В павильоне Каспийско-Черноморского нефтепромышленного общества скоро должно было демонстрироваться бурение нефтяной скважины. Я туда. Там было уже довольно много народа, машина приведена в движение, и с потолка медленно спускался в скважину продолговатый цилиндр, края которого внизу были разрезаны винтообразно; цилиндр опускался в яму все ниже и ниже, скоро опустился совсем, — и два восточные человека стали посредством палки, продетой в рукоять этого цилиндра вращать его внутри ямы: с каждым разом заворачивание делалось труднее и труднее, видно было, что цилиндр уходит глубоко в землю. <…>
Скоро я была уже на спасательной станции, где давал объяснения матрос. <…> Интересны в этом павильоне экспонаты различных спасательных принадлежностей — пробковые нагрудники, пробковые койки, между прочим — небольшой прибор, состоящий из тонкого, плотно скрученного шнурка и привязанного к нему небольшого якоря с четырьмя загнутыми концами, вершка в 1 + длиною. Такая вещичка очень невелика и помещается в картоне, а между тем, ею очень удобно спасать утопающих: стоит бросить этот якорь в воду, и острые концы его зацепятся или за волосы, или за одежду, обувь, и тогда, притягивая к себе шнурок, можно легко вытащить утопленника. <…>
Красивый и чистый перезвон иногда раздавался на выставке, собирая толпу любопытных около колокольных павильонов, среди которых выдавался по красоте и изяществу весь белый с посеребрёнными колоколами павильон моего дяди И. П. Ол-ова {Павильон Ивана Порфирьевича Оловянишникова.}.
10 августа.
Наиболее интересовавший меня отдел на нашей выставке был, конечно, отдел народного образования. Я была в нём часов пять подряд, и всётаки осмотрела только половину <…>.
Наши ярославские гимназии, кажется, не были представлены; да и хорошо, впрочем, сделали,— о них ничего нельзя сказать хорошего, одинаково плохи как мужская, так и обе женские; в первой царит классицизм, во вторых — сухой педантизм и формализм. <…>
Наконец, я отыскала наши курсы. Скромная витринка с фотографиями нашего интерната и аудиторий; небольшая полочка с книгами отчетов Общества для доставления средств В. Ж. К., сверху — план здания курсов, — вот и всё, чем представлено единственное в России высшее женское учебное заведение. <…>
В павильоне Церкви-Школы меня очень заинтересовал миссионерский отдел, против сектантов и раскольников. Я с интересом смотрела карты местностей южной России, сплошь заражённые штундой {Штундизм (от нем. Stunde — час; время для религиозных чтений у немецких колонистов), течение среди русских и украинских крестьян во 2-й половине 19 в., возникшее под влиянием протестантизма. К концу 1870-х гг. слилось с баптизмом.}, слушала объяснения г. Скворцова (редактора журнала “Миссионерское Обозрение”) {Василий Михайлович Скворцов (1859—1932) — издатель, церковный публицист, чиновник особых поручений при обер-прокуроре Св. Синода К. П. Победоносцеве.} и рассматривала фотографии выдающихся вождей сектантства. Какие умные, вдохновенные лица! Каждое из них поражает своим энергическим выражением: глаза так ясно говорят о благе душевной жизни, лицо — сама мысль… Невыразимая жалость к этим людям наполняет сердце, когда посмотришь на фотографии. Сколько усилий ума, работы мысли, сколько дарования нашло себе такой исход! Сколько бы принесли эти люди пользы, если бы в момент зарождения самостоятельной работы мысли были поставлены под твёрдое руководство и нашли бы себе удовлетворение у своих руководителей. Но в том-то и дело, когда пастух дремлет — стадо может разойтись в разные стороны. Наше духовенство — прямой по положению нравственный руководитель народа, — по своему тяжёлому материальному положению само так забито и придавлено, что осуждать его за то, что оно вовремя не заметило такого движения в своих приходах, — как-то язык не поворачивается, хотя прежде всего обвиняют его. Я поговорила об этом с г. Скворцовым, и он дал мне свою книжку “Существенные признаки и степень вредности мистических и рационалистических сект”, и даже предложил заняться миссионерством, так как он хочет устроить теперь нечто подобное из сельских учителей и учительниц. <…>
Петербург, 9 октября.
Вот уже девятый день, как я не знаю, что со мною делается.
Как это случилось? Я помню, что в Покров, вечером, сидела по обыкновению над книгой, потом — задумалась… Мне вспомнилась последняя лекция геологии Мушкетова {Иван Васильевич Мушкетов (1850—1902) ученый-геолог, один из основных его трудов — “Физическая геология”, ч. 1—2, 1888—1891.}, в которой он излагал Канто-Лапласовскую гипотезу происхождения мира и его предстоящую погибель по этой же гипотезе, — вследствие охлаждения Солнца…
Вдруг, как молния, в голове мелькнула мысль: “к чему же, зачем же в таком случае создан мир? Ведь всё равно, рано или поздно, он должен погибнуть? Зачем же он создан?”
Я вздрогнула и вскочила с места… вся моя жизнь, жизнь всего мира вдруг показалась мне такою величайшей бессмыслицей, такою жалкою, такою ничтожною… Что же мы-то представляем на этой планете? в силу чего мы существуем на ней?
Голова пошла кругом… Это ужасное: — зачем? — выросло до колоссальных размеров, всё закрыло предо мною и придавило меня своею тяжестью… На земле столько страдания… рано или поздно — оно всё равно погибнет… весь мир погибнет…
О, если бы я была материалистка, если б я не верила в бессмертие души! С какою бы радостью, одним выстрелом из револьвера разрешила бы я задачу жизни!
Я бы умерла со спокойной и гордой улыбкой, в твёрдой уверенности, что я — часть природы, исчезну бесследно, сольюсь с ней, и что я вправе это сделать, если хочу.
А теперь? раз я верю в бессмертие души — что моё собственное “я” никогда не уничтожится, — что мне от смерти? ведь я же знаю, что я и после неё буду существовать… из земной жизни, которая мне всётаки известна, я перейду… в худшее ли, лучшее ли — всё равно, неизвестно. Душа моя бессмертна. В силу чего же явились мы на земле и для чего?
Я пробовала разобрать вопрос с этической и религиозной точек зрения.
Я вспомнила лекцию Введенского {Александр Иванович Введенский (1856—1925) — философ, психолог, логик. Публичная лекция “Условия допустимости веры в смысл жизни”, была им прочитана на Высших женских курсах 7-го апреля 1896 г.} “Условия допустимости веры в смысл жизни”, где он доказывал, что смысл жизни заключается в исполнении нравственного долга, который предписывает нам служение всеобщему счастью. Но так как всеобщее счастье на земле неосуществимо, что доказывается сочинениями философов и поэтов всех времён и всего мира, то мы вправе верить, что оно осуществится в посмертной жизни, что “исполнение мною нравственного долга искупляет всякое зло, испытываемое не мною, а другими… что это зло превратится даже в добро, и что оно примирит с испытанным злом не только того, кто сам претерпел его, но и всех тех, кто, служа нравственному долгу, вёл как бы бесплодную борьбу для освобождения мира от зла”. Таким образом, он доказал, что при понимании смысла жизни в служении нравственному долгу, а этого долга — как служения всеобщему счастью, — вера в смысл жизни оказывается логически непозволительной без веры в бессмертье, ибо всеобщее счастье неосуществимо, если нет бессмертия. Он доказал так ясно и логически-правильно возможность веры в бессмертие души, что я, всегда верившая в него, но считавшая это областью веры, почти невозможной для доказательства каким бы то ни было путём, пришла в восторг от такого ясного, простого доказательства с логической точки зрения.
Я верю и в нравственный закон. Но всётаки это не разрешало вопроса: становясь на точку зрения Введенского, принимая во внимание исполнение нравственного долга с верою в искупление этим исполнением зла земной жизни в посмертной, — я не могла ответить себе на своё “зачем?” почему вся жизнь устроена так?..
Разве нельзя было бы обойтись без земной жизни? — ведь в силу этого мы должны жить на земле целую жизнь, зная, что, в конце концов весь этот мир, в котором мы живём, в котором преследуем столько целей, планов, испытываем столько горя и страданий, — разрушится? Неужели же такая наша жизнь так необходима для осуществления всеобщего счастья, в том виде, как говорит Введенский? В силу какой случайности явились мы на земле — существа, одарённые разумом и бессмертною душою? Не говорю уже о вопросе о происхождении зла на земле…
С религиозной точки зрения… мне было ещё тяжелее. В самом деле: нас ожидает бессмертие, но какое? Праведникам обещается вечная блаженная жизнь, грешникам — вечное мучение; и в Писании сказано: “много званных, но мало избранных”… Учение Церкви разделяет таким образом всех на праведных и грешных, и в результате выходит опять то, что счастливы будут только немногие; а масса, испытавшая столько и здесь, на земле, — окажется обречённой на вечные муки в будущей жизни…
И мне невольно вспомнилась статуя Залемана, изображающая усталое, вечно стремящееся вперёд человечество, с надписью:
“Il tanto affaticar che giova” (Данте) {E. Дьяконова ошиблась: взятая названием скульптуры Гуго Залемана (1859—1919) фраза “Такая усталость достойна” — из поэмы Ф. Петрарки “Триумфы”.}.
Помню, как меня охватила бесконечная усталость, когда я остановилась перед этой статуей… и мне захотелось самой сейчас же уничтожиться, с закрытыми глазами медленно погрузиться в Нирвану… исчезнуть, слиться с природой, как часть её.
И опять это ужасное: “почему же всё это устроено так, а не иначе?” вставало предо мною — забытый вопрос, который занимал меня одно время, когда я была ещё подростком и размышляла о будущей жизни: почему же всётаки немногие будут счастливы, отчего Бог устроил всё так, — этот старый вопрос встал опять вновь предо мною во всей своей ужасной ясности.
Я чувствовала себя подавленной, уничтоженной… Часы шли — я их не замечала…
Поздно вечером я подняла голову, посмотрела на икону, хотела было опуститься на колени, и… не могла: ни слов, ни мыслей, ни настроения — ничего у меня не было на сердце для молитвы в эти минуты.
Я легла спать. Рука не сделала обычного движения — крестного знамения… Всё точно замерло во мне…
На другой день я встала с тем же вопросом, за что бы я ни бралась, — всюду меня он преследовал, и мне казалось ещё бессмысленнее как своё, так и существование других. И так все эти дни. Я почти не могу ничем заниматься, на сердце так тяжело… Теперь передо мной лежала раскрытая книга “Боярская дума” {Ключевский В.О. Боярская дума древней Руси. М., 1882.} — и какое мне было дело до всех этих бояр, окольничих, думных дьяков?…
И упав головой на стол, я плакала горькими, неудержимыми слезами… не стыдясь своих слёз… Я была одна со своим отчаянием, никто меня не видал, да и кто бы мог мне помочь?
Как завидовала я всем материалистам! Как счастливы они своим сознанием, что нет никакого бессмертия, что они могут умереть с полным сознанием того, что уже не будут жить после смерти!
Я решила обратиться к Введенскому; может быть, он хоть что-нибудь сумеет ответить на мой вопрос…
13 октября.
Прошло уже несколько дней… Я спрашивала Введенского; конечно, он ничего не мог ответить мне на такой вопрос, прямо сказав, что я спрашиваю его, в сущности, о невозможном. Я почувствовала, что сделала большую глупость, тем более, что за эти дни я уже и не ожидала от него никакого ответа… Но, думаю, воспользуюсь случаем и спрошу его, нет ли такого сочинения в духе материалистов, которое могло бы разбить всякую веру в бессмертие? Он засмеялся. — “Такого сочинения нет… ведь вы уже слышали, что материализм, как и дуализм, недоказуем, следовательно, теперь, после моих лекций, никакое материалистическое сочинение не докажет вам, что не существует возможность веры в бессмертие”. — “Но мне хотелось бы отделаться от этой точки зрения, потому что в таком случае гораздо легче жить, и легче умереть…” — “Попробуйте… прочтите “Stoff und Kraft” Buchner {Труд немецкого философа и естествоиспытателя Людвига Бюхнера (1824—1899) “Материя и сила”.} <…> …вы найдёте, так сказать, всю суть материализма; книга очень распространённая, её вышло уже 19 изданий. Только она вам теперь ничего не докажет… Попробуйте, прочтите”… — сказал он спокойным и уверенным тоном. Решив воспользоваться случаем до конца, я спросила его, почему при мысли о вечности, при одной попытке представить себе её, которая мне никак не удаётся, меня охватывает ужас… отчего это? Или оттого, что мы не можем вообразить себе вечное существование, или же просто зависит от индивидуальности? — “Оттого, что мы действительно не в силах представить себе вечность; вы хотите представить себе невозможное, вы истощаете себя понапрасну, от этого и происходит ужас. Вечность можно мыслить, но представлять себе её нельзя. Попробуйте вообразить круглый квадрат, т. е. невозможное. Будете стараться вообразить и тоже в конце концов придёте в ужас”. (Я потом сообразила, что, если бы возразить ему, что круглый квадрат, в сущности, бессмыслица, и что его нельзя сравнивать с вопросом о вечности; но из-за выражения –- не стоило спорить, результат был всё тот же). Это был единственный, вполне удовлетворительный ответ, и я осталась довольна, что спросила его об этом, так как вопрос о вечности тоже мучит меня. Мы говорили наедине, и весь наш разговор продолжался лишь несколько минут, потом я поклонилась и ушла… <…>
18 октября.
Я спрашивала невозможное.
Недавно, в воскресенье, я занималась, снова усердно читая “Боярскую думу”, и в конце концов я всётаки отодвинула книгу в сторону… Тогда я услышала звон к обедне; — это напомнило мне время, когда я сама ходила в церковь.
Вернуться к вере?.. принять опять то христианское миросозерцание, которое дают нам с детства, дают готовым, со всеми его высокими нравственными идеалами. Но что мы потом из него делаем? Разве вся та масса, которая известна под названием “христиан” и “верующих”, действительно христиане, верующие? Разве многие вдумываются в истинный смысл религии, в те высокие нравственные идеалы, которые она представляет нам, и которые были так живы в первые времена христианства? <…>
Низший класс, масса, верует, чувствуя, что есть что-то Высшее, что не верить — нельзя, что это так надо, они усваивают себе все обряды… веруют немудро, но твёрдо. Если и пробуждается самостоятельная мысль, она никак не может найти удовлетворения в окружающей среде; но мысль, раз пробуждённая, требует исхода, возникшие вопросы требуют ответа… И кто скорее ответит, к тому пойдёт простой человек… Отсюда развитие всевозможных сект. Далее, — как живёт общество, “интеллигенция” всякого рода, обладая средствами образования? — Мы, люди “развитые”, в большинстве — “все верующие” — ходим в церковь, вздыхаем о своих грехах, даже сокрушаемся о них и… продолжаем всётаки жить “как все”, т. е. по установленному шаблону, от которого далеки нравственные идеалы… Родятся у нас дети, по церковному обряду их крестят; затем “воспитывают” опять-таки по раз установленному шаблону: там учительницы, гимназия, университет и служба для мужчин, гимназия и замужество для девушки. После “устройства молодого поколения мы с радостью смотрим на их счастье, если они им пользуются, и печалимся, когда их постигают неудачи. Затем — мы продолжаем жить своею личною жизнью, занятою делами, удовольствиями, общественными отношениями… И так — всё время до конца жизни. Иногда — мы умираем, нас хоронят по обряду Церкви, за нас молятся… и всё… и это всё? — Да. И во всей этой жизни, которою живёт масса общества, нет ни искорки понимания истинного смысла той религии, которую они, по собственным словам, исповедуют. <…>
Таковы мы, называющие себя “верующими”. Мы очень удобно чувствуем себя в окружающей нас обстановке, и спокойно проходим наш жизненный путь; лишь пред смертью, может быть, у некоторых мелькает сознание того, что жизнь, пожалуй, прожита не так, как следует, но на пороге вечности уже поздно размышлять об этом.
И, выходит, — “Смерть Ивана Ильича”, Толстого {Повесть Л. Толстого была напечатана в 1886 году.}. <…>
И меня вдруг неудержимо потянуло вдаль от этого мира куда-то далеко, а куда — и сама не знаю…
Это было уже знакомое чувство. Я вспомнила, как в детстве оно охватывало меня, когда я увлекалась чтением Жития Святых, когда чтение истории о Страданиях Спасителя и Его последней беседе с учениками в моём маленьком учебнике, волновало меня до слёз… тогда я мечтала уйти в Египет, или куда-нибудь в пустыню, поселиться в пещерах… Конечно, ребёнком я представляла себе лишь внешние обстоятельства жизни, но теперь, — то, что неудержимо тянуло меня неведомо куда, только прочь от этого мира — теперь оно встало предо мной с изумительною ясностью. Кажется, случись тут подле меня монашеское платье, я, не колеблясь, тотчас же надела бы его и пошла в какой-нибудь монастырь.
Что же это со мною делается? Я упала головой на книгу и опять заплакала, как и тогда.
Что же со мною?.. И я сама не могу ответить на этот вопрос… и в отчаянии снова думаю о том, что чем жить, лучше было бы вовсе не существовать, если бы “Stoff und Kraft” могли убедить меня! Ни минуты не стала бы жить дольше.
Я старалась овладеть собою… Такое состояние немыслимо, надо как-нибудь, что-нибудь…
“Таков печальный конец земли. Мы можем утешиться только тем, что он является делом неопределённо-далёкого будущего”… — раздаётся в моих ушах мерный и спокойный голос Мушкетова, в котором чуть-чуть слышался действительно печальный оттенок.,.
29 октября.
Занимаюсь, посещаю лекции, в результате на поверку является то же: делаю слишком мало, способности слишком невелики, память — о, несчастье!..
Вернусь к прошлому, чтобы постепенно рассмотреть причину всех причин.
Ещё когда я жила дома, года три тому назад, или немного даже раньше, я начала замечать, что моя память, прежде такая хорошая, понемножку начинает мне изменять; я тогда уже не училась и тогда проверять свою память, так сказать, официально, по степени усвоения уроков, мне не было возможности, но всётаки я замечала, что помню гораздо хуже прежнего.
Потом стало ещё хуже: иногда, сначала очень редко, почти незаметно, чуть-чуть я чувствовала странное ощущение сжатия головы в висках; душевное настроение сделалось особенно чутким ко всему неприятному; малейшая неприятность, слово, пустяк — производили на меня такое тяжёлое впечатление, повергали меня в такое угнетённое состояние, от которого отделаться было крайне трудно; наконец, моё стремление учиться и та несчастная жизнь, которую я принуждена была вести против воли, то страдание, которое причиняла мне вечная неудовлетворённость всем окружающим, постоянное нравственное мучение, сознание пустоты и пошлости окружающей среды, бессмысленности своей жизни, жестокость матери, когда грудь готова была разорваться от рыданий, а мать, вместо утешения, смеясь уходила в другую комнату… О, это уже слишком!.. при одном воспоминании такая буря готова подняться в груди… Я постоянно чувствовала не то страшную нравственную усталость, не то — не знаю, что, но всё меня расстраивало; занимаясь эти годы немецким языком, я замечала, что даже самое лёгкое изучение подвигалось довольно плохо… я всё забывала… и чем далее — тем труднее становилось помнить правила, литературу. За последнее время, перед отъездом на курсы, я сблизилась с Валей, читала с нею вместе Милля, не чувствуя уже себя такой одинокой в семье, как прежде, но, увы! самое чтение, изучение политической экономии не принесло уже мне пользы: я отлично помню, что прочтём, бывало, главу из Милля, но передать её я не могу, не помню и готова хоть снова начинать. Книги, которые приходилось читать, я скоро позабывала; в 19 лет я начала замечать, что мне иногда даже трудно ясно выразить свою мысль: в разговоре я не вдруг могла подыскать нужные выражения, в письме — тем более. И вот в дневнике моём и в письмах чаще и чаще начинают попадаться помарки… я хочу написать, а фраза никак не выходит, и чем дальше, — хуже. Не передать того ужаса, который иногда охватывал меня, когда я начинала всматриваться в своё, так сказать, умственное состояние: временами мне казалось, что я начинаю сходить с ума… Я боялась даже в дневнике признаться себе самой в этой мысли, — и в то же время я чувствовала себя физически здоровой, мои поступки, мысли — всё было вполне нормально, за исключением того странного ощущения сжимания головы, которое время от времени повторялось, иногда доходя до боли. Это меня и сбивало с толку; тогда я начинала думать: значит, может быть, это только начало, а потом неизвестно что будет? И дикий, почти панический ужас доводил меня до невозможного нервного состояния…
И так шло время. Никто не замечал ничего, так как надо было хоть немного понимать душу человеческую, хоть немного более любить близкого человека, чтобы заметить во мне что-нибудь; никто из нашей семьи не был на это способен. Жизнь дома была так невыносимо тяжела, и, несмотря на все старания, неприятности были неизбежны; сношений с матерью, за исключением самых необходимых, я избегала, и даже с сестрами не говорила никогда и ничего о своём будущем, о курсах, — напоминание о них было бы только мучением для меня… они тоже молчали. Словом, годы страдания взяли своё… <…>
И вот после всего пережитого, после всех испытаний, я, наконец, достигла своей “земли обетованной” — поступила на курсы. Я чувствовала, что нервное моё состояние было прямо ужасно: я была точно разбитое фортепиано, до которого нельзя было дотронуться, оно издавало фальшивый, дребезжащий звук. Я не была зла, но мне было очень стыдно, когда лица, знавшие меня ближе и симпатизировавшие мне, дружески уговаривали меня не быть такою резкою в обращении с посторонними; — такое раздражение являлось невольно: болезненное состояние не давало возможности владеть собою…
Лекции… наука!.. Всё, к чему я так стремилась, наконец было достигнуто! Я — на курсах… профессора, книги, — всё теперь было у меня. Я дышала полною грудью, первое время была точно в чаду; но зато и сознание своего невежества встало передо мною с поразительною ясностью, причиняя мне большое страдание, таким тяжёлым камнем ложилось в душу, действуя на меня самым угнетающим образом. Я схватилась за книги, не сообразив одного, — хватит ли моих сил на такие занятия? — мне хотелось обнять всё сразу, изучить и описать… Не забыть мне никогда того ужаса, который охватил меня, когда я взялась за перо для реферата по русской истории… Я, оказалось, не могла ничего писать! Читала, читала — и никак не могла передать словами прочитанного… У меня мороз пробежал по коже от этого. Что же? Ведь, таким образом, я и заниматься-то не могу. Но отказаться было поздно… Помню, как я еле-еле могла написать изложение статьи… страшного труда стоило это… 6 часов употребила я на изложение того, на что в прежнее время у меня ушло бы втрое меньше. Но худшее было впереди: когда я, вся дрожа от волнения, взошла на кафедру и прочла своё изложение, то услышала потом замечания от тех из первокурсниц, кто мало-мальски мог критически отнестись к читанному: “Да вы, Д-ва, только сократили статью Кавелина и изложили её содержание. Это простое переложение”, — говорили мне они разочарованным тоном. Недовольные были совершенно правы, и я, вернувшись в свою комнату, сообразив всё, поняла, какую громадную ошибку сделала, взявшись не за своё, в сущности дело… О, как мне было стыдно! как мучительно было сознавать мне в 21 год всю бездну своего невежества и неспособности… А тут ещё неудачные знакомства, не менее неудачное вступление в “кружок”, — заставили меня смотреть на курсисток таким мрачным взглядом, так критически относиться к ним, что я не могла поневоле ни с кем сойтись ближе, и недовольство окружающими росло ещё с большей силою… <…>.
1897 год
Нерехта, 12 января.
10 лет тому назад в этот день скончался мой отец… <…>
10 лет! Из робкого, застенчивого ребёнка я обратилась в 22-х-летнюю курсистку; прежней детской робости нет и следа, застенчивость же и робость, вероятно, овладеют мной теперь лишь в присутствии такого лица, которое я признаю неизмеримо выше себя, а так как пока я вращаюсь в кругу людей обыкновенных, не подымающихся выше среднего уровня, то и чувствую себя отнюдь не ниже их…
10 лет! Много пришлось пережить, передумать… С поступлением на курсы был сделан перелом в моей жизни… Теперь, когда я немного разобралась во всех впечатлениях, когда первое волнение улеглось, — я вижу, какое благотворное влияние имеет на меня моя теперешняя жизнь: я чувствую себя как бы обновлённым, возродившимся к жизни человеком, я стала даже нравственно лучше… и много, много думала над жизнью… То, что раньше было подёрнуто туманом, — стало ясно, и какою же жалкою представляется мне моя прежняя жизнь!… Те лица, к которым я с детства чувствовала какой-то страх, перешедший впоследствии в робость и застенчивость, которые мешали мне много для правильного понимания и изучения людей, — теперь кажутся ещё более “обыденными”, если можно так выразиться, облачко застенчивости, мешавшее рассмотреть их, рассеялось, и я увидела их в настоящем свете. И я сама стала — другим человеком; впрочем, нет, не другим, а только развилась больше, стала ещё серьёзнее смотреть на жизнь, ещё глубже вдумываться в её задачи…
Вместе с тем я чувствую себя иногда так легко, дышится так вольно… и чувствую в груди моей какой-то прилив силы необыкновенной: мне хочется борьбы, подвига, чтобы показать эту силу, которая, кажется, так и рвётся наружу… Дыхание занимается… иногда кажется, — весь мир был бы в состоянии перевернуть… Мне хочется действовать, идти, ехать — куда-нибудь, а главное — дела, дела! Хочется разом увидеть весь мир, и глубокое-глубокое отрадное чувство свободы переполняет всю душу. Да? и я — свободна? и я могу ехать, куда хочу, делать — что хочу, поступать — как хочу, и меня уже более не связывают эти цепи рабства… Ведь это — правда? Я — учусь… Я — на курсах… <…>.
И теперь — моя “цель жизни” — выяснилась предо мною. Послужить народному прогрессу по одной из неотложных его частей — народному образованию, — хоть этим способом сделать способным двигаться вперед… Пора! Народ сам хочет школ, сам открывает их, читальни, библиотеки… Пора! Пора! Уже 36 лет скоро, как он свободен, а невежество ещё густым мраком окутало его… Пора взяться за ум! В деревню!! <…>
Ярославль, 15 августа.
Сегодня мне исполнилось 23 года; из них лишь два года я живу иною жизнью, и всегда мне стыдно, больно и жалко предыдущих лет, проведённых без дела, без сознательной живой жизни, среди постоянных нравственных мучений. Да! жизнь нельзя проводить в “ожидании”, её нельзя тратить даром — ошибка скажется рано или поздно.
Господи! прости мне! дай мне настолько силы и здоровья, чтобы в будущем загладить прошлую бесполезную жизнь — другою, исполненною сознательного долга по отношению к ближним. Здесь, на земле, ничтожны радости, действительно одно страдание… Я не хочу долгой жизни, нет; и я прошу у Тебя её лишь для того, чтобы я могла умереть с сознанием, что хоть что-нибудь сделала для других, значит, не была совсем бесполезным существом…
Подумать, что через какие-либо сто лет — и от нас не останется ничего, кроме черепа… все наши страдания, горести, страсти, которыми мы так одушевлены теперь, — куда денутся они? Всё проходит в этом мире, — “суета сует и всяческая суета”.
Есть одно утешительное, что даёт силу для жизни и поддержку в борьбе в этом мире: любовь к людям. Великая сила — братская любовь! Она выше, она чище любви супружеской, так как основа её бескорыстна вполне; мы любим брата не потому, чтобы он привлекал нас тем влечением, которому следуют женихи и невесты, а просто потому, что он такое же существо, как мы, тоже пришедшее в мир не по собственному желанию и страдающее не менее нас.
Люди! Если б вы могли понять всю великую истину братской любви — не было ни войн, ни революций, ни угнетателей, ни угнетаемых, ни богатых, ни нищих, — словом, не было бы тех социальных бедствий, которые вызывают вышеуказанные потрясения, а природное неравенство сглаживалось бы самоотвержением более сильных в пользу слабых. Тогда настало бы истинное царство Божие на земле.
Но велика власть зла: невидимые семена эгоизма сеются всюду щедрою рукою и дают пышные всходы: каждый заботится только о себе, и из этого-то себялюбия проистекают те великие общественные бедствия, с которыми так борется теперь наука: социология, политическая экономия, всевозможные “права”, — всё в ходу… Слишком даже много научных изысканий делается для доказательства великой и простой истины, всем давно известной, но которая не входит в нравственное образование человечества… <…>
Да! жалка и пуста жизнь, не озарённая яркою сознательною любовью и состраданием к людям; а между тем, как трудно бывает воспитать в себе снисходительность, особенно при характере живом и нервном. Сегодня мне пришлось испытать всю чарующую прелесть этой любви: я была у о. Александра, и час, проведённый вместе с ним, подействовал на меня неотразимо: как будто какая-то обновлённая я вышла от него, ободрённая для жизни. А всё почему? Разве этот человек творит чудеса? — Нет, но в его словах, в его обращении со мною было столько доброты, любви и ласки, что всё это вместе положительно магически действует на меня: душа вдруг обновляется, очищается, и я улыбаюсь как дитя, чувствуя себя выше и лучше. Я редко, почти никогда, не видала такого к себе отношения: меня или не понимают, или осуждают, или просто хорошо ко мне относятся; моё же глупое сердце вечно просит чего-то большего, нежели простая вежливость, и я рада, если встречу хоть ласковый взгляд, хоть слово сочувствия. <…>
18 августа, понедельник.
Великая, неразрешимая загадка жизни — для чего создано всё? — способна породить отчаянный пессимизм.
В самом деле, для чего это всё? для чего создан мир, если рано или поздно он должен погибнуть? Несмотря на колоссальные усилия, которые прилагает человечество для разрешения этой задачи, — она не решится нами никогда… никогда!! <…>
Не знаем! однако — надо жить, если есть сознание, что противно твоим убеждениям покончить жизнь самоубийством. Тяжело и мучительно сознание сделанных ошибок, но опускаться ли под этою тяжестью ещё ниже, или же, собрав все силы, постараться нести её до могилы? Что лучше?
Ещё в прошлом году, под влиянием сильного нервного настроения, я впадала в малодушное отчаяние; нынче весной казалось мне, что я должна умереть, что это страшное сознание раздавит, уничтожит меня вконец… даже мои религиозные убеждения готовы были уступить место привлекательной мысли о небытии в здешнем мире. И чисто внешние обстоятельства помешали: у постели близкой больной я не имела права решить свою судьбу, так как потрясение имело бы влияние на её жизнь…
В конце концов, самою спокойною, самою утешительною оказывается смерть христианина. Я хотела бы умереть так, — с философским спокойствием и нравственной силой! Я думаю теперь, что нет смерти прекрасней такой, когда человек, испытав в жизни массу несчастий, несправедливостей, горя всякого рода, — умрёт со словами: слава Богу за всё! Такая смерть — истинно прекрасна. И я желала бы умереть именно с таким сознанием, несмотря ни на какие обстоятельства жизни.
Мы слишком мало думаем о смерти во время жизни, а между тем именно о ней-то и следует помнить более и чаще всего, так как в ней одной только мы можем быть уверены; мы ничего не можем сказать о своей жизни.
Спб, 5 сентября, пятница.
Только что разошлись с моих именин товарки. В общем я довольна сегодняшним вечером, быть может, впервые в жизни. В тесном товарищеском кружке так живо шла беседа о разнообразных вопросах; поднимались и политические и исторические, и экономические, и, в частности, курсовые. Мы не спорили с пеной у рта о марксизме и народничестве, не кричали, а просто делились мыслями по всем направлениям, так сказать. Одною из главных мыслей в результате было признание невозможности решить такие сложные вопросы, каковы капитализация, предрешить исход исторического развития России. В этом мы представляли собою полнейший контраст нынешней молодежи, увлекающейся модными экономическими течениями, и берущейся сплеча решать самые важные вопросы. На меня произвело самое хорошее впечатление наше общее настроение, которое можно назвать широким: все мы были очень терпимы, так прямо смотрели в лицо действительности, честно сознаваясь друг другу в своей несостоятельности при решении вышеуказанных вопросов. Не обошлось, конечно, и без размышления по поводу взгляда на брак, упомянули о “Крейцеровой сонате”… И никто из нас даже не заикался о “прелестях” любви, о личном счастье. Скорее, мы готовы были отнестись с сожалением к злоупотреблению чувственностью и вытекающим отсюда “перепроизводством” детей, несчастных существ, которые вступают в жизнь неподготовленными к жестокой борьбе за существование, гибнут и ломают себя, — произведя, в свою очередь, таких же существ. Да, ещё не проникло в наше “общество” сознание необходимости целомудрия и нравственного внимания… чего же требовать от народа, если мы сами до сих пор ещё стоим так низко и тонем в пучине своего собственного эгоизма.
Отсюда был один шаг до религиозного вопроса, но мы не спорили о вере; и, пожалуй, хорошо — это никого не оскорбляет: моё убеждение остается при мне, их — при них. Однако, мне хотелось бы хоть раз в жизни встретить вполне религиозного человека, стоящего несравненно выше меня по своему общему умственному складу и провести с ним несколько часов в братской беседе; иногда мне до боли хочется дружбы с таким человеком, братской работы с ним на всю жизнь. Но сегодня я всётаки чувствую себя хорошо: все мы были мирно настроены, так интересно беседовали, а главное, — чувствовали симпатию друг к другу. Оживлённый обмен мыслей вызывал добродушную насмешку в случае ошибки или ложного мнения, и одобрение — в случае удачной и остроумно высказанной мысли. Пусть из нашего разговора нельзя было заключить о наших научных познаниях, но нельзя было отказать в прямоте и широте взгляда и честности намерений. А первое качество и связанная с ним терпимость, увы! — так редко попадаются теперь среди учащейся молодёжи.
Когда ушла Лёля С, разговор коснулся меня; Д-ди и Маня наперерыв стали уверять, как обо мне изменилось мнение на курсах к лучшему, потому что я стала совсем иначе относиться к людям. Я объяснила им прежнее следствием нервного состояния, которое было очень обострено первый год, проведённый на курсах. Они вскоре ушли.
Несмотря на то, что мои умственные интересы не стоят в тесной связи с интересами их, что они не согласны с моими религиозными убеждениями, я чувствовала, что все эти три девушки близки и дороги мне, что у нас всётаки есть много общего, что мы все стремимся стать людьми.
И глухою, острою болью отзывалось в моём сердце воспоминание о милой, далёкой, бедной сестрёнке, обречённой навсегда жить, не удовлетворив своих лучших порывов… Это не переставая терзает мне сердце, и окончится, должно быть, только с моей жизнью. Да! вот он, крест, посылаемый каждому из нас. Но мой, вполне заслуженный, невидим для глаз и поэтому не возбуждает ни в ком сострадания. А одинокое страдание — двойное страдание!
Боже мой! сжалься над нами, сжалься над бедным ребёнком, который за все свои недостатки наказан так, как не бывают наказаны и взрослые люди… Помоги ей выздороветь, стать человеком, а мне — помоги пройти жизненный путь, не падая под тяжестью заслуженного креста.
28 сентября.
…Когда я оглядываюсь назад на всё последнее время — мне даже как-то странным кажется, как могла я вынести такие нравственные мучения, тем более ужасные, что ни для кого они не заметны?
Да… это время прошло и кем же я вышла из этих, вполне впрочем, заслуженных испытаний? После того как я узнала, что у меня неврастения, — я вполне поняла, отчего временами душевная боль доходит до острого, почти физического страдания… В лекциях Кожевникова {Александр Яковлевич Кожевников (1836—1902), невропатолог, автор первого русского учебника по невропатологии “Нервные болезни и психиатрия”, 1880—1881 г.} я читала, что эта болезнь развивается вследствие “психических влияний угнетающего свойства” — совершенно верное мнение. Моя живая, нервная натура не выдержала нашей изуродованной жизни… и в то время, когда я, страстно стремившаяся к науке, наконец-то, достигла пристани, — оказалось на поверку, что заниматься-то, учиться-то — и не могу! Полное переутомление и потеря памяти в связи с чрезвычайною нервною восприимчивостью…
Положение драматическое.
И я не знала об этой своей болезни, и всё время с ужасом думала, не схожу ли я с ума, но к врачу обратиться не догадалась до тех пор, пока случайно в Киеве не решилась пойти к Нестерову… Этот странный человек, лечивший индийской медициной, именно потому и навёл меня на мысль обратиться к нему, что не был врачом по профессии, к которым я относилась с недоверием… Но лекарства его обходились мне слишком дорого, не по моему студенческому карману — и я оставила его лечение (принесло ли оно мне действительную пользу — не знаю, но я, во всяком случае, в него верила).
Это было прошлою осенью. Прошло несколько месяцев — в феврале получаю письмо о болезни Вали, — и началась для меня странная нравственная пытка, отголоски которой, вероятно, никогда не исчезнут во мне и окончатся лишь с моею жизнью. Вчера я получила от неё письмо, где она пишет, что “кажется, выздоровела окончательно”, доктор отменил лекарства… Я просто ни поверить, ни радоваться не смела от неожиданности: нет, не может быть! это уже слишком. Вероятно, что ей только стало лучше… А если, правда? — Великий Боже, я испытываю такое чувство, как будто бы вновь родилась наша Валя… Получить воспаление почек в 20 лет, быть лишённой возможности свободно двигаться, постоянно лежать, быть обречённой на вечную диету… — и это при слабом характере, склонном к меланхолии, при страшной нравственной анестезии близких ей, которые не способны ни утешить, ни ободрить её, а только втягивают её ещё глубже в мрачное настроение — что может быть печальнее? Это почти немая нравственная смерть, на которую я обречена была смотреть, повергнутая в полное отчаяние, не имея возможности помочь так, как хотела бы… Временами, в отчаянии, я думала, — не лучше ли будет, если Валя умрёт, нежели будет жить; но тут являлась мысль о ребёнке: мне становилось страшно за будущность малютки, и я с ужасом отталкивала от себя мысль о смерти. Каковы бы ни были условия — всё ж можно надеяться, что, по крайней мере, ребенок — вознаградит сестру за всё. <…>
11 октября.
Да, вот оно начало… чего? — конца? — Нет, но начало “страдания за грехи отцов”. Впрочем, оно уже давно началось, давно, ещё с 18-19 лет, когда впервые начали портиться мои нервы, теперь же — переход на “телесные явления”.
Началось всё с пустяка: в начале августа комары накусали ногу, я расцарапала кожу до крови и, не промыв, залепила пластырем, который вскоре пропитался южною пылью, так я ехала в это время в Киев; после такого лечения “домашними средствами” — получилась язва, которая теперь второй месяц не поддается никакому лечению. Не обращая на неё серьёзного внимания и замечая только, что от ни одного лекарства лучше не делается, — я обратилась к какому-то немцу, который, сказав: “пустяки, заживёт”, только растравил рану; выйдя из терпения, я пошла к гомеопату, который добросовестно не поручился за успех лечения одними внешними средствами, а внутренние принимать оказалось невозможным, так как я не могу бросить свои пилюли от нервов; и, наконец, я догадалась обратиться к нашей женщине-врачу О. Ю. Канской, направившей меня к хорошему доктору, который дал дельный совет: бинтовать ногу, а научиться советовал у О. Ю. Но в тот же день вечером, с необыкновенной легкостью у меня появились два нарыва; на левой руке и ноге. Сегодня была вновь у Канской; та ахнула, взглянув на рану, и узнав ещё о нарывах, задала мне лаконический вопрос: “У вас в семье все здоровы? Ваш отец не был болен?”.
“А… вот уже до чего дошло,” — подумала я, но при Лёле Ст. язык не поворачивался сказать, что мой отец умер от прогрессивного паралича…
Колкое, острое страдание причинила мне мысль о возможности заражения отца специфическою болезнью ещё в прошлом году, и как спокойна я теперь, когда на мне явилось отражение этого заболевания! Отчего это? или нервы стали лучше? или я уж… слишком много страдала нынче весной, что теперь на меня нашло такое спокойствие?.. И я улыбнулась и сказала: “Мой отец умер слишком давно, чтоб я могла что-нибудь помнить о нём, мать — женщина, страдающая нервами, а у меня в детстве была золотуха.” О. Ю. покачала головой и осторожно сказала: “Может быть, вам надо что-нибудь принимать внутрь; вы не беспокойтесь; ведь есть отражённые заболевания”…
Да, знаем мы эти “отражённые заболевания”… Мне известно, что отец до женитьбы вёл далеко не нравственную жизнь, имея связь с одной красивой работницей на фабрике, мне говорили о безнравственности моего отца в таких выражениях… и я слушала, как будто это так и следует. Ведь со стороны смотреть это прямо ужасно, — видеть молодую девушку, страдающую за “грехи своего отца”. Вот уж истинно похоже на “Невинную жертву” д’Аннунцио. {Роман Габриэле д’Аннунцио (1863—1938) “L’innocente” (1892).} Я вдвойне невинная жертва: со стороны матери, испортившей мне нервы ненормальною жизнью, с другой — со стороны отца, оставившего мне в наследство такое “отражённое заболевание”…
Имею ли я право судить отца? — С нравственной точки зрения он безусловно, виноват. Колоссальный эгоизм, заставляющий жить в своё удовольствие, затем жениться, не думая о последствиях… о детях. Но зато и поплатился же несчастный папа: четыре года страдал он, умирая медленною смертью, умерев заранее умственно… Суд Божий совершился над ним… Он виноват, но причиной вины его является неразвитость нравственная и умственная (впрочем, последняя — вряд ли: отец был, по своему времени, человек довольно—таки образованный и развитой). А в этом кто виноват? Родители? Бабушка с дедушкой? Старинные купцы, воспитывавшие сына “по-старинному”, — что могли дать они ему, они сами, не обладавшие никаким развитием? И невольно придёшь к заключению, что отец подпал под влияние европейской цивилизации, но, как русские Петровских времен, усвоил от неё более дурного, чем хорошего и полезного; наряду с образованием в столице он узнал, несомненно, и столичный разврат, а там — и пошло, и пошло… до женитьбы.
Несчастный! нет у меня в сердце негодования против тебя… Какая-то тихая грусть, с примесью горечи, лежит на дне души, но снисхождение, и почти прощение — превышает всё… ведь он “не ведал, что творил”… <…>
В Александровской общине Красного Креста, 1 декабря, днём.
Тихо… почти вся палата улеглась спасть, что редко случается.
Пользуюсь первой минутой тишины и спокойствия, чтобы взяться за давно заброшенную тетрадку…
После поездки в Псков мои ноги пришли в такое состояние, что я с трудом могла ходить. Нервное возбуждение, поддерживавшее меня до сих пор, упало, и когда я поехала к проф. Павлову {Евгений Васильевич Павлов — военный медик и специалист по женской хирургии, с 1896 г. лейб-хирург.} и он запретил мне окончательно ходить на курсы, то я даже не огорчилась. Прошла неделя… целых 7 длинных вечеров, при свете лампы, провела я почти в полном одиночестве, за книгами; но, вопреки прошлому году, когда одиночество так болезненно отзывалось на мне, — я была почти рада ему. Невесёлые мысли бродили в голове, и я их не гнала… да разве и могло быть иначе! Разумеется, лежать одной крайне неудобно во всех отношениях, но, вспоминая болезнь Вали, я получала своеобразное наслаждение от сознания всех испытываемых неудобств: “мне так и надо, и ещё бы хуже надо… этого ещё мало…” — думала я, когда на мои звонки никто не являлся, и я не могла ни напиться воды, ни достать нужной вещи. Заставлять дежурить около себя товарок — я считала излишним; правда, они посещали меня ежедневно, но эти короткие “забегания на минуту”, в сущности, только отрывали меня от читаемых книг и нарушали мои размышления. И вот в эти-то дни как нельзя более очевидно выступил передо мной донельзя ограниченный круг моих знакомств между курсистками: две-три из 200 человек — немного! Я думала: будь у меня среди них друг, искренно ко мне привязанный, любивший бы меня настолько, что, несмотря на мои отказы и уверения, сказал бы мне: “нет, я тебя не оставлю, я буду у тебя всё время, буду сидеть около тебя…” — если бы были такие! Но, должно быть, невидимая рука судьбы, поставившая меня одинокой среди семьи, оторвавшая от меня сестру в тот момент, когда мы готовы были сблизиться и идти вместе одною дорогою, — поставила меня и на курсах так, что за всё это время не сошлась ни с кем настолько близко, чтобы смело могла назвать её другом. Как это случилось? Мои ли чересчур большие требования к людям на первом курсе помешали мне сойтись, или… ну, да нечего писать об этом.
Прошла неделя, и 20 ноября, вечером, надо было ехать в лечебницу: вылечиться возможно было лишь при операции, вычистив язвы на обеих ногах. Я уехала одна, взяв с собой две почтенные связки книг, в полной уверенности, что буду там заниматься.
Было 7 час. вечера, когда я приехала в лечебницу; тихое церковное пение разносилось по комнатам, и одна из сестёр предложила мне пойти в церковь, в ожидании ванны; я пошла, но, так как стоять не могла, а сидеть за службой не привыкла, то и вернулась вскоре обратно.
В столовой было тихо. Я молча осматривала знакомую обстановку, простую, но солидную: при свете двух электрических ламп она приобретала совсем домашний оттенок. Две сестры — шатенка, с лицом задумчивым и симпатичным, и миловидная блондинка, были заняты: В. писала что-то на разграфленных листах, Ян. хлопотала у буфета. Я наблюдала за ними, не решаясь заговорить первая, — лица были такие деловые и озабоченные. Скоро листы исчезли, и на столе появились маленькие круглые тарелочки с красной каёмкой, и сестры начали разрезывать пополам разные сорта булок, раскладывая их по тарелкам; когда принесли самовар, они разливали и разносили чай по палатам. Прошло более часа… Наконец, обе сестры уселись за столом. — “Устала… бегаешь, бегаешь”, — сказала, вздохнув, шатенка. — “Я тоже устала”, — сказала блондинка, и симпатичная улыбка озарила её круглое милое лицо. — “А вы, действительно, устали, сестрицы, вы всё время заняты…” — решилась я заговорить с ними. Мне показалось, точно я вдруг повернула кнопку электрической лампы, и комната озарилась ярким светом: сестры приветливо улыбнулись, встали и подошли ко мне. — “Да… устанешь тут”… Я начала расспрашивать их, откуда они, где учились; шатенка оказалась институткой, а блондинка — из Т., с первоначальным образованием. Но дальнейший разговор был прерван появлением старшей сестры — Б-ой, уже пожилой женщины, которая сказала, что ванна готова. Я вошла в небольшую комнату, в которой стояла белая кровать, белый шкаф и ванна; молоденькая горничная с почтительной фамильярностью помогла мне раздеться; перед тем как принять ванну, пришла опять старшая сестра и намазала мне язвы на ногах какою-то мазью. Стоять мне было довольно трудно, но с помощью горничной, помогавшей мне охотно и ловко, я вошла в ванну и вымылась с наслаждением… Когда я, наконец, рассталась с мылом и губкой, и с таким же трудом выбралась из ванны, — пришла сестра В., забинтовала мне ноги и пригласила в столовую пить чай; я была уже одета во всё больничное, белье и халат, и путалась в нём… “Русалка у нас в больнице”, — раздался за мною ласковый голос, когда я вошла в столовую. Я обернулась: мимо меня проходил один из ассистентов профессора, доктор Э., молодой человек, брюнет, очень симпатичной наружности и ласковый в обращении; он подошёл ко мне, спросил, когда я приехала, потом поговорил с сестрами и ушёл.
После того я пошла в палату. Комната — большая, с тремя окнами, с белыми кисейными занавесками, корзиной цветов у среднего окна и туалетом — имела совсем семейный вид: ни номеров, ни названия болезней над кроватями. Я вошла точно в общую спальню. На меня никто не обратил внимания. Все обитательницы занимались своим делом, приготовляясь ко сну: маленькая девочка, моя соседка, уже спала, двое сидели на кроватях, поступившая со мною вместе больная тоже раздевалась, пятая — лежала неподвижно в постели, шестая — с подвязанной рукой и одетая — сидела на кровати. Разговор был обыкновенный, женский; одна только женская фигура, лежавшая низко на постели, не принимала никакого участия: это была оперированная в тот день больная…
На следующий день я быстро перезнакомилась со всеми. Обитательницами палаты оказались: Тамара, армянка 18 лет, гимназистка “с ногой” из Эривани, её соседка — жена армянского священника из Симферополя с опухолью на груди, жена инженера, дама лет около 30-ти, тоже с такой же болезнью, молодая девушка 18 лет из Петербурга, с нарывом на боку, шестилетняя девочка из Иркутска с кокситом бедра и бедная крестьянская девушка из Кронштадта — с ногой, с детства скорченной, которую здесь выпрямили, — её все звали Дуняшей. Курсами никто из них не интересовался, что тотчас же обрисовало передо мной их умственный уровень; я была вырвана из своей среды, и с полки смотрели на меня книги, казалось, с упрёком…
На третий день моего поступления в лечебницу должны были состояться две операции — мне и армянке; на все расспросы — как мне будут делать операцию — я не могла узнать, с хлороформом или без него: профессор молчал, и сестры тоже.
Проснувшись рано, я оделась и улеглась на постель, откуда было очень удобно наблюдать, что делалось в коридоре… Там шла суета… Вот прошли ассистенты, одетые в белом, вот прошёл профессор, также переодетый… Старушка-армянка волновалась и молилась… её брали первую. Мне принесли чаю без булки, но я отказалась пить… Я лежала… наблюдение над новою обстановкою занимало меня, и невольно как-то забыла о себе.
2 декабря, веч.
В 6-ти кроватной мужской умирает от рака моряк 50 лет, он очень плох и, быть может, не доживёт до завтра. От всех больных тщательно скрывают это, лишь одна я из всей нашей палаты знаю, благодаря близким отношениям с сестрой Г-вич, которая сообщила мне об этом только потому, что, по её словам, видела “моё спокойное отношение ко всему…”.
Никогда контраст между жизнью и смертью не обрисовывался мне ярче, чем здесь: ведь это так близко от нас — в конце коридора — совершается великое таинство смерти, заканчивается последний акт жизненной драмы… У него — только одна жена, детей нет; он не хочет её видеть, и она сидит за ширмами, а при нём дежурит сестра, на ночь её сменяет другая. И я мысленно присутствую там, в ванной, представляю себе умирающего на белой кровати… О, Боже, Боже! и когда-то он тоже родился, и окружающие радовались его появлению на свет: в этот момент люди не представляют себе ожидающей всех судьбы, но ведь конец неизбежен, неизбежен.
О, смерть, ты — здесь и там… В одной из отдельных палат лежит ещё молодой офицер, тоже неизлечимо больной саркомой на голове; он ещё не скоро умрёт, хотя безнадёжен. Знает ли он, что в эту ночь невидимая холодная рука уносит одного из нас? Знает ли он, что и его ждёт конец? Что испытывает этот человек теперь? Говорят, священник его исповедал, но не причастил, так как с ним делается тошнота.
В палате тишина. Лампы потушены, одна моя горит, и я спешу записать волнующие душу мысли.
По коридору раздаются шаги; при каждом звуке их мне так и кажется, что из ванной уже выносят труп в покойницкую… Сегодня весёлая, юная сестричка Па-вская, с невольно отразившимся на детском личике страхом, рассказывала мне, как покойников уносят в покойницкую, как вечером того же дня ассистенты делают вскрытие, на котором присутствуют все сестры, как потом они все идут в ванную мыться… Меня всю внутренне передёргивало от этого рассказа: как? — всего только сутки пройдут, даже менее, и человек, холодный, разрезанный лежит на столе, и над ним — читают лекции… Нет, должно быть, человеку не была сначала свойственна смерть, — несмотря на тысячелетия, мы до сих пор не можем привыкнуть к этой мысли.
И зачем я так думаю? Ведь, кажется, надо примириться с этим сознанием, но отчего же одна мысль о том, что человек умирает всего в нескольких шагах от нас — наполняет меня всю каким-то смущением, жалостью и благоговейным чувством пред переходом последней грани жизни, отделяющей известное от полной неизвестности? А что же там? что там? — Я не могу примириться с мыслью о совершенном уничтожении человека, нет, это невозможно! Что за жалкое создание представлял бы из себя гордый “царь природы”, — жил, не зная, откуда идёт его существование, не зная, куда уйдёт, а главное, — зачем он жил, для чего все его труды, когда наука указывает, в конце концов, на гибель всего живущего… Страшная загадка эта неразрешима на почве разума, и люди без веры, в сущности, не могут жить.
Да, и я не могу жить… и не могу потому, что иначе я теряю весь смысл жизни, не понимаю её и мучаюсь невыразимо, умирая же, страдаю ещё более от мучительного сознания неизвестности и бесцельности прожитого существования.
Я не могу так!!!
Нет, я верю, что если постигать религию в её глубоком смысле, то жизнь озаряется таким чудным светом Евангельской любви; стремление к высшему самосовершенствованию и надежда на искупление подвигом ошибок жизни дают такую великую нравственную силу, которая в состоянии покорить мир… и момент смерти, если жизнь улетает без особенных страданий, когда ум ясен и мысль стремится к Богу, — он не только не ужасен, но прекрасен, торжествен и даже не заключает в себе ничего печального. Что может быть лучше надежды на свидание там? Если бы все христиане могли проникнуться истинным пониманием религии — то ведь почти осуществилось бы царство Божие на земле… Но вот это-то отсутствие глубокого религиозного сознания в массах, склонных лишь к внешнему формализму веры, и лишало не заботящихся об её истинном смысле, о стремлении к нравственному самоусовершенствованию, скорее всего, способности возбудить сомнение в религии, и подумать: если сознательно-религиозных может быть лишь из 1.000 один, а все прочие обречены на гибель, — то что же за жалкий род человеческий?
В одно и то же время я и сомневаюсь, тогда как наука и жизнь показывают мне всю глубину и силу учения Евангелия, и я не могу отрицать его божественного, не человеческого происхождения… Люди до сих пор твердят на разные лады одну и ту же мысль: люби ближнего, как самого себя. В этой общине я наблюдаю и вижу всю живительность этого принципа, всю его спасительную силу… Наряду с самоотверженностью сестёр, их кротостью и терпением — ещё ярче выступает эгоизм некоторых больных, вся грязь человека, вся нравственная низость его души — обнажаются совершенно… И больно и стыдно становится за людей и хочется иметь грудь гиганта, чтобы на весь мир страшным голосом закричать: несчастные, опомнитесь, в любви сила! вы, грязные, злые, жалкие в ненависти своей — смиритесь, откройте сердца ваши… и чтобы голос мой, как острый нож, насквозь пронзил огрубелые эгоистические сердца, и они облились бы горячею кровью, и пробудилось бы в них это чувство, и примирённые — они пошли бы в “стан погибающих”, {Из стихотворения Н. Некрасова “Рыцарь на час”.} <…> и тогда прекратились бы на земле страдания, так как не стало бы угнетённых.
3 декабря, днем.
От Шурки получила письмо, — болит горло — вот уже восьмой день он в лазарете, и я страшно боюсь, как бы его горловая простуда не перешла в дифтерит. Лечит, кажется, бестолковый врач.
На душе смутно, точно тяжёлые осенние тучи налегли на сердце, и мысль об одиноком брате-мальчугане в казённом лазарете — не выходит у меня из головы… Что… если… дифтерит… и… — я боюсь даже высказать затаённую мысль.
Боже мой, возьми лучше мою жизнь, но оставь его! Хотя я его так хорошо знаю, что и теперь могу предсказать, что из него никогда не выйдет человека в высшем смысле этого слова, что его легкомыслие и ветреность принесут ему немало бед в жизни, что он не сумеет переносить несчастий, и что смерть в ранние годы хороша тем, что покидаешь мир, так сказать, стоя на пороге жизни, не успев изведать ни её радостей, ни страданий, — всётаки одна мысль о возможности подобного несчастия леденит душу… Будь он дома, — другое дело, я бы приехала и ухаживала за ним, но настоящее моё положение тем и ужасно, что я не могу своим присутствием облегчить ему болезнь… и, если ему станет хуже… но нет! Пусть мне отнимут обе ноги потом, но я поеду к нему… <…>
4 декабря.
Леонтьев умер вчера в 2 часа ночи. При нём дежурила сестра Па-вская, розовая девочка лет 18-ти, веселая и жизнерадостная. И он, умирая, сказал ей: “до свидания, вы тоже скоро умрёте”… Она кажется, не преминула всем сообщить об этом неожиданном “предсказании”… Сегодня утром m—me Ш., смеясь, смотрит на неё и повторяет: “так до свидания же…” и она смеётся… и другие дежурные сестры смеются…
А я не смеюсь, и думаю: отчего он сказал ей это? Или в момент перехода этой границы — он вдруг увидел уже нездешними глазами её будущее, или это было просто злое желание с его стороны — умирая, омрачить молодое существо страшным “до свидания”, или, наконец, он сказал это просто так? Благоразумные люди скажут: конечно, “так”; второе предположение — неблагородно как-то, а первое?… И вдруг — предсказание сбудется, и через год, через два — сестры Па-вской не станет? Фу, какое тупое суеверие! Неужели я стала суеверна?.. <…>
Я с ужасом смотрю на календарь: 4-ое! Сколько лекций пропущено, сколько дней занятий потеряно! так как в общей палате оказалось совсем невозможно заниматься. <…>
Нигде, кажется, с такою ясностью не видишь, как здесь, какое злоупотребление делают люди из своего органа речи — бабье пустословие, разговоры с утомительной бессодержательностью уже раздражили мне нервы; по-видимому, ко мне вновь возвращается проклятое состояние, выражающееся пока в легкой сравнительно форме — сжимание головы. Разговоры меня мучат невыразимо, и я, после окончания курсов, решительно стану избегать женского общества, или же буду сходиться с наиболее серьёзными и молчаливыми <…>
19 декабря.
Нынче в Киеве, бродя по выставке, я случайно натолкнулась на экспонаты сельскохозяйственной школы Крестовоздвиженского Трудового Братства в Черниговской губ., Глуховского уезда, учреждённой Н. Н. Неплюевым {Предпринятому Николаем Николаевичем Неплюевым (1851—1908) педагогическому и экономическому опыту Е. Дьяконова посвятила чрезвычайно сочувственный очерк “Школы и братство Н. Н. Неплюева”, опубликованный в газете “Русский труд” за 21 и 28 ноября 1898 г. (см. в кн. “Дневник Елизаветы Дьяконовой 1886—1902. Литературные этюды. Стихотворения. Статьи. Письма.”. М., МСМХН. С. 793—801).}. На столе лежали карты, отчёты и книги с историей школы. Я так и вздрогнула, развернув одну из них. Мне показалось, что я нашла свою мечту осуществившейся в действительности. Н. Н. Неплюев, аристократ-помещик, покинул, будучи ещё молодым человеком, свой дипломатический пост в Мюнхене в 80-х годах, озарённый внезапно убеждением, что вся его жизнь резко расходится с Евангельским учением. И он постарался устроить её и эту школу по заповеди: “Возлюби ближнего твоего, как самого себя”. По этой заповеди он начал воспитывать своих учеников, не насилуя их воли: в устроенные им “братские кружки” вступали добровольно, и бывали случаи, что ученики кончали курс, не участвуя ни в старшем, ни в младшем кружке.
Выставка закрывалась; наступившие сумерки не дали мне возможности прочесть всю книгу, и я ушла домой; более узнать о ней мне не пришлось. Только осенью, в “Новом времени”, я прочла коротенькую выдержку, кажется, из журнала “Неделя”, об этой школе и легкомысленную заметку газеты: “да, есть же счастливые люди на свете”, или что-то в этом роде; более серьезного отношения газеты, которая каждое Рождество и Пасху трогательно говорит о любви к ближнему в передовицах, выдержка, очевидно, не заслуживала. С тех пор у меня не выходит из головы мысль об этой школе. Надо узнать о ней побольше. Но как? откуда узнать адрес? откуда узнать название имения?
21 декабря.
<…> Если бы я обладала талантом Грановского {Тимофей Николаевич Грановский (1813-1855) — профессор всеобщей истории в Московском университете, общественный деятель.}, страстностью же Белинского — я бы пошла на кафедру и стала бы “учителем жизни”… Но я — человек обыкновенный, да ещё мои способности подкошены нервами — мне остаётся одно: бороться по мере силы одной, а затем, в случае — уйти, но не сдаться!!
Новый человек я, и моя обновлённая жизнь требует иных людей…
В голове моей слагается смелый план — воскресить давно умершую христианскую общину первых веков, провести среди современного испорченного эгоизмом общества эту великую, вечно-живую идею; осуществляя её на деле — основать для начала монастырь, но своеобразный, девизом которого служили бы слова: “иже хощет по Мне идти, да отвержется себе, да возьмёт крест свой, и по Мне грядет” {Евангелие от Марка, 8, 34.}… и провести это самоотвержение во всей цельности, применяя при этом всё, что могла выработать цивилизация на пользу человека, отвергая как ненужное всю её мишуру. А потом воспитать в этом монастыре поколение, безразлично — мужское и женское, и тогда, быть может, — в этом поколении, благодаря воспитанию, и осуществится жизненный идеал Христа… <…>
28 декабря.
Гимназистке Мане, высокой девочке лет 13-14-ти, сделали операцию ноги. Операция была лёгкая, и через два дня Маня уже ходила по палате, перезнакомившись со всеми. Её очень удивляло, что я всё сижу с книгами… — “Какая вы учёная! И много у вас на курсах надо учиться? И строгие профессора?” — забрасывала она меня вопросами…
Мы разговорились. Девочка оказалась довольно начитанной и мечтательной. Говоря со мной о душе и Боге, она вдруг оживилась и стала уверять меня, что её душа существовала до её рождения… что она жила сначала в чудной далекой стране Берендеев.
Я была озадачена. С виду — ребенок вполне нормальный, и вдруг такие речи! Бедняжка, очевидно, зачиталась книгами и в некоторых пунктах смешивала фантазию с действительностью. “Что вы говорите, Манечка?” — осторожно заметила я. — “Нет, это правда, правда! Это — чудная страна, там Бог живёт и там души живут… Я была в ней, там всё чудное, не такое, как здесь на земле… там в белом и розовом сиянии на престоле сидит Бог… там так хорошо-хорошо!” — она совсем увлеклась, её глаза сверкали странным блеском… Вдруг она схватила меня за руку. “Знаете ли, — заговорила она шёпотом, точно поверяя мне заветную тайну, — знаете ли, я бываю там и теперь… тогда меня точно уносит кто в розовую даль, и я поднимаюсь вверх всё выше, выше… Кругом всё сияет — розовое, белое, золотое… и птички райские поют… И мне там так хорошо, что не хочется уходить… и, если я не вернусь, — значит, я умру, будут плакать папа и мама… Но я знаю, что так надо… скоро, скоро я уйду туда совсем, навсегда… ах, как буду я счастлива!” Манечка сложила руки на груди и смотрела куда-то вдаль сияющими радостными глазами… Мне становилось положительно жаль бедного ребенка. “Но… позвольте, дитя моё, такой страны, кажется, нет”. — “Нет?! Страны Берендеев? Она есть, есть, и всё, что вы возразите, неправда — я это знаю наперёд… вы мне и не говорите, я знаю, знаю”… Я пристально посмотрела на неё. Восторженный экстаз мало-помалу начинал исчезать, она провела рукою по лицу и, будто очнувшись, посмотрела на меня… Мне не хотелось смущать её дальнейшими вопросами, и я перевела разговор на другой предмет. Спросила её о гимназии, учителях. Она точно угадала мои мысли. — “Ах, что я вам говорила! Вы знаете, я этого никому не говорю… вы подумаете, что я глупая”… Я постаралась её успокоить, говоря, что ничего не думаю и что она очень милая и хорошая девочка, и мне приятно с нею говорить.
Успокоенная, она отошла от меня и улеглась спать. Но я, удивлённая неожиданным разговором, стремясь разобраться в этом психологическом факте — была слишком взволнована… Я села в стоявшее у постели кресло, выехала на нём в коридор — и задумалась…
30 декабря.
<…> В прошлом веке от революции выиграла буржуазия — аристократия, духовенство имели уже свой золотой век ранее. Теперь же выступает на сцену новое — четвёртое сословие, на счёт которого живут все другие, — рабочий пролетариат. За целое столетие — социальное, экономическое да и умственное развитие поднялось так, что борьба становится несомненно труднее, — положение запутывается; явились Карл Маркс и Фридрих Энгельс, явилась социология, масса школ разного рода; у нас в России — марксисты и народники готовы передушить друг друга потоком доказательств… Боже, в какой бездне научной и политической запутались люди! Готова возникнуть целая наука — социология — как будто людей можно научить жить по научной теории! Поистине, иногда измышления господ учёных похожи на детские игры. Надо ли основать науку об эгоизме, величайшей язве человечества, которая подтачивает его существование? <…>
Я никогда не забуду, как летом Д-с {Так (иногда Д.) в изданных дневниках Е. Дьяконовой обозначен Юргис Казимирович Балтрушайтис (1873—1944), к моменту упоминания — студент Московского университета, впоследствии поэт-символист, переводчик, дипломат.}, всё время твердивший о тяжести жизни, вечно погружённый в пессимизм, сказал: “если я женюсь, то мой брак будет эстето-психологическим”, и этого достаточно было, чтобы он сразу наполовину упал в моих глазах. Я не удержалась и сказала: “ведь это абсурд, признавая бессмысленность и тяжесть жизни, — жениться и производить на свет ещё более несчастных существ…” Он, нисколько не задумываясь, отвечал: “да ведь я же не думаю о детях…”. Чудный ответ! Похвальная откровенность! Если бы он смотрел в это время на меня — он мог бы видеть, как всё мое лицо, вся моя фигура выражали негодующий упрек; но он смотрел вниз, а я… встала молча и отошла к морю, чтобы, глядя на волны, немного овладеть собой. <…>.
31 декабря 10 час. веч.
Вот и старый год приходит к концу; подведём же итог… Многое пришлось мне пережить в нём, пожалуй, более, нежели за целую половину предыдущей жизни… Я не занималась основательно и не успела мало-мальски получше ознакомиться ни с одним вопросом; смягчающими вину обстоятельствами являются внешние, да и моё неврастеническое состояние; нравственные мучения несравненно острее физических, и невозможность заниматься в тех пределах, как бы мне хотелось, не перестает меня мучить. Господи! сжалься, наконец, надо мною! дай мне хоть на этот год силы и здоровья!.. Зато в сфере нравственной, после того острого потрясения, испытанного мною во время болезни Вали, — я выиграла: полезно, в высшей степени полезно попасть в сферу несчастных, испытать самой болезни и, кроме того, видеть кругом себя горе себе подобных. <…>
Здесь, окруженная моими друзьями — книгами, я живу точно не в лечебнице; только вид больных напоминает мне, где я, а то, — лёжа в постели, в подушках, не чувствую ни малейшей боли в ноге, и с книгой в руках — я вполне здорова. Меня даже как-то не тянет отсюда…
Интересных встреч и людей за этот год почти не было. Д-са я пока мало знаю, но насколько его поняла — он типичный представитель изломанного молодого поколения; он и Таня {Мария Оловянишникова.} — родные брат и сестра по натуре с некоторым нездоровым взглядом, только она симпатичнее его, потому что моложе, и её натура от природы была лучше. Вспоминаю далее книгу о докторе Газе {Федор Петрович Гааз (1780—1853), врач и общественный деятель; Е. Дьяконова могла читать о нём книгу А. Ф. Кони “Ф. П. Гааз. Биографический очерк”. СПб, 1897.}, которую я не могу читать без слёз, которую беру в руки с благоговением. Сестра Г-вич… Что за бездна любви и ласки к больным, какая преданность делу милосердия, какое самоотвержение и желание принести пользу и твердость в достижении цели. Проф. П[авло]в, я его знаю как врача — его доброта, ласки и внимательность ко всем больным делают его личность в высшей степени привлекательною. Меня глубоко тронуло его желание положить меня сюда бесплатно. Когда он мне сказал об этом, я смутилась… и отказалась; но он, не обращая внимания на мои слова, самым добродушным тоном возразил: “ну, куда же вам платить 50 руб.” <…> Я хотела заснуть… теперь, из-за операции, не могу, неудобно: поднимется возня, больного понесут мимо нашей двери, и я проснусь непременно. Тамара хочет встретить Новый год за письмом к родителям. Милая девочка — так любит их. А кому мне писать? — некому… Вале? — писала недавно; если буду писать сейчас — то, конечно, о своем настроении, о своих мыслях, но на такое письмо, в которое я вложу частицу своего “я”, она не ответит мне искренно и горячо, как бы мне хотелось. А больше — некому. И поэтому я выбираю — книгу; возьму Платона “О государстве”, сочинение, которое есть здесь у меня. Это будет благороднейшее общество, в каком только можно встретить Новый год.
Все спят… Не сплю лишь я и Тамара… 11 часов, операция кончилась, идёт приборка. Возьму книгу…
1898 год
<…> 8 января.
Последние дни хотела читать Тургенева “Затишье”, “Ася” — и бросила. Мною вновь овладело то чувство недоумения, которое возбуждало во мне в отрочестве чтение романов — “всё любовь, и всё одно и то же на разные лады”, — думала я тогда; теперь та же самая мысль заставила меня положить в сторону и Тургенева. С тех пор как замужество близкого мне человека раскололо вдребезги на моих глазах так называемую поэзию любви, с тех пор, как предо мной встал роковой вопрос “Зачем?”, на который я никогда раньше не отвечала, — я живу иною жизнью и поэтому ко всему отношусь по-своему.
Я взяла ХIII-ый том Толстого и прочла там главы о любви и о страхе смерти, взяла ХII-ый и прочла “Смерть Ивана Ильича”, Мысли, вызванные переписью в Москве, “В чём счастье”… Читала с глубоким наслаждением, чувствуя, переживая сама настроение писателя, который в таких простых и ясных выражениях раскрывал свою душу, свои мысли, не щадя себя никогда. И осмеливаются ещё говорить, что великий писатель встал на ложную дорогу. Безумцы! Едва только человек задумался над жизнью, чуть только вышел из общей колеи — сейчас подымется гвалт… Сами-то вы хороши! Скажите, кем доказана правота вашей жизни?… <…>
19 января, 12 часов ночи.
Последняя ночь… Я нахожусь в странном, смешанном настроении, в каком-то возбуждённом состоянии, и поэтому ничего не могла делать весь день, и сейчас не могу спать…
С одной стороны, — я так рада вернуться в мир, опять жить прежнею привычною жизнью; с другой — меня терзает сожаление о потерянном времени, а главное — я так привыкла к общине и её обитателям, так сжилась с ними, их горестями, что даже жаль их… <…>
Прощай, маленький мирок, Эдем немощного человечества, куда меня неожиданно забросила судьба. Здесь, почти кончив жизнь умственную, я стала жить сердечною, полюбив больных и некоторых из сестёр; мне пришлось пережить с ними минуты торжественные, возвышающие душу и очищающие её от грязи житейской…
Впервые я читала Толстого с таким увлечением, здесь я увлекалась жизнью древних христиан в изображении Фаррара {Фредерик Уильям Фаррар (1831-1903), англиканский богослов, филолог и писатель, многие труды которого были переведены на русский язык. По-видимому, Е. Дьяконова читала его сочинение “Первые дни христианства” ч.1—2, СПб., 1892.}, мысли о Неплюевской школе не выходили из головы и, всё глубже задумываясь о смысле жизни, я проверила себя за это время ещё более: я не усомнилась в своей порядочности, но в нравственном смысле оказалась бесплотной, потому что не признаю религии без живой любви и внутреннего самосовершенствования.
Иногда мне так хочется побросать все мысли о себе и отдать все свои силы, всю себя на служение делу; и в то же время я чувствую, что можно отдать всю себя только при соблюдении одного условия, — что я буду работать и идти к известной цели, состоя единомышленником вечной жизни.
Теперь — поздравить, или же запятнать себя я не берусь: слишком уж горько вспоминать о потерянном. Впрочем, в душе я говорю “да”, но в жизни — безжалостное “нет”… Безо лжи я говорю себе, что в моей маленькой жизни нравственные интересы играли самую главную роль, я стремилась к достижению добра — и страдаю, не видя его… Света ещё нет, он лишь робко колеблется неуверенным пламенем…
Забыто сердце, душа у людей, они сознают только самих себя, и поэтому-то происходит и скука, и ничтожество жизни, весь этот страшный эгоизм, от которого всё зло. Но земной рай недалек от человечества, он так близок — к нему надо стремиться… И невольно думается, если бы оживить современную жизнь, влив в неё идеалы Христа, оживить общество, пока лишённое совсем этой идеальной любви, с малых лет вооружать ею подрастающее поколение, — тогда никто не сказал бы, что современная молодёжь и всякие студенты не только не развиты, но и развращены… Неужели же люди в конце концов предпочтут “кооперацию” и борьбу — светильнику искры Божией, живущему в душе у каждого из малых сих?!…
Но ведь я мечтательница, вечно неудовлетворённая… Довольно! — вперёд! За дело, всею душою, с глубоким порывом…
20 января, веч.
С помощью палки я двигаюсь, даже сама собрала все свои вещи сегодня утром, и всё ещё как-то не могу освоиться со своим положением человека с двумя ногами. Я чувствовала какую-то мучительную неловкость перед Тамарой, когда собиралась; она сидела неподвижно в своём уголке, закрыв лицо руками… 1 + месяца предстоит ей прожить здесь и потом ехать домой для окончательного излечения. Не особенно развитая умственно, она обладает, в сущности, глубокой натурой, скрытной и застенчивой до крайности, и от природы не обладая умом, она по-своему умнее многих в её годы… Неизвестно, вылечится ли она, несчастная… и это в 18 лет.
— За что? — становится передо мной мучительный вопрос, за что ты страдаешь?..
Я оставила в лечебнице часть своего сердца; я полюбила там всё и всех, за исключением начальницы и одной сестры милосердия. К первой у меня развилась антипатия оттого, что я слишком ясно видела всё лицемерие, с которым она, бездушная карьеристка по натуре, носит знак милосердия; вторая — тоже своего рода карьеристка, присоединяет к этому ещё грубость отношения и не менее грубое кокетство.
Зато тем сильнее я люблю тех несчастных, которых мне пришлось встретить на жизненном пути. Когда я лежала здесь, я думала вовсе не о себе, а о наиболее продолжительно и тяжело больных, и легче мне становилось: я отвлекалась от мысли о своем “я”, заботы о других поглощали меня… И невольно повелительным тоном говорила я “тише”, когда замечала, что шум в палате мешает спать больной, и невольно распоряжалась молодыми, недавно поступившими сестрами, уча их, как надо сделать что-либо, чтобы было удобнее; знаю, что это могло не исправиться, но иначе — я не могла.
Сознание своей собственной нравственной низости не перестает мучить меня: проверив свое поведение за последний период жизни, — увидела, что многое надо было делать иначе.
И приходит мне на мысль Рождество два года тому назад: казённый лазарет и на постели мёртвый мальчик, к которому пришла я, но тогда, когда было уже не нужно.
“Болен бых, и не посетите Меня” {Евангелие от Матфея. 25, 43.}…
И вот наказание… Разве это не справедливое возмездие за мой легкомысленный эгоизм? Теперь я сама лежала в лечебнице, мои близкие уехали, только изредка меня посещали товарищи — смею ли я жаловаться? Нет: моё одиночество, постоянная неудовлетворенность жизнью, мои вечные мечтания о глубокой братской любви, о сродстве душ… О, как глубоко в душе храню я их! Никто и не подозревает <…>.
21 января.
Мне даже не верится до сих пор, что я опять в своей студенческой комнатке… <…>
Всё тихо… В палате огни потушены, темно и в коридоре; только столовая освещена, и в ней сидят ночные дежурные. Они ежатся от ночного холода и кутаются в платки… Меня глубоко трогает молодость большинства их; хотя это и нехорошо, что они в такие молодые годы, как в 16-17-18 лет, не могут относиться к делу с любовью и сознательно, но всётаки одна мысль о том, какому делу посвящают они лучшие годы свои, те годы, которые большинство из них тратят на светские удовольствия, — эта мысль производит глубокое впечатление. И эти юные головки кажутся гораздо выше и светлее, нежели они есть на самом деле. Их освещает дело…
И теперь мне положительно грустно; да, я вдумываюсь и с удивлением вижу, что мне жаль всего, оставленного там. И жаль больше всего себя: читая полезные страницы жизни, историю человеческих страданий, я могла бы с большею пользою провести там это же время и выйти с сознанием глубокого внутреннего удовлетворения… <…> Вместо научных занятий, я увлекалась чтением Евангелия, Толстого, Фаррара… и вместо выводов строила в уме несбыточные, грандиозные проекты… Да что же это, наконец? Что я такое? Пора бы в 23 года быть более умной…
И вспоминается мне разговор с Маней, мечтательной девочкой, которая пресерьёзно уверяла меня, что есть волшебная страна Берендеев, в которой живёт Бог и наши души до рождения… В сущности, в мои-то годы, не мечтаю ли я тоже в своём роде о царстве Берендеев? Впрочем, — нет: я чувствую и сознаю, что мои мысли правильны, что иначе я не могу думать, что к этому приводит меня изучение наук…
30 января.
Приехала ко мне Таня {М. Оловянишникова.}, на этот раз дольше, чем обыкновенно. Бедной девочке пришлось во всем признаться, роман внезапно раскрылся… Вот бешенство и ужас родных от неожиданного для их гордости удара!..
Мне очень жаль её! Как хотелось мне, чтобы она в 21 год тоже пошла на курсы, сделалась бы потом деятельницей на пользу народа; в апреле она совершеннолетняя, и я предоставляла ей возможность пользоваться обстоятельствами, доказав родителям, что, в сущности, они сами виноваты в случившемся: сразу разорвать свои золотые цепи — поехать в Петербург, взяв деньги на ученье у меня. Она будет обеспечена на все четыре года, а там — будущее в её руках… Но, увы! Таня спокойно не дожила до этого времени, она была слишком надломлена, чтобы решиться теперь на что-нибудь, пассивно слушая меня. То, к чему она так жадно стремилась, для неё теперь уже не существовало: отсутствие умственной пищи дома, отсутствие живого, увлекавшего её всю дела, сделали то, что Таня, вначале равнодушная и интересовавшаяся им только с умственной стороны, — полюбила сама … “дописалась!” — как она выражается.
Этого должно быть ожидать. Таня — очень привлекательная, оригинально-изящная, поэтическая девушка, он {Ю. Балтрушайтис} — даровитый юноша, поэт, мечтатель, и оба — поклонники Ибсена, д’Анннуцио, Метерлинка, Ницше… их точно создали все модные веяния. Бедные поэтические дети! <…>
Что касается до меня, то мне не нравится его гордая уверенность в своём таланте, злоупотребление словом “гений” и небрежное отношение к стихотворениям: он пишет их много, не отделывая ни одного, — и иногда, наряду с прекрасными строками, встречаются неудачные выражения… Истинный талант не так относится к своему творчеству. Весь поглощённый своими страданиями, он не замечал меня, хотя долгие часы проводили мы все вместе, и я начинала чувствовать их пустоту; тогда я была, если не совсем посторонней, то во всяком случае, лишний человек: он и Таня молчали, “поглощённые” друг другом. Удивительно, до чего влюблённые неинтересны! Сколько ни твердила мне Таня про ум Д., его глубокое знание литературы и её почитание, — из разговора с ним я никак не могла этого узнать. Я видела, что Таня слегка заинтересована им и из деликатности не выражала настоящего своего мнения о нём. А между тем я знала, что если он захочет, то может быть неотразимо привлекателен, и… почём знать, может быть, он даже и умён. <…>
4 марта.
Сегодня годовщина Казанской демонстрации по случаю смерти Марии Федосьевны Ветровой {М. Ф. Ветрова (1870—1897) — член “Группы народовольцев”, покончила с собой в Петропавловской крепости в знак протеста против жестокого обращения.}. Несчастная ярая деятельница была взята в январе или декабре 96 г. и 12 февраля покончила с собою, как говорят, самосожжением: обмотав тело разорванными полосами простыни, облила себя керосином.
После лекции Введенского о Канте — на кафедру взошла одна из красных и начала читать литографированные листки. Сотенная толпа молча слушала. “Мы должны помнить эту жертву правительства, стремящегося во что бы то ни стало задушить стремление к прогрессу… Это не единичный случай. Вспомнят студента Малюгу, вспомнят… (фамилии не слыхала), умершего в камере… Правительство губит всё честное, охраняя своё могущество… будем же помнить эту смерть… неужели мы останемся равнодушны, успокоимся на одном воспоминании? Надо действовать”! Из таких банальных и слабых выражений состояли все листки. Наконец было сказано самое умное, — предложен ежегодный сбор в её память в пользу заключённых.
Во время чтения я рассматривала некоторые лица; одни сочувствовали и слушали с увлечением, напряженно, большинство — просто с вниманием, на лицах же некоторых замечались скептические и насмешливые улыбки. Наверху две курсистки, изящные барышни, из петербурженок, переговаривались с выражением крайней досады: они спешили, а нельзя было выйти <…> Инспектриса — бывшая слушательница — устало слушала чтение, как нечто неизбежное, которому она должна была покориться…
И больше ничего… все разошлись.
5 марта.
<…> Несколько дней назад я узнала, что Неплюев здесь. В волнении — я бегу к профессору Вагнеру {Николай Петрович Вагнер (1829—1907) — ученый-зоолог, писатель.} спросить адрес. Маленький старичок с умными глубокими глазами сказал, что он останавливается обыкновенно в гостинице “Париж”. И я пошла туда. Н.Н. не было дома. Я написала ему коротенькую, умоляющую записку-просьбу видеть его и назначить мне часы, когда могу его застать дома.
Дня два я жила напряжённым вниманием, ждала письма — напрасно. Дни идут, ответа нет. И я не знаю, чему приписать такое молчание: некогда ему? Неужели он, истинный христианин, сознательно не хотел мне отвечать? — Не может быть, не может быть! <…>
6 марта.
Сегодня, вернувшись домой, увидала у себя на столе телеграмму. Сердце замерло: умер кто-нибудь — бабушка, мама?! Прочла: “Завтра в 9 часов утра буду дома. Неплюев”. Ноги подкосились после испытанного волнения, и я невольно опустилась на колени, благодаря Бога за то, что не весть о несчастии принесла мне телеграмма.
Мне надо сказать ему столько, сколько я за всю жизнь никому никогда не высказывала. <…>
15 марта.
И я виделась с ним…
Плохо спала ночь и, встав рано утром, ровно в 9 часов была в гостинице “Париж”. <…>
Я вошла в номер. Навстречу вышел пожилой господин, высокий, стройный, с лысой головою и большим носом, но в общем производящий такое впечатление, что эти недостатки его наружности даже вовсе не замечались. <…>
Я решила не думать, о чём буду говорить. Всё, что есть на душе, — вырывалось наружу… <…> Но прежде разговора мне надо было выяснить ему, хотя немного, мою личность, чтобы он мог лучше понять, с кем имеет дело; и вот — долго сдерживаемое волнение взяло, наконец, верх: страдания всей моей жизни, казалось, ожили во мне, голос мой оборвался на первой же фразе, и я зарыдала… право, невольно. Он не встал, но положил сочувственно свои руки на мои, не двинулся и сидел молча, ожидая, что я скажу ему далее. И мне больно стало и стыдно за свои слёзы перед этим равнодушно-спокойным человеком. <…> Он предложил мне воды. Я отказалась, и вдруг моя гордость возмутилась, я тотчас же овладела собою и заговорила спокойно… чем дальше говорила, тем более увлекалась, — перейдя от своей личной жизни к курсам — во мне уже заговорил человек не личного, а общественного страдания; невольно рассказала я ему случай с истерикой на лекции Введенского, и у него вырвалось восклицание: “как это можно”. Наконец, я подошла к первому и основному вопросу — о создании Богом мира и неиссякающем источнике зла и бедствий человечества, которое всегда было и будет по тексту евангельскому “много званых и мало избранных”, и о цели создания мира. Но тут он меня прервал: “На такие вопросы отвечать тотчас же я не могу; я не шарлатан, чтобы отвечать сразу и категорично… Да и вы мне можете не поверить… Вы и ещё имеете вопросы?” — “Да, ещё несколько”, — отвечала я. — “Вот лучше летом приезжайте ко мне в братство, я буду там всё время до октября… Сейчас напишу вам, как к нам ехать. Там мы можем поговорить” <…> “Я советую вам познакомиться с Марией Петровной Мяс[оедо]вой. Вот, мать — светская женщина, а она — живая душа” <…>
На днях написала М. Ос. Меньшикову {Михаил Осипович Меньшиков (1859—1918) — публицист, критик, в 1890-х годах придерживался народнических взглядов с христианско-либеральной окраской, затем сдвинулся в сторону радикального национализма и охранительства. Расстрелян ЧК. Встреча Е. Дьяконовой с М. Меньшиковым произошла, возможно, в редакции газеты “Неделя”, ведущим автором которой он был.}, чтобы он приехал в редакцию, мне хотелось поговорить с ним. И разговор наш был очень интересен. Он говорил мне о Льве Толстом, об его симпатической личности. Я спросила его, знаком ли он с Неплюевым? — “Как же… был у меня третьеводни (он именно так и выразился), был у меня в Царском, прощался со мною!” — “А что вы думаете про его братство?” М. Ос. сомнительно покачал головою… — “Не нравится мне это; у него в школе какие-то кружки, — надзор старших за младшими, — это что-то иезуитское… Вот он меня давно зовёт к себе, статьи мои там читает — я же всё никак не могу собраться. И на этот раз он очень звал меня, может быть летом соберусь… Сомнительно мне это братство. Вот и Николай Петрович Вагнер там был… Например, у него для дохода существует водочный завод”. — “Неужели?!” — изумилась я. — “Да… я как узнал это, говорю: как же это так, Ник. Петр., и завод-то? — Тот молчит. Неплюев оправдывается тем, что дело в количестве потребления, но ведь это не оправданье”. Я слушала молча. Действительно, завод и меня сбил с толку. И больно мне стало, что нет совершенства на земле. Но Меньшиков был и против самого братства: “Что это? — Устроил какой-то оазис, в котором счастливы немногие. Нет, пусть он отпускает своих учеников в жизнь, пусть они действуют в обыкновенной среде”… В этом я была не согласна с М. О.: именно мне и нравилось братство, его существование даже необходимо для наглядного доказательства силы идеи. Конечно, это моё мнение применимо только к такому братству, устройство которого по возможности близко к идеалу; насколько же приближается к нему братство Неплюева — не знаю. <…>
Село Устье, 3 июня.
После более чем двухмесячного перерыва — снова берусь за перо. Возвращусь к тому времени, — это для меня необходимо, так как в эти дни со мною произошло что-то странное.
Я всё время, с конца февраля, читала каждое утро по главе из книги Неплюева; это доставляло мне какое-то особое ощущение: я читала критику всей нашей жизни, некоторые страницы которой дышат такой искренностью, такой беспощадной правдой, что невольно вырывалось рыдание и сильнее чувствовалась вся неправда жизни, вся сила горя современного человечества… <…>
И странное дело: чем дольше я читала, тем более подвергала критике не только самую мою жизнь, вовсе не бывшую христианской, но и веру. Я старалась проанализировать собственное религиозное чувство, сразу не поддающееся объяснению; но было много времени, и вот, понемножку, в эти дни я думала и над своей “религией”.
В силу чего я верила? — В силу переданного традицией отчасти, в силу потребности своей души — тоже отчасти, так как известные религиозные воззрения были приобретены не лично мною, а усвоены с детства; не будь их — додумалась ли бы я сама до признания Бога? И я должна была ответить на этот вопрос честно: “не знаю”.
Мое религиозное чувство, проявлявшееся с детских лет… Чем, по большей части, оно было вызвано? — Моя младшая сестра постоянно твердила: “я не умею молиться”. Этого я никогда не понимала и не могла понять. С детства я молилась, и тогда душа моя находила особую отраду в молитве, и я понимала смысл произносимых слов… <…>
Потом… В гимназии я любила более всего всенощную; служба вечером казалась мне более поэтичной и торжественной, и искренно молясь, почти со слезами, за всенощной, я уставала и скучала за обедней и не стыдилась спать, выдумывая себе головную боль, чтобы не ходить в церковь и читать… В годы отрочества — лет в 14 — я опять вспомнила свою “веру”, начавшую становиться более сознательной, но которая всётаки не шла далее раскаяния. Я даже сначала не верила в теорию Дарвина именно ради того, что она расходилась с религиозными убеждениями, и была совсем сбита с толку, видя, что её принимают многие, называющие себя христианами. Сомнений же в существовании Бога у меня не было… <…>
С 21 года моё религиозное чувство всего сильнее оживало всего только два раза — перед поступлением на курсы и потом во время болезни Вали, т. е. оба раза под влиянием сильных душевных волнений, причём в последний раз оно было сильно только одно мгновение и затем сразу ослабло… <…>
И вот, пересмотревши всю свою жизнь, я невольно задала себе вопрос — “в чём моя вера”? — и какой же ответ на него давал мне беспощадный анализ?
— Первая вера была в силу твоей беспомощности, в силу склада твоей души, нуждавшейся в утешении и поддержке, не видевшей её нигде; твоя вера была в безотчётных порывах души к чему-то стоявшему выше пошлости житейской, в силу врождённой любви к поэзии… и только. Моя твёрдость, с которою я держалась за неё, несмотря на всевозможные возбуждавшие религиозное сомнение книжки, заставляла меня подвергать их критике и защищать “веру” от нападок, как нечто — необходимое для человека. Я с искренним сожалением смотрела на неверующих курсисток, называя их про себя людьми без твёрдых убеждений, не знающих смысла жизни…
О, жалкое, несчастное создание! Да был ли он, этот смысл, у тебя-то самой, в своём ослеплении воображавшей, что если она верит всему, что сказано в выученном наизусть катехизисе — то, значит, обладает и знанием смысла жизни? Ведь та же религия говорит — “вера без дел мертва есть”, — т. е. нет в ней, следовательно, и освещающего жизнь смысла. А ты, как фарисей, следуя выученной букве закона, не делая ни шага, чтобы провести эту веру в жизнь, ты — смела считать себя умнее этих людей, смела думать, что ты в сравнении с ними стоишь на твёрдой почве, потому только, что веришь в бессмертие души и будущую жизнь! Поистине — ты достойна презрения! <…>
Вспоминая свою “веру”, я нахожу в ней одно только честное, — что я всегда отделяла её от всякого общеобязательного credo. В наше время надо уже различать специфически-православных людей, с религией государственной, и вообще верующих. Я была из последних, так как до курсов по невежеству и политической безграмотности мне не приходилось сталкиваться с этим вопросом, а на курсах мою веру всегда глубоко оскорбляла грубо и резко выраженная критика православия и нашей государственности… А впрочем — ведь эта похвала отрицательная. Но если я дошла до падения — ничего, если упаду и ещё немного ниже!
Чем был для меня мой Бог? Думала ли я когда-нибудь о Христе? Странно: я много раз читала Евангелие, читала серьёзно, но мало вдумывалась в него. Однажды, ещё в детском возрасте, задумавшись над вопросом — что такое Бог? — я с ужасом почувствовала, что не понимаю Бога. Чем же был для меня Бог? — Чем-то идеальным, высоким, Кому я могла только молиться и жаловаться на свою жизнь, словом, Он был для меня фантомом (призраком) поддержки, и немудрено, что иногда после молитвы я чувствовала себя успокоенной… Самовнушение ведь играет здесь не последнюю роль… <…>
Хутор Замостье, 15 августа.
Невесело встречать каждый новый год своей жизни с сознанием, что ещё ничего не успела сделать для других и ещё не веселее — ясное сознание возможного запрещения всякой деятельности. Позволят ли мне открыть школу без обязательного преподавания “Закона Божия”? Конечно, нет. А идти на компромисс, я не пойду. Я слишком долго и упорно считала себя “христианкой” и “верующей”, — тем сильнее перелом, и нельзя, переживая его, согласиться кривить совестью. <…>
Для того чтобы жить в согласии с совестью, надо жить согласно своим убеждениям. Пусть другие легко относятся к вопросам веры, пусть они легко переносят официальное православие — я не могу!!
Куда же идти мне? Как мне жить, чтобы соединить разумный смысл жизни с убеждениями? В России это с трудом возможно лишь при полной материальной независимости. Педагогический путь для меня закрыт; будь у меня талант публициста, критика, ученого — я могла бы писать… но я не Добролюбов, не Писарев… не Соловьев и Костомаров. Если бы у меня была власть! Цари счастливы, и им можно завидовать только потому, что они могут сделать добра более, нежели простые смертные. Эмигрировать в Америку? Л-тина рассказывала мне о Т., у которого она жила в Америке три года, — его дети воспитываются совершенно свободно.
Да, вышла я, было, на дорогу и думала пойти по ней уже без препятствий; но спустился туман, не вижу теперь, — куда идти, и должна ожидать, пока не рассеется… <…>
Ну, однако, надо жить! Глубоко в сердце затаено сознание роковой ошибки, плода своего легкомыслия и неразвитости, — кто видит снаружи?
Пройдёт лет 50-60 и что останется от нас, от наших страданий? груда костей — и ничего больше. Точно ли ничего? Человечеству так свойственна вера в бессмертие души. Но я человек без веры, не знающая конечной цели своего существования — во что могу верить? Бессмертие пугает меня своей вечностью, а мысль о конечном существовании как-то ещё вяжется спорить с детства привитой идеей… И я запутываюсь в противоречии и, подобно Заратустре Ницше, восклицаю:
— Где я найду теперь для жизни силы,
И как перенесу я иго смерти?! <…>
11 октября.
Получила письмо от Тани; всё оно — сплошная жалоба измученного существа. “Удивительно складывается моя жизнь: я не знаю ни одной полосы из неё, которую я могла бы благословить, отдохнуть воспоминанием по ней. Вечное тяжёлое ожидание, бессмысленная борьба за то, что принадлежит мне по праву человека, полная нравственная отчуждённость от семьи, дикое непонимание меня, уродские отношения… Ну, да что говорить! Сама знаешь”…
Ох, слишком хорошо я это всё знаю! Пожалуй, лучше её… <…> У Тани на всем её страдании лежит яркая полоса разделённого чувства, а у меня что!? И этого не было. <…> Видит Бог (если есть Он), что не желаю я никогда испытывать любви, которая ведёт к браку, но до смерти я не перестану чувствовать неудовлетворённость сердца, ищущего братской любви и дружбы, — это да! Право же всё равно — мужчина или женщина, — только явился бы этот друг, с душою родственной, стоящий выше меня и любящий меня такою, какая я есть, тонко, без слов, понимая меня… <…>
Глубоко в сердце спрятала я эту потребность и никому не покажу никогда! Она во мне живёт и со мною умрёт! Я холодна и сурова на вид, — тем лучше, никто не догадается.
Валя, Валя! Сестра, с которой я сама же себя разлучила. Если бы ты была лучше сердцем и развитее умом! Но жизнь таинственно отводит её от меня, и кажется мне, что рано или поздно я буду ей ещё более чужой. Таня — вечно несчастная, слабая, сама нуждающаяся в поддержке и скорее способная принимать любовь, нежели давать её. <…>
Ну, что ж? Доктор Гааз был тоже одинок… Его великая по высоте душа несравнима с моей, и поэтому он был ещё более одинок, однако нашёл же он в своём сердце тот неиссякаемый источник любви, который освятил всю его жизнь.
13 октября.
Какой неприятный день пришлось пережить сегодня! Недели две назад я сдала в редакцию “Мира Божия” {“Ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал, выходивший с 1892 по 1906 г. Вёл полемику с народничеством с позиций “легального марксизма”.} мою заметку о школах и братстве Неплюева. Сегодня зашла за ответом. Редактор {Вероятно, Ангел Иванович Богданович (1860—1907) — критик, публицист.}, любезный и симпатичный господин, очень вежливо сказал: “Нет, это не пойдёт, рукопись можете получить теперь же”. Я расписалась, взяла тетрадь и вышла. Мне было очень досадно за свою наивность: разве можно было нести статью в такой журнал, да ещё написанную так небрежно! Я предназначала её для редакции “Ярославских Губернских Ведомостей”, в часть неофициальную, и признаюсь, писала её не очень-то заботясь о слоге, — ну и надо было отправить туда сразу, а не передумывать и не соваться с известной физиономией в суконный ряд. Вдобавок, в самую последнюю минуту дёрнула меня нелёгкая прибавить конец, который мог быть принят за страшную тенденциозность (разговор с марксисткой), за косвенную нападку на модное в наше время учение… Счастье мое, право, что не напечатали заметки, а то потом стала бы сожалеть. И сунуться в такой журнал, — ну могли ли её поместить?! Конечно, нет, хотя печатают бесконечные романы Потапенки {Игнатий Николаевич Потапенко (1856—1929) — беллетрист.}, но ведь то — всётаки имя, а тут дело идёт о таком явлении, которому вряд ли может симпатизировать прогрессивный во всех отношениях марксизм.
Теперь меня берёт раздумье, посылать ли и в “Ярославские Губернские Ведомости”? А ну как и там откажут? Там слишком консервативны, могут не пропустить… Чёрт возьми! Тогда — сожгу её… <…>
5 декабря.
Вечером я была у А-вых, где Н. Н. Неплюев читал свои статьи, подготовленные к конгрессу единого человечества, который должен состояться в 1900 году во время Парижской выставки. Н. Н. читал отчасти уже знакомые мне статьи о силе и значении любви. Есть у него немного режущие ухо выражения — “сладкие пирожки жизни”. <…>
После чтения статей, в короткой беседе с Н. Н. я узнала от него некоторые интересные известия: в Москве образуется кружок друзей мира и любви в среде Московского университета, ректор которого, проф. Некрасов, очень сочувственно отнесся к этому движению. Но зато как же несочувственно отнеслись к нему представители духовенства, и между ними проф. богословия в университете: они никак не могли понять, что возможно единение между верующими и неверующими на почве любви. “Какая любовь? Не надо любви! Надо исполнение долга!”
Наконец, кружок нашёл подходящего священника (присутствие которого на своих собраниях считают необходимым для того, чтобы их не заподозрили в сектантстве), который пошёл в священники по призванию.
Ещё утром я получила письмо от Марии Петровны с известием, что статья моя о братстве напечатана в “Русском Труде”, а вечером, здесь, она встретила меня похвалой статье, уверяя, что редакция осталась очень довольна ею.
6 декабря.
Вернусь к предыдущему.
Общество у А-вых собралось по большей части женское. <…> Дамы всех возрастов толпились около Н. Н. и взирали на него не то с уважением, не то с умилением. Слышался французский разговор… Признаюсь, мне было немножко смешно… также странным казалось и то, что лакеи разносили чай в промежутке… христианская любовь и… лакеи… Интересно бы знать, сколько часов работали они перед тем, как разносить здесь чай… В зале раздавались слова любви, а снаружи слышались выстрелы: в Галерной Гавани было опять наводнение.
И мне хотелось встать и сказать: “во имя любви — пойдёмте туда, в эти подвалы, помогать беднякам”. Никто бы не пошёл, и я нарочно не разговаривала с Неплюевым, пока он стоял, окружённый дамами…
Эх! Вот что значит принадлежать к известному кругу!
Дамы, милые светские дамы, окружили Н. Н. и смотрели на него чуть ли не с благоговением. “Точно на о. Иоанна Кронштадского”, — шепнул мне незаметно подошедший профессор. <…>
25 декабря.
Ну, вот настал “праздник ощущений”, по выражению Н.Н.Неплюева, праздник желудка, праздник глаз, ушей — чего угодно, только не духа. Хозяев и прислуги нет дома, и я спешу наслаждаться минутами полнейшей тишины, когда лучше думается… Наконец-то я выработала в себе силу переносить одиночество; нынешний год иду бодро по дороге, но, как и всегда, — живу двойственною, а иногда и тройственною жизнью. Последняя является лишь тогда, когда надо приспособляться к людям, вовсе мне чуждым, а двойственная — всегда и везде со мною: одна — на людях, с которыми приходится постоянно жить, а другая — для тех минут, когда остаюсь наедине сама с собою… Это случается редко: то я читаю, то пишу реферат, словом, стараюсь не думать, ни о чём не думать, а всего менее — об ожидающей меня будущности. Теперь я лучше отношусь к людям, чем прежде, но что же за голос вечно твердит мне “всё это не то, не то, не то!”? Когда я сталкиваюсь с людьми, я жадно в них всматриваюсь, как Вечный Жид, я всё иду и иду, ищу и ищу… найду ли? Нет! Судьба отнимает у меня моих близких, соединяя их с людьми мне несимпатичными: скоро я лишусь и второй сестры — Тани…
Как посмотришь, какое ничтожество мне всё приходилось встречать среди мужчин! Ни одного глубоко симпатичного, который бы отвечал на все стороны души… Я не идеал ищу — я сама не идеал, — а просто хотелось бы хоть раз встретиться с родственною мужскою душою, без малейшей мысли о какой-либо чувственной стороне. <…>
1899 год
24 января.
Вечером мы вдвоём {С М.П. Мясоедовой.} должны были ехать на собрание кружка у о. Григория Петрова {“Григорий Спиридонович Петров (1866—1925) — публицист, проповедник, соприкасался в религиозно-этических взглядах с учением Л. Толстого. Лекции и проповеди Г. Петрова были чрезвычайно популярны среди либеральной интеллигенции и в рабочей аудитории. В 1908 г. лишён священнического сана.}, который основал студент Б. Мы приехали вовремя, члены только собирались: пришли два студента, два медика, лесник, одна медичка, с высших курсов учащаяся была я одна, остальные — барышни, человек пять, мужчин же было гораздо больше, из них — о. Соллертинский {Сергий Александрович Соллертинский (+5 февраля 1920) — духовный писатель, протоиерей Никольского собора в Санкт-Петербурге, профессор Санкт-Петербургской духовной академии.}, трое-четверо взрослых мужчин и, наконец, весьма ожидаемый профессор Вагнер. Всего собралось человек 25. Но странно было: люди, собравшиеся во имя единения, не соединялись, а разъединялись: мужчины входили в кабинет или сидели по углам, женщины собирались около стола с альбомами. Меня невольно поразила богатая обстановка квартиры, такой я не видала не только у своих профессоров, но даже у родных, людей очень состоятельных {Семейство Оловянишниковых.}. Огромный салон мог вместить в себя свободно 30-40 человек. О. Григорий, совсем ещё молодой человек, очень любезно встречал всех… <…>
Перед началом собрания Б. встал и предложил прочесть статью Меньшикова {Вероятно, статью М. О. Меньшикова “Дружеский союз”.} о дружбе. Собрание согласилось, лесник прочёл её. Она написана лет пять назад об этических обществах за границей, начало которым у нас положил профессор Вагнер несколько лет назад. В статье высказывались очень хорошие мысли о дружбе, единении людей. После прочтения такой статьи, по моему мнению, надо бы тотчас же перейти к обсуждению практического применения этих мыслей к нашим взаимным отношениям в данном случае. Но вышло не то. О.Соллертинский стал уговаривать профессора Вагнера быть председателем кружка, ввиду его заслуг на поприще основания этических кружков. Профессор отказывается. Его уговорили стать председателем хоть на это собрании. Он согласился… и тут началась та странная комедия, которая отняла весь смысл у этого собрания.
Профессор Вагнер начал свою речь с того, что заявил — верующие и неверующие должны разделяться. По его мнению, неверующим быть в обществе с верующими невозможно; а так как он сам верует в Бога, то и не может быть в обществе атеистов. Это звучало чем-то средневековым… Встал Б. и сказал, что он его предупреждал и раньше, что в этом собрании будут люди разных убеждений. Казалось бы, профессору оставалось только извиниться за свою бестактность, но старичок, стоя посреди гостиной, не соглашался. До глубины души возмущённая, я поднялась и сказала ему несколько слов о том, что если мы не можем верить, то это в силу того, что не имеем понятия об истинной вере, а те, кто показывают себя верующими, если у них есть истинная христианская любовь, — должны в данном случае ради неё не отказываться от общения с неверующими, если те сходятся с ними в воззрениях на нравственность. Я говорила — и голос мой невольно дрожал от волнения. Но профессор равнодушно-устало смотрел на меня и… опять-таки остался при своём мнении. Поднялся спор, не приведший, однако, ни к чему; из него мы узнали, что профессор был 14 лет атеистом и пришел к вере в Бога через спиритизм. И ему было не стыдно после этого говорить нам, молодёжи, прожившим одним десятком более этих 14 лет на свете, что раз он уверовал, то или нас знать не хочет, или же чтобы мы уверовали тоже. Выходило что-то недостойное… Наконец, профессор почувствовал, что надо “удалиться с честью” и обещал привести на следующий раз программы его этического кружка, наотрез отказавшись от председательства. Наверно, он не отказался вовсе от участия потому, что собирается сделать это в следующий раз. Но раз внесённый диссонанс продолжался и после его ухода. Поднялся спор об убеждениях, спор давний и беспонятный, потому что не было ещё примера, чтобы люди обращались к вере после словесного диспута. <…>
Наконец, на очередь выступил вопрос о нравственности. М.П. отвечала на него, конечно, с религиозной точки зрения, и мне, с моим незнакомством с Библией, показалось трудно следить за её мыслью, тем более, что она говорила быстро, а я была очень утомлена всем предшествовавшим. Помню только, что она настаивала на символическом понимании библейского рассказа о грехопадении человека, как противлении воле Божьей. О.Соллертинский одобрительно качал головою, собрание не спорило, так как все были утомлены, да и молодёжь, очевидно, не была расположена спорить, чувствуя невольную симпатию к этой девушке. По крайней мере, студенты не напали на неё, и я и медичка не возразили тоже.
Было уже 1 +. Я вышла с совершенно отуманенной головою. Нервы ли мои слабы, или в самом деле собрание носило такой характер, что куда ни придёшь, ничего не выходит… Вернее последнее. <…> “Нравственно ли это, возвращаясь с этического собрания, будить звонками усталых за день от работы людей? Нравственно ли нам во имя нравственности подобное переливание из пустого в порожнее?” И горькая ирония голоса совести мучила меня всё время… Ещё на собрании я подошла к о.Соллертинскому с этим вопросом, но он равнодушно ответил, что “на то они и прислуга”. А у меня на душе всётаки было нехорошо: мне, по обыкновению, было стыдно в глаза смотреть своему швейцару, когда он отпирал мне дверь.
Вопросы “жизни и нравственности” звучали сегодня таким диким диссонансом в стремлении нашем согласить их… Это будет похуже вопроса о вере и неверии, хотя я чувствовала, что на собрании “отцы” Петров и Соллертинский отнеслись ко мне очень симпатично. <…>
28 января.
<…> На курсах назначена генеральная репетиция (в костюмах) {Репетиция пушкинского вечера, посвященного 100-летию со дня рождения поэта.} <…>: решено было поставить 4 сцены — из “Русалки”, “Бориса Годунова”, “Полтавы” и “Евгения Онегина” — объяснение Татьяны с Онегиным. Я и В. с трудом были пропущены наверх, в залу, так как, кроме участвующих и членов бюро, посторонних не впускали. Там уже были все участницы апофеоза, частью одетые, я помогала им. Кого-то не хватало, суетились, бегали, кричали… VI аудитория была в полном беспорядке, — разбросанные направо и налево костюмы, на кафедре что-то вроде туалета; в соседней химической лаборатории — такая же картина… — “Марьи Ивановны нет! Где Марья Ивановна? Дьяконова, оденьте её платье, да встаньте в апофеоз!” — кричал мне кто-то. — “А говорить мне ничего не надо?” — “Ничего, скорей, скорей, Шляпкин {Илья Александрович Шляпкин (1858—1918) — историк литературы, книговед, палеограф.} кричит, что она необходима, а её нет… Ну, ну!!” — и я не успела ничего сообразить, как очутилась в аудитории, наскоро разделась, и кто-то меня одевал, и кто-то стоял возле… Я разделила волосы пробором — получилась старинная причёска, которая так идёт ко мне, — и все в один голос воскликнули: “вот настоящая Марья Ивановна!” “Гринёв” подбежал ко мне, схватил меня за руку и не отпускал. “Он” был такой славный, толстенький, симпатичный. Скоро были готовы “Ангел” и “Муза”; не хватало только статуи Пушкина, которую мы не достали. Для чтения было выбрано стихотворение Полонского о Пушкине: “Пушкин — это возрожденье русской музы…” — и потом соответственные лица должны были повторять те строфы, которые относились к некоторым произведениям Пушкина. С этим было много хлопот: чтобы всякий знал свой No, и не перепутал… Шляпкин просто всё горло раскричал, — говорить было тихо нельзя за расстоянием и движением; он бегал, кричал, задыхался и… делал в сущности всё, так как помощниц среди нас ему не нашлось… <…>
12 февраля.
На днях приехала Таня. Пришлось мало заниматься — необходимо было поговорить и развлечь её. Её любовь к Д. в полном смысле слова можно назвать “больной любовью” — в нравственном смысле слова. И удивительно, до чего это всё напоминает мне роман сестры, всё то же самое: верчение около своего собственного “я”, полное отсутствие каких-либо широких идей, упорное игнорирование чужой душевной жизни и сосредоточение внимания около самих себя… больные люди! И опять я стою волею судеб рядом с ними, с любимой женщиной, и — помимо желания, — даже очень близко к их роману… <…>
13 февраля.
Пишу все эти строки в вагоне — железной дороги.
Вчера утром, идя на сходку на курсы, увидала телеграмму на моё имя и не сразу даже поняла её смысл: “Елизавету Александровну паралич положение опасно”… Вот оно, чего я всегда боялась! моя бабушка, моя родная! и перед моим вступлением в действительную жизнь судьба отнимает у меня самое дорогое?
До такой степени не верится такому несчастью, что мне пришло в голову подозрение: не нарочно ли тётя послала телеграмму, чтобы я уехала от здешних беспорядков, потому что в университете был скандал во время акта 8 февраля, вызванный распоряжением ректора (денежные штрафы со студентов и аресты за нарушение общественного порядка в день праздника), о котором он не предупредил заранее студентов. На другой же день была сходка и студенты решили сами добиться закрытия университета. У нас же сходка была 11-го, после философии. Решали вопрос: присоединяться ли нам, как учащимся, к товарищам и требовать ли нам тоже закрытия курсов? Большинство было против: студенты были оскорблены, главным образом, не распоряжением ректора, а поведением полиции, в этом им сочувствуют и профессора. Ну, а мы-то что представляем в данном случае? Не надо забывать, что университетов в России около десятка, а курсы только одни. А теперь как раз, говорят, намереваются открыть такие же курсы в Москве; что, если мы, своим неосторожным поступком испортим всё это дело, задушим его в самом начале? Таким образом, первая сходка выяснила, что большинство готово выразить моральное сочувствие студентам (чего, собственно, они и добивались, вполне входя в наше положение и отнюдь не требуя закрытия курсов), но против добровольного закрытия курсов.
Я пришла на сходку довольно поздно, и когда Д-го закрывала её, подошла к ней и просила позволения говорить завтра, когда должен был окончательно решён вопрос, примыкать ли нам к общестуденческому движению, именно — какой формой протеста. К сожалению, вчера я уезжала на родину, времени было мало, и, когда я на минутку прошла наверх, — VI аудитория была переполнена, так что нечего было и думать не только пробраться к кафедре, но и подойти к аудитории: все скамьи, всё около кафедры было заполнено народом, стояли даже за полузакрытыми дверями. Я вернулась домой. Перед отъездом пришла Юленька, недовольная настроением большинства, и рассказала очень печальные вещи: сходку вновь вела Д-го, которая, по всей вероятности, из угоды массе, изменив свои умеренные взгляды на радикальные, вела всё дело очень плохо, и масса, будто бы, пришла к решению тоже закрыть курсы.
Ах, до чего это всё глупо и детски-наивно! Досадно, что я не могла сказать ни слова с кафедры. И, как нарочно, вот уже второй раз мои семейные дела отвлекают меня от общего дела… <…>
Вчера, когда я ехала из гимназии с братом {По-видимому, с Александром.} мимо университета, — кругом него и по набережной стояла толпа студентов, перед входом в университет с набережной — отряд полицейских, а у главного подъезда — взвод конных какого-то войска, или жандармы — не знаю хорошенько. В этот день университет был закрыт по распоряжению правительства.
Что-то теперь делается у нас? Душа моя разрывается между противоположностями: там, в Петербурге, я оставляю свою вторую, духовную родину — курсы, а в Нерехту еду… что ждёт меня там? Сегодня мне уже приснилось, что я не застала бабушку в живых. Но подозрение, что это подстроено ради моего “спасения”, не выходит у меня из головы. Впрочем, в газетах известий о волнениях нет, и поэтому мать не могла ещё узнать ничего. Нет, должно быть, это правда. Но я не могу примириться с этим… Через три часа я буду на родине — что-то узнаю я?
19 февраля, Публ[ичная] Библ[иотека].
Третий день, третий день… Прямо с вокзала попала я в разгар истории. — Произошло что-то непонятное, тот гипноз толпы, вследствие которого все, потеряв голову, идут… куда и сами не знают. Два дня назад, когда было самое острое столкновение между двумя партиями, — казалось, целый ад был у меня в груди: нет, я не пойду за ними! никогда! Мне дорого существование В[ысших] Ж[енских] К[урсов], я не желаю рисковать судьбою единственного в настоящее время женского университета в России, а они, — чего хотят они?! — Закрытия курсов — ради того, чтобы этим примкнуть к студентам! — Да ведь университета не закрыть, а курсы с радостью закроют, у них так много врагов. И вот мы, небольшая партия человек в 50, дружно отстаивали дорогое нам учреждение, стояли за идею против сотенной толпы под градом насмешек, свиста и шума обструкции; среди этой массы были все, кто более или менее близок, все мои знакомые. Ах, как больно было сознавать всю бездну их недомыслия, с каким отчаянием сжималось сердце при мысли, что из-за этой толпы может погибнуть наше учреждение, а если уцелеет, — то не откроются другие, подобные…
Я пишу и волнуюсь… Нужно быть спокойным и беспристрастным во всём. У меня холодный анализ всегда является вслед за вспышкою увлечения. Обдумаем же теперь все происшедшее вполне хладнокровно…
20 февраля, утром.
Курсы, как и все высшие учебные заведения, закрыты. Когда я пришла туда — меня поразила необыкновенная тишина, лишь небольшая толпа курсисток бродила по коридору.
Теперь смутно на душе, и точно какой-то камень лежит на сердце…
Курсы закрыты; в каком же положении наша маленькая партия? Морально мы все на стороне студентов, только не сочувствуем форме, избранной для выражения протеста… Ну, и что же вышло? Дело только что началось, а впереди уже полная неизвестность.
Вчера я была у Е. Н. Щ-ной, и она встретила меня словами: “А мы, старые курсистки, собрались ехать к вам, чтобы сказать — прекрасно делаете!” Мне больно было ответить ей, что я принадлежу к меньшинству. — “Напрасно, — сказала она. — Мы переживаем в данную минуту исторический момент. Теперь доказывается полная непригодность многого, что мешает свободно работать… Курсы параллельны университету, и вам иначе поступить нельзя”.
Всё то раздвоение, и без того мучительное, которое я переживала в эти дни, поднялось с новою силою. Я почти не слушала Е. Н. и хотела в эту минуту только одного: остаться наедине с собою, со своею совестью. Но, к сожалению, нельзя было: пришлось рассказать Е. Н. обо всём, что у нас делалось. Со свойственной ей резкостью и лаконичностью она тотчас же выразила своё мнение о положении нашей партии. Она до того не понимает души человеческой, что всегда выражает своё мнение, не думая, что иногда это излишне. Так и теперь: мне пришлось выслушать, что мы в невыгодном положении, что самое лучшее — единение и т. п. Как будто я и без неё этого не знаю! Я возразила ей, ради чего мы стоим против большинства. — “Если вы опасаетесь, что будет затруднено открытие курсов в провинции — я вам скажу на это, что подобное опасение — не выдерживает критики. Курсы и без того в провинции не скоро откроются”. Потом она рассказывала мне, как благоприятно относятся к нам в обществе, всякие сочувственные отзывы, циркулирующие в столице…
Я поспешила уйти, и всю длинную дорогу от Щ-ной я думала о положении нашей партии. На душе было страшно тяжело. Вспоминая читанный бюллетень о событиях и обдумывая вновь всё происшедшее, — я начала колебаться. Выходило так: сочувствуя морально студентам и не примыкая к общему движению из осторожности, из боязни повредить делу высшего женского образования, мы как бы останавливаемся на компромиссе, и положение становилось тем более тяжёлым нравственно, чем сильнее была та партия. Рассматривая же свою осторожность с точки зрения вредных последствия для наших, собственно, курсов, я приходила к заключению, что опасаться не имеем основания, так как ничего политического в нашем движении нет, и всё сочувствие общества будет на нашей стороне, — да и курсы теперь настолько развились, что закрытие их в данный момент представляется маловероятным; с другой точки зрения, — препятствий для открытия курсов в провинции, — самая возможность открытия таких курсов пока ещё маловероятна. А следовательно, выходило, что наша осторожность из-за проблематического пункта — являлась уже излишней и ставила нашу небольшую группу положительно в ложное положение перед нашими же товарищами.
Выходом является одно: присоединение к большинству. Я почувствовала, как большая тяжесть отлегла от сердца при таком решении. <…>
8 марта.
<…> Теперь все студенты возвращены. У нас была сходка по поводу выражения благодарности профессорам Бекетову и Фаминцыну {Николай Николаевич Бекетов (1827—1911) — основатель русской школы физико-химиков, академик; Андрей Сергеевич Фаминцын (1835—1918) — физиолог растений, академик. Ходатайствовали перед Николаем II о прощении исключённых из учебных заведений участников студенческой забастовки.}. <…>
13 марта.
Пришла на занятия по Островскому у И. А. Шляпкина. Прежде всего, он сообщил нам по секрету, что один из сыновей Пушкина {А. А. Пушкин.} представил директору Лицея дневник его 1832—1835 г.г.; тетрадь большая, вроде конторской, всего написано около 55 страниц. Так как дневник написан очень откровенно и содержит в себе резкие отзывы о многих придворных лицах, потомки которых живы, — печатание его теперь невозможно {Записи в этом дневнике А.С. Пушкина относятся к 1833—1835 гг. Некоторые из них были опубликованы в Собр. соч. Пушкина 1855 г., затем дневник печатался фрагментарно с 1880 по 1911 г., когда он вышел практически полностью.}, и сын передал его на короткое время в Лицей под секретом. И. А. хорошо читает руку Пушкина, и, основательно познакомившись с дневником, благодаря своей превосходной памяти, запомнил наизусть несколько отрывков и прочёл нам их, а мы записали. Здесь могу привести только некоторые…
Какой-то Деларю {Михаил Данилович Деларю (1811—1868) — поэт.} взял и перевел стихи, в которых встречается такое выражение: “если бы я был Богом, я отдал бы рай за её поцелуй”. Митрополит Филарет, у которого всегда находилось время заниматься чтением литературных произведений, донёс в Синод о богохульстве; Крылов узнал об этом и сказал:
“Когда бы я был Бог,
Такой бы глупости
Сказать бы я не мог” {*}.
{* В основе пересказа, приведенного Е. Дьяконовой, лежит следующая запись из дневника Пушкина от 22 декабря 1834 г: “Ценсор Никитенко на обвахте под арестом и вот по какому случаю: Деларю напечатал в Библиотеке Смирдина перевод оды В. Юго, в которой находится следующая глубокая мысль: Если де я был бы Богом, то я бы отдал свой рай и своих ангелов за поцелуй Милены или Хлои. Митрополит (которому даётся читать наши бредни) жаловался Государю, прося защитить Православие от нападений Деларю и Смирдина — Отселе буря. Крылов сказал очень хорошо:
Мой друг! когда бы был ты Бог
То глупости такой сказать бы ты не мог”.}
После торжественного празднования совершеннолетия наследника (Александра Николаевича) на другой день на параде поэт проскакал галопом мимо государя и тот его отправил на “обвахту” (по выражению Пушкина). {О праздновании совершеннолетия наследника говорится в пушкинской записи от 25 апреля 1834 г.; эпизод же, на котором основывается неточный пересказ Е. Дьяконовой, помещён в дневнике Пушкина под 12 мая того же года: “Вчера был парад, который как-то не удался. Государь посадил наследника на дворцовую обвахту за то, что он проскакал галопом вместо рыси”.
Взгляды Пушкина на русское дворянство сходны с взглядом Карамзина. Та же тенденция о старых русских родах, — исключающая придворную знать, большею частью “случайного происхождения”. В этом смысле, замечания дневника являются сходными с “Моей родословной”. Вообще в дневнике масса любопытных замечаний; некоторые из них, по цинизму, — профессор отказался сообщить нам.
После этого сообщения начались занятия. Я-ко читал избранные отрывки об Островском по воспоминаниям Максимова {Сергей Васильевич Максимов (1831—1901), писатель, этнограф.}, а пред этим И. А. [Шляпкин] прочёл несколько анекдотов писателя по воспоминаниям Нильского {Нильский Александр Александрович — артист Александрийского театра (настоящая фамилия — Нилус, 1841—1899). “Воспоминания” Нильского напечатаны в нескольких номерах “Исторического Вестника” за 1893—94 и 1899 годы.}.
Я слушала равнодушно… В голове упорно бродит мысль о своём сословии, о том, как мало знают его в обществе и в литературе… ушёл Островский и… точно всё затихло… Кстати, И. А. повёл разговор на эту тему. — “Г-да, положим, что вы вращаетесь постоянно в среде интеллигенции, а ведь не забывайте, что есть масса людей, которые и понятия не имеют ни о Пушкине, ни о значении этого празднества, разговоры о котором нам надоели”… Я не выдержала. — “Не все вышли из интеллигентного круга, И. А.” — “Да, да, я знаю, есть среди вас и из других слоев, но всётаки вас немного”.
Сколько тяжелых впечатлений и воспоминаний поднялось в душе при этом напоминании. До сих пор и, вероятно, всю жизнь я буду связана с этою средой, где столько тяжелого, столько тёмного…
Я нахожу, что этим классом литература совсем не занимается. Боборыкин {Петр Дмитриевич Боборыкин (1836—1921), прозаик.} описывает только тот слои московского купечества, где… его принимают: а сколько там таких, откуда его просто выпроводили бы; это именно “настоящие старинные” купеческие дома. И точно нарочно, под впечатлением воспоминаний и чтения об Островском, в голове мелькала мысль о драме, где выведены были бы все эти, так хорошо знакомые лица, вся эта борьба моя с предрассудками среды, смерть дяди {И. П. Оловянишников умер в 1898 г.}, роман Тани… Скомбинировать все это я не могла, но отдельные сцены так и вертелись в голове… Надо было делать усилие, чтобы прогнать эти мысли и заставить себя слушать… вот вздор-то! говорила я себе… Но образы, знакомые лица проходили как живые, точно дразнили меня, говоря: “а мы здесь, а мы здесь”… <…>
25 марта.
<…> Я снялась у Мрозовской {В фотоателье Елены Мрозовской, первой в России женщины-фотографа.} с распущенными волосами, не то мадонной, не то кающейся грешницей — с виду, но, в сущности, это и есть мой первый, вполне удачный портрет. Он выражает мою духовную сущность, моё “я”… Так как никто из моих знакомых хорошо меня не знает или не понимает, то поэтому все и удивляются этой карточке… <…>
10 апреля.
Уже четвертый день у меня болит нога, и вот до сих пор я вожусь с ней. Опять повторяется та же история, что и в прошлом году. Теперь лежу в интернате, надеясь хоть этим как-нибудь не дать расшириться ранке. Посылают на Кавказ, на серные ванны в Пятигорск. Ах, как я не люблю эти курорты! Неужели же мне придётся изведать их прелесть? — никогда не думала.
12 апреля. Сегодня я всётаки встала и поехала в редакцию “Русского Богатства” — раньше никак не могла застать Короленко. Он по-прежнему любезно меня принял {В записи от 8 марта 1899 г. Е. Дьяконова говорит о первом посещении редакции журнала “Русское Богатство”, возглавлявшегося в 1895—1918 гг. Владимиром Галактионовичем Короленко (1853—1921). Она передала ему тогда свои рассказы “Отчего?” и “Выстрел” и попросила писателя, чтобы тот с полной определенностью сказал ей, стоит ли продолжать беллетристические попытки.}, но относительно моей просьбы сказал, что затрудняется её исполнить: “Не могу сейчас ничего вам сказать… всего вернее это вы сами узнаете по нескольким удачам, или неудачам”. И посоветовал мне направить один из рассказов в “Журнал для всех”, сказав, что в таком журнале, как “Р. Б.”, он не пригоден, вследствие своего малого объёма. И даже предложил сам передать рассказ, на что я охотно согласилась, так как прихожу в ужас при мысли о беготне по редакциям. Короленко сказал, что по мысли — оба рассказа хороши и написаны вполне литературно. Но, очевидно, он отозвался так потому, что не хотел огорчить меня. А мне, по правде сказать, хотелось, главным образом, одного: чтобы он сказал мне — “бросьте”, и прибавил бы несколько таких пояснительных фраз, при одном воспоминании о которых перо выпадало бы у меня из рук, а с ним вместе пропадала бы и охота писать. Должно быть, я такая уж несчастная, что даже в этой просьбе — и то неудача. {Рассказ “Отчего?”, подписанный псевдонимом Е. Нерехтская, впоследствии был напечатан в “Журнале для всех” (1900, июль).}
18 апреля.
Терпеливо лежу… Хорошо, что не дома провожу эти дни Пасхи.
Вчера я заснула в 11 часов… Старые воспоминания — о былых встречах этого праздника, о той торжественности и таинственности, которою окружена была заутреня для меня в детстве, о том умилении и восторге, которые охватывали душу в эти минуты — не встают передо мною, так как я тщательно избегаю их. Оттого ли, что мне от этого больно? — Нет: оттого, что я узнала своё заблуждение, поняла всю неизмеримую пропасть между этой теорией и своей жизнью, и как честный человек порвала связь с прошлым, перейдя Рубикон…
В голове у меня вертится план иронического письма, вроде “Lettres Persanes” Montesquieu. Пусть, например, читает Узбек-Реди о нашем праздновании Пасхи {В сатирическом романе Монтескье “Персидские письма” (1721) попавшие в Европу персы Узбек и Реди обмениваются критическими наблюдениями странных для них местных обычаев.}… <…>
Пятигорск, … июня.
Глубокоуважаемый Лев Николаевич {Черновик письма к Л. Толстому. Было ли оно отослано, неизвестно.}.
Судьба устроила так, что пришлось ехать к голодающим {С 9 по 26 мая 1899 г. Е. Дьяконова находилась в Казанской губернии, принимая участие в мероприятиях по оказанию помощи голодающему населению.} с одною из курсисток, которая знакома с Вами — Ждановой. Вы близки сердцу всякого мало-мальски думающего человека не столько как писатель-художник, сколько как человек, писатель-моралист, затрагивающей идеи, вечно близкие человеческому сердцу. Когда я, впервые в жизни, услыхала передачу Ваших слов не из книги, а в живой речи — переживала странное впечатление: мне казалось, что Вы ещё ближе подошли ко мне, подошли как человек с такими душевными качествами, перед которыми исчезли та застенчивость, тот страх перед неизвестностью приема, которые охватывали душу всякий раз, как на ум приходила мысль о личном свидании с Вами, или о письме к Вам. <…>
Обращаюсь к Вам с просьбой, не можете ли Вы оказать содействие сбору на устройство хотя бы одной хорошей школы в татарской деревне Малые Нырсы? И в Бол[ьших] Мер[етяках], и в Мал[ых] Ныр[сах] школы есть, надо только устроить их, получше обставить, перевести в собственное хорошее здание, завести библиотеки, фонари для чтений {Очевидно, так называемые “волшебные фонари”, проекторы, позволявшие демонстрировать текстовые и иллюстративные материалы.}, а если можно будет — то и ремесленные классы. Я, конечно, не надеюсь, чтобы можно было собрать деньги на две школы, но хоть в первой деревне необходимо поднять школу и её значение в глазах местного населения.
Если же для Вас это окажется неудобным, то не можете ли Вы посоветовать мне, как вести дело, обратиться ли еще к кому-нибудь, или же напечатать письмо в газетах с просьбою о пожертвованиях? <…> Знаю, как Вы заняты, но всётаки прошу ответа. Не о себе лично пишу я Вам, а о них, которые принадлежат к числу тех несчастных, тёмных, униженных, о которых Вы же сами всегда заботитесь. Какое ужасное это сознание — чувство собственного бессилия, — особенно когда оно охватываю среди работы… Руки опускались невольно, и думалось: ну, сейчас — помогаем, а потом?! уедем, — цинготные выздоровеют и… останутся теми же азиатами, среди такого же мрака невежества, дикости, до нового голодного года?!
Поймите это сознание, Вы, знаток души человеческой, и ответьте.
В настоящее время я нахожусь на Кавказе {В санатории, в связи с обострением болезни ног.}, где должна пробыть около двух месяцев, из них до 10 июля в Пятигорске, и потом в Кисловодске; оттуда же поеду в Петербург. Поэтому адрес мой таков: Пятигорск, Терской области. До востребования. Елиз. Ал. Дьяконовой.
Всей душой уважающая Вас
Елизавета Дьяконова, сл[ушательница] СПБ. В. Ж. К.
15 августа, Петербург.
Сегодня мне исполнилось 25 лет. Страшно написать эти слова… сколько в эти годы можно было бы сделать, если бы я была рождена свободным человеком! если б я давно могла кончить курсы и вступить в жизнь! <…> А теперь через месяц, 15 сентября, я окончу курсы и… с пристани должна буду отправиться в плавание по волнам моря житейского. Общественная жизнь нашего времени уже требует образованных деятелей; частной инициативе — в деле образования, народного и среднего, дана известная возможность действия. Я знаю, что здесь я могла бы принести пользу, — и не какую-нибудь, а настоящую, солидную пользу. С мыслью стать народной учительницей поступила я на курсы, — согласно с нею была и моя научная подготовка и избранный мною факультет. Но… четыре года назад, накануне этого самого дня, за всенощной в Ярославском соборе, в тёмном углу стояла пламенно молящаяся девушка; через 4 года, сегодня — за столом сидит она… и только внешность осталась прежняя, — я бы хотела, чтобы кто-нибудь мне указал, — что в лице осталось прежнее.
Недаром один родственник называл меня Татьяной; да, я стала ею {По аналогии с переменой, случившейся с героиней пушкинского романа в стихах: “Ужель та самая Татьяна…” (“Евгений Онегин”, глава восьмая, XX).} невольно в области мысли; вместо кающейся грешницы — холодный скептик с усмешкой говорит “que sais—je?” {Что я могу об этом знать? (франц.)}, взамен прежней полуосознанной веры скептицизм и холодный анализ; жаркую молитву заменили тяжёлые раздумья…
Я пришла к убеждению, от которого уже невозможно отказаться, раз оно ясно сознано и подтверждается самою жизнью, что причина долгого и упорного существования религии, причина существования веры вообще — смерть.
Мы можем познать всё земное, открыть все тайны земли и неба, и никогда не можем познать тайны собственного существования. Наука бессильна пред лицом смерти; смерть — вот граница знания, и начало веры: мы знаем всё до её предела, мы не знаем ничего за этим пределом. И, так как он для каждого из нас неизбежен, то невольно в душе индивида встает вопрос: а что же потом? И вот, в разные времена в разных местах земного шара — возникали разные учения, удовлетворяя массы, которые жили, веруя слепо, но твёрдо, потому что иначе они не могли бы жить, а жить было надо в силу жизненного инстинкта. Отчего в наше время так часты самоубийства? Оттого, что интеллигентный человек, — не веря — ясно видит невозможность решения загадки, и если он не особенно ценит жизнь, если он не одушевлён никакою идеей, — тогда его ничто не удерживает от смерти. <…>
Все попытки научных доказательств бытия Божия — бессильны, потому что иначе — человек был бы лишён свободного выбора, его воля была бы несвободна в признании Бога. Христианство же одним из первых своих постулатов ставит — свободный выбор человеческой личности между верою и неверием. Поэтому напрасны все теоретические споры. Они противоречат коренной основе веры. Какая была бы свобода воли, если б могли нам доказать бытие Божие? Если мне дадут неопровержимое доказательство бытия Бога, то я, даже против воли, вынуждена буду признать его существование, я буду знать, что он есть, и подобно тому, как будет нелепостью сказать: я научно знаю, что 2 х 2 = 4, но не верю, что оно — 4, так и в этом вопросе неверие было бы окончательно устранено, если бы было знание. Но знать нам невозможно, и остаётся свободный выбор воли. И доказательство истинности христианской религии не должно вовсе состоять в теоретических отвлечённых спорах. Нет, её превосходство и действующую в ней божественную благодать, — скорее можно было стараться доказывать в социальных формах, — в сфере общественной жизни, в содержании человека, в его духовном облике. Вот, о соч. Неплюева “Что есть истина?”, проф. Шляпкин отозвался: — “всё он говорит о вере, но не указывает, каким путём приобретается эта вера?”. По-моему, и не надо, да и нельзя доказать: веру свою всяк приобретает в большинстве случаев не из теоретических споров, а сам по себе; но истинность-то её доказывается самою жизнью, её деятельностью, её плодами. <…>
18 августа.
Сегодня узнала, что не будут разрешены экзамены ни одной из тех 140, которые нынче весною добровольно ушли с курсов и теперь возвращаются с прошениями. Мера довольно строгая, но — говоря откровенно — заслуженная. Члены этой партии просто осрамили её глупыми детскими выходками: из них уходили без возврата очень немногие, чуть ли не 20 человек только, остальные же, подавая бумаги, спрашивали <…>: “А когда нам можно будет вернуться?” Если бы эти умницы были вполне солидарны с партией исключенных, как они заявляют, то не должны были бы подавать прошения ранее, нежели их товарки будут возвращены. <…>
Сегодня же узнала ошеломляющее известие: Кареев и Гревс ушли с курсов и из университета. Они в числе тех профессоров и приват-доцентов, которые “уволены” заодно, так сказать, со студентами после второй забастовки.
В Карееве мы теряем “имя”, в Гревсе — человека. <…>
29 августа.
Завтра свадьба Тани с Д-сом {Венчание Ю. Балтрушайтиса и М. Оловянишниковой прошло тайно, но Е. Дьяконова была в их обстоятельства посвящена.}… Соединение двух родственных душ, двух туманных мистиков, двух больных детей нашего болезненного времени, полного всяких аномалий. Будет ли она с ним счастлива, как думает? Ах, отчего так мало на свете сильных духом, отчего так мало героев, отчего так мало борцов за идеи?! Отчего?!
Из всего курса римской литературы я прихожу в восторг только от поэмы Лукреция “De natura rerum” {Поэма Тита Лукреция Кара (I в. до н. э.) “De rerum natura” (“О природе вещей”), проповедующая философские идеи Эпикура, утверждала независимость происходящих в мире событий от воли богов, смертность материальной души и достоинство человека, противостоящего враждебной природе.}. Это гениальное произведение! Какая мощь мысли, какое величие и истинная скорбь разлита в нём! Если б я застрелилась, то не иначе, как с этою книгою в руках… {Возможно, намёк на “Страдания юного Вертера”. Герой романа Гёте читает перед самоубийством трагедию Лессинга “Эмилия Галотти”.} <…>
Мрачное и глубокое познание, познание природы, отрицающее всякие религиозные прикрытия, — человек смело подошёл к завесе, отдернул её, — всё увидел, познал и… не нашёл в этом ни радости, ни счастья, прежняя вера разлетелась как дым, но и лицом к лицу с познанием — человек не удовлетворился…
До чего всё старо в мире! То, отчего стреляются теперь — сказано уже тысячелетием раньше…
Мне скучно, бес. (Фауст) {*}
{* Первая реплика пушкинской “Сцены из Фауста”.}
29 августа. {Дата этой записи повторяет предыдущую.}
Все антиномии Канта сразу выскочили из головы, при известии об осуждении Дрейфуса {Альфред Дрейфус (1859—1935), капитан французской армии, еврей. В 1894 был несправедливо обвинен в шпионаже и осуждён на пожизненную каторгу. Под давлением общественности в 1899 году был помилован, а в 1906-м — полностью реабилитирован.}.
Что теперь?! Совершилась величайшая историческая несправедливость! Позорное обвинение остается в силе… да падёт на голову этих подлецов-судей вся кара земли и неба! Право, — после этого, если и стоит жить, то разве лишь для того, чтобы бороться во имя торжества правосудия. И что за дело обвинённому, если его приговорили к 10 годам заключения, вместо пожизненного?! <…>
Ничем иным не может быть мотивировано это осуждение, как только боязнью судей-офицеров — оправданием Дрейфуса — осудить своих генералов, “честь армии”. <…>
“Новости” {Имеется в виду издание “Новости и Биржевая газета”.} или лекции? Там стенографический отчет, а тут — субстанции, категории… Право, я не в состоянии буду сдать экзамен, до того меня взволновало это событие, хотя из предыдущего No уже можно было предвидеть исход. И, точно нарочно, до экзамена остается один день, а у меня повторен всего 21 билет из 59, причем труднейший отдел остается за флагом — весь Кант…
Вот 2 месяца, изо дня в день, с напряжённым вниманием читаешь газеты… Неужели же правосудие остается побеждённым, неужели на пороге XX столетия история Франции будет заклеймлена преступлением? Справедливость! — вот моя религия, — религия справедливости! С самых ранних лет первое, что стало выделяться в моём сознании, — была справедливость; во имя её я отстаивала и боролась за своё человеческое право образования <…>.
15 сентября.
<…> Нет, не суждена мне дружба ни в родственном кругу, ни в товарищеском… Несчастная странница — одинокая душа — чего же ты ищешь?!
И невольно приходит в голову сюжет для повести или рассказа… Содержанием книжки служило бы всё пережитое за эти годы: знакомство с миром науки, потом — искание чего-то, неудовлетворённость, потеря веры, знакомство с Неплюевским братством, описание этого уголка, где жизнь построена на идеальных основах, наконец, — ясное сознание невозможности какой бы то ни было веры, двойственное сознание — привязанности к этим людям идеи, и невозможность вполне слиться с ними — приводящая к самоубийству над книгою Лукреция “De natura rerum”. Это было бы в своем роде “Годы странствования”, но не Вильгельма Мейстера {“Годы странствий Вильгельма Мейстера” — роман И. В. Гёте.}, а никому не ведомой курсистки.
Мне страшно сделалось, когда я увидела, какую волю дала я своей фантазии. Ещё рассказ небольшой написать — позволительно, — но, чтобы потратить столько времени даром, чтобы написать нечто большее, нежели рассказец — это уж никогда! никогда! И всего досаднее, что разыгравшаяся фантазия отрывала от занятий, от философии и уносила далеко-далеко, действительно — “в мир идей”.
Если бы “вечное блаженство”, о котором так твердят все религии, состояло в творчестве — о, тогда я понимаю его! Это воистину блаженство, и человек, обладающей этим блаженным даром, — блажен уже и в этой жизни.
Если б я могла написать всё, что приходит в голову? Да беда в том, что всё только и ограничивается игрою фантазии, а с пером в руках выходит сущий нуль. Это значит, что я ни к чему не пригодна.
18 сентября, 10 ч. веч.
Я окончила курсы. <…>
Теперь мы на пороге жизни… среди полного разгрома вступаем в неё. Точно молния ударила и разбила наш курс, и вот — кто куда… <…>
А сколько вышло замуж нынче весною! На экзамене латинского языка я просто считала кольца обручальные. Нынешнее студенческое движение много способствовало сближению учащихся и повело к бракам. Правительство должно приветствовать такие результаты движения: оно повело к усилению семейного начала. <…>
Сегодня И. А. Шляпкин сообщил мне, что из нашего коллективного перевода небольшой книжки “Скандинавская литература и ее современные тенденции”, Марии Герцфельд {Вышла в свет в 1899 г.}, цензура не пропускает 8 страниц, а их-то всего с небольшим сто, или даже меньше. Ужасно досадно стало. Воспользовавшись случаем, я спросила И. А., когда можно будет приехать к нему проститься — и голос мой вдруг задрожал… Я едва могла выслушать его приглашение к себе в имение и поспешила отойти к вешалкам, чтобы скрыть слёзы, невольно выступившие на глаза.
Придя домой, я заперлась и заплакала. О чём? — Право, трудно сказать. Экзамены как-то заслоняли разлуку с курсами, и, когда я сама сказала слово “проститься”, — вдруг поняла, что ведь я уже расстаюсь с курсами, с студенческою жизнью, с первым светлым лучом, озарившим мою тяжёлую жизнь… И я плакала без стыда, так как не стыдно оплакивать то, что хорошо, и что проходит… Да, странна психология человека: пока я не сказала этого слова — точно завеса какая-то скрывала от меня близкое будущее… и вот, при слове “проститься” — я как бы отодвинула её, и вдруг увидела, что предстоит…
Из профессоров ближе всех знала я только И. А. Друзей среди товарищей — у меня не было, но, тем не менее, вряд ли кто-нибудь более меня привязан к курсам. <…>
28 сентября.
Надо спешить приведением в исполнение планов, над которыми я давно думала…
Сперва я решила поехать в деревню, заниматься физическим трудом, изучать народную жизнь, заниматься с крестьянскими ребятами, отдохнуть — и так жить до весны, а потом уехать заграницу. Приведение в исполнение этого плана затрудняется только тем, что у меня нет ни одного знакомого помещика, не к кому ехать в имение, а забраться в глухую деревню и жить по-крестьянски, да ещё учить детей без надлежащих “разрешений” — это значит наверняка подвергнуть себя надзору бдительной ярославской полиции.
Другой план — делать попытки проникнуть на поприще юридическое. Подать прошение на Высочайшее имя Государыне Александре Феодоровне о разрешении сдавать экзамены параллельно со студентами-юристами. — Этот план, разумеется, не столько практический, сколько теоретический: мне не разрешат никогда быть адвокатом, но к небольшому ряду женщин, добивавшихся этого права, — пусть прибавится ещё одно имя. <…>
Или: ехать за границу теперь же, на осенний семестр, запасшись, конечно, рекомендательными письмами профессоров. Затруднение только одно — денежное, так как я ничего не хочу просить у матери. <…>
Я всегда говорила, что для меня по окончании курса не так будет важен вопрос “что делать”, а “как делать”, так как я уже при поступлении решила быть народной учительницей. Теперь же оказывается не то: мои воззрения на религию делают для меня невозможным не только поступление на казённое место, но и открытие собственной школы в селе, где так близко приходится сталкиваться с “батюшкой”, и чуть ли не быть под его надзором!
Вот и ещё план: открыть частную гимназию в Ярославле, с солидною программою и с педагогическим персоналом исключительно из курсисток. Такая гимназия необходима, так как у нас всюду раздаются жалобы на недостаток вакансий в обеих гимназиях, конкурс с каждым годом увеличивается. Дело только в деньгах… А было бы хорошо, очень хорошо.
Словом, я, в конце концов, очутилась в затруднительном положении. <…>
12 ноября.
Вчера вечером скончался М. Н. Капустин. Я была сегодня на панихиде… Лицо покойного нисколько не изменилось. Вот он лежит спокойный, неподвижный, — и та рука, которая подписала разрешение на моём прошении о поступлении на курсы, — уже не шевельнётся более. С каким-то невыразимо-глубоким чувством смотрела я на лицо умершего; мне вспоминалось близкое прошлое, всего за четыре года назад, вспомнился мой разговор с ним, — и всё тяжёлое время перед поступлением на курсы. Чувство благодарности живо в моей душе, хотя и сознаю, что Капустин, в сущности, обязан был принять меня на курсы, и он сделал только то, что должен был сделать; но его два письма к матери, его старания добиться её согласия — всё это глубоко тронуло меня, и я никогда в жизни не забуду светлый, благородный образ действия Капустина. <…>
Он умер; но что ж? Ведь моё благодарное чувство к нему умрёт со мною. Это своего рода молитва… Поклонясь гробу, — я перекрестилась… зачем? <…>
Часть 3
Дневник русской женщины
Не верят в мире многие любви
И тем счастливы; для иных она
Желанье, порождённое в крови,
Расстройство мозга иль виденье сна.
Я не могу любовь определить,
Но эта страсть сильнейшая! — любить
Необходимость мне, и я любил
Всем напряжением душевных сил.
… … … … … … … .
Так лишь в разбитом сердце может страсть
Иметь неограниченную власть…
Лермонтов
{Из стихотворения “1831-го июня 11 дня”.}
… les pensees humaines sont conduites non par la
force de la raison, mais par la violence du sentiment.
Anatole France
{…человеческие мысли управляются не столько силой разума, сколько мощью чувства.
Анатоль Франс. (франц.).}
1900 год
Париж, 1 декабря 1900 г.
Я дошла до такого состояния, что уже не сплю большую часть ночи, вся вздрагиваю при каждом шорохе, засыпаю только под утро…
Холодно… Сквозь окна едва пробивается тусклый свет серого дня… Грязные обои, маленький столик вдоль стены, кровать, занавеска для платьев, небольшая печка в углу, стул, умывальник — вся эта обстановка на пространстве трех аршин в квадрате — вот моя комнатка — cabinet, — как по-здешнему называют… Света мало, воздуха тоже, зато самая дешёвая во всём нашем маленьком пансионе… <…>
Я совершенно здорова и в то же время непригодна ни к чему… хуже всякой больной. Делаю всё как-то машинально… И бумаги переписывала и прошение подавала о приеме на юридический факультет… А выйдет ли толк какой-нибудь из этого, раз я не в состоянии работать?
6 декабря.
Кажется, опять начинается со мной старая история. Опять это ужасное состояние. Оно подкрадывается так тихо, так незаметно, как ядовитая змия… А я уже чувствую её жало.
Точно обруч какой сжимает голову, сначала слегка, потом сильнее и сильнее… Ничего не хочется делать, читать, работать — сил нет, умственных сил… Эта проклятая головная боль уничтожает их. И от сознания своего бессилия, своей неспособности к работе — отчаяние, ужас. Душа вся болит, в ней нет живого места, и тоска безграничная, отчаяние страшное охватывает её…
Чего-чего я ни делала, чтобы вылечиться! Ко скольким знаменитостям обращалась в Петербурге!.. Нам, учащимся, это ничего не стоило. Придёшь — знаменитость слегка выслушает, потом промычит: “мм… отдохните…”, сунет рецепт, с достоинством отклонит деньги!.. Я заказывала лекарства, ездила на отдых, на морские купанья; пока лечишься — как будто бы и ничего… новые места, впечатления — развлекают… Но потом — опять, опять то же. То слабее, то сильнее, — смотря по обстоятельствам.
Когда кончила курсы, думала — год отдохну, брошу книги, занятия — авось оправлюсь. Пока перемена места и впечатлений — мне легче. Возвращаешься к старым местам, к старым воспоминаниям и делам семейным — опять хуже… Но ведь нельзя же всю жизнь путешествовать?! Особенно больно и плохо делается мне, когда вспоминаю о сестре, — уже тогда поистине. Можно сказать: вы, воспоминанья, — не мучьте меня!
Они меня именно мучат… <…>
До чего тяжело, до чего тяжело всё это!
8 декабря.
Сегодня получила письмо от Вали.
По обыкновению, грустное, точно придавленное чем-то. С каждой строчкой — так и кажется — смотрят её печальные глубокие глаза, из-за писаных слов слышится её голос: “за что загубили меня?” Не переписываться с ней нельзя. Ей без того тяжело живётся.
А каждое её такое письмо — точно раскалённым железом проводит по незажившей ране. Я заслужила, заслужила эти страдания.
Я не так виновата, ведь я была так молода, я годом старше и не могла лучше её понять последствия. Мы одинаково росли, одинаково мало знали жизнь и людей. Нет, эти упреки совести слишком мало заслужены.
11 декабря.
Я совсем больна. Сегодня утром голова так закружилась, что чуть не упала.
Придётся, видно, обратиться к доктору…
Есть у меня здесь одна знакомая женщина-врач Бабишева, приехала сюда с дочерью. Добрейшая дама, курит папиросы и по-дворянски нерасчетливо тратит деньги. Уже заняла у меня 20 франков до первого числа. Дочь — студентка медицинского факультета, тонкое, хрупкое существо, вся поглощённая медициной. Она только что перевелась из Лиона на первый курс. Спрашивала её — к кому обратиться, — она ничего и никого ещё не знает; целыми днями сидит над книгами — к экзамену готовится. Мать её — специалистка по женским болезням — тоже ничего не знает. Дочь посоветовала отправиться в Ecole de Medecine {Медицинский факультет (франц.).}… Совсем измучилась.
12 декабря.
Пошла в эту Ecole de Medecine.. Спросила консьержа, — где консультация по нервным болезням?
Тот сказал: в Сальпетриер {Медицинский центр близ Парижа.}, от 9 [до] 11, спросить клинику д-ра Raimond’a. Я посмотрела на часы — было половина десятого. Можно было надеяться попасть на приём. <…>
Консьерж весьма обстоятельно указал мне омнибус. Я села на бульваре Сен-Жермен, и дорога до Сальпетриера показалась мне бесконечной. <…>
Вот она, эта знаменитая больница…<…>
— Где клиника доктора Raimond’a? — спросила я у служащих.
— Третий дом налево.
Это был маленький, чистенький одноэтажный домик с двумя дверями.
Я отворила наудачу одну из них, вошла… и… остолбенела.
Большая с низким потолком комната была переполнена студентами и студентками. Впереди возвышалась эстрада, а на ней, небрежно развалясь в кресле, сидел, очевидно, один из медицинских богов, окружённый своими жрецами-ассистентами.
Перед ним стоял стул, на нём сидела женщина в трауре и горько плакала; рядом с ней стоял мужчина средних лет, — очевидно, её муж.
— Ну-ну, опять слёзы, опять чёрные мысли? — презрительно-свысока ронял слова профессор, не глядя на больную {Многие реплики разговоров, а также письма, записки и т. п., написанные по-французски, даны Е. Дьяконовой в 3-й части её дневника либо в оригинале, либо с параллельным русским текстом. В нашем издании всё (за исключением некоторых названий и имён) дано в русском переводе.}.
Несчастная женщина молчала, опустив голову и тихо всхлипывая.
— С самой смерти сына всё так, — ответил за неё муж. И за свой почтительный ответ был удостоен:
— Ну-ну?!
Ещё вопрос, ещё ответ мужа, и опять снисходительное: “Ну-ну?”
Опрос больной, очевидно, кончился.
Её свели с эстрады по лесенке; профессор написал рецепт и протянул его мужу. По их уходе — он стал объяснять студентам болезнь, её симптомы и следствия. То, что он говорил, было, очевидно, умно, очевидно, хорошо, — но, по-моему, не хватало одного, и самого главного: сострадания к несчастному человеку, — и своим грубым обращением с больной ученый профессор подавал самый плохой пример своим ученикам.
Бледный, худенький мальчик в сопровождении родителей-рабочих робко взошёл на эстраду и растерянно озирался кругом.
— Ну-ну, — а тут что у нас? — снова раздался снисходительно-повелительный голос знаменитости, которая даже не шевельнулась при появлении больного.
Сердце болезненно замерло и остановилось…
Так неужели же и мне надо взойти на эту эстраду, вынести весь этот допрос перед сотнями любопытных глаз, мне — и без того измученной жизнью — перенести ещё всё это унижение своей личности, служить материалом для науки, да ещё с которым обращаются так презрительно??
И эстрада показалась мне эшафотом, а профессор — палачом.
Взойти на неё добровольно?!
Голова кружилась всё сильнее и сильнее…
— Мсье… что это…
Стоявший рядом со мной студент, усердно записывавший всё время лекции в тетради, обернулся с недовольным видом.
— Это демонстрация больных и лекция. Идите в приёмную и ждите своей очереди.
— А нельзя… иначе?..
— В клиниках всегда так делается.
Он вовсе не был расположен давать объяснения, профессор читал, и ему надо было записывать. Все стоявшие и сидевшие кругом тоже сосредоточенно записывали каждое слово.
Я вышла из залы, прошла немного вперед и отворила другую дверь.
Небольшая комната, вся заставленная скамейками, на которых сидели больные, ждавшие своей очереди.
Маленькая худенькая женщина в белом холщовом платье и кокетливой чёрной наколке с лентами подошла ко мне.
— Вы опоздали к приёму, номеров больше не выдают.
Из соседней маленькой комнатки выглянул молодой человек в белой блузе.
— Когда профессор принимает у себя на дому?
Молодой человек в белом исчез в комнатке; я слышала, как он спросил кого-то, потом вышел снова и посмотрел в записную книжку: “По средам и пятницам”.
— А как зовут этого профессора и как его адрес? — догадалась я спросить.
— Dejerine.
— Сколько платят ему за визит?
— От 40 до 50 франков.
— Благодарю, мсье.
Я опять была на дворе, среди этих огромных серых каменных зданий. Отчаяние, холодное, безграничное отчаяние охватило душу…
Что мне оставалось делать? Идти на приём и взойти на этот эшафот… Да ведь тут душа живого человека, всё горе, всё несчастье — служит материалом, вещью, с которой не церемонятся.
Нет, уж лучше пойду к нему на дом. А где взять 40 франков? Ведь этот господин не сказал, что с учащихся не берут… значит, здесь другие порядки, чем в Петербурге… должно быть, здесь бесплатно только в клиниках… Что же мне делать, что же мне делать?!
Как в тумане, не сознавая ясно, что происходит кругом, шла я домой.
На меня наезжали извозчики, звонила под самым ухом конка.
Я ничего не замечала, точно в первый раз попала на площадь Сен-Мишель.
— А, это вы, Дьяконова! Здравствуйте и прощайте, некогда, бегу!
Навстречу мне действительно не шла, а бежала Кореневская, единственная студентка-юристка второго курса на всем факультете. Я познакомилась с ней, когда ходила подавать прошение. Весёлая, бойкая, жизнерадостная особа, с типическим лицом поповны.
— Куда вы?
— Иду Жанну Шовэн смотреть, — сегодня присягает.
— Как?! неужели сегодня!
— В 12 часов… в газетах было… ну, до свиданья — бегу, меня знакомые ждут там — на мосту.
Это была самая животрепещущая для меня новость. С тех пор, как в Палате Депутатов прошёл закон, предоставляющий женщинам право заниматься адвокатурой, — я всё время жду — скоро ли будет присягать Жанна Шовэн, первая французская женщина-юрист, доктор прав парижского университета. И вдруг — она присягает сегодня! А я и не знала! И поэтому удержала Кореневскую.
— Постойте, погодите минуту, ведь народу будет наверно масса, есть у вас билет?
— Да, один знакомый адвокат проведёт.
— А можно попасть без билета?
— Попробуйте,— кажется — трудно.— Ну, до свиданья!
И Кореневская исчезла в толпе. Этакая эгоистка. Занимает у меня деньги постоянно, а чтобы оказать услугу просто, по-товарищески пригласить пойти с собой — этого нет.
Я вздохнула и посмотрела на часы. Было половина двенадцатого. В пансионе у нас завтрак — в двенадцать часов, хозяйка очень аккуратна и терпеть не может, когда опаздывают.
Но присяга Жанны Шовэн стоила завтрака {Е. Дьяконова шутливо перефразирует легендарное изречение Генриха IV “Париж стоит обедни”.}, к тому же и есть не хотелось…
Я решила пойти в Palais de Justice. {Дворец Правосудия (франц.).} Публика толпилась у дверей первой палаты, где назначена была присяга. Я с любопытством осматривалась кругом, когда вдруг чья-то рука ласково взяла мою. Сквозь толпу пробиралась ко мне румынка, Бильбеско, красивая блондинка с историко-филологического факультета — по-здешнему es—lettres.
Я познакомилась с ней на одной из лекций. Это милая, изящная девушка, почти девочка, всегда так ласково заговаривает со мной — видно, что не прочь познакомиться поближе, да кто-то мешает ей в этом, должно быть, родители. Но всякий раз, как только меня увидит, — всегда подходит, улыбается: <…>
— Так и вы пришли посмотреть на присягу Жанны Шовэн? Мы тоже. Позвольте представить вам мою старшую сестру, медичку последнего курса.
Высокая стройная красивая брюнетка, ласково улыбаясь, протянула мне руку.
И вся ещё под впечатлением виденного в больнице, я заговорила с ней о своём состоянии, о том, что не могу работать и проч.
Я смутно чувствовала, что с точки зрения светских приличий поступаю, может быть, не совсем тактично, рассказывая так, сразу о себе. Но какой-то инстинкт подсказывал мне: “говори, говори”.
— Будьте покойны. Я могу вам это устроить. Я дам вам письмо к одному студенту-медику. Он очень хороший врач, и мы с ним дружим. Моя сестра принесёт вам письмо на лекцию.
— С удовольствием. Приходите послезавтра на литературу Фагэ {Эмиль Фаге (1847—1916) — французский литературовед и историк общественной мысли, академик.}, амфитеатр Декарт, в половине второго, — сказала младшая Бильбеско. <…>
На душе стало немного легче. Неожиданное сочувствие точно успокоило меня.
А Жанна Шовэн всё не приходила.
Очевидно, присяга не должна была состояться сегодня. Публика стала расходиться.
Вышли и мы втроём. На улице простились. Сестрам Бильбеско надо было идти вправо, а мне — влево.
Ох, как устала писать!
И к чему пишу-то, интересно знать. Просто пробуждается старая привычка. К тому же так тяжело, так скверно на душе… не хочется ничего делать…
Ну, и пишешь, точно развлечение какое, благо бумага всё терпит.
14 декабря.
Сегодня пришла, как было условлено, в Сорбонну, к амфитеатру Декарта, в половине второго… нет Бильбеско. Она пришла только к самому началу лекции Фагэ и извинилась: сестра забыла дать письмо.
Я с трудом сдержала слово упрека. Зачем?
А мне ведь с каждым днем хуже.
17 декабря.
Вчера вечером вернулась с лекции. Прохожу коридором, на полочке для писем — два письма. Одно на моё имя от младшей Бильбеско, другое — не запечатанное — на имя monsieur Lencelet interne de medecine Hopital de la Salpetriere. Это и было обещанное рекомендательное письмо. Младшая Бильбеско сообщала мне, чтобы я шла туда к 9 часам утра.
Я нашла, что это очень деликатно со стороны медички — не запечатать письмо — значит можно прочесть. Впервые в жизни пришлось мне пользоваться рекомендацией к врачу. Что бы такое она могла написать? Интересно.
Мне вспомнился анекдот, как одна барыня, ехавшая на воды, догадалась вскрыть рекомендательное письмо, данное ей русской знаменитостью к заграничному собрату: “Посылаю тебе жирную гусыню,— ощипи её хорошенько”. Барыня благоразумно не поехала на воды.
А это письмо было не запечатано, нарочно, очевидно, чтобы я могла его прочесть.
И без всяких угрызений совести, я вынула письмо и прочла:
“Дорогой мсье, направляю к вам мадмуазель Дьяконову, страдающую головными болями, головокружениями etc.”
Да, etc!.. Вот как врачи определяют такое состояние! Коротко и ясно.
Далее шли какие-то сообщения о каких-то книгах. Это уже меня не касалось, и я, не дочитав, вложила письмо в конверт… По общему тону письма видно было, что это был хороший товарищ Бильбеско. Наконец-то! Пойду завтра.
18 декабря.
Постаралась встать как можно раньше, чтобы поспеть в Сальпетриер; это мне удаётся с трудом <…>
По обыкновению, остановила консьержа.
— Вы к кому?
— Мсье Ленселе.
— Прямо, третий корпус направо.
Такой же домик, как и в клинике доктора Raimond’a. Только одна дверь со стеклом, над ней надпись черными буквами “parloir” {Приемная (франц.).}.
Я отворила. В небольшой комнате сидела молодая женщина в холщовом платье, белом чепце, и что-то шила. “Должно быть, здесь сиделки носят такую форму”, — сообразила я и спросила:
— Мсье Ленселе?
— Его пока нет, мадмуазель. Может быть, он в клинике доктора Шарко? — И она указала мне на домик направо.
Эта клиника уже наполнялась народом: больные и студенты собирались. Рыжеволосая кокетливая сиделка, играя глазами, шмыгала из аудитории в комнату, где ждали очереди больные, и обратно. <…>
Очевидно, здесь было столько служащих, что трудно было добиться толку у кого бы то ни было. Я пошла в parloir сказать сиделке, что из клиники Шарко меня послали обратно. В это время высокий старик лет семидесяти, бедно, но чисто одетый, с гладко выбритым лицом, подошёл с визитной карточкой в руках.
— Мсье Ленселе?
— И вы к нему? Вот видите, барышня тоже ждёт. Он ещё не пришёл.
И заметив на моём лице явное нетерпение, — повторила:
— Сходите в клинику Шарко, быть может, он теперь там.
Я со стариком пошла туда. Опять тот же ответ… Такая прогулка из клиники Шарко в parloir и обратно надоела старику. Он устал ждать и ушёл. Я оставалась ещё с полчаса. Было половина одиннадцатого, столько потерянного времени, так устала, и всё напрасно! И эта румынка пишет, что он приходит к 9 часам утра! Как же! очевидно, и не думает являться ранее 11…
Неужели же ещё раз идти туда? А ведь надо… как же быть иначе?
И какое-то злобное горькое чувство шевелилось в душе. Нечто подобное должны переживать и бедняки, ожидающие очереди в приёмной богача, когда им вдруг говорят, что приёма сегодня не будет. Эх, жизнь, жизнь! И из-за чего же переносить такое унижение?
Всё из-за того, что нет сорока франков заплатить за визит на дом хорошему врачу, а идти к простому — не к профессору — не стоит.
Это такая упорная болезнь, я чувствую себя так плохо; разве только очень хороший врач может помочь мне…
20 декабря.
Вчера так голова болела, что пролежала целый день.
Сегодня уже не спешила; встала поздно, и в Сальпетриер пошла только к одиннадцати часам… Сиделка в parloir’e набросилась на меня с фамильярным упрёком: “А вы тогда только что ушли — и пришел мсье Ленселе. Вы столько ждали, — не хотели подождать ещё немного!”
Ещё немного! Да что же, эти люди воображают, что мы созданы для врачей, и если нам надо их видеть — так хоть умри, дожидаясь?
Но я благоразумно воздержалась высказать эти мысли вслух и спросила только:
— А теперь он здесь?
— Да, мадмуазель… о, вот он как раз идёт сюда.
Она показала на двух мужчин, выходивших на двор, из которых один был в белом, а другой — в чёрном пальто и шляпе.
Они прошли мимо ворот и куда-то исчезли.
Ну вот он и ушёл, и опять неудача — с отчаянием подумала я. <…>
В эту минуту двое мужчин опять показались на дворе.
— Видите, вон тот, в белом — это и есть мсье Ленселе, — тыкала она пальцем по направлению к нему. Мне стало смешно и неловко: эта женщина обращалась со мной уж чересчур по-детски. <…>
— Мсье, у меня письмо для вас, — робко сказала я, опустив голову и подавая ему письмо.
— Благодарю, мадмуазель, — серьёзно сказал он, принимая письмо.
Это показалось мне излишней вежливостью. К чему? Ведь он должен был мне оказать услугу, и уж никак не ему надо было благодарить меня. <…>
Он подошёл к дверям клиники Шарко, заглянул в аудитории. Там никого не было. Лекция кончилась, и только стулья, стоявшие в разных направлениях, напоминали о том, что всего несколько минут тому назад она была полна весёлой, деятельной учащейся молодежью.
— Войдите сюда, мадмуазель!
Большая комната, вся увешанная по стенам изображениями больных женщин в разных позах, с обнажёнными руками и плечами, с распущенными волосами, казалось, производила впечатление чего-то таинственного и страшного. Он указал мне стул около письменного стола и сел сам.
Я дрожала, не смея поднять глаз.
Обстановка комнаты давила меня.
— Откуда вы? Давно приехали в Париж? Чем занимаетесь? Давно вы больны?
На всё это я могла ответить, так как язык был обыкновенный разговорный. Но когда вопросы перешли на чисто медицинскую почву, — я понимала уже с трудом, о чём он спрашивает. Внимание напрягалось до последней степени, в виски стучало.
— Сколько часов в день вы занимаетесь? — спросил он, покончив с чисто медицинскими вопросами, на которые я отвечала отрицательно, так как у меня нет никаких болезней. Мне было страшно больно отвечать, что не могу совершенно заниматься умственным трудом. И одно мучительное опасение всегда приходило в голову — а что, если такое состояние является предвестником потери умственных способностей? Что, если я сойду с ума?
На такой вопрос — петербургские знаменитости, снисходительно улыбаясь, как глупости больного ребёнка, — всегда отвечали: “вот фантазия! да это у вас просто переутомление… отдохните недельки две-три в деревне — и всё пройдёт…” Но, если такое состояние делает из меня ни к чему непригодное существо… — та же мысль инстинктивно пришла в голову, и я высказала её вслух.
— Ну, за это вам вовсе нечего опасаться, — отвечал он тоном, не допускавшим никакого возражения. — Видите ли, жизнь в Париже слишком сложна, сюда надо приезжать уже вполне сложившимся человеком, лет 25-28.
— Но мне уже двадцать пять лет.
— Вам невозможно дать эти годы! — сказал он с самым искренним удивлением.
Мне было не до смеха, чтобы улыбнуться на это восклицание.
Однако это вечное людское недоумение становится, наконец, смешно. Я росла под общий говор сожалений о своей “старообразности”. И вдруг, начиная с 17 лет — точно застыла на этом возрасте, и теперь мне самое большее дают 21 год. <…>
— Очень может быть, мсье, почему бы и нет?
Я слишком горда, слишком привыкла скрывать от людей свое состояние, — даже разговор с врачом казался унижением. Наконец, он перестал спрашивать и замолчал, что-то соображая.
— В том состоянии, в каком вы находитесь теперь, вам лучше всего вернуться домой, в свою семью.
Эти слова точно ножом резанули по сердцу.
— О, моя семья! — вскрикнула я и… не помню ясно, что было дальше. Перед глазами всё завертелось, в ушах зазвенело, — и я зарыдала горько, отчаянно, неудержимо.
“Ну, не надо, не надо так терзаться!” — смутно, точно откуда-то из-за стены, слышала я — и не понимала.
Всё, что до этой минуты ещё поддерживало меня, вся гордость, вся сдержанность — рухнули, как карточный домик, от этих слов — таких простых, таких естественных, но и ужасных.
Зачем он сказал мне об этом, зачем напомнил? <…>
Когда, наконец, опомнилась и могла справиться с собой — я чувствовала себя совершенно разбитой. Мне даже не было стыдно, что вдруг позволила себе выказать такую слабость, плакала, как ребёнок, перед чужим человеком. Мне было как-то всё равно, хотя по привычке, годами воспитанной, я сказала не своим, а точно чужим голосом традиционное:
— Прошу прощения, мсье.
А потом, опираясь на спинку стула, закрыла лицо руками и молчала… страшная усталость охватила меня. Он заговорил:
— Видите ли, вы больны не физически, а нравственно… Вам не надо жить одной… непременно надо иметь около себя кого-нибудь, кто мог бы заботиться о вас, развлекать. Вам необходимо иметь знакомых. Хотя, конечно, в Париже немудрено оказаться одиноким, — тут же оговорился он. — Я вам дам лекарство, <…> — alcool camphre {Камфарный спирт (франц.).} — его продают в любой аптеке, без рецепта. Делайте растирание всего тела, два раза в день, утром и вечером, только не сами… ни в каком случае.
— Некому мне этого делать. Я живу в пансионе, где все жильцы — студенты; комната моя наверху, хозяйка — живёт внизу, она занята с утра до вечера, и мне право даже неловко обращаться к ней с такой просьбой…
— Как-нибудь устройте, — я говорю только, что вам это полезно. Потом пилюли. Принимайте по три раза в день перед пищей. Нравится вам электричество?
— Да, в Петербурге я пробовала.
— Ходите сюда три раза в неделю на электризацию. Я дам вам талон. С ним придёте вы сюда в понедельник к доктору Fourchon. Он даст вам билет на пользование ваннами. Только помните моё слово: не ждите прямой пользы от этих лекарств. Одни они вам не помогут.
Он протянул рецепт. Я шла домой, как в тумане.
“Нельзя вылечиться при таких условиях” — и смутное сознание предсказывало мне, что это правда. Так вот отчего не помогали мне ни морские купанья, ни лекарства! Он прав, он прав, он прав…
Мне невозможно, немыслимо изменить условия своей жизни, нельзя создать семью, раз её нет, — мне не с кем жить.
А если я совершенно одинока — кто же позаботится обо мне? А главное, — кто изгладит из моей совести эти воспоминания, этот ужас невольно совершенной ошибки, кто изгладит последствия семейного деспотизма?
Как я ни боролась со средой, как ни поднялась высоко надо всем, что меня окружало, — всё же и я человек, и моя душа уязвлена.
Приговор простой и ясный: меня нельзя вылечить, — значит, приходится жить под гнетом этого ужасного состояния.
И хотелось бы мне сказать громко: “Люди! вот среди вас гибнет человек, которому нужно так мало, так мало… искра любви, ласки, участия…
Дайте мне её и я оживу! я буду снова в состоянии работать!”
Но я знаю, что гордость запрещает мне показывать людям, как я страдаю… она и на курсах заставила меня замкнуться в себе… И люди всё равно не поймут, что мне надо… Так что некому мне этого дать…
23 декабря.
Получила билет на электризацию в Сальпетриер. Сиделка и служитель, которые её делают, без стеснения обирают больных, хотя на стене висит печатное объявление: “служащим принимать деньги и какие бы то ни было подарки от больных строго воспрещается”. По окончании сеанса сиделка становится у дверей, и серебряные и медные монеты так и сыплются в её передник. Никто не ускользает от этого обязательства, но меня, как студентки, она побаивается, хотя каждый раз, как я ухожу, провожает долгим яростным взглядом, потому что я из принципа — понятное дело — не стану давать взяток.
25 декабря.
Вот и Рождество. Два дня не будет лекций. Вчера вечером пошла немного пройтись по улицам. Нарочно выбрала ближайшую от нас, где живёт рабочее население — rue Monffetard. Узкая и длинная улица извивается точно коридор. Здесь в обычае праздновать канун Рождества — как у нас Пасху: в церквах служат messe de minuit {Полночная месса (франц.).}, в домах устраивают весёлые “reveillon” {Бдения (франц.).} и едят кровяную колбасу — по-здешнему — “boudins”.
Было десять часов вечера. Улица-коридор кишела народом, точно муравейник. Все лавки были открыты и ярко освещены; пение, шум, музыка, крик, смех… И так везде в эту ночь, на всех улицах Парижа.
Какая разница между этой пестрой, шумной, весёлой рождественской ночью — и нашей, в России! И мысль уносится далеко-далеко, и в воображении — бесконечные снежные равнины моей родины, среди которых затерялись столицы, города и деревни.
Как хороши эти деревни при лунном свете, как фантастичны леса зимою! <…>
Чудная, таинственная, мистическая северная ночь!
Сколько в ней поэзии, сколько странной грусти… хочется отрешиться от себя самой, хочется уйти, улететь куда-то, — и не знаешь куда… хочется уйти из этого мира, жить вне пространства, вне времени…
А здесь, здесь!..
Тоска ещё более сдавила сердце, когда среди крика и шума пробиралась я к себе в свою холодную, одинокую комнату. Что может быть прозаичнее встречи праздника в таком шуме и гвалте?..
Сегодня — как оделась — легла. Не вышла ни к завтраку, ни к обеду… Студенты-агрономы такие ограниченные малые, только и умеют говорить о своих репетициях да экзаменах. Так как я с ними не кокетничаю, то на меня они нуль внимания. Хозяйка опять пришла ко мне в комнату, утешает меня, как умеет. Добрая душа! Но помочь она мне вряд ли может. <…>
29 декабря. Встретилась сегодня с Бабишевой.
— А-а, Дьяконова, пойдёмте к нам! — и потащила к себе. <…>
Среди болтовни о всяких пустяках, о том, как она устроилась, как она начала ходить слушать лекции, в какие дни, — она вспомнила, что я хотела идти к доктору.
— Ну, что? как? где были?
— В Сальпетриере. <…>
— Ну, а что вам сказал врач?
Меня передернуло от внутренней боли.
Это так напомнило его приговор — сознание своего безвыходного положения. И я как можно короче ответила: “ничего… сказал, что мне вредно жить одной… велел делать растирания — тоже нельзя самой. Лекарства одни не помогут. Вот и всё”.
Я говорила спокойным и ровным тоном.
Бабишева очень близорука, и в буквальном смысле слова дальше собственного носа ничего не видит. Она не могла рассмотреть ни выражения моего лица, ни скрытой иронии, которая звучала в моём голосе.
Дочь её в это время возилась со спиртовой лампочкой, приготовляла кофе.
— Да? — сказала Бабишева своим обычным добродушным тоном. — Только как же вам это сделать-то? Здесь у вас никого нет. Ишь, какой! Лекарства одни не помогут, надо изменить условия жизни. А коли их нельзя изменить? Тогда постарайтесь так, чтобы одни лекарства помогли. Это вздор. Я никогда не поверю, чтобы обстановка могла так много значить. Ведь он вам и пилюли дал, и электрические ванны. Подумайте только! Э-лек-трические ванны. Покажите-ка мне его рецепт… М-м-м… н-да, верно! Так вот и принимайте-ка их, — берите ванны и растирания делайте — сами. Конечно, неудобно, — но что же делать? А что он про обстановку жизни вам говорит — вздор это, голубчик мой; раз изменить её невозможно, так и не думайте лучше об этом…
И Бабишева, удобно развалясь в кресле, свернула и закурила новую папиросу.
— Лялька, да что это ты сегодня с кофе долго возишься? или опять голова болит? опять вчера долго сидела? поди ляг, отдохни, а я уже сама тебе в комнату его принесу.
— Ах, оставьте, мама, право! — капризно возражала бледная Ляля.
— Мне это надоело. И голова не болит, и легла я не поздно, всё сама сделаю. Сидите, не беспокойтесь, я сейчас кончу и вам подам.
Мать с дочерью соперничала во взаимных услугах и нежности.
Они читают много хороших книг, говорят умно и либерально о любви к народу, к рабочим, ко всем несчастным, униженным, оскорблённым.
Перед ними был несчастный человек, и, однако, ни мать, ни дочь не предложили мне и сотой доли своих услуг, не дали мне ни лепты участия, симпатии, которые так существенно нужны мне.
И я ушла, отказавшись от кофе, ушла из этих меблированных комнат, где отношения матери и дочери создали почти домашнюю семейную атмосферу и придали им уютность. Я ушла в холод декабрьской ночи в свою ужасную одинокую комнату.
31 декабря.
Ещё несколько часов, и человечество встретит Новый Век.
Когда подумаешь, какое море печатной и писаной бумаги оставит по этому поводу девятнадцатый век своему преемнику, — перо падает из рук и не хочется писать. На всех углах земного шара люди ждут его, пишут, рассуждают, подводят итоги, пытаются заглянуть в тёмную даль не только “нового года”, как они привыкли это делать, но и “нового века”.
И есть отчего работать фантазии… Ведь ни один из предшествовавших веков не вступал в жизнь при такой интересной обстановке. Прогресс — эти сто лет — летел буквально на всех парах, и то, на что раньше требовались годы, десятки лет, в наш век делалось в месяцы и недели.
Никогда человеческий гений не работал с такою силою, не охватывал столько сторон жизни, не проникал так глубоко во все её изгибы. Кажется, что человечество вышло из детства, из бессознательного грубого состояния дикаря, и вступает в новый век юношей, при полном биении всех своих жизненных сил. Юноша не сознает вполне, что ему надо делать, но в его сознании нет уже той живости, дикости, зверских инстинктов, которые так сильны в детском возрасте. Он стыдится этих порывов, и в нём развивается совесть, просыпаются нравственные вопросы. Мы вступаем в двадцатый век с Толстым и Ибсеном,— пусть помнят наши потомки…
Через сто лет не только мы умрём, но и дети наши, которые рождаются теперь, на которых мы возлагаем столько надежд и упований.
Умрёт и моя племянница, о рождении которой недавно известила меня Валя и которую на пороге двадцатого века назвали Надеждой.
Не сказать ей слов “двадцать первый век”. А между тем, мы живём и не думаем о смерти, и каждый раз она является для нас неожиданностью. Смерть — это нечто чудовищное, страшное, но вечно новое, как любовь. Недаром людская фантазия так часто соединяет их вместе.
В любви творческая сила, потому что она создаёт будущее — детей…
Люди так часто изображают её аллегорическими фигурами, женщинами в разных позах. Я бы выбрала проще — нарисовала бы толпу детей. В них будущее человечества, которое создаёт жизнь. Почему не избрать ребенка эмблемой будущего? Жизнь — творчество, которое поддерживается надеждой…
И на пороге двадцатого века — мысли летят к родине.
Увижу ль, о друзья, народ не угнетённый
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещённой
Взойдёт ли наконец прекрасная заря? {*}
{* Из стихотворения А. Пушкина “Деревня”.}
1901 год
20 января.
<…> Пойду опять туда, в Сальпетриер, к одиннадцати часам. <…>
Большая палата была вся выкрашена голубовато-серой краской; белые постели, высокие, выше чем у нас, с отдернутыми занавесками — были все заняты больными. У меня защемило сердце при виде этих несчастных женщин. Хорошенькие и некрасивые, молодые и старые — но все лишенные разума — они сидели, читали, вязали, тихо разговаривали, а некоторые просто лежали, неподвижно, тупо смотря в потолок.
Тихо и плавно двигаясь, точно неся осторожно на голове свой чёрный тюлевый чепчик с лентами, подошла ко мне надзирательница.
— Подождите немного, мсье Ленселе сейчас придёт.
Я села у стола и развернула газету. Вся обстановка и вид этих несчастных угнетающе действовали на меня, и я не смела поднять глаз от газеты. И когда я решилась, наконец, посмотреть — увидела, что надзирательница ходила с ним по палате.
Они медленно переходили от одной постели к другой; по мере того, как кончался обход и оба они приближались к столу у дверей, — обрывки фраз явственно долетали до меня.
На первой от дверей кровати лежала пожилая женщина, которая, едва увидела его, горько заплакала и стала на что-то жаловаться.
Я прислушивалась напрасно. Ничего нельзя было расслышать сквозь рыдания. Он что-то сказал ей; больная отрицательно покачала головой и расплакалась ещё больше.
Мне вспомнилось, как Бабишева поражалась грубостью здешних врачей в госпиталях, — и стало страшно: что, если он, выведенный из терпения этой бесконечной жалобой, — вдруг резко и грубо оборвет её.
Но нет… женщина всё рыдала, а он всё стоял перед ней, тихо и ласково говоря ей что-то. <…>
Наконец, больная успокоилась, подняла голову, вытерла слёзы. <…>
Он сказал несколько слов надзирательнице и подошёл к столу.
Надзирательница положила на стол целую кипу каких-то листочков, и он быстро начал подписывать их один за другим.
— Ну, теперь я к вашим услугам, — сказал он, подписав последний листок. — Пойдёмте за мной.
Мы вышли опять на тот же двор, где я встретила его в первый раз. Он пошёл было в ту же клинику Шарко, но скоро вернулся.
— Эта комната занята. Пойдёмте в другую. <…>
Он заглянул туда: — Здесь свободно. Войдите.
Кабинет — немного темноватый — был обставлен просто и уютно; топился камин, на нём мерно тикали чёрные часы. <…>
— Вы ходите сюда на электризацию? Не хотите ли я дам письмо в госпиталь Брока. Это гораздо ближе к вам, и удобнее ходить…
— Спасибо, мсье.
— Н-да… Вы всё в том же состоянии! Не занимаетесь, не ходите на лекции?
— Нет… Я совершенно не в состоянии работать… Я потеряла все свои умственные способности…
— Ну, это вздор, — с живостью перебил он меня тоном, не допускавшим возражения. — Вы просто находитесь в угнетённом настроении… Вам надо выйти из этого состояния.
— А так как я не могу, то… не надо жить…
— Я ожидал, что вы это скажете. Вы, славянская раса, слишком чувствительны, мистичны, скажу даже — иногда слишком экзальтированны. К чему думать о самоубийстве? Ведь вы вовсе не так безнадёжно больны. Вам надо справиться с собою — и только. Чтобы жить в этом мире, надо иметь цель. Какая ваша цель?
— Какая цель? — повторила я. И машинально, как заученный урок, проговорила: — Я поступила на юридический факультет, чтобы открыть женщине новую дорогу… чтобы потом добиваться её юридического уравнения с мужчиной… чтобы её допустили в адвокатуру…
— Вы хотите посвятить свою жизнь защите интересов женщины? Хорошо. Так вот и сосредоточьте ваши силы и постарайтесь овладеть собою, чтобы потом быть в состоянии работать.
— Но я не могу, не могу… у меня нет сил, эта беспрерывная головная боль измучила меня совершенно… Лучше умереть… И голос мой дрогнул и оборвался.
— Voyons… Выкиньте эти мысли из головы, успокойтесь.
Но ужасное воспоминание снова, как призрак, встало предо мною, и я сказала, рыдая:
— Но… если вы… в своей жизни сделали ошибку… разбили жизнь человека… что тогда?
— Что вы сделали? Какую ошибку? скажите мне… вы смело можете довериться врачу…
— Не спрашивайте меня об этом, я не скажу… не могу… <…>
Как ни была я взволнована, — всё же мне показалось, что в его тоне прозвучало что-то холодное: этим вопросом, точно анатомическим ножом — он хотел вскрыть мою душу…
И, вся охваченная тяжёлыми воспоминаниями, я зарыдала, и всё былое встало с такой же ясностью, как будто это случилось вчера.
— Скажите, скажите мне, мадмуазель, — настойчиво повторял он.
Голова у меня закружилась…
— Ну, да, ошибка! и за эту ошибку отдана жизнь моей сестры! слушайте, слушайте, мсье… Это было шесть лет тому назад. Мы были так молоды, совсем ещё дети… Мы сироты, отца у нас нет, мать-деспотка — держала нас взаперти, мы совсем не знали мужского общества. Он давал уроки братьям и влюбился в мою младшую сестру… Та сначала его не любила… Тогда он устроил целую драму: признался мне в любви, а потом написал сестре письмо, что он солгал, что он клеветал на себя нарочно, с отчаяния, что он с ума сходит от любви к ней… Я так была занята мыслью поступить на курсы, читала, занималась целыми днями, только и ждала совершеннолетия, чтобы уехать в Петербург; сестре тоже хотелось учиться, а она на два года моложе меня… Так он притворился, что сочувствует нам… обещал сестре отпустить её на курсы, только бы она согласилась выйти за него замуж… Я вообразила, что он и в самом деле может помочь сестре, стала содействовать их браку, помогала сестре переписываться, — мать не хотела из деспотизма, из каприза… она не допускала, чтобы у нас была своя воля.
И вот сестра вышла за него… И тотчас же после свадьбы он изменил свою тактику. Ему не к чему было больше притворяться. С первых же дней сестра была беременна. Она такая бесхарактерная; он стал убеждать её, что теперь нечего и думать о курсах, — что я фантазёрка и учусь совершенно напрасно. Вместо того чтобы ехать жить в Петербург — взял место в N… так и пошла жизнь сестры в узком домашнем быту… Теперь сестра не говорит мне прямо, что несчастлива с ним, но и не перестает упрекать меня в содействии её браку. А я разве в то время не была так же наивна и неопытна, как она? разве я больше её знала мужчин? У меня романов никаких не было… я только и мечтала о курсах…
Я совсем задыхалась от рыданий. Казалось — сердце разорвётся от боли… о, если бы я могла умереть!
В комнате было тихо — только мерно тикали часы…
Он заговорил:
— И вас так угнетает сознание своей ошибки?.. Но ведь вы сделали её невольно… вы сами говорите, что были неопытны и мало видали людей. Да и так ли несчастна ваша сестра, как вам кажется? Есть у неё дети?
— Да, две дочери…
— Значит, есть и утешение… И, если бы она была действительно очень несчастна, — наверное, оставила бы мужа. Но, раз живёт с ним, — значит, всётаки находит в нём что-нибудь такое, что привязывает её к нему… И притом, очевидно, у неё не было такого твердого и определённого стремления к знанию, как у вас.
— Это правда… она всегда больше говорила, чем делала…
— Ну вот… вы вовсе не так виноваты перед своей сестрой, как думаете… А если она упрекает вас за то, что способствовали её браку, видя и зная, как вы страдаете, как мучаетесь сознанием своей ошибки, — это уже прямо жестоко с её стороны… Скажу более: неблагородно… лежачего не бьют.
Он говорил твёрдо, с убеждением… И от тона, каким он произносил эти слова, — мне становилось легче на душе… А он продолжал:
— Вы должны теперь сосредоточить всё своё внимание на том, что можете сделать для других. Старайтесь восстановить свои силы, чтобы работать с пользою…
И замолчал.
Мне показалось, что он искоса, бегло взглянул на часы. Я встала. Было ровно полдень: священный час для всех французов — завтрак.
— Повторяю, — успокойтесь и не мучьте себя… Это и напрасно, и бесполезно… Я уже доказал вам, что вы вовсе не так виноваты, как вам кажется.
Он проводил меня до ворот и повторил, прощаясь:
— Если что понадобится, — обращайтесь ко мне… я всегда к вашим услугам.
8 февраля.
Если бы меня спросили, для чего я живу и как живу, — я бы не нашлась, что ответить. Разве это жизнь?
Влачить своё существование с трудом, медленно, точно одряхлевшая старуха… Я ещё так молода, а между тем жизни нет, сил нет.
Страшная тоска сжимает сердце, полное отвращение ко всему… Передо мной лежат Карл Маркс, Nietzsche — “Also Sprach Zaratustra” {Ницше, “Так говорил Заратустра” (нем.).}, — и я не могу прочесть ни одной строчки, — руки бессильно опускаются, книга падает… Точно со мной делается нравственный прогрессивный паралич.
21 февраля.
Бабушка умерла…
Я пишу с трудом. Это несчастие окончательно сломило меня… Бабушка умерла… и уже в могиле, а я узнала об её смерти только вчера. Шла мимо почтового отделения, по обыкновению, зашла и спросила: нет ли писем. Смотрю, вынимают из клеточки одно письмо, другое, третье. Я не избалована перепиской, и тут обрадовалась — вдруг целых четыре письма! Один из них был билет с черной траурной рамкой. “Кто бы это умер?” — равнодушно подумала я, недоумевая, какой смысл извещать меня таким способом о смерти дальних родственников, — разве нельзя в письме сообщить, а на похороны всё равно не поспею… Развернула, читаю…
Бабушка умерла!
Моя милая бабушка, которую я так любила, нет уж её больше!
Мне вдруг показалось, что это чья-то дикая, нелепая шутка, нарочно послали этот билет на похороны, а на самом деле неправда, не может быть… Ведь телеграммы не было… Разорвала конверт с почерком брата Володи: тот писал, что бабушка скончалась 1-го февраля, что мне посылали телеграмму…
— Где телеграмма на моё имя?! — бросилась я к решетке.
— Разве вы не видите, что здесь есть пришедшие раньше вас? ждите своей очереди! — резко крикнула из-за решётки служащая.
Я опомнилась и отошла к стене… и потом уже в очередь справилась, — никакой телеграммы не было получено. Значит, не дошла. Придя к себе, заперлась на ключ, перечитала все письма о внезапной смерти бабушки, о телеграмме, в которой брат перепутал адрес, цифры, — и она не дошла.
Бабушка умерла! <…>
28 февраля.
Целую неделю пролежала в постели.
Сегодня пришла знакомая американка, с которой я постоянно встречалась па лекциях в Сорбонне, и потащила меня гулять.
— У вас бабушка умерла? старая?
— Да.
— И вы так огорчены, что были больны! Да ведь должны же умирать старые люди… ведь это же закон природы… Полноте, вам надо развлечься, пойдёмте погулять…
И она потащила меня на шумную, весёлую улицу Риволи!
Шум экипажей мешал разговаривать, толпа утомляюще действовала на меня.
— Вы устали? — спросила мисс Джесси. — Зайдёмте отдохнуть в кафе. Я знаю, тут есть одно очень хорошее. Спросим кофе.
И прежде, нежели я успела что-нибудь сообразить, — очутилась в кафе-концерт, где с эстрады гремел оркестр в красных фраках.
Мисс Джесси выбрала место на виду, поближе к эстраде и что-то заказала себе и мне.
Раздались звуки весёлого опереточного вальса… И под его звуки мне вдруг представилось далекое кладбище родного города, на котором под снежным холмиком успокоилась вечным сном дорогая старушка… и присутствие моё в этом кафе показалось какой-то чудовищной профанацией моего чувства к памяти покойной… Рыдания подступили к горлу.
— Мисс Джесси… извините, я оставлю вас… я уйду… не могу…
— Отчего же? — искренно удивилась американка. — Отчего вам здесь не остаться? Неужели из-за того, что недавно потеряли бабушку? Но ведь она же была стара… Вот тоже вы траур одели… У нас в Америке только муж носит траур по жене… Странные обычаи на континенте… — недоумевала мисс Джесси.
— Извините, я пойду домой…
Американка пожала плечами. — Ну, если это так против ваших чувств,— так, конечно, идите…
И она принялась за кофе, а я, торопливо пробираясь между столами, — почти бегом выбежала на улицу…
9 марта.
Получила письмо из дому. Оказывается, бабушка написала духовное завещание и назначила меня душеприказчицей. Практичная сестра Надя уже справилась у адвоката. За утверждение завещания по доверенности он спросил ни с чем не сообразную цену — двести пятьдесят рублей. А ведь ещё неизвестно, сколько придётся на долю каждого из нас: бабушка была очень небогата…
“Приезжай лучше на сороковой день и сделай всё сама. Тебе вся поездка обойдётся дешевле, чем нам платить N.”, — пишет сестра. Она права. Обойдётся дешевле, и нам, братьям и сестрам, не придётся платить ни гроша…
Но… ехать опять туда, в семью, опять в эту ужасную обстановку, которая мне всю душу измотала.
Опять видеть мать… Какой ужас!
Я не могу… не могу.
Один взгляд на календарь — так немного осталось дней до отъезда.
Нет, не могу, не могу… Что же мне делать, что же мне делать?
13 марта.
До сих пор не решилась написать ответ домой. Дать уж лучше доверенность, пусть сделают всётаки без меня…
И не исполнить самой последней воли дорогого человека… Бабушка, значит, надеялась на меня, а я-то откажусь… Поеду завтра в Сальпетриер.
14 марта.
И поехала. Та же важная сиделка сообщила, что его тут уж больше нет, он переведён в новый госпиталь Бусико.
Я вспомнила, что читала в газетах об его открытии первого марта.
Сиделка любезно рассказала, как туда ехать. От моста Аустерлица до моста Мирабо — больше часу пришлось ехать по Сене.
Улица тиха и пустынна. Точно не в Париже. От набережной до госпиталя расстояние довольно значительное.
В новом здании всё блестело чистотою: и ложа консьержа, и двери, и стёкла, и каменные плиты коридора. Внутри, среди сада, были разбросаны небольшие кирпичные павильоны, а вдали — на колонне — виднелся белый мраморный бюст госпожи Бусико, <…> на средства которой выстроен этот госпиталь.
— Мсье Ленселе?
— Второй павильон направо.
Я вошла в небольшой коридор и села на деревянную скамейку. Длинная траурная вуаль, спускаясь на лицо, — по здешнему обычаю, — закрывала меня всю.
— Вам кого? — спросил какой-то субъект в больничном костюме. И на мой ответ услужливо сказал: “Сейчас, сейчас…”. И исчез.
Под гнётом самых тяжёлых мыслей я сидела, опустив голову и не глядя никуда…
— Добрый день, мадмуазель… как Вы себя чувствуете? Вы потеряли кого-то из близких? — с участием спросил меня знакомый голос. Я встала.
— Да, мсье.
— Вы не могли бы чуть-чуть подождать? Я тотчас к Вам вернусь.
— Да, мсье.
Ему, очевидно, надо было кончить обход палат… Через четверть часа он вернулся.
— Что случилось? Кто у вас умер? — спросил он, жестом приглашая меня следовать за ним.
— Бабушка. Я назначена душеприказчицей по духовному завещанию, и надо ехать…
— Она и Вам что-нибудь оставила? — спросил он, отворяя дверь.
Подобный вопрос покоробил меня, как ни была я расстроена.
А для него, очевидно, это было так просто и естественно — задать подобный вопрос.
— Мне об этом ничего неизвестно, — ответила я тоном полнейшего безразличия.
— Пойдёмте за мною наверх… по каменной лестнице.
И там всё так же блестело, — стены коридора, двери, их ручки. Он отворил одну из комнат, где стояла только складная кровать, в углу сложенный матрац. Очевидно, только что отстроенный госпиталь был ещё не весь окончательно устроен. Он пододвинул мой стул, сам сел на подоконник.
— Вы были больны?
— Когда получила письмо с этим известием…
— Вы потеряли сознание?
— Не помню, что со мною было…
— И с тех пор вы чувствуете себя хуже?
— Мне надо ехать в Россию, — сказала я, из всех сил стараясь овладеть собой и говорить внятно. Но это не удалось, рыдания подступили к горлу, и я замолчала.
— Не можете? почему?
— Опять быть там… в своей семье… я не могу. Не знаю, что делать.
— Послушайте, мадмуазель, что я могу сделать для Вас? Вы свободны сегодня вечером? В восемь часов?
— Да, мсье.
— Приходите сюда. <…>
Я поехала к себе домой. И ровно в восемь часов была уже на бульваре Пор-Рояль. Трамвай Сен-Жермен де Пре был переполнен. Пришлось ждать. На этот раз ехала недолго, — сравнительно с пароходом — минут через двадцать была уже на улице Лекурб. <…>
Дверь открыла горничная, такая же чистенькая, свеженькая, как и весь госпиталь.
— Мсье Ленселе?
— Он сейчас выйдет.
И действительно, он тотчас же вошёл в коридор.
— Добрый вечер, мадмуазель. Пойдёмте за мной.
Я пошла за ним по тёмному коридору; он отворил дверь, нажал в стене одну электрическую кнопку, другую… мягкий свет лампочек под зелеными абажурами озарил небольшую комнату со светлыми обоями и мебелью из жёлтого дерева. Два стола с книгами — вдоль стены и посредине комнаты. Неизбежный armoire a glace {Зеркальный шкаф (франц.).}, к которому я до сих пор не могу привыкнуть — он всё кажется мне принадлежностью дамской спальни, а уж никак не комнаты мужчины. А тут ещё был и туалетный столик, тоже с зеркалом.
Топился камин.
— Садитесь здесь, — сказал он, подвигая кресло к огню, а сам стал подкладывать дрова в камин.
Я села, держась, по обыкновению, чрезвычайно прямо, в длинном траурном платье, длинная креповая вуаль, спускаясь на лицо, скрывала совершенно и его выражение и следы слёз. Мне стало вдруг как-то хорошо… Не хотелось ни двигаться, ни говорить. Эта светлая уютная комната, кругом тишина. Дрова весело трещали в камине, и приятная теплота разливалась по всему телу… Я точно отдыхала после какого-то длинного, трудного пути и молчала, неподвижно сидя в кресле. И мне не хотелось отвечать на его вопрос.
— Итак, вы опять расстроены и не знаете, что делать?
— Не могу я ехать… слишком ужасно… дома… там… опять… Мой голос был спокоен и ровен. Или я очень устала, или просто нервы упали — не знаю.
— Вам необходимо ехать?
— Да, я назначена душеприказчицей по духовному завещанию. Я так люблю бабушку, надо исполнить её последнюю волю, а всётаки не могу решиться — как вспомню, что ждёт там меня.
Я чувствовала себя в эту минуту такой слабой, бессильной, и мне стало стыдно и захотелось сказать ему, что я не всегда была такая.
— Вы не думайте, впрочем, что я перед ними показываю такую слабость. Я из гордости всегда скрываю ото всех свои страдания, всегда притворяюсь весёлой и оживлённой… но зато эта комедия отнимает у меня последние силы.
Он помолчал несколько времени, как бы соображая что-то.
— Ну что же, отправляйтесь в Россию и делайте, что велит Вам долг, — сказал он вдруг повелительным, не допускавшим возражения тоном.
Я удивилась, но не рассердилась. Мне даже было приятно, что он так говорит. Я, никому ещё не подчинявшаяся, — чувствовала, что послушаюсь его… И мне было приятно это послушание как контраст, как нечто новое, до сих пор чуждое моей самостоятельной натуре…
— И знаете ли, что я вам скажу, мадмуазель, — какая-то грустная нотка послышалась в его голосе. — В Евангелии прекрасно сказано: “violenti rapiunt illud” {А diebus autem Iohannis Baptistae usque nunc regnum caelorum vim patitur et violenti rapiunt illud (Vulgatae, Matthew.ll:12); в русском переводе: “От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берётся, и употребляющие усилие восхищают его” (Матфей, 11:12).}… то есть, это удел сильных. Надо уметь бороться и многое выносить в этой жизни. Будьте добры с людьми, не показывайте им своего страдания… они всё равно не поймут вас. — Я дам вам ещё один совет — выходите замуж. Вы слишком одиноки. Мужчина не может жить один, а женщина тем более…
— Выйти замуж! — вскричала я, возмущённая таким неожиданным советом.
— Почему бы и нет? Мужчина — вовсе не враг. Совместная жизнь с положительным человеком облегчит вас: общие интересы, взаимная поддержка много значит в этой жизни. И, когда вы встретите такого человека, который понравится вам, — будьте осторожны, не говорите ему, что вы его любите, а ждите, пока он сам вам скажет. Надо быть осторожной…
— Я не хочу замуж, — упрямо возразила я.
— Напрасно. Так лучше для вас. Повторяю, вы не созданы, чтобы жить одна… Вы где предполагаете жить по окончании курса? остаться здесь или в России?
— Конечно, в России.
— Так вот, и не надо вам терять связи с родиной. Непременно поезжайте… быть может, там вы встретите подходящего человека. Не падайте духом, будьте спокойны, горды перед людьми. Когда вернётесь, приходите ко мне сказать, как себя чувствуете.
Я взглянула на часы: стрелка подходила к половине одиннадцатого.
— Мне пора ехать… Благодарю вас… Я… поеду в Россию.
Он проводил меня до ворот и, проходя мимо ложи консьержа, крикнул:
— До свидания! Счастливого пути!
Дверь отворилась и закрылась за мною. Я пошла по тихой, пустынной улице успокоенная и немного озадаченная его неожиданным советом. Выйти замуж!
Как это ни странно может казаться, но я об этом ни разу не думала. Выйти замуж! Это значит полюбить. И одно новое соображение впервые пришло мне в голову: а ведь, в самом деле, — я ещё никогда никого не любила, и меня ещё никто никогда не любил…
Некогда было.
До совершеннолетия я была так занята одною мыслию — поступить на курсы, вечной борьбой с матерью, отстаивая каждый свой шаг от её самодурства и деспотизма, тщетно стараясь развивать сестёр, направить детские умы братьев к учению. А потом –- там на курсах — так была поглощена наукой, книгами, занятиями, занятиями без конца… Выработка миросозерцания, беспрерывные размышления и слёзы с товарками: “зачем живём, как надо жить”, умственная жизнь Петербурга — после провинции, казалось, била ключом и захватывала своим потоком… Было ли тут время думать о любви?
А тут ещё брак сестры. Это тихая, невидимая для посторонних глаз семейная драма, одной из причин которой была я, — внушили мне такое недоверие, такую злобу к сильной половине рода человеческого, что я на курсах и не старалась попадать в студенческие кружки. Под гнётом сознания своей ошибки я с головой ушла в книги, стараясь забыться. Книги, написанные мужчинами, — составляли моё избранное мужское общество, да несколько товарок — женское. И я удивлялась только — как другие влюбляются, выходят замуж, кокетничают, увлекаются…
Вот была охота! Да стоят ли мужчины того, чтобы мы кокетничали с ними, увлекали их, старались нравиться? И когда другие удивлялись на меня — я удивлялась на них и пожимала плечами. И вдруг такой совет…
Однако, поздно! А завтра надо рано вставать и начать собираться…
17 марта.
Все эти дни бегала, разнося обратно книги, данные для прочтения, собиралась… и ещё надо было занять сто франков на дорогу — денег не хватало.
Нерехта, 24 / 11 марта.
Первые лучи мартовского солнца начинали согревать Париж, когда я выехала из него. Двое суток на скором поезде, и я въехала в бесконечные снежные равнины моей родины…
Здравствуй, милая, дорогая, любимая! Впервые в жизни я так надолго рассталась с ней… и радость опять видеть родные места заставляла забывать, что меня в них ждало…
Как хорош весенний воздух…
Холодный, свежий — он проникает в самую глубину легких и, кажется, освежает, оживляет всё существо… Снег блестит на солнце, какая прелесть! Этого не увидишь за границей… Кое-где проталины… Я радовалась всему — даже грязи на улице…
Я проехала прямо в Нерехту, на могилу бабушки… В сенях нашего большого дома бросилась ко мне на шею верная Саша.
Она с плачем рассказала о последних днях жизни и смерти старушки, с которой прожила неразлучно двадцать восемь лет, и мы вместе отправились на кладбище. Рядом с могилой тёти высился небольшой холмик, покрытый снегом… вот все, что осталось от бабушки.
Не нравятся мне парижские кладбища, в них каменные памятники поставлены тесно, точно дома: настоящий город мертвых, — нечто холодное и жуткое.
Нет природы — деревьев, травы, приволья, которое так идёт к месту вечного покоя и придаёт столько поэзии нашим провинциальным кладбищам.
Тут нет ни богатых памятников, ни роскошных цветников, ни красивых решёток… Зато трава и полевые цветы одинаково покрывают могилы богатых и бедных… и покосившиеся деревянные кресты придают какое-то своеобразное выражение общему виду пейзажа.
И каждый раз, как я вхожу на кладбище, атмосфера мира и покоя охватывает душу. Кругом, около церкви — родные могилы. Там дедушка, там прадедушка, там тётя, там двоюродные дяди. И здесь в родной обстановке — среди тех, кого она знала при жизни, — нашла себе вечный покой и бабушка…
Приехала сестра {Надежда Дьяконова.}. Она, кажется, была рада увидеться со мной. Рассказала обо всём, завещание у неё в Ярославле.
— И знаешь ли что, Лиза, — мы в сундуке нашли на три тысячи ренты. А по завещанию надо сделать вклады в две церкви, в богадельню и Саше, — в общем, как раз тысячи две с половиной, все остальное — нам. Расписки на вклад в Государственный Банк у меня хранятся. Так вот, ты подай завещание на утверждение, а из этих денег и сделай тотчас же все вклады — так скорее будет.
Я могла только согласиться с этим практическим советом. <…>
25/12 марта.
Справляли сороковой день. <…> Когда все родные разъехались, — я прошлась по опустелым комнатам большого дома. Саша торжественно вручила мне ключи от комода и сундуков: эти шесть недель всё было под замком и ни одна вещь не передвинута со своего места, пока душа покойной, по их понятиям, обитала в доме. Мы стали разбирать бумаги и вещи. Завтра еду в Ярославль.
Ярославль 26/13 марта.
Я хотела остановиться в гостинице, но бабушка, теперь уже единственная, которая у меня остаётся — не пустила и оставила у себя.
Я совершенно не понимаю любви к родителям. Отца — не помню, — а мать… зачем она не умерла, когда мы были маленькими?
Лучше остаться круглой сиротой, чем иметь мать, которой даны по закону все права над детьми, но не дано нам никаких гарантий от её деспотизма.
Бедные дети, бедные маленькие мученики взрослых тиранов!
Но мое детское сердце так жаждало любви, привязанности, ласки… И я любила бабушку с отцовской стороны — за то, что она была несчастна, бабушку с материнской — за то, что она своею ласкою и участливым словом, как лучом, согревала мое безотрадное существование.
Теперь — она одна у меня осталась. И, бросившись перед ней на колени, я целовала её руки, её платье.
— Бабушка, милая, здравствуйте!
— Лиза, матушка, наконец-то приехала! — Мы обнимались, целовались без конца.
Растроганная старушка плакала от умиления и чуть было не отправилась в церковь служить молебен…
— Что же ты теперь, делом будешь заниматься? — спросила бабушка, когда мы обе, наконец, сели за самовар.
— Делами, бабушка. Вот сделаю всё и уеду опять за границу, экзамен сдавать.
— А на лето приедешь, — на вакации?
— А деньги где? ведь дорога-то не дешева… теперь уж до будущего года.
Бабушка вздохнула.
— Ну и то хорошо, что хоть теперь ты здесь! Хоть посмотрю я на тебя! Ишь ты какая стала нарядная, хорошенькая… платья-то уж больно хорошо в Париже шьют, не по-нашему работают…
И бабушка долго качала головой, со вниманием рассматривая настрочки из крепа на корсаже моего траурного платья, купленного по самой дешевой цене в Bon Marche. При виде настоящего парижского платья она вся проникалась почтительным удивлением. И я невольно рассмеялась и крепко её поцеловала.
Пришла Надя и принесла завещание и расписки.
— Что ж ты с мамой-то не повидаешься? — нерешительно спросила бабушка.
— Лиза, приходи,— тихо сказала сестра.
Я видела, что им страшно хочется, чтобы я побывала дома. И поэтому ответила: “Что же, зайду… Хоть я и отрезанный ломоть, но, если хотите, — отчего же?”
Лица сестры и бабушки прояснились. Обе они, в сущности, дрожали перед железной волей матери: бабушка всю жизнь её побаивается, а о несчастной Наде и говорить нечего — робкая от природы, она до того забита, что у неё нет собственной жизни, ни дум, ни желаний, и вместо энергии у неё капризы, с которыми она готова всегда нападать на того, кого не боится. И теперь они обе были довольны, что я согласилась.
— Какая ни есть, а всётаки мать, всётаки повидаешься, — примиряющим тоном произнесла бабушка.
— И кажется, она хочет просить тебя съездить в Извольск к Саше, он что-то опять поссорился со своим воспитателем; так вот разберёшь их, — сказала Надя.
— А ты сама… не сможешь туда съездить?
— Я-то в Извольск?! да что ты, Лиза, — сказала Надя тоном, в котором ясно выражался страх при одной мысли — как это она поедет в Извольск, чтобы там вести самостоятельные переговоры с воспитателем брата. Возражать была бесполезно. Я вздохнула.
— Хорошо. Приду. Только не сегодня… завтра.
27/14 марта.
Всё было по-старому в этой квартире, из которой я буквально убежала на курсы. Ни одна мебель не передвинута, ни одна лампа не переставлена; только прислуга новая: кухарки и горничные не могут уживаться с таким характером.
Я вошла в спальню — это была когда-то моя комнатка, вся оклеенная светлыми обоями, с белыми кружевными занавесками и цветами на окнах, весёлая и ясная, как майское утро. У меня мороз пробежал по коже, когда я переступила порог этой комнаты, где столько пролито было слёз в годы ранней молодости, где в ответ на слова: “я хочу поступить на курсы” — слышала: “будь публичной девкой!”, и от звонкой пощёчины искры сыпались из глаз.
— Терпите, терпите…— слышался кругом благоговейный шепот родни, преклонявшейся пред силой родительской власти… — Христос терпел и нам велел…
Нет, — не всё же терпеть!
Прошло время, выросла воля, высохли слёзы… и я, в день совершеннолетия, ушла из этого дома с тем, чтобы более туда не возвращаться…
Теперь комната была обезображена тяжёлыми тёмными занавесками на окнах; загромождена безвкусной мягкой мебелью, обитой полинявшим от времени кретоном. Хорошо знакомый мне низенький шкафчик, битком набитый лекарствами, стоял у постели и на нём по-прежнему — свежая склянка из аптеки Шнейдера…
Мать сидела на диване. Она слегка приподнялась при моём входе.
— Здравствуйте, ю-рист-ка, — с насмешкой протянула она, по привычке протягивая руку для поцелуя.
Я смотрела на неё.
За эти пять месяцев болезнь сделала своё дело: организм истощился ещё больше, кожа на лице слегка сморщилась и пожелтела, уши стали прозрачнее. И вся эта фигура — худая, вся закутанная в тёплые шали — представляла что-то жалкое, — обречённое на медленное умирание…
Сердце болезненно сжалось и замерло… Мне стало жаль эту женщину, жаль, как всякого больного, которого я увидела бы в больнице… Но зная, как она боится смерти, я сделала над собой усилие, чтобы ничем не выдать своего волнения.
— Здравствуйте, — тихо ответила я, целуя пожелтевшую худую руку, и села напротив. — Как ваше здоровье?
— Ни-че-го… Как ты живешь в Париже?
— Хорошо.
— Приехала делами заниматься после бабушки?
— Да.
— Когда уедешь?
— Не знаю ещё… там видно будет, как всё устрою.
Воцарилось молчание. Нам больше не о чем было говорить друг с другом.
— Постой. Ты должна съездить в Извольск. Там Александр опять что-то с воспитателем напутал… Экий мерзавец, — вторую гимназию меняет и всё не может ужиться, — проговорила мать. <…>
— Хорошо. Съезжу. До свиданья.
Вечером бабушка помогла мне разобрать вещи и приготовить что нужно для небольшой поездки.
Ярославль, 30/17 марта.
Ох, как устала. Точно не двести верст по железной дороге проехала, а прошла тысячу пешком. И как скверно на душе. Когда думаешь — какая масса усилий и денег тратится на образование всяких умственных убожеств и ничтожеств потому, что они родились от состоятельных родителей; с какой бы пользой для страны могли быть употреблены они иначе!
Когда извозчик повёз меня с вокзала в гимназию, дорогой он выболтал все новости города Извольска вообще и гимназии в частности.
— Сказывали, инспектор новый, — из Питера… ве-ежливый такой… подтянет, говорят, распустил, знать, старый-то гимназистов больно.
Я с тревогой соображала, поладит ли мой братец со столичным педагогом и имеют ли какие-нибудь отношения его неприятности с воспитателем, у которого он помещён на пансион, с новым инспектором… Старый, тот, который был тому два года назад, когда я переводила брата в эту гимназию, был человек простой и недалёкий. Теперь этот… да ещё из Питера… как-то надо будет с ним говорить? Чего придерживаться?
Извозчик подъехал к гимназии. Я поднялась по лестнице в приёмную. Служитель пошёл “доложить” инспектору. Через несколько минут дверь отворилась, и на пороге показался человек среднего роста в золотых очках и форменном вицмундире щеголеватого, столичного покроя. Лицо его с высоким покатым лбом, прямым, выдвинутым вперёд носом, тонкими поджатыми губами, так и дышало той своеобразной неутомимой педагогической энергией, которая выражается в умении “следить” и “подтягивать”. Его глаза, казалось, видели насквозь всё существо ученика и даже его ум и сердце.
“Поладит ли с таким наш Шурка?” — мелькнула у меня в голове тревожная мысль.
И, стараясь произвести как можно более благоприятное впечатление, я грациозно поклонилась, улыбнулась.
Чиновный педагог, видя хорошо одетую молодую даму в трауре, да ещё приезжую, не захотел ударить лицом в грязь.
Он тоже приятно улыбнулся, поклонился с утончённой любезностью, придвинул кресло.
— Чем могу служить?
— Я сестра воспитанника вашей гимназии… Он переведён сюда два года назад. У него вышли неприятности с воспитателем. Мать наша очень больна и послала меня узнать, в чём дело.
Улыбка бесконечного снисхождения промелькнула на губах педагога.
— И вы из-за этого приехали сюда? о, помилуйте, стоило ли беспокоиться!
— Но брат писал такие письма… мы перепугались…
Он улыбнулся ещё ласковее и снисходительнее: чего, мол, вы там перепугались… Это просто так, ничего, не бойтесь…
— Да-да, есть грешки за вашим братцем. Знаю я его историю… Впрочем, его поведение и учение теперь стало несравненно лучше. Все эти четверти у него за поведение “пять”. “Пять”, — повторил он многозначительно и с ударением.
— Можно надеяться, что он кончит курс? <…>
— Это теперь вполне от него зависит: если дело будет обстоять так же, как теперь, — кончит, если нет — пусть на себя пеняет. Вы думаете, легко справляться с подобными натурами?
“Да что вы делаете, чтобы справляться с ними?” — хотелось мне поставить вопрос прямо и откровенно, но зная, как строго охраняются тайны чиновно-педагогической лаборатории, благоразумно удержалась. И поэтому сочувственно поддакнула:
— О, да, — я вас вполне понимаю.
Это польстило инспектору.
— Поговорите с Никаноровым. Что у него вышло с вашим братом, — мне неизвестно, только можете быть спокойны, на его перевод в седьмой класс это не будет иметь влияния. Частные отношения воспитателей с воспитанниками вне стен гимназии нас не касаются, — проговорил он тоном великодушного благородства и посмотрел на меня, как бы желая узнать — в состоянии ли я понять и оценить эту свежую струю новых воззрений, привезённых из столицы в провинциальное болото.
— Такое беспристрастие делает вам честь… это здесь такая редкость, такая новость… спешила я попасть ему в тон. Педагог был очарован и растаял окончательно.
— Что поделаешь… Стараемся по мере сил… Поговорите, поговорите сами с Никаноровым. И знаете, я бы советовал вам взять домой брата… теперь он и ярославскую гимназию кончит…
— К сожалению, это невозможно — у него в гимназии уже установилась очень скверная репутация… Мне хотелось скрыть от этого человека наши тяжёлые семейные обстоятельства.
— Ну вот, полноте, какая там репутация! Ведь он ушёл оттуда из 4-го класса, вернётся в седьмой… Факт говорит сам за себя и сразу создаст ему лучшую репутацию.
— Но есть и некоторые семейные обстоятельства. Мать очень больна, у неё неизлечимая болезнь, ей нужно спокойствие, а брат своим резким характером и выходками будет её раздражать; вы можете понять, что мальчики ничего не смыслят в женских болезнях, — объясняла я, внутренне страдая от того, как мало было чутья у этого человека. Не могла же я сказать ему всю правду: что брат с детства был нелюбимый сын, и его от природы далеко не кроткий характер немало способствовал тому, что мать в конце концов возненавидела его и рада была отделаться, бросить в другой город, как только увидела, что он плохо идёт в ярославской гимназии.
— М-м… Но отчего же у него такие отношения с матерью? — бесцеремонно продолжал педагог свой мучительный допрос.
— Очень понятно. Вот и вы говорите, что с ним трудно справляться, а для него вы чужие; со своими же он стесняется ещё меньше. Всё это очень тяжело, очень неприятно, но что же поделаешь… разные бывают натуры.
— Да, разные, разные, — сочувственно вздохнул инспектор и встал, протягивая руку. — До свиданья. Так переговорите же с Никаноровым и успокойте вашу матушку. Честь имею кланяться.
Я поехала к Никанорову. Это человек добрый и умный — пишет по педагогическим вопросам, прекрасный отец семейства и очень тактичен… даже чересчур. Брат живёт у него уже второй год. Никаноров встретил меня по обыкновению ласково и сдержанно. После неизбежного разговора о загранице я перешла к щекотливому вопросу о брате.
— Не знаю, не знаю — он недоволен житьём у меня, это очевидно. Нервен, озлоблен — на что, не понимаю. Положим, он переживает теперь такой возраст… В декабре он был болен и страшно испугался, я тоже.
— Что с ним было?!
— Этого я вам не скажу… вы всётаки девушка.
И сколько я ни упрашивала Никанорова отбросить в сторону предрассудки и говорить со мной так же свободно, как если бы я была медичка, — он стоял на своём.
— Нет, не скажу… Всётаки вы девушка. Я писал вашей матери.
“Ну, напрасно; такой матери всё равно незачем писать”, — с досадой подумала я. И сколько мы ни говорили — я никак не могла понять причины неудовольствия брата. Никаноров пожимал плечами, беспомощно разводил руками с видом угнетённой невинности: видите сами, как трудно с таким характером. И так как брат платит ему за пансион довольно высокую плату, то я ясно увидела его тактику. Ему не хотелось самому ничего говорить против брата как выгодного пансионера, и в то же время он не хотел показать этого мне. Поэтому он избрал позицию среднюю: всё сваливал на брата, на его капризы, оставаясь сам в стороне. Я была в очень затруднительном положении, и кто прав, кто виноват — становилось невозможным разобрать.
— Скоро придёт из гимназии ваш брат. Поговорите с ним сами, — сказал, наконец, Никаноров, провожая меня в его комнату.
Ждать пришлось недолго. Высокий юноша с ранцем на спине вошёл и небрежно швырнул его в угол.
— А-а… — протянул он, увидев меня.
Я радостно бросилась к нему на шею. Как-никак, а всётаки очень люблю этого юношу, который причинил мне столько горя и хлопот.
— Шура, милый, здравствуй, я…
Он высвободился сильным жестом из моих объятий, передернул плечами и сел.
— Без нежностей, пожалуйста. Из дому? Маменька послала разбирать мои дела с Никаноровым?
Он расставил ноги, упёрся руками в колено и смотрел на меня в упор. Серая гимназическая куртка оттеняла его свежее, миловидное лицо, которому не хватало правильности линий.
Голубые глаза сверкнули из-под тонких чёрных бровей:
— Так вот мой ответ: убирайся отсюда с чем пришла!
Я пробовала успокоить его, уверить, что и не думаю вмешиваться в его дела, что только исполняю поручение.
— Ну, хорошо, я отвечу, — сказал, наконец, брат и вдруг заговорил патетическим тоном: — Живу я у Никанорова уже второй год, и он обращается со мною точно с чужим. Мне так тяжело. Поэтому я хочу бросить его и уйти к другому. Я не хочу у него жить. Нельзя сказать, что мы поссорились, но мы и не сходились.
Я знала, что Никаноров строг и не одобряет увлечения брата театром. Поэтому надо было проверить, насколько брат искренен, и не играет ли ловкой комедии, чтобы перейти на житье к другому, более снисходительному воспитателю.
— Шура, милый, но если тебе так тяжело живётся — отчего ты не напишешь мне? Ведь ты знаешь, что я всегда готова помочь тебе чем могу.
— Я тебе ещё прошлым летом сказал, что не хочу с тобой иметь дела — раз и навсегда. Ты мне не сестра.
— Так ты ещё помнишь эту глупую ссору? Пора бы забыть, я успела даже совсем забыть, в чём дело, — с удивлением сказала я.
— Она забыла! скажите, пожалуйста! Рылась в моих бумагах, читала мою драму, — и потом ещё станет уверять, что забыла! — вскричал брат тоном прокурора, уличающего преступника. Он был наивно убежден, что всякая мелочь всю жизнь важна и её необходимо помнить. Ему и в голову не приходило, что в Париже, в университете — можно было забыть об его тетрадках.
— Шура, да ведь я тогда же сказала тебе, что перерыла твой ящик по ошибке, — никакой твоей там драмы не читала и не видала…
— Врёшь!
— Шура?!
— Врёшь, подлая лгунья! Нечего выворачиваться. Как я тебе сказал, — ты мне больше не сестра,— так и будет. И ни ты, ни твоя заграничная жизнь меня не интересуют, и дела мне до тебя никакого нет.
Я совсем растерялась. Эта сухость и грубость натуры сказывалась в нём с детства и к восемнадцати годам только развились. Напрасно старалась я доказать ему, что это глупо, что я неспособна на нечестные поступки, приводила в доказательство любовь и уважение, которыми пользовалась на курсах. Брат был непоколебим.
— Ну, как хочешь, — сказала я наконец, — я не стану насильно навязывать тебе братских чувств. Но раз мать меня послала узнать о тебе — надо же сказать ей что-нибудь.
— Можешь передать ей, что я решил гимназию кончить — я теперь пришёл к этому убеждению, — со снисходительною важностью произнёс брат.
Он пришёл к этому убеждению только в восемнадцать лет, после девятилетней борьбы с учащим персоналом двух гимназий, кое-как, правдами и неправдами добравшись до шестого класса.
— Наконец-то!
Брат не понял сарказма моего тона. И весь преисполненный важности от природы ограниченного человека, нахватавшегося “верхушек”, продолжал:
— Я готовлюсь к сцене или к опере, ещё не знаю куда. У меня, говорят, прекрасный баритон. Но в императорское театральное училище, если без среднего образования, надо держать конкурсный экзамен. А мне не выдержать. Так уж лучше гимназию кончу. Так маме и передай. Пусть она не беспокоится.
— Хорошо. Передам.
— Ну, а теперь — и разговаривать больше не о чем. Можете отправляться.
Эта дерзость, это самодовольство, самоуверенность ограниченного ума — до глубины души возмутили меня. И мне захотелось доказать ему, что в сущности он сам не прав, что вся его жизнь построена на несправедливости закона.
— Ты обвиняешь меня в нечестности, а честен ли ты сам?! Подумай только: мы, сестры, получили наследство после отца только седьмую часть, тогда как ты и брат Володя — всё остальное. Ты можешь учиться и платить дорого за пансион только потому, что у тебя денег вдвое больше нашего, тогда как мы, сестры, — как учились? и где? — По самым дешёвым ценам, без новых языков. На что ты тратишь свои проценты? На театры, на извозчиков… тогда как я в Париже едва свожу концы с концами, и всётаки мне не хватает годового дохода, беру из капитала. А ведь мы дети одного отца. Вот ты и подумай — раз ты спокойно пользуешься своими деньгами, которые дал тебе устаревший закон о правах наследства — честен ли, справедлив ли ты сам?
— Ф-ф-ью! Вот она о чём заговорила! Ну уж это дудки! Мне деньги, брат, самому нужны. А тебе не хватает — так заработай, ха, ха, ха! — и он нагло и дерзко рассмеялся.
Я крепко стиснула зубы и сжала руки, задыхаясь от негодования. Вот к чему привели все старания, все заботы об его образовании! Только к тому, чтобы было одним дипломированным подлецом на свете больше!
— Посмотри, сколько я покупаю книг! — и он широким жестом указал на полки.— Сколько я в долг даю! — хвастался брат. — Ещё недавно дал полтораста рублей…
— Но ведь ты великодушничаешь на чужой счёт! Если мать с детства не внушала тебе понятий честности и справедливости, я говорю тебе это — я, твоя старшая сестра. И ты ещё смеешь упрекать меня в нечестности, тогда как сам, сам…
Голос мой оборвался, я не могла продолжать от рыданий — и отвернулась, чтобы скрыть выступившие на глазах слёзы.
— Без драм, пожалуйста. Я своих слов не изменяю. Разговор наш кончен, можете отправляться.
Брат сел в кресло у письменного стола и закурил папиросу. Оставалось только — уйти и уехать.
***
Передала матери, что ей нечего беспокоиться, что дела брата идут хорошо.
— Чего же он пишет такие письма, негодяй! Только здоровье портит, беспокойство причиняет!
Теперь она, наверно,
…пишет себе на отраду
Послание, полное яду *. <…>
{* “Изменённая цитата из баллады А. К. Толстого “Василий Шибанов” (“Поспело ему на отраду / Послание, полное яду…”).}
6 апреля/24 марта.
<…> Вечером мы с бабушкой сидели за чаем. Я рассказывала ей о своей поездке {В Кострому для утверждения духовного завещания покойной бабушки в Окружном суде.}; она молча слушала и вздыхала с каким-то особенным взволнованным видом.
— Бабушка, милая, что это вы? — спросила я.
— Ничего, Лиза, ничего… так.
— Да вы скажите, допытывалась я. — Случилось что-нибудь? неприятность какая? да?
Бабушка молча покачала головой, и вдруг сказала серьёзно и торжественно:
— Вот бабушка твоя и умерла… честь честью, как следует быть: и причастили её, и завещание написано, и в нём никого не забыла — и вам оставила, и бедным, и Саше и на помин души… Хорошо… дай Бог всякому такую кончину. Вот я теперь и думаю… про твою маму, плоха она стала, — ах, плоха. Пора и о завещании подумать. Ведь у неё денег-то немало. Опять всё мальчикам пойдёт, как после отца… велика ли ваша восьмая часть? Опять же в церкви надо бы, в монастырь, на помин души. Пора и об этом подумать… Живём — грешим, после смерти кто помолится? Вы, молодые, в Бога не верите… — Ох, надо, надо Саше подумать об этом… поговорила бы ты с нею, Лиза.
— Бабушка, что вы говорите? — в ужасе вскричала я. — Да разве можно говорить с ней об этом? Ведь вы знаете, как она смерти боится…
— А Бога она не боится? Как подумаешь, будет лежать в могиле… без вечного поминовения… как собака какая, прости Господи.
Голос бабушки дрогнул, и она заплакала.
— Бабушка, дорогая, поймите, что это — немыслимо. Ведь вы же знаете, она всю жизнь прожила, делая только то, что ей нравилось… смерти она боится до безумия… всю жизнь лечилась от всяких болезней — и действительных, и воображаемых. И вдруг говорить с ней о завещании! Да что вы, что вы, бабушка! Пусть уж лучше я сама дам за неё, куда вы велите — на всякие поминовения. Только молчите, только не говорите с нею об этом!
Но у бабушки свои убеждения. Её горячая, наивная вера придаёт ей твердость фанатика… Она молча покачала головой…
— А Бог-то! а грехи-то! а вы, дочери, чем же хуже сыновей? хоть бы о вас подумала, пожалела бы. Шутка ли, законы-то какие, всё у вас для братьев отымают… Нет, коли ты не хочешь, я уж сама с ней поговорю.
— Этого ещё только не хватало!
Я в отчаянии умоляла её ничего не говорить. Бабушка молчала. Она, очевидно, раскаивалась, что завела со мной этот разговор, а теперь я мешала привести ей в исполнение, очевидно, уже назревшую мысль. Что-то будет? Как устроить так, чтобы она и в самом деле не вздумала высказать матери своих мыслей? Как помешать? Не пускать её одну без себя ехать к матери? Но как это устроить? Пожалуй, со своей стороны, бабушка догадается, рассердится и всётаки поедет.
8 апреля/26 марта.
Смешно, что мы с бабушкой ведём такую дипломатическую игру: она старается скрыть от меня свои думы, — а я стараюсь всячески не допустить её ехать к матери без меня. Сегодня удалось уговорить идти к всенощной, пока я вечером буду у адвоката.
10 апреля/28 марта.
Сегодня утром прихожу из библиотеки — бабушки дома нет. Я тотчас уже сообразила, что она, наверное, поехала к матери, и поскорее пошла туда. Ещё подходя к столовой по коридору, сквозь все затворенные двери долетел до меня раздражённый резкий крик. Это был голос матери. Сердце у меня так и замерло… Не удержалась-таки бабушка! говорила!
Я пробежала столовую и распахнула дверь гостиной. Бабушка с платком в руках сидела в кресле и плакала. Около неё стояла дрожащая Надя. Мать полулежала на низеньком диване.
— А-а, вот она, вот кто это вас научил! — злобно воскликнула она, указывая на меня. — Как посмела ты, подлая тварь, — нет, отвечай, как только ты это посмела!!!
Я остолбенела и не могла сразу сообразить, в чём дело. В голову точно молотком ударило, в глазах помутилось…
— Что такое? При чём я тут? — с усилием выговорила я.
— Она не понимает!
— Саша, побойся Бога, не возводи на неё неправды, это я сама, сама, — я только на монастыри, на помин души, — умоляюще твердила бабушка.
Бедная Надя, совсем уничтоженная, тихонько всхлипывала.
— Неправда! Знаем мы, в чём дело! Вы не о монастырях, а о внучках хлопочете! Так нет же! Я вам дам себя знать! — Глаза матери сверкали хорошо знакомою мне ненавистью к нам, детям, и всё её существо, казалось, оживилось злобной радостью от сознания, что она может отомстить нам, дочерям, даже из-за могилы.
— Не на-пи-шу! Пусть всё идёт мальчикам, — я очень рада! Какие они мне дочки? Одна замуж вышла, другая на курсы поехала…
Я не выдержала.
— Вы же сами вышли замуж тоже против воли бабушки? или вы произвели нас на свет только для того, чтобы воспитать из нас себе рабынь? — сказала я с негодованием, и вдруг опомнилась, сознавая, что с этим чудовищем бесполезно тратить слова.
Сколько слёз было пролито мною когда-то, в годы ранней молодости, перед этой женщиной, когда я на коленях умоляла её отпустить меня на курсы. Как плакали мы, сестры, в детстве от её побоев, придирок, наказаний!
— Уйдём отсюда, бабушка, милая, уйдем скорее, — старалась я её поднять с кресла. Но старушка не двигалась с места, точно загипнотизированная гневом дочери.
— Ишь, чего захотели! что выдумали. Пусть всё идет мальчикам, так вам и надо… подлые…
И каждое слово этой женщины, как удар ножа, отзывалось во всём существе моём. Я столько выстрадала от неё, что, кажется, сил нет более, а она всётаки ищет ещё что-нибудь новое.
А бедная Надя тихо шептала:
— О, как мама рассердилась! Лиза, Лиза, и зачем это ты выдумала?
Бедная, глупая девочка! напрасно её разуверять, всё равно не поверит.
Я поспешила скорее увести бабушку.
И среди этой бездны нравственной мерзости, среди всего, что приходится мне переносить — воспоминание об этом вечере в Бусико являлось единственной светлой точкой в моей измученной душе. Как хорошо он говорит! Как он добр ко мне!
Казалось, что его слова издалека поддерживали во мне бодрость духа, энергию, гордость…
Вечером бабушка долго молилась и, укладывая меня спать, по обыкновению — перекрестила с особенно торжественным выражением лица.
— Спи, Бог с тобою! И ты ведь немало от неё натерпелась… Ох-хо-хо, грехи наши тяжкие!..
12 апреля/30 марта.
Я совсем устала от переездов по железной дороге, устала от всего. Я разбита и физически, и нравственно, чувствую себя совсем плохо… Сил нет оставаться здесь после всей этой истории… Не стану дожидаться утверждения духовного завещания, уеду в Москву к тёте, она зовет к себе на Пасху. Вчера послала за сестрой и целых три часа упрашивала её принять доверенность и окончить дело. Она не соглашалась, всё боялась “напутать” и “не так сделать”. А чего проще: теперь осталось только деньги получить да разделить поровну. Наконец, она поняла и согласилась. Бабушка поглощена говением и бесконечными великопостными службами. Моё присутствие в маленькой квартире, постоянные поздние возвращения домой — беспокоят её и отвлекают в сосредоточении на благочестивых мыслях. Когда я вчера сказала ей, что собираюсь уехать, она не стала удерживать меня.
— Кабы другое время — а теперь поезжай. Дни такие великие настали… Доживу ли до будущей страстной седмицы? Бог весть,— так надо теперь помолиться…
Всё это не мешает ей самой приготовлять мне ежедневно к утреннему чаю яйца всмятку… Накануне страстной-то недели! Но бедная бабушка молчит, подчиняясь требованиям неведомого, чуждого ей прогресса.
Москва. 15/2 апреля.
Приехала к тёте {Тётя — Евпраксия Георгиевна Оловянишникова.}. Она, по обыкновению строгая, сдержанная, всегда критически смотревшая на курсистку-племянницу, на этот раз обняла и поцеловала меня, с видимым удовольствием, оглядывая моё парижское траурное платье.
— Наконец-то на человека стала похожа! Одета прилично и причёска по моде, и как ты похорошела! Боже мой! Повернись-ка… Да-да! Вот что значит Париж!
Все двоюродные братья, женатые и неженатые члены многочисленной семьи тоже говорили мне комплименты. Я удивлялась. Туалет — до сих пор оставался для меня непроницаемой тайной, и я была радехонька вместе с поступлением на курсы одеть традиционное платье курсистки: черную юбку и простенькую блузу. Прическа — то же самое. Сколько ни учили меня завиваться, причесываться, — я не изменяла гладко причёсанным волосам в одну косу. В Париже я невольно усвоила общую манеру — пышно взбивать волосы и делать тщательную прическу. И никак не воображала, что вместе с платьем это произведёт такой эффект. И, под влиянием всех этих похвал и комплиментов, посмотрелась в зеркало. Ну да, действительно, что-то не видать прежней курсистки.
Тётя была очень довольна, и не удержалась, намекнув, что её приглашение было не без дипломатической подкладки: есть жених в виду…
Я вспомнила совет Ленселе, и рассмеялась. Как кстати, если бы тётя знала! что же, посмотрим, что за жених.
И я последовала за тётей в изящную маленькую гостиную, любимое место её интимных разговоров. И садясь у ног её на пушистом бархатном ковре, шутливо сказала:
— Если вам пришла такая охота заниматься сватовством… — к вашим услугам.
— Нет, Лиза, — на этот раз нечего смеяться. Пока ты училась на курсах, — тётя с сожалением вздохнула, в тоне её голоса зазвучало бесконечное снисхождение к людской глупости, — так уж и быть… Но теперь — курсы кончены, пора и замуж. Ты вздумала ещё изучать юридические науки — а много ли потом заработаешь? Тебе уж 25 лет; средства у тебя небольшие, вечно одна. А ведь в Писании сказано: “не добро человеку быть одному”… помнишь?
Ещё бы не помнить! С детства заученные тексты точно выжжены в памяти, и, несмотря на всё желание, — никак не забываются.
— Ну, так вот. Партия представляется превосходная. Не только для тебя — для своей дочки я не желала бы лучше.
И тётя горестно вздохнула. Бедная, она второй год страдает в своей уязвлённой материнской гордости; её единственная дочь, которую предназначали неведомо какому миллионеру и шили приданое во всех монастырях Поволжья, — влюбилась в бедняка-репетитора, студента и обвенчалась самым романическим образом. Второй год прошёл; он очень мало зарабатывает литературным трудом, и кузина должна сама себя содержать {Ю. Балтрушайтис и М. Оловянишникова.}… Этого ли ожидала тётя, мечтая о дворце для своей Тани!
Наши курсистки из интеллигенции, бывало, возмущались, когда слыхали подобные воззрения на брак. А я так вполне понимаю их: в нашем купеческом быту всё счастье, всё благополучие жизни построено на деньгах. И вот тётя искренно думала устроить хоть моё счастье, если не удалось создать его для родной дочери.
И я, тронутая, протянула руку.
— Очень вам благодарна, милая тётя, но…
— Послушай, Лиза, зачем “но”? Дело серьёзное. Это товарищ по университету Таниного мужа, Соколов, прекрасно кончил курс, занимается у отца на фабрике… богачи страшные… Он слыхал о тебе; хочет познакомиться. Вот завтра ты поедешь к Тане, он у неё бывает каждый день…
Я молчала. Всё это говорила тётя так ясно, так неоспоримо разумно… одного только тут не хватало: любви…
Москва, 18/5 апреля.
Сегодня день рождения кузины. Тётя не поехала её поздравлять, очень устала от церковных служб, а послала подарки со мной.
Кузина — нарядная, весёлая, счастливая — встретила меня в прихожей, смеясь с особенным лукавым видом. Очевидно, она действовала заодно с тётей…
Я сделала вид, что ничего не замечаю. В столовой сидели друзья её мужа — их было двое — один пожилой, а другой молодой. Кузина представила их. Пожилой оказался художником, а молодой тем “женихом”, о котором говорила тетя. Я взглянула на него с предубеждением. Но нет, в нём ничего особенного не было: спокойные, слегка расплывчатые русские черты лица, внешность, если не красивая, то и не безобразная.
Он свободно, непринужденно заговорил со мною о загранице, о литературе, об искусстве, оказался чрезвычайно начитанным и очень интересным собеседником. Кузина с тонким тактом вставляла в разговор свои замечания; муж её и художник спорили о каких-то вопросах. Время пролетело незаметно до полуночи; я стала собираться домой.
Кузина живёт на Пречистенке, тётя на Покровке, а он — на Таганке. Дорога предстояла длинная, и мы пошли вместе пешком.
Я уже начинала находить моего собеседника симпатичным, когда он случайно упомянул о своей сестре.
Я слыхала, что у него есть сестра — некрасивая и очень несчастная одинокая девушка. И мне захотелось узнать, как он к ней относится, такой ли он хороший брат, как говорила кузина. Кстати, он как раз рассказывал, что ездил с ней прошлым летом в Норвегию и жаловался, что с ней “невозможно путешествовать, все устаёт, ходить не может”…
— Отчего же вы не сообразовались со здоровьем вашей сестры? — спросила я.
— А мне-то что до неё за дело?! — откровенно признался он… — Я ведь не для неё ехал, а для собственного удовольствия.
Он рассуждал так в тридцать лет. Откровенный эгоизм и грубость — в такие годы! Я пришла в ужас, и невольно, инстинктивно сравнила его с тем, кого видела там, в Париже… какая разница! как в том развито тонкое, глубокое понимание души! И мне он стал не так интересен. Дойдя до ворот, мы простились…
19/6 апреля.
Несмотря на страстную пятницу, на то, что у всякого в доме хлопот по горло перед праздником, кузина всётаки приехала сегодня к тёте. Я сидела у себя в комнате и читала, когда горничная передала, что тётя просит придти к ней в спальню.
Едва я вошла, — “Поздравляю, поздравляю!” — вскричала тётя.
— Это с чем? — удивилась я.
— Не притворяйся, полно, нечего, ты ему очень понравилась — первое впечатление было самое прекрасное, остаётся только продолжать.
— Конечно, конечно, — подтвердила кузина. — Не к чему вовсе за границу ехать. Оставайся-ка лучше здесь.
— Но я уже подала прошение о выдаче паспорта.
— Эка важность! Дело серьёзное, а она с паспортом. Оставайся, — сказала тётя.
Я всё ещё думала обратить разговор в шутку. Но ни тётя, ни кузина не шутили.
— Тебе уже двадцать пять лет! В твои годы я уже пятерых родила! А она по белу свету скитается! Тут о ней заботишься, а она заладила своё “еду” — прости, Господи, моё прегрешение! — в страстную пятницу и то рассердила. Ну, как хочешь. Некогда мне долго с тобой разговаривать, сейчас к вечерне зазвонят, надо в церковь, — сказала тётя раздраженно, подымаясь с места. — Делай, как знаешь, только после на себя не пеняй.
И тётя торжественно вышла из спальни. Шлейф её роскошного чёрного шёлкового платья, казалось, укоризненно шуршал, медленно удаляясь в коридоре.
Мы с кузиной остались вдвоём в спальне.
— Ну вот, мама на тебя рассердилась, а я добрее её несколько, — проговорила Таня своим серебристым нежным голоском, который составляет одну из её прелестей и немало сводил с ума поклонников.
— Охота тебе, Таня, заниматься сватовством, — примирительно заметила я.
— Видишь ли, моя милая, есть одно хорошее житейское правило — лови момент. Тебе пора выйти замуж. С этим все согласны. В глубине души и ты сама, быть может, согласна, да только не говоришь. Ну, пусть, твоё дело.
Я опять вспомнила в эту минуту совет Ленселе, — и порадовалась, что его никто не слыхал. То-то бы торжествовали эти житейские мудрецы!
А кузина продолжала:
— Так вот. Представляется случай сделать прекрасную партию. Ты ему понравилась. От тебя зависит продолжать. А ты едешь там сдавать какие-то экзамены, да ещё больше чем на год. Пойми, что ты делаешь: упускаешь такой случай. Чего ещё тебе нужно: молод, образован, и — кузина добавила деловым тоном — и очень богат. В наше время это одно из существенных достоинств, которым пренебрегать нельзя…
Мне хотелось сказать ей: и так рассуждаешь ты, сама вышедшая замуж по любви, против воли родных? И вдруг я вспомнила, что тётя очень богата, что кузина вполне и навсегда обеспечена.
Да! ей, богатой невесте, можно было выбирать себе жениха по сердцу, она могла идти, за кого хочет… её средств хватит на двоих. А я…
И передо мной промелькнула перспектива предстоящей трудовой серенькой жизни. Именно серенькой… Деятельность, вечно ограниченная рамками закона, который не позволяет нам, женщинам, создавать более широкие планы будущности… однообразие одинокой жизни…
А демон-соблазнитель в лице элегантной молодой женщины сидел в качалке и, улыбаясь, говорил: “Останься лучше”…
Я вспомнила курсы и наши пылкие мечтания о работе на пользу народа… и мою гордую радость, при мысли, что, изучая юридические науки, я прокладываю женщине новую дорогу и потом буду защищать её человеческие права… И за один призрак буржуазного существования — я откажусь от своей цели, пожертвую своими убеждениями?
— Нет, Таня, как только выдадут паспорт — уеду… Надо скоро вносить деньги за последнюю четверть года.
Кузина молча пожала плечами. И когда в прихожей, прощаясь с ней, я протянула руку, то прочла в глазах её невысказанное слово “дура”.
22/9 апреля.
Вчера у тёти целый день был приём по случаю первого дня праздника. Визитёры, попы, яйца, поцелуи, пасхи, куличи… в роскошно убранных комнатах, среди живых цветов, среди разодетых по-праздничному людей праздник, казалось, совершался медленно и важно. Несмотря на все мои уверения, что я не хочу снимать своего траурного платья, тётя купила-таки изящный белый шелковый корсаж, заставила меня его надеть и выйти к гостям.
— Такой великий грех — быть на Пасхе во всём чёрном! В моём-то доме! уж извини — я этого не допущу…
Увы! как хорошо знаю я с детства эти слова: “не допущу!”, “не потерплю!”
Но из-за корсажа не стоило спорить и смущать душу набожной тёти. И я покорно надела его, причесалась и вышла к гостям.
Вечером, усталая от этой беспрерывной церемонии празднования первого дня Пасхи, я и укладывалась к отъезду. Паспорта ещё не прислали, начинаю беспокоиться. Тётя не сочувствует моим сборам и молчит. Она, очевидно, оскорблена в своей гордой уверенности, что я послушаюсь её.
Мне это больно и неприятно.
Я вовсе не хочу ни ссориться с ней, ни огорчать её… но и поступиться своей свободой не согласна ни на шаг. Поэтому я всячески стараюсь угодить ей в мелочах, спрашиваю, не надо ли поручений, вообще — изъявляю полную готовность быть в Париже комиссионером по части мод. И, кажется, немного успела. По крайней мере, от моих разговоров тётя призадумалась и решила дать какие-то поручения.
А я стала какая-то бесчувственная… точно деревянная… всё делаю машинально…
24/11 апреля.
Паспорт получен; сегодня же вечером выезжаю скорым поездом в Париж. Тётя дала поручение — купить накидку у Ворта или Пакэна. Мы простились дружелюбно, хотя со стороны тёти всё же заметна была некоторая сдержанность.
Париж, 30 апреля.
Вот уже третий день, как я здесь. За эти пять недель весна вступила в свои права: деревья покрылись зеленью, сады пестреют цветами, фонтаны бьют, на улицах серые платья и шляпы… Передо мной был светлый, ласкающий Париж, весь залитый яркими лучами весеннего солнца. Меня опьянял этот блеск, шум, эта ослепительная красота города в весеннем наряде…
Вот как отдохну немного, исполню тётины поручения, так и пойду туда, в Бусико…
4 мая
Если когда-нибудь женщина может искренно повторять слова молитвы — “и не введи нас в искушение”, так это переступая пороги храмов моды в rue de la Paix {Улица Мира (франц.).}. Название этой улицы неверно. Какой там мир! Те зрелища роскоши, на которые натыкаешься там на каждом шагу, прогоняют скорее последние остатки душевного спокойствия и мира и поселяют смуту, злобу, недовольство…
Её вернее надо бы назвать rue de la Mode {Улица Моды (франц.).}. <…>
Я начала с Пакэна. И сразу попала точно в волшебное царство. Вся квартира была белая: белая мебель, белые потолки, стены лестницы. Лёгкая лепная работа придавала им что-то воздушное. Казалось, что вошла в какой-то лёгкий белый храм… и в этом храме, среди сдержанного говора, совершалось благоговейное служение идолу моды.
По мягким коврам бесшумно и грациозно скользили взад и вперёд высокие, стройные красавицы в разных туалетах. Сверкали шитые золотом и серебром газовые бальные платья, пестрели костюмы для прогулки, медленно и лениво волочились шлейфы, дезабилье из тончайшего батиста и кружев валансьен. Это были не платья, а поэмы в красках, в тканях, такие же создания искусств, как картины в Лувре.
И от этой пёстрой, почти фантастической картины кружилась голова… Эта ослепительная красота роскоши, блеск, изящество гипнотизировали взгляд и властно притягивали к себе…
Я стала неподвижно, и с трудом соображала, зачем пришла, когда подошла продавщица спросить, что мне нужно.
— Накидку летнюю… для пожилой дамы.
Вдоль стены в открытых шкафах висели модели; в стороне на столах они были наброшены целыми грудами… Заказчицы подходили и выбирали, а надзирательница звала свободную примеряльщицу, надевала на неё платье, и живая модная картинка начинала прохаживаться взад и вперёд… а дамы сидели и следили, соображая, оценивая эффект костюма.
Продавщица подошла к одному из шкафов.
— Вот модель, — сказала она, вынимая из массы вещей нечто вроде хитона из розового шёлкового крепдешина с греческими рукавами, по которому потоком бежали чёрные кружева и бархатки… Я сначала не поняла, что это такое, и можно ли серьёзно носить такую необыкновенную вещь, какой у нас даже на сцене не увидишь.
— Мадмуазель Леонтин, — позвала продавщица.
Молодая девушка в гладком чёрном шёлковом корсаже с небольшим декольте откуда-то вышла и встала перед нами.
Это была живая кукла, совершенно похожая на те бюсты, которые выставляют парикмахеры у себя на окнах как модель. Великолепно сделанный цвет лица, безукоризненная причёска и лицо, неподвижное, как маска, без мысли, без выражения… Всё существо её, казалось, заключалось в высокой, стройной, грациозной фигуре, которая одна жила и существовала.
Продавщица надела на неё непонятную розовую вещь. <…>
Это была лёгкая летняя накидка, сделанная на античный лад. Вся красота заключалась в складках легкой материи, которые грациозно бежали с плеч вниз, чёрные кружева и узенькая бархатная лента рельефно выделили их. Искусство, с каким древние римляне драпировали тогу, перешло в совершенстве к их потомкам… Я всегда любовалась одеждами античных статуй…
Живая кукла грациозно выступала, поворачиваясь вправо, влево; казалось, она родилась в древнем Риме и всю жизнь только и делала, что драпировалась в пеплум.
— Годится вам эта модель? — заставил меня очнуться вопрос продавщицы.
Тут я сообразила, что к тяжёлой русской купеческой фигуре тёти античный пеплум мало подходит.
— Нет-нет… покажите что-нибудь другое… дама очень полная. Надо такое, чтобы скрыть полноту, и солидное в то же время. Продавщица тотчас же поняла мою мысль.
— Вот, лучше этого вряд ли найдёте, — сказала она, надевая на примеряльщицу широкий шёлковый жакет цвета mauve {Розовато-лиловый (франц.).}. — Эту модель можно сделать из чёрного креп-де-шина на подкладке из тафты, покрытой шёлковым газом с цветочками.
Я представила себе чёрный шёлковый креп-де-шин, на подкладке из тафты mauve покрытую этим газом с лёгким рисунком васильков… Выходило хорошо, солидно и изящно. <…>
— Пятьсот пятьдесят франков. У нас накидки начиная от пятисот… дешевле нет. Посмотрите, какой материал мы ставим — кружева настоящие, шёлк самый лучший… Право, пятьсот пятьдесят франков за такую вещь — недорого.
“На русские деньги это будет около двухсот рублей…”, — соображала я, не зная в сущности, как решить — дорого это или не дорого; вообще, на одну накидку истратить такую сумму дорого, а относительно качества материала и работы — выходило недорого, дешевле, чем в России. А навязывать свои мнения о нравственности и безнравственности дорогих покупок богатой и уже немолодой женщине было бы глупым бросанием гороха в стену.
И я сказала: “Да, так хорошо будет. Только я предварительно посмотрю ещё, зайду к Ворту и Дусэ, и если не найду ничего более подходящего, то вернусь к вам”.
Продавщица с достоинством поклонилась.
“Идите, мол, ищите, — напрасно! лучше, чем у нас, не найдёте…”
Пошла к Ворту и Дусэ. Знаменитый портной императрицы Евгении помещается на простой квартире, и залы были пусты. У Дусэ, наоборот, была давка страшная, и в светлом салоне так же мелькали живые куклы, как и у Пакэна. Я быстро пересмотрела несколько моделей, действительно не нашла более подходящего и вернулась к Пакэну.
Тут за это время успела придти целая семья американок. Мать, две дочери и старуха — чуть ли не бабушка, гувернантка — заняли большую часть салона, как привычные, постоянные посетители. Перед ними прохаживалась девушка в простом бумажном платье.
— Сколько? — своим гортанным английским акцентом спросила дама.
— Четыреста франков.
На этот раз я подумала, что такая цена действительно дорога: за бумажное-то платье… Но когда рассмотрела ткань — батист тончайшей работы, и фасон — простой, но исполненный прямо художественно, — опять нашла, что недорого. И на мелькнувшую мысль, что это безнравственно тратить такие деньги на летнее платье, вдруг нашла оправдание: “но зато как оно красиво! какое изящество!”
А продавщица, думая, что я куплю ещё что-нибудь, повела меня к картонам с вставками и блузами. Самая дешёвая вставка стоила сто франков, блуза — полтораста. Я смотрела и никак не могла сообразить, как же за такой ничтожный кусок ткани платят такие деньги? С ценами на платье я ещё могла помириться, но с этими мелочами — нет.
Я сказала продавщице, что имею только один заказ. Записала имя тёти, её адрес и поскорее ушла из этого дома, где теряешь разницу между понятиями, что дорого и недорого, нравственно и безнравственно: изящество и роскошь так тесно сливаются с искусством, с красотою, что решительно всё в голове путается и почва ускользает из-под ног…
6 мая.
Сегодня утром поехала в Бусико.
Как красив этот новый госпиталь теперь, в яркие весенние дни! Небольшие красные павильоны разбросаны среди зелени направо и налево… вдали в центре шумит фонтан.
Я прошла к знакомому павильону направо, в коридор. Там никого не было, только больные в халатах выходили погреться на солнце.
Я сидела, не двигаясь. Только теперь почувствовала я, до чего устала — и физически и нравственно. Один из больных полюбопытствовал, кого мне надо.
— Мсье Ленселе.
— А, он сейчас пройдёт с старшим врачом… вон слышно, выходят из палаты.
Действительно, через несколько минут в коридоре послышался шум, и мимо меня быстро прошла группа мужчин в белых блузах и направилась к павильону напротив.
— Чего же вы? ведь вот сейчас мсье Ленселе и прошёл, — говорил больной.
— Но я право не могла его увидать… — оправдывалась я.
— Погодите, я сейчас сбегаю — и, подобрав полы халата, он побежал по направлению удалявшейся группы.
Я увидела, как одна фигура в белом отделилась и тоже бегом направилась к нашему павильону. Это был Ленселе.
— Здравствуйте, мадмуазель. Давно ли вы вернулись из России? — услышала я вновь его голос.
— Примерно с неделю, мсье
— Не подождёте ли меня немного? Я вернусь через полчаса.
— Да, мсье.
И он ушёл, а я по-прежнему неподвижно сидела на скамейке… Мне было как-то хорошо под лучами солнца; я и не заметила, как он вернулся.
Как и в прошлый раз, мы пошли в другое здание, опять в ту же комнату, где я была в марте. Теперь вся залитая солнечным светом, она казалась ещё лучше.
— Как Вы себя чувствуете? — спросил он, подвигая мне стул.
Я почувствовала, что вся энергия, до сих пор поддерживавшая меня, вся гордость пришла к концу… что нет сил больше… и разрыдалась, как дитя.
— О, я так устала, так устала…
Он что-то говорил, я не слушала, мне было совершенно всё равно, долго сдерживаемые слезы лились неудержимо…
— Успокойтесь, мадмуазель… если Ваша семья была жестока с вами — забудьте всё. Я не говорю — “простите” — я знаю, как это трудно — просто забудьте. Теперь Вы в Париже, Вам надо много трудиться, впереди сложный экзамен… ну — успокойтесь, приступайте к занятиям… — наконец начала я слышать и понимать.
И вдруг в моём сознании мелькнула мысль, что ведь я ни разу не платила ему, и в сущности не знаю — надо или нет платить.
— Мсье, я ещё забыла вам сказать… эти визиты… бесплатные… — Рыдания совсем задушили меня, и я упала головой на стол.
Его рука легла на мою.
— Прошу Вас, ни слова об этом! Разве об этом стоит говорить? Что вы думаете, что у нас во Франции учащаяся молодежь, артисты, художники, литераторы не пользуются бесплатной медицинской помощью, как у вас в России?
— Но ведь я иностранка, мсье…
— Разве несчастье не для всех одно и то же? — с упреком сказал он. — Оставьте раз навсегда этот разговор, слышите? Будем говорить только о серьёзных вещах. Думайте о работе, что Вам предстоит.
— Я привезла вам из России портрет Толстого, только я не принесла его с собой; я не знала, могу ли предложить вам взять его на память.
— Это всё, что вы мне должны, мадмуазель, — с живостью возразил он. — Принесите его непременно.
Я понемногу успокоилась. Вуаль скрывала следы слёз. Надо было уходить.
Провожая меня до дверей, он говорил:
— Вам надо гулять! Париж сейчас так прекрасен. До свидания, мадмуазель. Заходите ещё.
Я вышла из госпиталя и, пока шла до трамвая, смотрела на деревья, покрытые свежей зеленью, на ясное голубое небо… На душе было как-то легче, спокойнее: точно солнечный луч заглянул в неё.
Париж сейчас так прекрасен…
6 мая.
Ну зачем я пойду и понесу ему сама этот портрет?
Я так устала… к чему? Ведь всё равно меня трудно вылечить… а вот напишу ему — заодно спрошу, чем был болен брат, что его воспитатель не хотел мне сказать? В какой медицинской книге можно об этом прочесть?
12 мая.
Я ещё спала, когда постучали в дверь. Заказное письмо! Странный здесь обычай: почтальоны обязаны передавать заказные письма лично, без церемонии входят в комнату во всякое время дня. Я набросила пеньюар, приоткрыла дверь, из опасения, чтобы почтальон не вошёл ко мне неодетой, взяла книгу, расписалась. Вместе с толстым пакетом подали и изящный белый конверт, подписанный незнакомым почерком, по городской почте. Я вскрыла толстый пакет: это Надя добросовестно писала отчёт о своих похождениях по духовному завещанию — как его утвердили, как она делала раздел. Меня это не так интересовало, как конверт с незнакомым почерком.
От кого бы могло быть это письмо? Я разорвала конверт и прочла:
“Мадмуазель,
Принося мою самую искреннюю благодарность за то, что вы взяли на себя труд отправить мне по почте прекрасный портрет Толстого, не могу скрыть от вас прискорбного происшествия, приключившегося с вашей посылкой. Упаковка была повреждена, сам же портрет оказался во многих местах надорван. Так как исправить уже ничего было нельзя, я не счел нужным предъявлять бесполезные претензии к почте. Если бы я смел, то, скорее, пожурил бы Вас за то, что не принесли мне портрет собственноручно. А что касается портрета, то он мне дорог и в таком виде, так как, глядя на него, я вижу не урон, понесённый при пересылке, но исключительно благородство помыслов и величие идей писателя.
Не стану пытаться в нескольких словах Вас немного приободрить, а лучше приглашу Вас зайти как-нибудь утром либо в пятницу вечером после обеда в Бусико, и тогда мы сможем поговорить обо всём, что Вы мне написали. Вам надлежит одержать победу над самой собой, уверен, что так и случится.
С уважением,
преданный Вам Е. Ленселе.
11 мая 1901
P.S. Я готов одолжить вам книги по медицине, как Вы того желаете, но не уверен, что они будут Вам полезны, по причинам, которые изложу при встрече”.
Чудное майское утро начиналось. Вся моя комната была проникнута его светом. Я сидела на постели с этим письмом в руках, читала и перечитывала его с каким-то безотчетным удовольствием.
Как хорошо он пишет!
Впрочем, неудивительно: ведь все французы — прирожденные стилисты и ораторы… Почерк элегантный, тонкий, ясный, мелкий — точно бисер. Как красива у него буква “D”! Так ещё никто из моих корреспондентов не писал: маленькая палочка посредине и линия кругом идёт таким красивым изгибом…
В душе поднималось какое-то чувство облегчения: он пишет, чтобы я пришла в госпиталь. Напишу ему, что приду в пятницу, а портрет Толстого можно и другой выписать из России.
14 мая.
Сегодня — предпоследний день для взноса платы за право учения. Пошла в университет. Давно я там не была. Пока там нас, женщин, очень мало, всего две — Кореневская одна на втором да я одна на первом. Обе совершенно теряемся в толпе студентов. И как там скучно! Студенты-юристы, должно быть, во всех странах мира одинаковы: нигде, ни на одном другом факультете нет такого наплыва богатых, ограниченных и праздных буржуа. Французское студенчество не то, что русское: почти сплошь буржуазно. Все они хорошо одеты, получая от 150—200 фр. в месяц, искренно считают себя небогатыми людьми. На первом курсе все мальчишки — 17-20. Не посещая лекций — я и знакомств ни с кем не завела. Но перед экзаменами — это необходимо. Встретила сегодня Кореневскую, у которой есть знакомые с первого курса. Она обещала привести одного в субботу.
15 мая.
Сходя с лестницы вниз в столовую, я ещё издали увидела на полочке для писем конверт с изящным почерком. Значит, от него.
“Мадмуазель,— читала я, — я вовсе не хочу, чтобы вы выписали из России ещё один портрет Толстого — я храню ваш подарок, и он не стал мне менее дорог оттого, что пострадал при пересылке.
Что же касается книг по медицине, которые Вы просили, то лучше поговорим об этом при встрече, я хотел бы лично прояснить некоторые вопросы, которые могут возникнуть при чтении. Не приходите завтра вечером, к сожалению, в эту пятницу я не смогу задержаться в клинике, но в субботу, если это, конечно, Вам удобно, я свободен от полудня до шести часов вечера.
Примите заверения, мадмуазель, в моем искреннем уважении и преданности.
Е. Ленселе. 16 мая 1901”.
Идти туда в субботу! но я не могу: придёт Кореневская с французом. Досадно. Надо написать отказ.
19 мая, воскресенье.
Ещё осенью один приезжий русский познакомил меня со своим приятелем-химиком. Этот молодой человек очень добр, очень мил, но у нас, в сущности, мало общего. Он специалист, погружённый в свои колбы и реторты, и выразился как-то, когда прошёл закон о женщинах-адвокатах: “ну, хорошо; только могут ли женщины-адвокаты быть хорошими матерями?” — “Ах, какое горе! — сострадательно ответила я ему в тон, — а могут ли быть мужчины-адвокаты хорошими отцами?” Он растерялся и не нашёлся, что ответить.
Но всётаки он славный человек. И поэтому мы, хоть и изредка, но видимся. Я ещё не была у него по приезде, и сегодня пошла.
Он давно собирался брать уроки немецкого языка в обмен на французский, и я не удивилась, когда встретила в его комнате студента-немца.
Он познакомил нас. Herrmannsen, студент одного из бесчисленных германских университетов, не то Боннского, не то Берлинского.
— Мы собираемся ехать в Сен-Клу, погода такая хорошая. Не хотите ли — поедем вместе? — предложил Дриль.
Я согласилась. И пока он искал какие-то записные книжки, я рассеянно взглянула на письменный стол. На нём лежал развернутый лист приложения к “Presse Medicale” — список всех парижских госпиталей, их врачей — интернов и экстернов.
Я взяла его, глаза инстинктивно искали госпиталь Бусико. Господи, — какой большой лист! сколько фамилий! <…> где ж он?
А вот — внизу, в левом углу, госпиталь Бусико, и там Ленселе! Какое красивое имя! Оно всё состоит из мелких ласкающих звуков, самое красивое из всего списка… все остальные звучат как-то грубо в сравнении с ним.
— Дайте мне, пожалуйста, этот лист… — попросила я Дриля.
— Зачем вам? — удивился он.
— А это для статистики. Мы с одной медичкой давно интересуемся — какой процент иностранцев между экстернами.
— С удовольствием, берите… мне кстати он больше не нужен,— согласился добрый Дриль.
А мне даже и совестно не было за свою ложь. И я, в благодарность, была как можно внимательнее и любезнее с ним и его немцем, рассказывала им разные разности, спорила, — словом, развлекала их до самого Сен-Клу.
Немец оказался “с душою прямо геттингенской” {А. Пушкин, “Евгений Онегин”, глава вторая, строфа VI.}. Сначала дичился и говорил мало, но под конец прогулки читал из Гейне и, прощаясь, торжественно заявил, что “такой женщины, как я, он ещё никогда не встречал”…
21 мая.
Herrmannsen попросил позволения бывать у меня, в восторге от того, что я как-то зашла к нему в его комнату. Немедленно вытащил свой альбом, показал портреты всех родных, всех барышень, в которых был влюблён…
Я в двадцать два года была куда серьёзнее его… Оттого что я внимательно выслушала все его признания относительно прошлого, все мечтания о будущем — он пришёл в восторженное настроение и чуть не клялся в преданности до… самой смерти, в том, что оказать мне какую-либо услугу — составит величайшее счастье его жизни. Это меня рассмешило.
— Ну, а если я поймаю вас на слове и действительно пошлю с поручением? — спросила я.
— Я только этого и желаю, — пылко воскликнул юноша.
— Хорошо. Я сейчас напишу письмо, а завтра рано утром вы пойдёте в госпиталь Бусико, спросите мсье Ленселе и подождёте ответа.
И я внутренне смеялась от души. Забавно было видеть, как он весь насторожился при слове “мсье”, как явное огорчение отразилось на его лице. Пришлось для его успокоения объяснить, что посылаю его к интерну за книгами, нужными мне, а посылать письмо по почте — долго ждать ответа, так удобнее, он скорее принесёт.
По мере того, как я объясняла, лицо его прояснялось, и наконец, — вполне убеждённый, что “ничего тут нет” — он с тем же восторгом принёс мне бумагу, перо, чернила и конверт, и я наскоро написала записку…
24 мая, пятница.
В одиннадцать часов утра Herrmannsen стучался в мою дверь.
— Войдите.
Он вошёл сияющий. Я знала, что ему доставит удовольствие подробно рассказать об исполненном поручении,— а мне — выслушать. Недаром немцы — народ обстоятельный. Он начал с того, как нашёл конку, как сначала перепутал и не на ту попал, и потом догадался, пересел на другую и т. д. Наконец, как пришёл в Бусико, как его впустили, как он долго ждал в павильоне. “И вот он вышел. Я ему передал ваше письмо, он взял, прочёл, спросил, как вы себя чувствуете, я сказал, что не знаю, — и потом куда-то ушёл и принёс ответ. Вот”.
И Herrmannsen достал из бокового кармана своего сюртука вчетверо сложенный жёлтый листок, на котором было напечатано “Бесплатные консультации” — там наскоро, его рукой были написаны две строки: “Приходите сегодня вечером, после обеда. С уважением, Ленселе”.
— Знаете, мадмуазель,— прибавил честный немец, — он мне показался красивым и серьёзным малым.
Так он красив? А ведь, в самом деле, я ещё до сих пор не успела рассмотреть его лицо.
И так же добросовестно ответила немцу:
— Да? А я и не замечала; каждую нашу встречу я находилась в таком состоянии, что и глаз не могла поднять. — И я от всей души благодарила милого юношу.
В восемь часов я одевалась, чтобы ехать в Бусико. Наступающее лето заставило расстаться с траурным платьем, и вместо чёрного корсажа я купила несколько белых. Большая белая шляпа а la Bergere… Впервые в жизни я одевалась с удовольствием: зеркало отражало прелестную молодую женщину, которая счастливо улыбалась мне…
Мне казалось, что электрический трамвай идёт медленно… и ещё пришлось ждать бесконечные десять минут у вокзала Монпарнас, так как трамвай оказался переполненным…
Вот наконец — улица Лекурб… а там немного дальше Бусико… Опять неизбежный вопрос консьержа:
— К кому вы, мадмуазель?
— К мсье Ленселе.
— Первый этаж, направо.
Перед тем как позвонить, я посмотрела на маленькую аспидную доску, на рамке которой черными буквами напечатано “interne de garde” {Старший субординатор (франц.).}, а на доске мелом написано было: Lencelet.
Так вот отчего он бывает здесь по пятницам, значит, это его дежурство.
Я позвонила. Горничная отворила дверь.
— Мсье Ленселе просил Вас немного подождать, — сказала она, вводя меня в библиотеку.
Дверь соседней комнаты тотчас же отворилась, и из неё вышел Ленселе.
— Здравствуйте, мадмуазель… прошу вас подождать в моей комнате… Мы сейчас обедаем… <…>
Мы прошли в его комнату. Он зажёг электричество. Окно было открыто, и поток майского воздуха лился в комнату.
— Извините, что я вас оставлю. Так вот, почитайте пока, а если хотите — вот и медицинские книги. Я скоро вернусь.
И он быстро ушёл.
Оставшись одна, я с любопытством осмотрелась. Дверца зеркального шкафа была приотворена. Я заглянула туда: толстые книги в красивых переплётах стоят там… Ни вещей, ни платья — ничего! Как странно… Туалетный стол — пустой. Чем больше вглядывалась я в обстановку комнаты, тем более она производила впечатление чего-то двойственного — точно она служила каким-то временным пребыванием. Письменный стол был буквально завален книгами на французском и немецком языках с массою рисунков… среди них валялась пачка запылённых визитных карточек. Я взяла и прочла: “Е. Ленселе. Старший субординатор, ул. Брезен, 5”
Так вот оно что! значит, он живёт не здесь, а где-то в городе.
Ящик письменного стола был не вполне задвинут: в нём лежала масса всяких бумажек, писем…
Я плотно задвинула ящик и рассеянно перелистывала толстый медицинский том. Из книги выпала закладка — узенький клочок бумаги, вырванный из тетради — как мне сначала показалось.
Я подняла его, чтобы вложить обратно на место, и вдруг нечаянно прочла: “pas trouvee chez moi” {Ненадолго отлучилась (франц.).}…
Письмо от женщины!
И только тут заметила я, что клочок бумаги был элегантной голубой узенькой карточкой с золотым обрезом, такой узкой и длинной формы, какой я ещё не видала.
Так вот как…
Я вертела в руке бумажку. Взглянула ещё раз… какой неразборчивый почерк! только и видно, что, “ненадолго отлучилась…” — должно быть извинение, что не застал её дома. Вверху стояло число: 2 февраля 1900…
Мне стало стыдно, что я нечаянно прочла хоть одну фразу из чужого письма. Но чёрт бы побрал эти модные бумажки, похожие скорее на клочки, чем на письма. Знай я, что это письмо — никогда бы в руки не взяла. Хорош тоже и он — употребляет женские письма на закладки своих книг…
Я села у стола и взяла “Frau Sorge” {Роман Германа Зудермана (1857—1928), “Госпожа Забота” (1887).}.
Как хорошо в этой уютной, светлой комнате! Уже одно то, что я в ней была, действовало на меня успокоительно. Я читала “Frau Sorge” уже давно, и знаю, что в конце есть прелестная сказка. Но не успела начать её, как вернулся Ленселе.
— Много ли Вы успели прочесть? Приношу извинения — сегодня мы задержались с обедом…
Я подумала, что он мог бы и поторопиться, но часы обеда и завтрака священны для каждого француза, и сократить их нельзя. И из вежливости, вслух, отвечала:
— Ничего страшного… И потом, я ненадолго…
— Нет—нет, сегодня я не занят… у нас есть время до десяти часов… Я обещал Вам книгу — сейчас принесу…
Он вернулся через несколько минут с толстым томом.
— Я был в большом затруднении, у нас в библиотеке нет таких книг — и притом я не знаю, в чём дело.
— Да я и сама не знаю; воспитатель брата наотрез отказался сказать, чем был болен брат…
— Удивляюсь. Отчего он не мог сказать — вот предрассудки-то! — говорил он и сел напротив, перелистывая книгу. — Видите ли, я не знаю, вряд ли эта книга будет вам полезна. Вы ничего не поймёте.
— О нет, нет — пойму! Ведь понимают же медички, — живо возразила я.
— Как хотите. Вот, тут говорится о болезнях мужских половых органов, о влиянии этих заболеваний на нервную систему…
Он говорил, а я смотрела на него. Свет лампы ярко освещал его голову. Тонкие, правильные черты лица. Тёмные, изящные брови казались почти чёрными, и голубые глаза с длинными пушистыми ресницами смотрели серьёзно и внимательно сквозь стёкла пенсне. Чёрная бархатная шапочка интерна очень шла к нему. Это была красивая, изящная голова, какой я ещё никогда не видала…
Я слушала, и смотрела, и переживала чудные минуты…
Человек, который сделал мне столько добра, — так хорош, так симпатичен… в эту минуту он мне казался совершенством, в котором так гармонично сливались красота души с красотой внешней; и это сознание доставляло такое глубокое, такое невыразимое наслаждение, что все существо мое, казалось, жило какою-то новою жизнью…
Да, немец был прав…
— Но вряд ли это даст вам что-нибудь. К тому же, если вы даже и узнали кое-что из этой книги, — всё равно вы теперь от него далеко, всё равно не можете ничего сделать. Сосредоточьте лучше своё внимание на том, что сейчас непосредственно важно для вас самой. Помните, что у вас впереди есть цель, которую вы должны достигнуть… Занимайтесь, готовьтесь к экзамену…
— Но я так устала… мне кажется, что я совершенно ни к чему не способна — памяти нет.
— Это вам только так кажется. Вы просто на время потеряли волю, а память восстановится опять, за это нечего бояться. Поддерживать в самой себе упадок духа, уныние — совершенно бесполезно, это убивает вас. Вы должны овладеть собой; помните, что вы человек интеллигентный, что ваша работа может быть полезной для женщин.
Говори он так целую вечность — я всё слушала бы… Слова его поддерживали, оживляли меня…
И я вспомнила его совет выйти замуж, и как в Москве представился случай, — и мне захотелось рассказать ему об этом.
— С вашей стороны вполне естественно было уехать, если молодой человек вам не нравился. Выходить замуж нужно не иначе, как по взаимной любви или симпатии!!
— По любви! Но я знаю, что такое любовь! Читали вы у Шопенгауэра в “Мир как воля и представление” главу “Метафизика половой любви”?
— Да.
— Ну так вот, там верное представление о любви… Вот что это такое, как я смотрю на неё, — это мираж, обман и больше ничего, — сказала я с отчаянием, чувствуя, как вновь зашевелились в душе ужасные воспоминания о браке сестры…
— Ну, не совсем… — примирительно возразил он.
Мне захотелось узнать, как он смотрит на брак.
— И потом — замужество! С человеком, который вдоволь пользовался молодостью — с таким ещё рискуешь быть обманутой… А я этого не допускаю в браке…
— Я также.
— Выйдя замуж, — по вашим законам — женщина окончательно теряет право над своей личностью. Её имущество принадлежит мужу. Это возмутительно, это несправедливо!
— А я нахожу, что вполне справедливо. Деньги заработаны не женщиной, приданое даёт ей отец, — значит, естественно, что не она может ими распоряжаться, а муж.
Мне стало больно… Зачем он так говорит? Я не выдержала и с упреком возразила:
— И не стыдно вам так рассуждать? Да разве можно насильно учреждать опеку над взрослым человеком? Вам важен не факт происхождения состояния, а в данном случае способность распоряжаться им. Неужели женщина, раз она замужем, должна быть на положении ребёнка? У нас в России на этот счёт гораздо справедливее: имущества мужа и жены разделены…
— Я не знаю, как у вас, в России… но наша, французская женщина, в среднем — стоит неизмеримо ниже мужчины… и в настоящее время она не может ещё требовать правоспособности в браке. Посмотрите на наши лицеи — они пусты, туда отдают своих дочерей только чиновники.
О, зачем он так говорит! Ведь это же грубо, несправедливо, узко, эгоистично.
И главное, — он так говорит!
Но стрелка показывала без четверти десять. Надо было уходить. <…>
Мы стояли на крыльце. Теплая майская ночь спустилась над Парижем, и в её тишине, среди наступившего безмолвия ночи, как-то особенно безотрадно прозвучали слова молодого скептика, точно подавляемого тяжестью собственного убеждения, что он — прах на земле…
Я опустила голову… и задумалась…
— Мне пора, мадмуазель, — тихо сказал он.
— В самом деле! Извините, я вас задерживаю. И, простившись с ним, потихоньку пошла по тротуару, не зная, на какой трамвай сесть. Было темно, и я забыла направление. На углу стояла группа в ожидании трамвая. Я присоединилась к ней.
Вскоре господин в пенсне и в цилиндре подошёл ко мне.
— Извините, мадмуазель… Вы здесь дожидаетесь трамвая? — Это был он, уже переодетый. Я подумала: очевидно, он носит цилиндр потому, что знает, как это к нему идёт.
— Я узнал вас по белой шляпе. Вы здесь дожидаетесь трамвая?
— Да.
— Это не ваш. Надо пройти дальше метров триста. Я вас провожу. Я иду в Mont-Rouge, к одному из своих друзей, который болен.
Он дождался, пока подошёл мой трамвай, посадил меня и скрылся в тёмной пустынной улице… А я — поехала домой в каком-то странном настроении, которое поглощало меня всю… <…>
26 мая, воскресенье.
Начала читать книгу. Ничего не понимаю! ни одного слова! Специальный язык — оказался для меня точно китайским. В словаре нет таких слов, да и долго искать. Пусть он объяснит мне всё, что я не поняла.
30 мая, четверг.
Сегодня утром была в секретариате — вынимала жребий, когда сдавать экзамен. Вынула номер 1029-й.
— О, это на последнюю неделю! — сказал чиновник.
Сама не знаю почему, но я была довольна, что ещё долго останусь в Париже… Увижусь с ним…
Написала ему сегодня письмо, что если не получу ответа до 3-х часов в пятницу, — значит, он свободен и я приду вечером.
31 мая, пятница.
Я одевалась, чтобы идти в Бусико. Накануне принесли полутраурное серое платье: я сама придумала фасон — гладкий лиф с белой косынкой Marie-Antoinette. Я очень люблю этот жанр. Но насколько наши русские портнихи не умеют понимать идей заказчиц и исполнять их, — настолько здесь всякая последняя швея — художница. Теперь, в эту минуту, одеваться доставляло мне такое же наслаждение, как год тому назад — чтение Лаврентьевской летописи. Я любовалась своим отражением в зеркале, и сознание того, что я молода и хороша собой, наполняло меня чем-то новым.
Как могла я прожить на свете столько лет — и не знать и не замечать своей внешности!
Я уже прикалывала шляпу, как в дверь постучалась наша мадам Odobez…
— Телеграмма! О, да вы стали совсем парижанка, — сказала она, с улыбкой смотря на меня и подавая городскую телеграмму — carte-lettre. До чего чувствительны к внешности эти француженки! Они не пройдут молча мимо того, что красиво. Я сейчас же догадалась, что это была телеграмма от него.
“Мадмуазель.
Не приходите сегодня вечером, нам не удастся переговорить. Поверьте, что я искренне сожалею. С уважением, преданный Вам
Е. Ленселе”.
Вечером пришёл немец, и мы пошли с ним гулять в сквер Observatoire. Он что-то говорил… я не слушала… Какое-то досадное чувство наполняло мою душу, и я не могла дать себе отчёта, — почему…
2 июня.
Троицын день. Отчего всё чаще и чаще думаю о нём? Неужели полюбила его? До сих пор я не знала, что такое любовь… и не понимала.
Ну, что ж? Всё надо знать, всё надо испытать в этом мире… А любовь для меня — нечто такое новое-новое…
Какое-то радостное и гордое чувство наполняет душу. Мне кажется, будто я не жила до сих пор, точно чего-то ждала… теперь — начинается жизнь…
7 июня, пятница.
Серенький конверт со знакомым почерком. Это было от него.
“Мадмуазель, на несколько дней я уезжаю в деревню, и до своего возвращения мне не удастся назначить день нашей возможной встречи в Бусико. Надеюсь, что Вы находитесь в добром здравии и уже приступили к серьёзному изучению права. Работа — вот лучшее лекарство от тягостных мыслей. Примите заверения, мадмуазель, в моём самом искреннем расположении к вам.
Е. Ленселе”.
Так он уехал! <…>
Я взялась за книги, раскрыла программы… <…>
При мысли о том, что он отдыхает там на даче, тогда как я должна сидеть здесь, в душном городе — как-то хорошо делалось на душе. Если бы эти мои занятия — могли заменить его! Пусть бы он отдыхал, я бы работала за него…
9 июня, воскресенье.
Когда он должен вернуться?
“На несколько дней я уезжаю в деревню…” — ну, значит, скоро… Когда вернётся, он напишет… Наверное в пятницу, так как это его дежурство в госпитале…
11 июня, понедельник.
Ещё только начало недели! Как долго… Сегодня на электризации Брока познакомилась с интересной сиделкой, мадам Делавинь. Бывшая коммунарка, член партии социалистов-революционеров, очень энергичная и неглупая женщина. Мадмуазель Анжела, которая электризует больных, тоже очень симпатичная и простая. Гораздо лучше, чем в Сальпетриер. И с больных взяток не берут, хотя на стене и нет объявления о том, чтобы их не давать…
Пока сидя на скамье мы разговаривали во время электризации, дверь растворилась и вошёл пожилой господин, окружённый толпою студентов. Взгляд его прекрасных чёрных глаз, казалось, проникал прямо в душу — и сразу выделял его из толпы. Он подошёл к нам и стал спрашивать каждого, кто его направил.
— А вы, мадмуазель?
— Меня направил мсье Ленселе.
— Что это за человек с таким необыкновенным взглядом? — спросила я мадмуазель Анжелу, когда он ушёл.
— О, это знаменитость по накожным болезням, доктор Дрок.
— Действительно, он очень симпатичен.
— Так-то так, да всётаки он клерикал… — со вздохом сожаления прошептала мне на ухо мадам Делавинь.
Мне самой стало смешно при этой мысли. А ведь верно, хоть и знаю, что надо мной могут смеяться…
Но если бы кто-нибудь предложил мне в годы успехов, — реальной удачи в делах — нет, — не отдам я за них этот час!
19 июня, среда.
Поздно вечером я отбросила в сторону толстый том конституционного права… и выглянула в окно. Хорошо бы выйти пройтись в такую чудную ночь.
Вдруг я вспомнила его адрес — 5, rue Brezin… и мне захотелось непременно пройти по этой улице, мимо дома, где он живёт. <…>
Я шла по бульвару Пор-Рояль, с наслаждением вдыхая свежий ночной воздух. Кругом ни души не было. <…>
Я забыла, которая по счету с avenue d’Orleans будет улица Brezin. Кого бы спросить? Полицейских не было; кабачок на углу был ярко освещен, две-три женщины обнимали поздних посетителей.
Я подошла к кассирше.
— Скажите, пожалуйста, мадам, где улица Brezin?
Сказала и испугалась откровенно-любопытного взгляда, каким уставилась на меня хозяйка. Мне показалось, что она догадалась, зачем я иду… Я смутилась, покраснела, и в голову не пришло, что в такой поздний час “порядочные” женщины не входят в кабаки.
— Это подальше, мадам… Вторая улица направо.
— Большое спасибо, мадам.
В самом деле — вторая направо — это и была rue Brezin. На какой стороне четные и нечетные номера? направо — 4, … значит, налево… вот он, 5, с красной решёткой, небольшой, пятиэтажный. Только в двух-трёх окнах виднелся свет; которое из них его окно?
Я прошла улицу до конца. Какой сюрприз! небольшая площадь, усаженная деревьями, и сквер! <…>
Сидя неподвижно на скамейке, я слушала тихий шелест листьев и голос ночи, таинственный и странный, и думала — где он теперь?
Когда я возвращалась по улице Brezin, какие-то люди подходили к подъезду его дома. Что, если это он возвращается домой? Что подумает он, если встретит меня здесь? ведь я не от него узнала адрес, а случайно сама прочла на его карточках… Сердце так и замерло… Но нет, это оказались две дамы и старик.
Этот дом… всё, что есть у меня самого дорогого на свете, всё там…
И я уходила домой, должно быть, в том же настроении, с каким бабы-богомолки возвращаются с поклонения святым местам…
Мне самой стало смешно при этой мысли. <…>
21 июня, пятница.
Ещё пятница — и нет письма! как бы узнать, вернулся ли он? Идти в Бусико… тогда он, пожалуй, узнает… К нему на квартиру? — немыслимо.
22 июня, суббота.
Просматривала вечером в читальне русские газеты. Напротив сидел юноша лет двадцати и усердно читал “Русские Ведомости”. Мы одновременно вышли из читальни; сходя с лестницы, разговорились и познакомились. Он оказался одесским евреем, кончившим среднее техническое училище. Приехал сюда поучиться культуре и поступил рабочим в литейную мастерскую.
Вечер был слишком хорош, чтобы благоразумно возвращаться домой.
Он живёт недалеко от укрепления и предложил пройтись до парка Монсури. Я согласилась. На обратном пути, когда мы шли avenue d’Orleans, мне вдруг пришло в голову: попрошу я его узнать, вернулся ли Ленселе в Париж.
И я сказала, как бы мимоходом:
— Если не ошибаюсь, здесь где-то близко должна быть улица Brezin. Там, в No 5, живет наш г. Ленселе и меня давно ещё просила одна товарка справиться — вернулся ли он в Париж? А я такая лентяйка, — всё откладываю… Так вот теперь мы проходим мимо, но я боюсь ночью разыскивать эту улицу.
— Позвольте мне вам помочь, — с готовностью возразил юноша. — Вот тут неподалеку — справлюсь у городового, где эта улица, и сейчас всё вам узнаю. Посидите здесь, на скамье, я сейчас вернусь.
И пока он ходил к полицейскому, я старалась овладеть своим волнением… Вот сейчас… вернётся и узнает… rue Brezin тут близко, в трёх шагах.
— Я никак не мог дозвониться, но с удовольствием справлюсь завтра и приду вам сказать, если вы позволите.
Я мысленно от всего сердца поблагодарила милого юношу, но вслух небрежно сказала:
— О, конечно, это не важно… зайдите завтра, если время будет…
23 июня, воскресенье.
Я заранее сказала мадам, что, если кто-нибудь придёт ко мне во время завтрака, так не заставляла бы ждать в моей комнате, пока я кончу, а вызвала меня тотчас же: есть спешное дело.
Я ждала этого молодого человека, так как он обещался придти в обеденное время.
И, не дожидаясь конца этой церемонии, которая тянется целый час и называется завтраком, — я бегом побежала вверх, в свою комнату, едва сказали, что меня спрашивает какой-то молодой человек.
— Я вам помешал, вы ещё не кончили? — спросил он.
— О нет, нет… очень рада… терпеть не могу этих длинных heures de repas {Обеденных часов (франц.).}.
— А я ваше поручение исполнил. Консьерж сказал: “Он никогда не покидает Париж. Вчера он вернулся из клиники и сейчас находится дома” — и предложил мне пройти к нему, если надо. А я не знал, что сказать. Поблагодарил и говорю: приду в другой раз…
Так он давно вернулся! И, однако, — и не подумал написать мне. Чувство какой-то острой обиды наполнило душу.
— Большое вам спасибо, садитесь, пожалуйста; я сейчас приготовлю чай.
Юноша расстегнул сюртук, удобно развалился в кресле и немедленно с ожесточением закурил папиросы. Пока он курил, пил чай и говорил, я делала вид, что внимательно слушаю… а у самой мысли были далеко-далеко… Сердце так и ныло от боли…
26 июня, среда.
Он не думает обо мне; зачем же я буду думать о нём? Или уж потеряла всякую власть над собой?
Надо готовиться к экзамену. Весь год ничего не делала — так теперь трудно приходится. <…>
17 июля, среда.
Madame Odobez {Хозяйка пансиона, где снимала комнату Е. Дьяконова.} постучалась ко мне в дверь и таинственно сообщила:
— Мадмуазель, там внизу вас кто-то спрашивает, мужчина, мсье… мне кажется, это русский нигилист… <…>
Вот сюрприз! передо мной был один из сотрудников нашей газеты “Север” {Газета, выходившая в Ярославле.} — Иван Николаевич Корельский.
Маленький, некрасивый, застенчивый — он всегда носит блузу и говорит очень медленно. Вот эта-то, совсем необычайная для французского глаза внешность и заставила madame Odobez произвести его в “нигилисты”.
Я его мало знаю, но он славный человек. И, конечно, сразу предоставила себя в его распоряжение. Устроила его, наняв комнату в нашем же пансионе, который совсем опустел.
Он видел братьев перед отъездом. Никто из семьи и не подумал прислать мне ни письма, ни чего-нибудь с родины. Но я была так рада, так рада увидаться с кем-нибудь из Ярославля.
С его приездом на меня точно пахнуло ветром с Волги, и на парижском горизонте мелькнули необъятные родные равнины, поля, луга, леса…
Он сидел и рассказывал, что делается на родине, а я жадно ловила каждое слово.
11 ч. 40 м. ночи {В издании “Дневник Елизаветы Дьяконовой. 1886—1902. Литературные этюды. Стихотворения. Статьи. Письма” (М., 1912) это место снабжено примечанием: “Эта запись в “Дневнике” печатается впервые”.}.
Толстой умирает! {С 11 июля (28 июня по ст.ст.) 1901 г. Л. Толстой болел малярией, и в продолжение первых дней состояние было крайне тяжелым. Улучшение наступило 20 (6) июля.} Сейчас постучалась в дверь madame и сообщила, что в “Signal” телеграмма в две строчки — “l’etat de Tolstoi desespere” {Состояние Толстого безнадежно (франц.).}. Что?!
Моей родине грозит новое, страшное несчастье, — ко всем прежним прибавится ещё одно ужасное, непоправимое!
Что будет с нами?!
Что будем мы, русские, без Толстого?
Ведь единственное, чем мы можем гордиться, что мы создали действительно своего за это столетие — это наша литература. Она — наша слава, наша гордость, и Толстой явился миру как мощное проявление народного русского духа, как совесть русского народа, которая, расширяясь и отбросив национальные рамки, стала всемирною совестью.
Твой стих, как божий дух, носился над толпой… {*}
{* Из стихотворения М. Лермонтова “Поэт”.}
Его слово было этим божьим духом. В гениях есть нечто сверхъестественное.
Моя любовь к нему — безгранична, и горю моему не будет конца, если случится то ужасное, неизбежное, о чём пишут в газетах.
Madame ушла. Я бросилась на колени перед его портретом и молилась… кому? какому неведомому мне Богу? какой высшей силе?
Сердце было полно; слёзы навертывались на глаза, и ужас и горе охватывали душу…
Ведь в его годы — всё может случиться… Хотя… 74 года… Гёте умер 82 лет… Живут и дольше. Отчего же Толстому не жить.
Мы и так достаточно несчастны. Что ж — неужели ещё мало?! неужели судьба отнимет у нас нашу славу, нашу гордость — как раз в тот момент, когда, быть может, мы переживаем подготовительные минуты перед неизбежной впереди революцией?
Лев Николаевич! Если б этот крик сердца любящей вас России мог выразиться в звуке — кажется, содрогнулся бы весь земной шар. Пусть <…> {Эта и следующая купюра сделаны в издании 1912 года.} синод занимается <…> “отлучениями” и запрещает… “божественную службу” {В начале 1900 г., когда писатель был болен, Синод разослал циркулярное письмо с запрещением панихид и заупокойных литургий в случае смерти Л. Толстого без покаяния; определением Синода от 22— 24 февраля 1901 г. Л. Толстой был отлучён от церкви.} — наше горе народное, горе всех мыслящих людей всего земного шара будет великой вселенской панихидой над могилою великого человека.
Я смотрю на его портрет в блузе, и мне кажется, что его глаза смотрят ещё печальнее…
О, Господи, если Ты есть, — спаси его, спаси ради нас, ради миллионов живых существ, которым он светит, как живой светоч истины, любви, совести, добра, — всего, чем жив человек!
Или мы, или наше горе, наши слёзы — ничто для Тебя?!
Мы ничтожны, да, но ведь всё же мы — люди…
И если Ты создал нас — не презирай наших просьб…
Спаси его, отдай его нам, погоди брать себе!
Погоди, погоди!! а если завтра… прочту в газетах…
21 июля, воскресенье.
<…> Сдаю в пятницу {Экзамен по конституционному праву.}. А как быть с книгой? придётся написать ему, спросить — куда и кому её отдать.
23 июля, вторник.
Получила ответ.
“Мадмуазель,
единственной причиной моего затянувшегося молчания была крайняя занятость делами моей семьи. Я буквально не имел свободной минуты и поэтому не мог найти время для встречи с Вами. Если Вы хотите вернуть книгу, то можете занести её в Бусико в любой день на неделе к девяти часам утра.
Искренне Ваш Е. Ленселе.
22 июня 1901”.
24 июля, среда.
Чтобы приехать в Бусико к девяти часам утра, — надо было встать рано. Я сплю долго по русской привычке и очень торопила madame Odobez с утренним завтраком. Я старалась не думать о нём… как будто бы иду только по делу. Но зеркало предательски отражало моё оживлённое лицо, всю такую стройную фигуру в белом платье.
Я решила надеть что-нибудь тёмное, старое, некрасивое, но на улице такая жара — иначе, как в белом, днём и выйти нельзя.
Когда я приехала в Бусико, — его ещё не было. Ждать пришлось долго, чуть ли не целый час. И всётаки увидела его ещё издали, когда он быстро подходил к павильону. На этот раз он был без чёрной шапочки — мне бросились в глаза редкие волосы на голове. Такой молодой и уже… лысый. Видно, хорошо провёл молодость.
Он увидел меня в коридоре, остановился, поздоровался.
— Извините, — я опоздал и очень спешу. Всё это время я был так занят. Одна из моих кузин больна — ей делали операцию… вероятно, она умрёт.
— Вот ваша книга, — сказала я, не смотря на него. — Очень вам благодарна. Вы правы — читать её было бесполезно, я всё равно ничего не поняла.
Он взял книгу и пошёл немного проводить меня. Я шла быстро, опустив голову, стараясь не слышать звуков этого чудного тихого голоса, который, казалось, проникал прямо в сердце.
— Прощайте, — сказала я.
— До свиданья. Извините, что не провожаю вас до дверей, — я должен скорее вернуться.
Мне и не надо было, чтобы он провожал меня до дверей. Я спешила уйти из этого госпиталя, и едва села в конку, раскрыла Конституционное право… Экзамен скоро…
28 июля, суббота.
Сдала экзамен. Теперь скорее бежать отсюда. Взяла билет на Лондон прямого сообщения Париж — Руан — Дьепп — Ньюгавен. Иван Николаевич {И. Н. Корельский.} пробудет здесь ещё с неделю, а потом идёт пешком путешествовать по Швейцарии. Звал меня пойти с собой — отдохнуть от занятий. Я отказалась: там такая чудная природа, всё расположит к мечтам. Нет, я уеду лучше в такую страну, где всё для меня ново, где язык непонятен, где ничто, ничто не напоминает о нём. В совершенно другой обстановке, я, наверное, скорей забуду о нём, а масса новых впечатлений не дадут мне и опомниться. Я составила себе целую программу, что делать: по приезде прежде всего — овладеть немного языком, а потом — ознакомиться с женским движением и физическим воспитанием детей, с народными университетами. Всё это полезно — и пригодится в моей будущей деятельности.
Лондон, 1 августа.
Город громадный, город-чудовище раздавил, уничтожил меня. Бесконечные улицы, однообразные дома… до такой степени однообразные, что можно позвонить, войти и не заметить, что это чужой дом.
На улицах движения ещё больше, чем в Париже, беспрерывно снуют на велосипедах мужчины, женщины и дети. Язык гортанный, шелестящий, которого я не понимаю… всё ново и чуждо…
Я поселилась на одной из окраин города, в одном из бесчисленных красных уютных домиков. Мой случайный знакомый по русской читальне дал адрес одного из своих земляков, который служит наборщиком в одной из здешних типографий. Этот услужливый и милый юноша помог мне устроиться первое время и будет показывать Лондон.
3 августа, суббота.
После французских семей, где самое большое — двое, трое детей, англичане невольно удивляют своею многочисленностью. Я уже успела отвыкнуть от наших русских больших семей — и теперь как-то странно снимать комнату в семье, где пятеро-шестеро детей. Но что здесь особенно поразительно — численное преобладание женщин над мужчинами. Всюду — пять-шесть дочерей, один-двое сыновей или даже вовсе ни одного, и так как все англичанки ездят на велосипедах, то на улицах велосипедисток больше, чем велосипедистов.
Несчастные мисс! им не хватает мужей… и в стране насильственно образуется “третий пол”.
Отчего же такое явление? чем оно объясняется?
Я тщетно ломаю себе голову. Знаю, что есть разные теории, из которых одна: темперамент более страстный производит пол себе противоположный, — кажется мне наиболее вероятной. Я проверяла её на своих родных — выходило верно. И в недоумении поделилась своими соображениями с моим знакомым. Тот был поражён. Его, оказывается, тоже занимал этот вопрос, и теперь он уверял, что эта теория верна.
— Теперь мне ясно! Я, как мужчина, знаю отношения полов ближе, чем вы, могу сказать, что англичанки страшно холодны, англичане же с женщинами — прямо звери. Я живу здесь три года, я не аскет и от сношения с женщинами не отказываюсь. Так уж довольно навидался… ох, какие они звери! Надо видеть, как они бросаются на жён. И юноша вдруг запнулся и покраснел, вспомнив, что зашёл слишком далеко в разговоре с незамужней женщиной.
Я рассмеялась и поспешила успокоить его взволнованную совесть. Но загадка — так и остаётся загадкой. Верить справедливости слов этого юноши — рискованно; чем же, чем это объяснить?
5 августа, понедельник.
Осматриваю Лондон. Была в Вестминстерском Аббатстве, в Национальной галерее.
Огромные расстояния и трудность объясняться очень утомляют меня. Для англичан — мало знать язык, надо уметь произносить по-ихнему — они не могут понять самого простого слова, если оно сказано неправильно.
Догадки, смётки, на которую такой мастер русский мужик, понимающий любого иностранца по соображению, у них никакой. Мозг какой-то жидкий, односторонний.
Начинает это меня раздражать: ищешь, ищешь слова, а его нет, а догадаться они не могут.
На днях пришлось быть на почте. Мне хотелось, чтобы чиновник сам заполнил бланк для пересылки денег, боялась сделать ошибку. А он хоть и понял, но не хотел этого сделать, и стоял как истукан, качая головой и хладнокровно повторяя “no-o”.
Это вывело меня из себя, — и я даже по-английски сумела послать его к чёрту.
Русский, француз, конечно, тотчас же вспылили бы тоже, но англичанин даже бровью не повёл. Я рассердилась ещё больше, и в конце концов настояла-таки на своём, заставила его заполнить бланк…
Моим недоразумениям и затруднениям, по незнанию языка, не было бы конца, если бы в Лондоне не было полицейских.
Это действительно — идеал. Скромно одетые в синюю куртку и синюю фетровую каску, они стоят всюду и исполняют свою должность слуг общества: помогают старым, слабым, указывают дорогу, провожают до омнибусов — подсаживают туда детей. Мы, жители континента, так привыкли, чтобы полиция знала одно: “тащить и не пущать” {Выражение из рассказа Глеба Успенского “Будка” (1868).}, что английские полицейские являются существами какого-то высшего порядка. <…>
12 августа.
Продолжаю осмотр Лондона.<…>
Купила себе старый велосипед: без него немыслимо жить при здешних расстояниях. Англичанки в отличие от француженок ездят в юбках, тогда как те большею частью в шароварах. Я быстро усвоила себе здешнюю посадку: англичанки ездят, держась чрезвычайно прямо, и не делают никакого видимого усилия, чтобы управлять велосипедом. Так мне очень нравится.
И вообще, я неожиданно открыла в своём характере некоторые черты, сходные с английскими. Не говоря уже о внешности, хотя я чисто великорусского происхождения — я не обладаю фигурой русской женщины — с пышно развитой грудью и боками. Я тонка и держусь всегда чрезвычайно прямо.
Нравится мне также и внутренность английских домов, их комфорт… <…>
Принято почему-то считать англичан неспособными понимать поэзию, искусство… Какая ошибка! Да, они обладают очень своеобразной артистической жилкой: уменьем устраивать своё жилище. И их практичность сделала это уменье народным, распространило его на рабочие классы. Характерно, что Вильям Моррис и Джон Рескин {Участники группы “прерафаэлитов”: Уильям Моррис (1834—1896) — художник, писатель, теоретик искусства; Джон Рескин (1819—1900) — писатель, теоретик искусства.} — эти апостолы религии красоты, старавшиеся распространить её, сделать доступной для масс — были англичане. <…>
Англичане у себя на острове создали своеобразную моду — носят белые пикейные платья, живописные шляпы с широкими полями и перьями, и ещё какие-то очень красивые и оригинальные, каких на континенте не носят: газовые оборки, пришитые к соломенной тулье, обрамляют лицо и образуют нечто вроде капора. Такие шляпы очень идут к юным лицам, обрамлённым локонами.
Я всегда любила белый цвет и шляпы с большими полями. Также и спорт. И моя любовь к лодке, к плаванию — немало возмущала мать. А велосипед я могла купить себе, только когда была совершеннолетняя. Такая ничем не объяснимая любовь к спорту окончательно потеряла меня в глазах матери. <…>
12 августа, понедельник.
Страшно устала. Сколько уже дней прошло, как я здесь… если б получить письмо от него?
Но как и что могу я написать ему? — как врачу, конечно, — хотя и чувствую себя хорошо; но иначе нельзя… и вот я пишу.
“Мсье.
Это выше моих сил, и я не могу больше с этим справляться. Я знаю, что не должна обращаться с этим к Вам, но эта боль побеждает всё: гордость, самолюбие; мне кажется, что моё теперешнее существование сведено к этой ужасной муке, от которой единственное лекарство — смерть. Я страшусь не смерти, но неизвестности: “Где найти силы, чтобы жить, и как я встречу день своей смерти?” Никто ещё не смог ответить на этот вопрос Ницше, кто ответит на него мне?” <…>
16 августа, пятница.
Сегодня утром увидела я на столе белый конвертик с изящным почерком… Какое счастье держать его в руках, какое страдание читать письмо, которое в нём лежит!
“Мадмуазель, — читала я. — Вы слишком сложны, умны, склонны к философии и погружены в свои мысли! Вспомните слова Священного Писания: “Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное”… Не знаю, как Вы относитесь к этим словам, но вот как их понимаю я: ищущий — никогда не найдёт, мыслящий — никогда не поймёт, взыскующий знания — никогда не узнает; человек — пленник своего разума, он хочет выйти из положенных ему пределов, надеется, что наука приблизит его к бесконечности, но он лишь раздвигает границы своего бессилия: чем больше он узнаёт, тем яснее понимает, сколь ничтожно его знание, и тем больше он страдает, чем больше он страдает — тем сильнее проклинает жизнь, чем сильнее проклинает жизнь — тем сильнее он жаждет смерти.
Такова, мадмуазель, природа и вашей болезни. Это замкнутый круг, и Вам из него не выйти. Смиритесь, научитесь быть никем, даже если Вам кажется, что Вы нечто значительное. Вы не можете стать меньше, чем Вы есть, но Вам и никогда не стать больше. Вы — всего лишь одно из проявлений высшего начала, и то, что соединяет составляющие Вас атомы, может находиться в Вас, а может и вне Вас. Сами же Вы — всего лишь случай. Поймите это, научитесь этим довольствоваться, и Ваша болезнь станет столь же бессмысленной, как и Ваша жизнь. На этом позвольте закончить, добавив напоследок лишь одно: на Вас нет вины — ни за мысли, которые Вас одолевают, ни за тягу к самоубийству, ибо Вы не можете быть другой, чем Вы есть. Если Вам суждено пожертвовать собой — Вы это сделаете, если Вам суждена жизнь — Вы будете жить. Единственный совет, который я могу Вам дать, — это научиться тратить свою энергию на работу, не задавая себе ни малейшего вопроса о будущем и Вашей грядущей судьбе. Когда Вы приехали во Францию, Вы знали о Вашем будущем не более теперешнего, и всётаки Вы ведь приехали: итак, сделайте же теперь то же, что и тогда — действуйте и не терзайте себя бесполезными вопросами, хозяином своей судьбы можно стать лишь тогда, когда сам за себя не отвечаешь. Поверьте, мадмуазель, что моё искреннее желание помочь Вам вернуться к душевному равновесию, не просто формула вежливости, призванная завершить это письмо.
Преданный Вам
Ленселе.
Август 1901”.
Какое холодное, разумное письмо! И как хорошо написано. Таким слогом, каким владеет здесь всякий обыкновенный образованный человек, у нас пишут только немногие талантливые писатели…
Несмотря на то, что всё это письмо — одно бесстрастное, отвлечённое рассуждение, каждое слово, каждая буква в нём — дороже всех сокровищ мира.
Только… немного поменьше бы рассуждения, побольше инстинктивного движения сердца. Я была бы счастлива уже и тем, что в его душе есть симпатия ко мне, но даже и этого нет… и к чему только подписался он “votre bien devoue” — “Преданный Вам”?
О, если бы он действительно был таким!..
18 августа, воскресенье.
Немец {Herrmannsen.} устроил глупую историю. Поехал за мной сюда, преследует ревностью. Я рассердилась и указала на дверь. Нет, решительно надо уехать отсюда.
Вот что значит так мало знать жизнь и мужчин и быть вечно погружённой в книги, как я! Готовясь к экзаменам — и не заметила, что мальчишка за мной ухаживает, думала — ничего серьёзного, а вышло вон что, — и Париж он бросил, и сюда поехал, и чуть с ума не сходит! Ещё, пожалуй, история выйдет.
Да, устала я и от Лондона, и от этой глупости… Уеду куда-нибудь в провинцию, на берег моря, — там отдохну. <…>
Недалеко от острова Уайта есть курорт Bournemouth, говорят — очень красивая сторона. Вблизи — маленький городок Southborne on Sea, там можно отлично и недорого устроиться на берегу моря. Вот туда и поеду…
Southborne on Sea, 23 августа.
Из окна моего деревянного коттеджа открывается спокойный английский пейзаж: деревья на зелёной лужайке; белая лента безукоризненной шоссейной дороги, обсаженная с обеих сторон кустами ежевики, протянулась передо мной; кругом — красивые домики с неизбежным садиком впереди. Море — в четверти часа ходьбы. Везде тишина, но не мёртвая тишина нашей русской провинции, а скорее спокойствие: дорога очень оживлена — часто проходят автомобили, омнибусы, ездят торговцы, велосипедисты, словом — она действительно служит путём сообщения.
Живу теперь очень спокойно и однообразно: занимаюсь по-английски, купаюсь в море, помогаю своей хозяйке — миссис Джонсон — в работах на огороде.
Узнала, что по соседству живёт друг великого писателя {Владимир Григорьевич Чертков (1854—1936) — публицист, издатель, пропагандист нравственно-религиозного учения Л. Толстого. Высланный в 1897 году из России, жил в Англии до 1908 г.}. Я была в восторге. Вот-то интересно познакомиться! <…>
25 августа, воскресенье.
Сегодня миссис Джонсон разоделась по-праздничному и что-то начала мне объяснять. Я никак не понимала.
Она повела меня через дорогу к цветной афише, приклеенной на стене, и я прочла, что сегодня в Christchurch’e выставка садоводства и огородничества, всего один день. Я тотчас же изъявила свое согласие сопровождать мою хозяйку, и мы отправились вместе с ней и её подругой в Christchurch. Это небольшой соседний городок, один из самых красивых в Англии. Там могила Шелли.
Выставка помещалась в очень живописном уголке — среди развалин старого замка, обвитых плющом… <…>
Когда стемнело — началась оригинальная, ещё невиданная мной игра: женщины стали в круг, держась за руки; молодые люди прохаживались в этом кругу, бросая на плечи то той, то другой пучок ниток, и тотчас же убегали. Девушки гнались за ними — те, конечно, давали себя поймать, — и дело кончалось поцелуями… <…>
Я стояла, смотрела и думала, что в этой игре есть свой raison d’etre для женщин: ведь сколько англичанок осуждено на безбрачие! — Для многих из них эта игра представляет иллюзию романа: под покровом тёмной ночи так приятно и поэтично очутиться в сильных объятиях.
Но сама в круг не шла. <…>
Через минуту на плече моём лежал пучок ниток <…>. И я вмиг очутилась в объятиях юноши. Его голова наклонилась…
— Да ведь этак и в самом деле он меня поцелует! — и, изгибаясь как змея, я высвободилась и выскользнула из его рук, так что он успел поцеловать только газ на моей шляпе. <…>
28 августа, среда.
Познакомилась со своими питерскими соотечественниками.
“Друг великого человека!” — уже одно это облекает личность каким-то ореолом: ведь когда солнце отражается в воде, то она блестит так, что глазам больно…
И я была вся полна ожиданием увидеть существо высшего порядка.
Он встретил меня просто и приветливо.
— Очень приятно познакомиться. Вы где же учитесь?
— В Париже, на юридическом факультете.
— Это почему же вы избрали себе такие науки?
— Я хотела бы быть адвокатом.
— А-а… мужиков обирать будете? — Я была озадачена и обижена.
— Ну, перестань, пожалуйста, — видишь, как ты смутил барышню, — примирительно заметила его жена, уже немолодая, замечательной красоты женщина {Анна Константиновна Черткова (1859—1927).}.
Я горячо стала доказывать ему, что у нас, юристок, и в мыслях нет замышлять что-либо против мужика, что мы, наоборот, хотим идти к нему навстречу, развивать в деревнях подачу юридической помощи населению; что, кроме того, я лично хочу отстаивать право женщины на самостоятельное существование, чтобы она имела те же гражданские права, как мужчина.
— К чему права?
— Если отрицать всякое право вообще — то, конечно, да; но мы живём не в мире грёз, и женщине, при её юридическом неравноправии, куда как трудно бороться с тяжёлою действительностью. Мы одинаково рождаемся на свет, хотим жить, а в беспощадной борьбе за существование — как мы вооружены, позвольте спросить? Вот я и высшие курсы кончила, а прав у меня — всё равно никаких. Даже заведовать учебной частью в женской гимназии не могу — на это есть директор, хотя я образована не меньше его…
Он слушал молча, и мне казалось, что слова мои для него звучат чем-то странным, — точно всё, о чём я говорила, имело самое ничтожное значение. Потом разговор принял менее острую форму — перешёл на Париж, на университет, студентов…
Я всётаки осталась очень довольна. Наверное, когда рассмотрю его поближе, я увижу в нём то необыкновенное, что привлекло к нему сердце великого писателя земли русской.
31 августа, суббота.
Я мало-помалу перезнакомилась и ориентировалась в обществе моих соотечественников.
Они живут тут целой дружной семьёй — в большом доме на берегу моря. Сад, огород, чудное местоположение делает этот уголок очаровательным. Русские путешественники все находят здесь самое радушное гостеприимство и поэтому можно увидеть самых разнообразных людей. Приезжают и литераторы, и ученые, и просто так себе путешествующие люди; некоторые из более близких знакомых хозяев — остаются подольше…
Брат хозяйки дома — бывший офицер, очень симпатичный молодой человек — усердно занимается хозяйством, работает в саду и огороде; ему помогает один из гостей — сын богатого московского купца, называющий себя толстовцем. Я присоединилась к ним и усердно работала. Тут мы называли друг друга: я его “хозяином”, а он меня — “работницей” {Очевидно, обыгрывание названия рассказа Л. Толстого “Хозяин и работник”.}. <…>
2 сентября, понедельник.
Никогда, кажется, не забыть вчерашнего дня.
Мы ехали на собрание какого-то общества в Bournemouth’е.
Он предложил мне сесть в экипаж, которым правил сам. И дорогой завёл разговор о смысле и цели жизни и попросил позволения указать их мне.
Хоть я и не нуждаюсь ни в чьих указаниях и выработала своё мировоззрение не с чужих слов, а собственным нелёгким и упорным трудом, — всё же приготовилась выслушать с почтительным вниманием.
— Цель жизни — служение добру. Вы призваны здесь совершить своё служение и сделать столько добра, сколько можете…
“Вот, наконец, начинается интересный разговор”, — с восторгом подумала я, и спросила, ожидая проникнутого необыкновенной мудростью ответа: Что же мне делать?
— Добро.
Это было совсем даже неопределённо. Добро — добром, но мне хотелось бы, чтобы он говорил более реально и менее отвлечённо.
— Но вы объясните мне, в чём оно должно заключаться, как проявляться… Хорошо, вы — можете жить, не ломая себе голову над вопросом о заработке, — а мне в будущем он необходим. Помнится, я уже как-то объяснила вам, что педагогики не люблю и считаю нечестным ею заниматься, раз не чувствую в себе призвания. Медицина меня никогда не интересовала. Так что вы, если хотите дать совет мне лично, — должны принять сначала в соображение то, что я, рано или поздно, должна буду считаться с вопросом: чем жить?
— Живите и распространяйте кругом себя свет добра, насколько вы можете…
— Да вы сначала ответьте на мой вопрос, — настаивала я, начиная терять терпение от этого уклонения в сторону. Он пожал плечами.
— Поступите в гувернантки.
“О лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка!” — вспомнилось мне отчаянное восклицание героя гоголевского “Портрета” {Е. Дьяконова цитирует фразу из повести Н. Гоголя “Невский проспект”: “О, лучше бы ты была нема и лишена вовсе языка, чем произносить такие речи!”}, и я едва не повторила его вслух.
Сразу разлетелся весь ореол, каким я так почтительно окружала друга великого писателя, и передо мной был он тем, каким и есть на самом деле: богатый аристократ, никогда серьёзно не думавший о женском вопросе. Кровь бросилась мне в голову, и я почувствовала себя оскорблённой… Не его поверхностным советом, достойным ума самого мелкого, ограниченного буржуа, — а тем, что моё доверие, мой энтузиазм были безнадёжно подломлены им же самим… <…>
Я даже и не возразила ему ничего; а он был, очевидно, убеждён, что делал хорошее дело, наставляя на путь истины…
4 сентября, среда.
Сегодня пришла в огород. Мой “хозяин” куда-то исчез. Отыскала его на заднем дворе, он накладывал навоз в тачку и, против обыкновения, не сказал, на какую работу идти.
— Что же такое, или праздник сегодня? — шутя спросила я.
— Н-нет… да видите ли, сегодня дело такое: я хочу под капусту гряды приготовить, так вот навоз надо возить… я в тачку накладываю и отвожу.
— Так чем вам одному два дела делать — давайте я буду возить, а вы накладывайте.
До сих пор я полола гряды, копала их и проч.; но чтобы студентка парижского университета возила навоз — это показалось ему непривычным.
Он нерешительно помялся на месте.
— Да ведь это же навоз, гм-м…
Я рассмеялась.
— Так что же, что навоз? Или вы думаете, что я не сумею справиться с такой работой?
И для доказательства — схватила вилы, быстро наложила полную тачку, свезла её на огород и вернулась — с пустой. Он, уже не возражая, тем временем приготовил и наложил другую тачку. <…>
5 сентября, четверг.
И несмотря на все эти ежедневные работы, — в тихие лунные ночи я ухожу мечтать на берег моря. Вдали едва-едва видны очертания острова Уайта… а там, за ним — так близко берега Франции… Париж. Из всего этого громадного города для меня существует пока одна улица Brezin и в ней — только No 5, где он живёт. <…>
Закрою глаза — опять вижу эту улицу тихой июньской ночью… и опять иду по ней и, проходя мимо его дома, ускоряю шаг, точно боясь, что он меня увидит… <…>
7 сентября, суббота.
На днях приехали ещё двое молодых людей; один на несколько дней, проездом направляясь в Петербург, с матерью, домашний учитель в одном из русских семейств, живущих в Кембридже; другой — учёный, занимающийся исследованием о сектантах; этот надолго, — ему доктор посоветовал на некоторое время оставить Лондон и пожить в деревне — работать для здоровья на воздухе {Возможно, Владимир Дмитриевич Бонч-Бруевич (1873—1955) — публицист, издатель, исследователь истории русского религиозного сектантства, деятель большевистской партии.}. Он приехал не один, а с женщиной-врачом, которая тоже с приездом в Петербург сдаёт государственный экзамен.
Так нас собралась в огороде целая компания.
Какие это славные молодые люди, добродетельные и… неинтересные! Толстовец явно не симпатизирует мне. Он какой-то односторонний, — видно, что не одобряет во мне абсолютно ничего: ни моих идей о равноправности женщин, ни того, что я на юридическом факультете, даже то, что я усердно занимаюсь физическим трудом, не располагает его в мою пользу. И он при всяком удобном случае готов читать мораль о братском отношении к людям. И каждый раз мне так и хочется сказать ему — что в нём-то я как раз братского отношения к себе и не вижу, а только скрытое молчаливое осуждение всего моего существования.
Учителя видела мало, — он уезжает сегодня, разговаривали о том, о сём… впечатление получилось обыкновенного среднего интеллигента, только на рояле хорошо играет — вот его талант.
От молодого учёного я ожидала несравненно больше, и с удовольствием ждала все эти дни подряд часа, когда он выходил в огород на работу: ему велено копаться в земле ежедневно часа два-три.
Мы работали рядом. Я начала было подходящий разговор…
Ответы “да” и “нет”… правда, весьма вежливым тоном. Но всётаки это немного.
И как только его знакомая показывается — всегда перед окончанием срока его работы — он быстро бросает всё и идёт за ней.
“Не разберёшь их отношений… всегда путешествуют вместе”, — сказал “хозяин”.
А я так отлично разобрала. И только одного не понимаю: отчего, если он влюблён в одну женщину, относится с такой беспощадной сухостью и сдержанностью к другой, которую судьба случайно, на время, поставила рядом с ним?
Ведь я с ним не кокетничаю; не может он, что ли, держать что наз. juste milieu {Золотую середину (франц.).} — не будучи влюблённым — относиться ко всякой другой интеллигентной знакомой женщине более просто, более по-товарищески?
Тщетно позондировав почву научную и литературную, я попробовала обратиться к действительной, и спросила сегодня, как он смотрит на физический труд, нравится ли он ему.
— Терпеть его не могу; только по приказанию врачей и работаю… — снисходительно отвечал он.
— Что же вам нравится?
— Работа умственная.
— Но за что ж с такой неприязнью относиться к физическому труду? ведь он в сущности необходим. И как это у вас самих иногда не является желание упражнять свои мускулы, свою силу не на гире, не на гимнастике, а на полезном, здоровом труде.
— Неприятно это… работать.. Ну, вот, — копаю, копаю, — скоро ли кончу? — скорее писать пойду.
Мне хотелось доказать ему, что ещё неизвестно, насколько талантливы, полезны будут его учёные труды, а что хорошо вскопанная им гряда будет полезна — это вне сомнения, и поэтому он не имеет никакого нравственного права так относиться к тому роду труда, которым живут миллионы людей…
Он выслушал меня с снисходительным вниманием, потом повторил:
— А всётаки не люблю этой работы… то ли дело сидеть за письменным столом.
Я внимательно посмотрела на его голову, правда большую, с сильно развитым лбом, но далеко не с тем выражением, которое отличает людей, открывающих миру новые горизонты.
И я подумала про себя: “да, то ли дело — сидеть за письменным столом и писать одну из тех только полезных книг, каких наш век оставит последующему целое море; надрывать этим своё здоровье и презирать — необходимый первичный труд человечества… логика!”
Но ничего не сказала. А он не говорил больше ни слова, и, едва в обычный час вдали показалась фигура его знакомой, — бросил лопату и поспешно пошёл за ней.
Мой “хозяин” — всех симпатичнее. В нём есть та непосредственная доброта, сердечность, — какая, увы! теперь всё реже и реже встречается в людях.
Как бывший офицер, он, конечно, не отличается всесторонним образованием, но в нём чувствуется природный ум с большим тактом сердца. И поэтому мы часто и подолгу беседуем на разные темы; мне нравится в нём та простота, с которой он исполняет самые чёрные работы — он, не верящий буквально ни во что, своим личным поведением доказывает изречение: “иже хощет быть первый между вами — да будет всем слуга” {Евангелие от Марка, 10: 43, 44 (“…кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою. И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом”).}…
На днях мы всей компанией катались на велосипедах. Я ехала с ним рядом. Разговор зашёл о жизни, браке, любви и проч.
— Любили ли вы когда-нибудь? — вдруг спросил он.
Неужели я так сразу, просто, в болтовне скажу ему то, в чём себе едва смею признаваться?
— Никогда, — смело солгала я.
— Сколько вам лет?
— На днях исполнилось двадцать шесть…
— Не может быть! — воскликнул он, поражённый.
— Отчего же нет? — продолжала я лгать и крепче нажала педали… Мы выезжали из лесу, и дорога шла как раз под гору. Велосипед покатился со страшной быстротой. А когда он догнал, наконец, меня, я уже сидела внизу на поляне в обществе остальных спутников, и разговор перешёл на другие темы.
9 сентября, понедельник.
Я всё присматриваюсь к этим людям и чего-то жду от них… Жду, чтобы они встали ко мне ближе, поняли бы, насколько нужны, необходимы мне нравственная поддержка и участие.
Но нет… каждый из них слишком занят своими делами. Все, за исключением “хозяина”, относятся просто, вежливо, но в сущности безлично… И я чувствую, что невидимая стена отделяет меня от них, перешагнуть которую невозможно…
Я начинаю приходить к заключению, что никакая проповедь любви не в силах изменить природы человека. Если он рождён добрым, обладает от природы чутким сердцем, — он будет разливать кругом себя “свет добра” бессознательно, независимо от своего мировоззрения. Если же нет этого природного дара — напрасно всё. Можно быть толстовцем, духобором, штундистом, можно проповедовать какие угодно реформаторские религиозные идеи и… остаться в сущности человеком весьма посредственного сердца.
Потому что как есть великие, средние и малые умы, — так и сердца.
Человечеству одинаково нужны и те и другие.
Характерно, что близкий друг нашего великого писателя обладает этим “добрым сердцем” отнюдь не более, чем другие обыкновенные люди.
Сейчас видно, что он пришёл к своим убеждениям сначала головой, и уже потом сделал себя таким, каким он воображает, что должен быть.
Однообразно, точно заученно, спокойный тон голоса, одинаковый со всеми; а в жизни, в привычках — остался тем же барином-аристократом, каким был и раньше.
Он пишет книги по-русски, по-английски, принимает посетителей, упростил до крайности внешнюю обстановку, всюду вместо дорогих письменных стоят столы простые, некрашеные, а весь его большой дом держится неустанной работой мужика, беглого солдата Мокея.
— Что бы мы стали без него делать! — с комическим отчаянием восклицает он. — Мы точно щедринские генералы на необитаемом острове!
А Мокей, копая со мной картошку, жалуется, что очень трудно жить: “Работы много, вертишься, вертишься день-деньской без устали, то туды, то сюды, а нет того, чтобы для себя, значить, свободного времени”.
В сознании этого мужичка встаёт неясная мысль о необходимости регулировать его работу.
Я предпочитаю мою миссис Джонсон, гостиная которой обставлена элегантно, но которая сама моет полы, стирает бельё и делает всё это совершенно просто, без всяких нравственных проповедей, потому что с детства привыкла к труду.
Сколько раз хотелось мне сказать ему: откажитесь от прислуги, работа которой обеспечивает ваш досуг, который вы употребляете на писание, издание, приёмы, разговоры, споры и т. д.
А то между словом и делом лежит такая пропасть, такое противоречие, что глухое раздражение так и поднимается во мне.
Но вспоминаю изречение: “легче верблюду сквозь игольное ушко пройти, нежели богатому внити в царствие Божие” {Слова Иисуса в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки.}…
Бесполезно, значит, говорить!
На днях рубили капусту под окнами его кабинета. Он высунулся и спрашивает:
— Что это такое?
— Капусту рубим, — отвечала горничная.
— А-а-а! — снисходительно удивился он.
Я остолбенела. И этот человек, прожив столько лет в деревне, бывший гласный земства, столько раз приезжавший в Ясную Поляну, демократ, — не видал никогда, как рубят капусту!
А великий писатель сам тачал сапоги и клал печи…
В том и разница между гениальным и обыкновенным человеком, что тот, раз пришёл к известному убеждению, — старается провести его прямо и цельно, — его богатая натура способна обнять и проникнуть все стороны жизни.
Не знает великий писатель земли русской, что он один из тех избранных, которые всегда и во все времена являлись как бы для того, чтобы показать миру, до какой нравственной высоты можетподняться человек. И всегда они находят себе последователей, которые отстоят от них далеко; друзей — несравненно ниже себя. Потому что они выше остального человечества и не должны быть окружёнными равными себе. Удел величия — одиночество.
И они как бы искупают этим то, что им дано более, чем другим.
Моё разочарование глубоко, больно и… обидно… <…>
15 сентября.
— Какая вы, должно быть, способная, — сказал сегодня мой “хозяин”.
— Это отчего вы так думаете? — удивилась я.
— Да так. За что ни возьмётесь — всё хорошо выходит. В саду, в огороде работаете — выходит ловко, хоть вас и воспитали как барышню. И по-английски — какие быстрые успехи делаете…
Мне стало больно-больно…
К чему всё это, если он не любит меня?..
16 сентября.
Нет, — не могу больше!
Всё, всё опротивело мне здесь: и эти дома, и это однообразие, а шум моря неустанно напоминает, что только оно одно отделяет меня от той страны, где он живёт. Только море! <…>
Я читала Страхова “Мир как целое”. Учёный автор посвятил целый толстый том на доказательство того, что человек — венец творения.
А я так рада была бы теперь всё отдать, если бы какой-нибудь волшебник мог обернуть меня в птицу… чтобы улететь туда, за море, в Париж, к его окну…
17 сентября, вторник.
Все удивляются, почему я уезжаю. А я удивляюсь — как могла так долго прожить здесь? <…>
18 сентября, среда.
Собираю вещи и укладываюсь. <…>
Я всем объясняю, что у меня есть своя программа пребывания в Англии, что раз я немного выучилась говорить и понимать по-английски, то надо выполнить и другие пункты: ознакомиться с существующими в Лондоне женскими обществами, физическим воспитанием детей, посмотреть театры, музеи…
А на самом деле — пробуду в Лондоне ровно столько, чтобы сделать самые необходимые покупки, побывать хоть в одном женском клубе, посмотреть журналы, относящиеся к женскому движению в Англии, — и скорее, скорее во Францию!
Лондон, 20 сентября.
Вчера утром уехала из этого хорошенького местечка.
Дождь лил как из ведра, и ветрено было. Прощай, море, белые ленты дорог, красные домики! Увижу ли я вас когда-нибудь?
Я оставляю этот уголок без всякого сожаления. Сердце так и замирает при мысли, что меня теперь отделяют от Парижа всего какие-нибудь двадцать четыре часа пути.
23 сентября.
<…> Каждое утро, для экономии времени, составляю подробный маршрут, список всех омнибусов, трамваев, записываю, что надо сделать — словом, принимаю все меры, чтобы как можно скорее покончить с покупками, поручениями, — и всётаки расстояния так велики, что на примерку платья в магазине теряешь полдня.
Лондонские магазины несравненно лучше парижских; таких, как на Regent-Street, я в Париже не видывала. Англичане отлично одеваются у себя дома. Но попав в Париж, как и большинство иностранок, делают одну и ту же ошибку: стремясь одеться во всё “парижское” — покупают всё в больших магазинах, не руководствуясь никакой другой идеей. Впрочем, мои соотечественницы в этом отношении ещё хуже: те покупают красные шляпы, голубые платья, белые зонтики и башмаки, и в такой яичнице красок самодовольно гуляют по Парижу, воображая, что одеты “как парижанки”.
Всё никак не могла отыскать адрес Women’s Institute — одного из главных женских обществ.
26 сентября, четверг.
Наконец-то удалось! Оказалось, что Women’s Institute переменил квартиру. <…>
Women’s Institute — нечто вроде женского клуба: в большой удобной квартире находится библиотека, читальня, по стенам — картины с обозначением цен. Тут же и справочное бюро — за полтора шиллинга можно получить какие угодно сведения по женскому вопросу. Какие англичанки практичные! <…>
Была и в Тойби-Холле. Но этот знаменитый народный университет был почти пуст по случаю вакационного времени. Заглянула и в Уайтчепельскую Free Library и при ней музей естественных наук.
Там неожиданно мне повезло. Заведующая музеем, мисс Кэт Холл, оказалась чрезвычайно любезной и милой особой. Она не только дала мне все объяснения, рекомендательное письмо к викарию церкви св. Иуды, чтобы он показал мне наиболее интересные места знаменитого квартала пролетариата {Уайтчепель.}, но и пригласила меня к себе. <…>
9 сентября, вторник. С утра уложила все вещи и послала мисс Кэт телеграмму, спросить, — когда она дома. Получила ответ — в пять часов. При моём незнании путей сообщения я должна была выехать за два часа.
Мисс Кэт живет ужасно далеко: на другом конце города.
Прекрасный каменный дом-особняк, как и большинство здешних домов, с обязательным садиком впереди. Я захватила с собой фотографии в русском костюме, чтобы хоть этим выразить свою признательность мисс Кэт за её любезность; утром послала такую же викарию.
Вся семья была в гостиной. Мисс Кэт представила меня матери, племяннику — молодому человеку, консерватору, из Британского музея, который казался счастливым исключением среди англичан — он был очень способен к языкам и порядочно говорил по-немецки и по-французски.
Отец его, художник, брат мисс Кэт, был в России в свите герцога Эдинбургского — и теперь сопровождал наследного принца в его путешествии по колониям.
Я не чувствовала ни малейшего стеснения, разговор завязался просто и непринуждённо о России, — видно было, как все члены семьи дорожили тем, что одному из них удалось увидеть такую далекую страну.
Акварель — внутренность Успенского собора — висела на стене; на большом бархатном щите среди медалей, блюд и всяких других редкостей — я увидела и нашу икону. Принесли альбом и показали фотографии отца в большой русской шубе. Потом, в свою очередь, показали мне весь дом, выстроенный, как и все дома здесь, удивительно разумно, обставленный комфортабельно и уютно.
Когда мисс Кэт вернулась со мной в гостиную, к five o’clock tea {К пятичасовому чаю (англ.).} пришли ещё друзья дома: немолодой мужчина с дамой и ещё молодой человек.
Завязался общий разговор; меня расспрашивали, что я изучаю, трудны ли юридические науки. Я вспомнила — мне рассказывали, что один из наших соотечественников, приговорённый здесь за подстрекательство к убийству на полтора года каторжных работ, по окончании срока вышел из тюрьмы в злейшей чахотке. Он ежедневно вертел в одиночной камере огромное колесо, перепрыгивая беспрерывно с ступеньки на ступеньку; механизм верчения был устроен так, что в случае остановки он рисковал раздробить себе ноги…
И я воспользовалась теперь случаем, чтобы высказать этим, более нас цивилизованным людям, всё своё возмущение жестокостью и бессмысленностью такого наказания.
— О нет, вертеть колесо — это не бессмысленно, — с живостью возразил один из гостей. — Насколько мне известно, — это мельничное колесо — они таким образом мелют себе хлеб.
— Но согласитесь, что такое наказание жестокостью своей превосходит самое преступление, — настаивала я. — Надо же иметь сострадание.
— Сострадание? — с холодным удивлением спросил англичанин, точно я сообщила какую-то новость.
— Ну да, — продолжала я, с недоумением глядя на этих интеллигентов. — Сострадание к преступнику.
— Для преступника нет сострадания. Он нарушил законы общества и должен быть за это наказан, — медленно, с расстановкой сказал один из гостей, который пришёл с дамой.
— Но ведь этот человек ещё и не убил никого, — сказала я наконец.
— А если убил, — за жизнь должна быть отдана жизнь, — с живостью сказал другой гость. — Он должен быть повешен.
— Он должен быть повешен, — как эхо повторили остальные.
У меня язык прилипнул к гортани при виде того, до чего чуждо было этим людям то чувство, которое с детства воспитывается в нас почти религиозным отношением к “несчастным”, которое заставляет мужика, крестясь, подавать копейку арестанту, а других, кто побогаче, — посылать в тюрьмы подаяние.
Это было свыше моих сил. Я забыла совсем, что нахожусь в чопорном английском салоне и вскочила с места.
— И вы ходите в церковь, читаете Библию — как смеете вы считать себя христианами, раз в своём законодательстве держитесь ветхозаветного правила “око за око, зуб за зуб?!” — закричала я в негодовании, от волнения мешая французский, немецкий и английский языки. — Ведь смертная казнь бессмысленна уже потому, что не достигает цели. Кого “вознаграждает” отдача одной жизни за другую? Родных убитого? — да ведь казнью преступника нельзя оживить его жертву. Если вы, общество, присваиваете себе право судить преступника, — докажите ему, что вы достойны этого права, что вы нравственно лучше, выше его… а для этого, прежде всего — отнеситесь к нему с состраданием, постарайтесь исправить его. А вы — ведёте его на виселицу… Чем же, скажите, чем вы лучше его?!
Что-то подступило мне к горлу — я не могла больше говорить…
— Но ведь у вас, в России, есть смертная казнь?
— Нашему уголовному процессу и общественному мнению чужда смертная казнь {После 1891 г. в гражданских судах Российской империи не было вынесено ни одного смертного приговора.}, — с гордостью сказала я, с трудом переводя дыхание.
И только тут ясно поняла, какое счастье, что нашему народу так чуждо это холодное, вполне сознательное жестокое отношение к преступникам, на какое я неожиданно наткнулась в этом интеллигентном обществе.
— Бороться с жестокостью народа мало цивилизованного ещё можно, надеясь на то, что просвещение смягчит нравы. Бороться с жестокостью цивилизованного гораздо труднее: он умеет создавать себе разные опоры в виде общественного мнения, науки и проч.
Никто не смеялся над моей ломаной, из трех языков, речью… и все её поняли, — моё лицо, глаза и жесты говорили яснее всяких слов… Все молчали… молчала и мисс Кэт… она совсем не принимала участия в разговоре. Молодой человек встал и подошёл ко мне…
— Да, вы правы, мы действительно следуем Ветхому Завету, тогда как в Новом сказано: “возлюби ближнего твоего”… Вы говорили так хорошо… благодарю вас.
Я была тронута, что хоть одного удалось убедить, и чуть не со слезами на глазах пожала руку этому молодому человеку, фамилия которого так и осталась мне неизвестной.
Подошла мисс Кэт и показала мне пчельник, который помещается в комнате; красивый, искусно сделанный ящик, где под стеклом видны были соты и ползали пчёлы. Она с любовью смотрела на них, рассказывая, как нынче вечером повезёт свой пчельник в один из народных университетов для демонстрации и будет читать там реферат.
А я, смотря на её уже немолодое лицо, думала: “какая масса женщин в Англии осуждена на безбрачие”, и какой-то холод пробивался в душу при мысли о молодости без любви, об одинокой жизни… И глубокое сострадание охватывало душу…
Заменять страшную пустоту личной жизни — пчёлами… какой ужас!
Скорей в Париж! Как могла я так долго пробыть здесь, вдали от него, как могла?! Я теперь удивляюсь сама себе. Кажется, если бы пришлось пробыть здесь ещё неделю — я умру…
Стрелка близилась к семи. Гости ушли. Семья мисс Кэт радушно пригласила меня отобедать у них; скоро десять часов вечера — я еду прямым путем на Дувр-Калэ. <…>
Париж, 30 сентября.
Наконец—то!
Облетели листья… Париж уж не блестит яркой свежей красотою, как в мае, — но после Лондона он кажется ещё прекраснее, а расстояния и совсем невелики.
Всё моё существо сияет от радости при мысли о том, что я опять там же, где он живёт…
1 октября, вторник.
Ищу комнату в прекрасном доме на той же rue de Arbalete, которая носит громкое название Villa Medicis {Вилла Медичи.}. Действительно, улица достойна этих господ: четыре прекрасные большие дома, выстроенные по всем правилам современных удобств и гигиены. <…>
3 октября, четверг.
На этот раз, кажется, нашла: правда, не в семье и не одной жилицей, но зато и нет студентов, — комнаты в этой маленькой квартире сдаются исключительно женщинам. Две румынки — одна с медицинского факультета, другая с lettres — живут в одной комнате, две другие ещё не заняты. Я взяла одну из них, подешевле, — очень светлая, чистая, уютная. Другую по дороге рекомендовала какой-то русской, тоже, кажется, студентка. <…> Возьму пианино напрокат — здесь это стоит всего 10 fr. в месяц. <…>
5 октября, суббота.
Вчера первый свободный вечер — пошла гулять… и конечно туда, на rue Brezin.
Она была по-прежнему тиха и пустынна, только сквер изменился — печально смотрели пожелтевшие листья… Было холодно… и всё кругом так печально, так способствовало моему настроению…
Не знает он, что я вернулась. <…>
Он спит теперь, утомлённый дневной работой, и не узнает, и не догадается… никогда…
6 октября.
А ведь я совершенно не знаю, кто он; как бы узнать хоть что-нибудь о нём?..
Когда я уезжала и приходила прощаться с Анжелой {См. запись от 11 июня 1901 г.}, та сказала, что знает его. Тогда я не смела спросить ничего, это было бы слишком явно заметно… А теперь… Если я не могу его видеть, — то услышать хоть слово о нём! <…>
И я пошла в госпиталь Брока.
Анжела очень обрадовалась моему приходу.
— Давно ли вернулись? Как это мило с вашей стороны — сейчас же вспомнить обо мне… очень, очень рада, что вы пришли.
Я вся вспыхнула: ведь я пришла не просто, чтобы повидаться…
Но шёл дождь, и в маленьком кабинете электротерапии, где живёт Анжела, было темновато, так что она ничего не заметила.
Мы заговорили о госпитале, перебрали всех больных, которые ходили на электризацию одновременно со мной; вспомнили и о докторе Дроке, и его необыкновенном взгляде…
— Он скоро вернётся из отпуска.
— Судя по его взгляду, — это должно быть необыкновенный человек, — направляла я на него разговор: помню, что — “господин Ленселе — близкий друг доктора Дрока”.
— О, это действительно чудный человек, и притом знаменитость… Вы знаете ли, сколько стоит визит у него на дому?
— Сколько?
— Два луи! — двадцать франков! — торжествующим тоном сказала Анжела, точно это она сама получала такую плату.
— О, — сказала я с уважением.
— Да, да… это такая знаменитость по накожным болезням.
— А эти, которые ходят с ним по палатам, — это тоже… доктора? нарочно ошиблась я, зная, что Анжела сейчас объяснит, как иностранке.
— Нет, это экстерны и интерны. Каждый шеф имеет своего интерна. Доктор Досси — акушер — своего, доктор Дрок — своего… теперь у него Собатье, в прошлом году был Кур-де-Глеквинье… я их всех отлично знаю.
— И Ленселе тоже был? — наконец решилась я спросить, думая, что вопрос как будто вскользь будет незаметен.
— Как же! Он был здесь интерном у доктора Дрока. Это его близкий друг. Они вместе работают. Ах, мсье Ленселе, он так много работает… Прекрасный врач, а его пинают все кому не лень…
Так вот кто он… <…>
9 октября, среда.
Познакомилась с румынками. Одна сестра, медичка, — такая красавица, что я тотчас же прозвала её “la belle Romaine”, “прекрасная римлянка”, другая — с филологического факультета — не так хороша, но с лицом очень симпатичным и интеллигентным, обе чрезвычайно симпатичные девушки {Ср. с записью от 12 декабря 1900 г. о встрече с симпатичными сестрами—румынками Бильбеско, чьи характеристики — одна с филологического, другая с последнего курса медицинского факультета, — странным образом, совпадают с теми, которые присутствуют в данной записи о только что состоявшемся знакомстве.}.
Сестры посвятили меня в свои намерения и планы жизни. Медичка готовится к экзамену на экстернат — и объяснила, что это такое. Студенты медицинского факультета — Ecole de medicine — могут держать конкурсный экзамен при Assistance Publique — на экстернат и интернат. Экстерны состоят как бы помощниками врачей — делают перевязки, присутствуют при обходах; интерны — уже самостоятельно заведуют палатой, нечто вроде наших ординаторов. Экстернат и интернат — по четыре года каждый, причём экзамен на интернат можно сдать и ранее этого срока. Стать интерном — идеал всякого студента-медика, так как, будучи студентом, интерн уже имеет за собой большую практику, и когда кончает курс — выходит опытным и знающим врачом. Некоторые из них читают и частные лекции, подготовляя к конкурсным экзаменам на экстернат. Они много работают, но зато и веселятся же! Для них в каждой больнице отведено особое помещение “salle de garde” {Дежурка (франц.).} — так что они там выделывают! Вот уж кто веселится!
Слушать такие разговоры для меня и величайшее наслаждение и мучение. Я всётаки узнаю что-нибудь о нём, какая его жизнь, в чём состоит его работа, но это… кажется, кто-то вкладывает нож в сердце. У него такие редкие волосы на голове. И как подумаешь, что люблю всеми силами души, со всей искренностью первого чувства — этого преждевременно истасканного парижанина… ужас!
Несмотря на свою буржуазность, медичка всётаки выражается более свободно.
— Вас возмущает эта безнравственность? Что же? ведь для мужчины женщина — это первая необходимость.
— Ну, а я так с вами не согласна. Я бы не хотела выйти замуж за… такого…
— Мужчина—девственник! что может быть хуже! — с ужасом восклицает прекрасная румынка, лениво раскидываясь на постели. — Ни за что! а ты? — спрашивает она сестру. Та в своем качестве немедички считает нужным конфузиться и молчать. <…>
11 октября, пятница.
Пошла сегодня в музей Гимэ {Музей восточного искусства им. Гимэ.}. Мне говорили, что там находятся мумии Таисы и Серапиона {Герой романа Анатоля Франса (1844—1924) “Таис” (1890) — монах-отшельник Пафнутий, но в некоторых версиях легенды, обработанной писателем, персонаж именуется Серапионом. Мумии, идентифицированные как останки Таис и Серапиона, были найдены при раскопках в Египте в 1889—1890 гг., о чём писала пресса. Имя преподобного Серапиона-монаха Е. Дьяконова могла, кроме того, знать из святцев.}. Я читала прелестный роман Анатоля Франса “Таиса” — и интересно было взглянуть на эти мумии.
О, какой ужас! В стеклянном ящике, в почернелой от времени одежде, лежит то, что было некогда красавицей Таисой… жёлтый череп с остатком тёмных волос; рядом с нею бесформенная тёмная масса почерневшей одежды с куском пожелтевшей кости сбоку — должно быть, рука, обвитая железными веригами, — это что-то было когда-то Серапионом…
Неужели когда-нибудь и он, мой милый, любимый — будет таким же?!
Жить можно только тогда, когда не думаешь о смерти…
Стремясь уйти от этого ужасного зрелища, — я свернула в одну из зал. Там со всех сторон сидели статуи Будды, и на лицах их отразилось торжественное спокойствие Нирваны. <…>
13 октября, воскресенье. Снова была в этом музее.
Но сегодня зала с Буддами была закрыта; открыты другие — японского искусства.
Это было для меня настоящим откровением. Почти всё, что принято называть 1’art moderne e moderne style, — стало мне вдруг понятно. Это совершенно несправедливо по отношению к японцам: следовало бы назвать “японское искусство, японско-современный стиль”, как говорят о стиле дорическом, ионическом. Все эти афиши, все издания, современная манера живописи, предметы искусства, переплёты с рисунком, идущим от угла, — всё, всё японское и существовало в этой удивительной стране за сотни лет до нашего времени. Я видела рисунки, относящееся к 1513—1685 годам, — они сделали бы честь любому соЕюеменному художнику… И как у нас, в России, мало об этом знают! как невежественны мы в художественном отношении! право, жаль, что всё знакомство с историей искусства у большинства моих соотечественников ограничивается знанием того, что Фидий жил в Афинах во время Перикла, а Антокольский сделал статую Ермака…
15 октября, вторник.
Одна только мысль — как бы увидеться с ним.
Но как? Притвориться больной и позвать его к себе — но я не умею притворяться. Пойти к нему самой, опять как будто бы у меня начались головные боли — я так не привыкла лгать… Как быть? Надо придумать.
А времени не теряю. Для изучения французского языка записалась во Franco-English Guild, занятия начались сегодня. Побывала и в секретариате своего факультета; там мне сообщили, что нынешний год подали прошение о приёме четверо русских.
Прекрасно! Значит, идея носится в воздухе, если мы, в разных концах России, приходим к одной и той же мысли… Начало лекций ещё через месяц…
18 октября, пятница.
Неприятный сюрприз! Оказывается, хозяйка сдала салон — и ещё кому — консерваторке, с пианино! Эта новость меня поразила, как громом. Вот тебе и раз!
Когда моя русская соседка почти одновременно со мной взяла пианино, я была не очень довольна. Нанимая комнату, я предварительно осведомилась, нет ли инструментов — я не могу заниматься при музыке. Оказалось, что нет. Но мы условились с русской, что она будет играть тогда, когда меня не бывает дома, я — когда её нет… Но с третьим пианино, да ещё с консерваторкой, в пяти комнатах — это уже совсем неудобно, и я прихожу в ужас при мысли, что только будет?!
Консерваторка! это слово для меня, как жупел для купчихи Островского; ведь это беспощадные гаммы и упражнения по шести часов подряд. Здесь было так хорошо, покойно, и вдруг — пианино! Вот тебе и квартира исключительно с жилицами… Три пианино — этого не могло бы быть, если бы жили студенты. Проклятое женское воспитание, — и к чему только музыке учат?!
19 октября, суббота.
Пробовала урезонить хозяйку — не сдавать комнаты этой девице, обещала ей рекомендовать какую-нибудь жилицу — напрасно: консерваторка уже дала задаток и переехала сегодня, а к шести часам водворилось и третье пианино… Я сразу искренно возненавидела нашу новую жилицу — немецкую еврейку с типичным носом и лицом, обсыпанным пудрой.
21 октября, понедельник.
Мне надо было писать перевод с русского на французский, консерваторка стала упражняться. Я пробовала сосредоточиться, несмотря ни на что, и настойчиво искала слово в словаре и старалась составить фразу… напрасно! Фраза не шла на ум, несмотря на усилия воли; в ушах звучала беспрерывная, точно барабанная дробь, гамма упражнений.
Голова тяжелела… вдруг острая, резкая боль пронизала висок, я невольно ахнула и в отчаянии отбросила книгу и словарь…
Голова болит весь вечер, заниматься нет возможности: консерваторка знай дубасит то гаммы, то этюды…
Но странное чувство радости охватило меня: ведь теперь я могу обратиться к нему! и это будет правда; я сейчас же написала ему:
“Мсье,
Не будете ли Вы так любезны назначить мне день, в который я смогла бы зайти в Бусико. С признательностью…”
24 октября, четверг.
Вчера получила ответ:
“Мадмуазель. Если Вам будет удобно зайти в четверг в два часа дня, мы сможем переговорить о Вашем здоровье.
Преданный Вам Е.Ленселе”.
И сегодня в два часа поехала в Бусико.
При дневном свете лестница показалась мне грязной, также и библиотека, куда ввела меня горничная, поражала общим небрежным видом… Можно было удивляться, как в новом госпитале всё так быстро теряет чистоту.
Волнение от сознания того, что я сейчас его увижу, отнимало у меня все силы. Я сидела неподвижно у стола, опустив голову и глаза, чтобы не выдать себя, увидя, как он войдёт…
— Здравствуйте, мадмуазель, как Ваши дела? — слова эти, как музыка, прозвучали около меня. И я едва могла ответить:
— Мне очень плохо, мсье.
— Опять головные боли? — спросил он, садясь к столу, против меня. — Ну, рассказывайте, что случилось с вами с тех пор, как я вас не видел?
Я рассказала ему о влиянии музыки на мои занятия.
— Но этому очень легко помочь! стоит только переменить квартиру! — и его серьёзное лицо на минуту осветилось ласковой, доброй улыбкой.
— Но мне жаль оставить эту комнату… там так хорошо и удобно. И потом — что же это будет, если при всяком подобном случае будет болеть голова? Чем так страдать от нервов — лучше смерть, чем такая жизнь.
— Вы не имеете права…
— Нет, перебила я, — теперь есть уже другие юристки, кроме меня, на первый курс нынче поступают четверо… Они будут работать во всяком случае лучше меня и принесут больше пользы. Значит…
— Значит, вы не даёте мне высказать[ся], — спокойно возразил он. — Я хотел сказать, что вы не имеете нравственного права распоряжаться своею жизнью. Каждый ответствен за себя. Другие будут работать на этом поприще — прекрасно, но у вас, быть может, есть способности, которыми они не обладают. И вы должны развивать их и стараться быть полезной, сами лично.
Я сидела и слушала слова, которые пробуждали во мне что-то хорошее, какую-то веру в себя; его голос звучал так ласково, так гармонично, и весь он со своим серьёзным лицом, прекрасными голубыми глазами казался мне существом лучше, выше всех, кого я когда-либо знала.
— Ну, а как теперь ваше настроение?
Он меня спрашивал об этом! Страдание, острое, как лезвие ножа, охватило меня всю… Ведь этот человек, которого я так люблю, — не любит меня. И, несмотря на всё самообладание, глухое рыдание вырвалось у меня, и я отвернулась.
— Значит, вы находитесь по-прежнему в угнетённом состоянии? Послушайте… Надо же быть мужественною. Помните одно библейское изречение: violenti rapiunt illud {См. запись от 14 марта 1901 г.}… Что же делать, если жизнь так устроена; она тяжела — согласен… я сам не хотел бы иметь детей. Но раз мы уже родились, то наш долг стараться делать всё возможно лучше и совершенствоваться самим.
Он вздохнул, подвинул к себе чернильницу и взял лист бумаги.
— Я дам вам лекарство… Boт, Valeriane d’ammoniaque de Pierlot {Валериана с нашатырем от Пьерло.}. Принимайте ежедневно три раза чайную ложку в полстакане сахарной воды. Когда кончите — приходите сюда. И если вы думаете, что я могу служить вам нравственной опорой — всегда сделаю всё, что в моих силах…
Он проводил меня до дверей и я ушла… почти счастливая тем, что опять могу увидеть его.
25 октября, пятница.
Мой товарищ Андрэ Бертье вернулся с вакации. Тотчас же побежал в пансион, где я жила весной, узнал мой настоящий адрес… и сидел в моей комнате весь сияющий, счастливый…
— Я с ума сходил от отчаяния, не видя вас! так долго тянулись эти вакации, так долго! И какая вы жестокая! отчего не писали мне? отчего не ответили мне на моё последнее письмо?
Я с трудом припоминала… да, ведь это правда, — он писал, и я, кажется, один раз ему написала, после этой истории с немцем; потом, — право, не до того было.
Я хотела так и ответить ему шутя, но при взгляде на его лицо запнулась. Столько искренней любви, столько преданности было в этих больших чёрных глазах, во всём выражении его красивого юношеского лица.
Вот что значит вместе готовиться к экзаменам по утрам! Мне стало жаль бедного Андрэ. И я сочинила какую-то историю, из которой он мог ясно понять, что невозможно было ответить ему, что в Лондоне решительно теряешь голову.
Он успокоился и смотрел на меня, блаженно улыбаясь, пока я приготовляла чай… и, уходя, — робко, почтительно поцеловал мне руку… Что мне с ним делать?
27 октября, воскресенье.
Лавочка Мерсье в Villa Medicis служит справочным бюро для её обитателей, я беру у них молоко.
Сегодня спустилась туда, рассказала о своём несчастном положении и о трёх пианино, чем и вызвала живейшее сочувствие лавочника и его жены. И они тотчас же сообщили мне, что сдаются две комнаты в двух зданиях; одна в квартире, другая комната — в семье {Квартиры — нечто вроде студенческих общежитий, нанимались несколькими учащимися.} О счастье! Одна жилица — и нет другого пианино! Уже одно это заставляло снять комнату, не раздумывая долго и даже не видав её…
Я оделась получше, наученная горьким опытом, во всё время переговоров не переставала любезно улыбаться, — и хозяйка, которая сдавала салон и не хотела взять менее 40 франков, что мне было дорого, — сбавила два:
— Вы так очаровательны, мадмуазель, что мне хотелось бы, чтобы Вы снимали у меня комнату.
Я с торжеством вернулась и заявила madame Oiachet, что переезжаю из-за трёх пианино. Хитрая старуха притворилась, будто она тут не при чём и потребовала было платы за две недели. Но я храбро пригрозила ей довести дело до мирового судьи — за неисполнение условий тишины и спокойствия — она струсила и замолчала. <…>
30 октября, среда.
Понемногу переношу свои вещи к madame Tessier. Бертье вызвался помогать, и у меня не хватило духа отказать ему в этом удовольствии. <…>
4 ноября, понедельник.
Устроилась в новой квартире. Кажется, мои хозяева славные старички — офицер в отставке с женой и тёща, дряхлая восьмидесятилетняя старушка. Трогательно видеть, в каком мире и согласии живут они. Хозяйке моей шестьдесят четыре года, но на вид нельзя дать более сорока пяти: так она свежа, а главное, молода душой.
Я только удивляюсь, как у нас быстро старятся все безразлично — мужчины и женщины, — и как долго они сохраняют молодость здесь! И видно, что эта любовь к молодости служит преобладающей чертой характера хозяйки.
— Первое, что старится у женщины, — это шея, — сообщила она мне деловым тоном в первый же вечер. Я с трудом удержалась от смеха и вежливо выслушала такое интересное сведение.
Положим, она употребляет косметику: подводит брови, мажет губы, пудрится. Сначала с непривычки мне казалось это странным, и я готова была осудить её. Но она такая добрая, и такая живая, с широкими взглядами… Я ещё не верю своей удаче: да неужели же и впрямь попала к порядочным людям?
И как трудолюбива эта французская женщина! С утра она занимается хозяйством: сама прибирает комнаты, готовит завтрак; потом одевается, причёсывается и, видя изящную парижанку, трудно поверить, что какой-нибудь час тому назад она в капоте, с засученными рукавами, прибирала комнаты, мыла посуду, словом, — была и горничной и кухаркой. При всём этом она наблюдательна, остроумна и обладает каким-то неиссякаемым источником молодости души. Приходится сознаться, что в среднем — мы, русские женщины, — такими достоинствами не обладаем.
У нас одно из двух: или интеллигентная женщина — и тогда почти не занимается хозяйством, или же — мать семейства, хозяйка, опустившаяся, преждевременно состарившаяся, небрежно одетая и причёсанная, вечно на кухне, вечно сердитая и в хлопотах. <…>
И чем объяснить, что у нас так быстро все старятся? Должно быть, климат такой…
Кажется, и я понравилась старикам. Моя любезность, мой внешний вид — безукоризненно изящный туалет, модная причёска, быстрая и легкая походка — очаровали madame Tessier, и она не перестаёт говорить мне комплименты.
— Какой у вас чудный цвет лица! И как вы хорошо одеваетесь, с каким вкусом… точно парижанка, право, — говорила она, глядя на мои платья, когда я разбиралась в своих вещах.
Я уверила её, что не трачу много денег на платья, что привезла из России кое-какие старые вещи и только переделала их здесь. Madame Tessier с видом знатока качала головой:
— Во всяком случае, вы отлично справляетесь со своим туалетом. А вот я так ленива стала. В прошлом году купила пеньюар — и она притащила из cabinet de toilette светло-голубой пеньюар с белой вставкой.
Мне надо было сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться, но бесконечное добродушие, с каким madame Tessier рассказывала о своем пеньюаре, уничтожало в корне всякую насмешку… <…>
Я иногда сама на себя досадую, зачем так скоро усвоила эту французскую внешнюю любезность. То ли дело англичане: те всюду возят с собой свои привычки, не подчиняясь ничьим обычаям. А мы — наоборот: ничего, кажется, кроме чаю, да и то без самовара, с собой не привозим. С удивительной легкостью и быстротой схватываем чуждое произношение, с готовностью подчиняемся чуждым обычаям.
Пресловутая славянская гибкость натуры! Не в этом ли причина нашей слабости — что мы недостаточно тверды сами в себе?
7 ноября, четверг.
Сегодня ровно две недели, как я видела его… впредь увижу опять. О, какое это чудное время, между двумя днями, когда вся живёшь воспоминаниями о прошедшем и надеждой на будущее!
Я не думаю о том, что будет дальше. Я закрываю глаза на будущее, оно слишком страшно, чтобы думать о нём…
Мне так хорошо теперь… Я — здесь, вблизи от него и скоро увижу его…
9 ноября, суббота.
Вчера пригласила madame Tessier пить чай. <…>
Она рассказала о соседях, но не о всех, а только о выдающихся — их ведь так много, что и знать трудно.
Напротив нас, оказалось, живёт французская женщина-адвокат Жанна Шовэн, — под ней в прошлом году жила романистка Marcel Finayre, а внизу, в нашем доме — как раз под нами — тоже писательница Кларанс.
И madame Tessier знает её лично и бывает у неё.
— Это преинтересная особа. У неё вторники, собираются: артисты, писатели. Я, конечно, стара для этого общества и воспитана была иначе, но все-таки люблю иногда сойти к ней. Там так весело, и мне приятно смотреть на эту молодежь. И сама Кларанс очень милая девушка. Конечно, эта среда артистов и писателей очень свободная, но — не моё дело, как она живёт, я знаю только, что это очень симпатичная молодая особа.
Madame Tessier, при её возрасте и воспитании — уже не разприятно удивляла меня своими широкими терпимыми взглядами, хотя бы самому передовому интеллигенту впору. — И у ней бывает ваш соотечественник, скульптор Карзи… Карей… какие трудные эти русские имена… вот — вспомнила — Karsinsky. Я рассказала, что сдала комнату русской студентке, и он тотчас же спросил: “красивая она?”
— Он мог бы и не спрашивать, — заметила я, задетая бесцеремонным тоном этого вопроса за глаза.
Но для madame Tessier, как для француженки, вопрос этот был вполне естествен.
— Отчего же не спросить? Я ответила: “Ваша землячка, господин Карсинский, весьма, весьма мила. Ему очень интересно познакомиться. И Кларанс тоже говорила: “вы её приведите ко мне”. Если хотите, я познакомлю вас с ней. Вам будет интересно”.
Я с удовольствием согласилась и спросила, — что же пишет эта Кларанс, какие романы?
— Знаете ли, я нахожу их немного слишком… вольными… для женщины… Есть у меня один её том, если хотите, я дам вам прочесть, только…
И madame Tessier запнулась. Я рассмеялась и стала уверять её, что она всётаки с предрассудками, что нравственность должна быть одна для обоих полов, и отчего же женщине и не написать более или менее “вольного романа”, когда мужчины на практике проделывают ежедневно то же?
Но madame Tessier на этот раз стояла на своём: “Вы не читали, вот сначала прочтите”.
И она принесла мне небольшой томик “Passions terribles” {“Ужасные страсти” (франц.).}.
О, какое забористое заглавие! посмотрим, что это за роман!
10 ноября, воскресенье.
Сегодня написала ему письмо… Если бы он мог между этими сухими краткими строчками увидеть всю бездну страдания моего сердца, всё моё горе, всё моё отчаяние…
11 ноября, понедельник.
Пробежала роман Кларанс. Действительно, права madame Tessier, с той только разницей, что писать такие романы одинаково “чересчур” и для женщины, и для мужчины. Это был такой откровенно-сладострастный роман, какого я никогда ещё не читывала. Тут были и “гибкие тела”, и “шелковистые ткани”, и “надушенные юбки”, и “оргия ночи”, и “le sang chaud de la luxure” {Жаркая кровь сладострастия.}… Смелая и откровенная фантазия, но без таланта Золя… <…>
12 ноября, вторник.
Madame Tessier после завтрака предупредила меня, что сегодня в пять часов мы сойдём вниз к Кларанс. <…>
Мы позвонили. Отворилась дверь, и в полумраке прихожей мелькнуло бледное красивое молодое лицо; маленькая тонкая фигурка — хромая — отошла, чтобы дать нам войти.
— А, это вы, madame Tessier? и с своей новой жилицей? Очень, очень рада, — быстро сказала она, протягивая руку. — Проходите, пожалуйста, в гостиную… И она, затворив входную дверь, отдёрнула портьеру.
В небольшой уютной комнате ярко горел камин, и кругом на стульях сидело несколько мужчин и одна, уже немолодая, дама.
— Дорогая мадмуазель Кларанс, разрешите представить вам мадмуазель Дьяконову, — представила меня хозяйка. <…>
Кларанс была действительно очень интересная особа, начиная с внешности. Короткие чёрные завитые волосы обрамляли её бледное лицо с правильными чертами и блестящими тёмными глазами; чёрные, как бархатные, брови оттеняли белый лоб. Её хрупкая, тонкая фигурка, несмотря на физический недостаток, отличалась необычайной подвижностью. Чёрное платье фасона Tailleur, безукоризненной простоты и изящества, сидело на ней ловко, и вся она казалась какой-то оригинальной, живой картиной, откуда-то зашедшей в эту гостиную.
Разговор, на минуту прерванный нашим приходом, возобновился. Ловко усевшись на ручку кресла, Кларанс рассказывала о чём-то страшно быстро и громко смеясь. Один из гостей — молодой человек с длинной белокурой бородой и ленивыми голубыми глазами — вставил замечание, которого я не поняла. Все рассмеялись, и Кларанс громче всех.
— Перестаньте, будет, Дериссе! Хоть бы постыдились перед русской барышней…
Mademoiselle Diakonoff, я должна вас предупредить, не судите, видя нас, о парижском обществе… Вы попали в самую свободную среду. <…> Мы здесь почти все художники, артисты, литераторы. Мы не богема, но всётаки свободная артистическая среда, где всякий говорит, что хочет…
— Ещё бы, entre amis! — и из угла поднялась грузная русская фигура и неуклюже, размашисто охватила сильной рукой тонкую талию хозяйки.
— Убирайтесь, русский медведь! хоть для первого раза постыдились бы перед соотечественницей! — крикнула на него Кларанс, вырываясь и ударяя его по руке.
— Ну, ничего, это я так, немножко, — нимало не смущаясь, отвечал “русский медведь” и подошёл ко мне.
— Очень рад познакомиться с вами… я — скульптор Карсинский, — отрекомендовался он, протягивая руку и широко, добродушно улыбаясь.
И я улыбнулась, глядя на этого человека. Прозвище, данное Кларанс, подходило к нему как нельзя более. <…>
Четверг, 14 ноября.
Сегодня утром получила от него визитную карточку — “Е.Ленселе. Старший субординатор”, а его почерком внизу написано: “будет ждать Вас в четверг в Бусико с четырёх часов, если этот день Вам удобен”.
“Если этот день Вам удобен”! — да будь у меня хоть тысяча дел — всё брошу и пойду!
Сегодня начало лекций на нашем факультете. Когда я появилась в аудитории в парижском зимнем костюме, не то что в прошлом году — в чёрной шляпе и нескладной русской жакетке, — студенты устроили овации. Я несколько растерялась от такого выражения симпатии. Положим, я одна на своём факультете, и это немало занимало их.
Я рассеянно слушала профессоров, заглянула в библиотеку и после завтрака, чтобы убить время — зашла и в Guild на уроки, которые мне страшно надоели своей скукой и элементарностью. Нет, мне решительно нечего делать в этом учреждении для учительниц языков: я настолько хорошо знаю язык, что практически говорю очень бегло, а изучать грамматику — не хватает терпения, и я умираю от скуки на уроках. Потом поехала в Бусико. Горничная отворила дверь:
— Мсье Ленселе просил передать Вам его извинения, он не смог Вас дождаться, ему позвонили от больного, ему пришлось поехать… Он назначит Вам новое время встречи.
— Благодарю Вас, мадам.
Я ушла. Сердце мучительно сжалось. Ну, что ж? “Ему пришлось поехать…”, значит, нельзя было остаться. Но если бы он всётаки захотел остаться… Ведь мне он нужен не меньше, чем тому больному.
16 ноября, суббота. И опять, по-прежнему, жду письма… напрасно буду ждать! Но нет, — ведь он же сказал горничной, что назначит другой день.
Сегодня, по окончании лекции, Бертье по обыкновению вышел со мной в коридор. Бедный мальчик не отходит от меня ни на шаг. К нему подошёл высокий, стройный, красивый брюнет, очень хорошо одетый.
— Позвольте вам представить моего товарища Danet, сказал Бертье. Брюнет почтительно поклонился.
— Впрочем, он не столько студент, сколько художник.
— Ну, просто любитель — вы ему не верьте,— он и впрямь расскажет так, что можно подумать, будто я настоящий художник, — перебил его Danet.
— Вы много рисуете? — спросила я.
— Да. Во всяком случае — это интересует меня гораздо больше, чем юридические науки. Особенно теперь работы много: с одним художником рисуем ложу в Госпитале Брика для бала интернов.
Я вся насторожилась.
— Это ещё что такое — бал интернов?
— А это очень интересно. Видите ли, интерны дают бал в зале Бюлье. И вот некоторые госпитали делают ложи и устраивают процессии. Мы выбрали текст из Тита Ливия. Богатый помпеянец даёт праздник в честь освобождения своего любимого раба. <…>
— А мне — можно попасть на этот бал? — робко спросила я.
Danet рассмеялся, а на детском лице Бертье отразился явный ужас.
— О нет, нельзя… это бал весёлый и … очень свободный. Жаль отказать, но это, право, не для вас. <…>
Я успокоила бедного мальчика, но уже решила, что буду на этом балу. Если я не могу видеть его нигде, — неужели потеряю такой случай?
А вечером сидела у румынок и слушала рассказы медички о больнице и интернах. Отчего бы и мне не сходить с ней в Hotel-Dieu, это так напомнит его, — вдруг сообразила я. И попросила la belle Romaine взять меня с собою.
— С удовольствием, — любезно согласилась она. — Это действительно очень интересно. Одного Dieuhfoy стоит посмотреть.
— Это, кажется, знаменитость? — неуверенно спросила я.
— Ещё бы! — воскликнула медичка… <…>
Среда, 20 ноября.
Проспала по обыкновению долго, до без четверти девять. В четверть часа оделась и скорее побежала за медичкой. Надо было идти в Hotel-Dieu.
Мы пришли туда ещё рано. По обширной палате, стены которой были выкрашены светло-зелёной краской, неслышно расхаживали несколько студентов.
Это была женская палата. <…>
Раздались три звонка — и на пороге палаты показалась высокая, стройная фигура в светлом вестоне {Род пиджака.} и фартуке,— это и был Dieulafoy. <…>
Я смело вмешалась в толпу студентов и последовала за профессором в мужскую палату. Но идти вместе с ними оказалось не так-то легко: меня скоро оттеснили назад; группа остановилась; с минуту я увидела на кровати совершенно обнажённую мужскую фигуру — и потом спины студентов скрыли от меня и её, и профессора.
Впервые в жизни видела я так близко от себя совершенно нагого мужчину и не чувствовала никакого смущения — больница убивала все предрассудки. И когда профессор подошёл к другой кровати, я ловко, как змея, изгибом, проскользнула между студентами и встала впереди.
Красивый мальчик лет 14 с чудными чёрными глазами. У него была болезнь сердца. Бледные восковые руки неподвижно лежали на одеяле. Из толпы выделился интерн и стал читать о ходе болезни. Dieulafoy внимательно выслушал, утвердительно кивая головой, потом взял руку мальчика и показал студентам на кончики пальцев. Те с любопытством посмотрели и взяли другую руку… Я могла только смутно догадаться, что, должно быть, он указывал на сосуды. <…>
Dieulafoy перешёл на другой конец залы, куда быстро шёл к своей кровати какой-то рабочий; Dieulafoy велел выдвинуть её, — и рабочий лёг, раздеваясь… Это, очевидно, был больной, только что пришедший в больницу. Все студенты с любопытством столпились около него. Dieulafoy начал осмотр.
— Сколько вам лет?
— 38.
— Давно вы больны?
— С первого ноября.
— Уже три недели? Отчего вы раньше не обратились к врачу?
— Я думал, что это пройдёт.
Насмешливая улыбка проскользнула по лицам студентов. Но лицо знаменитого профессора оставалось бесстрастно и спокойно. Он ничего не сказал и жестом полководца, призывающего войска на поле сражения, пригласил интернов сделать диагноз.
— Daniel, начните вы!
По некрасивому лицу бойкого интерна пробежала смешная ужимка.
— Ей Богу, нелегкая задача, — откровенно признался он.
Студенты засмеялись.
— Ничего, ничего, — одобрил его Dieulafoy. Интерн исследовал больного, потом осторожно начал выводить свои заключения:
— Это мягкий шанкр, — объявил он.
“Chancre, шанкр”, — думала я… это в русском языке есть такое слово, что-то такое слыхала, но что это за болезнь — не припомню.
— Теперь вы, Marignan, — вызвал Dieulafoy другого интерна.
— Я должен заявить, что мой диагноз будет диаметрально противоположный диагнозу моего товарища, — так же откровенно признался маленький брюнет еврейского типа, выступая вперёд.
Студенты опять рассмеялись.
Опять исследование, лупа, тряпочки, и опять — длинная речь.
— Это твёрдый шанкр. Сифилис, — решительным тоном заключил он.
“А-а, так это венерическая болезнь”, — и я без всякого сожаления, с чувством какого-то злого удовлетворения посмотрела на эту жертву слишком усердного поклонения богу любви. По делам тебе, не развратничай! Наверно, какая-нибудь проститутка отплатила ему за всё, что он раньше сделал подлого, пользуясь в домах терпимости женским телом для своего удовольствия…
А тем временем исследовал ещё интерн, и ещё другой. Их мнения разделились: одни определяли шанкр как сифилитический, другие — как мягкий.
Наконец заговорил сам “мэтр”:
— Я совершенно согласен с диагнозом Marignan — этот шанкр сифилитический. Почему не мягкий? Мягкий шанкр, господа, образуется несравненно дольше, месяца два, а здесь — смотрите! — в три недели какое образование, какие ясные симптомы… <…>
Такой диагноз был ясен, логичен, и я поняла всё, тогда как у интернов ничего нельзя было разобрать — они точно брели ощупью.
Визит в палату был окончен, монахиня подала профессору массу листков, похожих на те, которые при мне подписывал Lencelet, Dieulafoy присел к столу, быстро подписал их все, сделал то же в женской палате, и прошёл по лестнице вниз в аудиторию.
Там его уже ждали студенты. <…>
Я сидела, слушала, ничего не понимая, и думала — наверно, и он так теперь сидит и слушает, или, быть может, сам тоже демонстрирует больных.
Лекция кончилась… <…>
Мы пошли домой. И всю дорогу я думала о нём. <…>
Четверг, 21 ноября.
Сегодня приёмный день в Брока. Давно не видалась ни с Анжелой, ни с мадам Делавинь.
Когда я пришла, — почти у всех кроватей уже сидели посетители; а около мадам Делавинь было общество молодёжи. <…>
Мадам Делавинь представила меня: красивая, молодая пара были муж и жена Пеллье, а высокий стройный брюнет — их общий знакомый, тоже интерн из госпиталя Сент-Антуана — мсье Рюльер.
Мадам Пеллье заговорила со мной и расспрашивала, где я учусь; Мадам Делавинь продолжала начатый разговор с интерном.
— Он был с Ленселе, знаете этого иезуита?..
— О, да, — ответил Рюльер, вдруг услышала я. Они смеют называть его иезуитом! за что, почему? и кто же? сама мадам Делавинь, добрейшая душа, которая мухи не обидит <…>.
Я осталась одна с мадам Делавинь; когда пробило три часа, стала прощаться. Она вышла проводить меня; мы шли по длинному тёмному коридору, я спросила её небрежным тоном:
— А кстати, — почему вы назвали Ленселе иезуитом? Ведь вы знаете, я была его пациенткой, и я боюсь, — неужели есть тёмные, переодетые иезуиты? Я этого не знала. <…>.
— Вам нечего бояться. У нас называют иезуитом всякого фальшивого, неискреннего человека. Ну вот и он такой. <…> Тут была история. Когда он был интерном в Брока — он любил одну больную; у нас по правилам больные без сопровождения сиделок не могут ходить к доктору в лабораторию, я за этим слежу, — так вот он за это соблюдение правил и придирался ко мне. Как бы я ни сделала мазь, всё было нехорошо…
Так он любил больную… кого? кто она?
Я быстро опустила вуаль на лицо, так как мы были уже у выходной двери… и, простившись с мадам Делавинь, пошла к себе домой.
Так вот что…
Он любил больную… Я не чувствую ни малейшей ревности к этой неизвестной женщине; ну, любил, — очевидно, она была из простых, очевидно, этот роман кончился ничем, так как не женился. Но почему же он не может полюбить меня?! Или я хуже, ниже её?.. <…>
22 ноября, пятница.
Если он делал зло другим — что же из того? ведь это только доказывает, что и он, как все, не лучше других.
Когда-то художник создал статую и влюбился в неё. Так я люблю создание своего воображения, над которым работала, как артист, с восторгом, с увлечением…
А беспощадная действительность рано или поздно — должна была разбить этот идеал…
“Nous aimons les etres et meme les choses pour toutes les qualites que nous leur pretons”, {Мы любим людей и даже вещи за качества, которыми сами их и наделяем (франц.).} — вспоминается мне отрывок из Etudes litteraires de Faguet {Эмиль Фаге, “Литературные этюды” (“Etudes litteraires”, 1890).}. <…>
26 ноября, вторник.
Бегала сегодня часа четыре… <…> И, когда усталая прибежала к Кларанс, — никого уже не было — все гости разошлись, и она, переодетая в длинный капот с открытым воротом, отворила дверь с пером в руке.
— А, это вы! я уже села работать. Но всётаки войдите, ничего, — успокаивала она, когда я извинилась, что опоздала.
— Пройдёмте ко мне в спальню. Это будет менее церемонно, чем в гостиной. И там ещё теплее, потому что там я топлю день и ночь, — приветливо сказала она, обнимая меня за талию.
Мы вошли в спальню. Уютная большая комната, все стены которой были покрыты художественными афишами, рисунками. У стены, против камина, стоял большой диван. Я села на него и сидела не двигаясь, пока Кларанс в кухне приготовляла чай.
Я так измучилась за эти дни, что очутиться здесь, в этой уютной тёплой комнате, где меня встречали приветливо — было как-то отрадно… А Кларанс вернулась в спальню с чайником и чашками, придвинула стулья и маленький столик к камину, перед которым была разостлана медвежья шкура.
— Идите сюда, будем чай пить… — позвала она меня.
Я села у её ног на мягкий пушистый мех. Приятная теплота разливалась по всему телу. Казалось, век бы не ушла отсюда.
— Я очень рада познакомиться с женщиной независимой и без предрассудков. Это такая редкость у нас, во Франции. Вы, русские женщины, такие энергичные, учитесь, всюду ездите одни. <…> Сколько вам лет?
— Двадцать шесть.
— Поразительно! Вам по виду нельзя дать более восемнадцати.
— Да ведь и вы, я уверена, кажетесь моложе своих лет, ничего тут нет удивительного. Сколько вам лет? — спросила я.
— Двадцать девять. Но я не люблю об этом говорить, — откровенно призналась она.
Я извинилась.
— Ничего, ничего… это я только так, к слову… Между нами только три года разницы, но вы ещё дитя… Скажите, вы всё ещё девственны?
Я широко раскрыла глаза.
— Конечно!
Я была так удивлена этим вопросом, что обидеться как-то и в голову не пришло.
Кларанс разразилась громким смехом. <…>
— Извините… вы можете подумать, что я над вами насмехаюсь: не обижайтесь, ради Бога, — нет. Я смеюсь просто потому, что это было так смешно. Как это можно так жить? Вы ещё не любили?
— Нет, — отвечала я, опустив голову, стараясь говорить как можно ровнее и спокойнее.
— Не может быть! Невероятно! — воскликнула Кларанс.
— Я вам говорю правду, — лгала я, как когда-то в Англии “хозяину”.
Мне казалось, что я оскверню свою тайну, если её выдам… <…>
— Должно быть, вы стоите за добродетель? <…> Видите ли, по-моему, люди напрасно так рассуждают о добродетели. Девственность отнюдь не добродетель, а скорее — противоестественный порок. Ведь мы как созданы? а? К чему же нам атрофировать то, что дано природой? Мы должны жить согласно её законам. И величайшая ошибка всех религий лежит в том, что они возводили девственность и воздержание в культ. Вот почему я и ненавижу буржуазную мораль. Она вся построена на культе именно такой добродетели. А добродетель вовсе не в этом, а в отношении к другим людям. <…>
— А сами вы девственны?
Кларанс почти покатилась со стула.
— Вот так вопрос!.. Ох, какое же вы дитя, какое дитя! Конечно, нет, я люблю, как хочу, свободною любовью, и замуж никогда не пойду. <…> Видите ли, замуж нужно выходить только тогда, когда хотите иметь детей. А я не хочу. <…> Сами посудите, какая я мать? Жалкая калека. В детстве у меня была страшная болезнь… я осталась жива, но ноги — как последствия её — атрофированы. Я немного истеричка. Какую бы наследственность я им передала? <…>
— Вы — честная, хорошая женщина, и как я вас люблю!
Кларанс взяла мою руку в свои, тихонько пожала их и печально вздохнула.
— Да, жизнь надо производить осторожно… она слишком тяжела. В этом земном существовании мы искупаем ошибки предшествующих…
— Что вы хотите этим сказать? — спросила я в недоумении.
— Мы живём — грешим, не так ли? — спросила Кларанс.
— Ну, да.
— Так вот, для искупления их, душа после нашей смерти входит в тело другого человека, чтобы в новой жизни изгладить ошибки старой.
И, видя явное недоумение на моём лице, объяснила: Я занимаюсь оккультизмом и магией.
— Это ещё что такое? — удивилась я.
— Видите ли, человек состоит из трёх начал: тела физического, тела астрального и души. Из каждого человека исходит ток — fluide, посредством которого он может влиять на других людей: хорошо или дурно, смотря по тому, какой ток от него исходит.
Моё удивление не имело границ. Я испытывала такое ощущение, будто предо мной открыли дверь в какую-то таинственную тёмную комнату и заставили смотреть туда, и я ничего не видела. <…>
— Душа наша бессмертна. Я — не боюсь смерти. Я убеждена, что возвращусь в этот мир снова в виде новорождённого младенца… и опять буду жить новою жизнью.
— И у вас не останется никакого воспоминания о предшествовавшем существовании?
— Нет.
— Какое же это “бессмертие души”, раз от нашего “я”, со всеми нашими мыслями и чувствами, не остаётся ничего? <…>
— Душа наша меняет своё содержание. Проходя через несколько существований, она совершенствуется нравственно. Это объясняет кажущееся несправедливым с первого взгляда. Почему, например, одни с детства уроды, калеки? Ведь они сами не сделали никому ничего дурного. А между тем, этой теорией всё объясняется: значит, душа эта в предшествовавшем существовании делала очень много зла и теперь искупает свои грехи… Я, например, калека — значит, раньше много грешила, и теперь я должна совершенствоваться нравственно.
Однако, каких только нелепостей не придумают люди; уж подлинно — фантазия человеческая неистощима, — подумала я, но ничего не сказала, желая дать ей высказаться до конца.
— Каждого человека сопровождает дух — Guide. У меня руководитель — дух 18-го века. Я его вижу. Я ведь visionnaire {Визионерка (франц.).}. И мать свою вижу: вон она тут, в саване, около меня на диване.
Я инстинктивно обернулась — на диване никого не было. Что с нею? — с опасением подумала я.
Но Кларанс сидела совершенно спокойно… <…>
Я пожала плечами. Суеверие в Париже в двадцатом веке принимает формы соответственно требованиям прогресса. Что ж с этим поделаешь? <…>
28 ноября, четверг.
Встретилась с Danet на лекции.
Он приходит, как и я, не каждый день. Хитростью отделавшись от Бертье, чтобы остаться одной с ним в коридоре, я спросила, как идёт работа ложи {См. запись от 16 ноября 1901 г.}.
— Отлично! Вчера особенно весело было: мы были приглашены завтракать, и с нами в зале интернов было одиннадцать женщин.
И он был интерном в Брока! Я стиснула пальцы так, что кости захрустели, но всётаки шла рядом с Danet, улыбаясь и глядя на него.
— Вот как вы веселитесь!
— Это не мы, а интерны. Они-то веселятся вовсю. Их положение очень выгодно, впереди — карьера, живут в своё удовольствие. Впрочем, иногда — до безобразия доходят. Вчера, например, один пристал ко мне с непристойными предложениями, я, понимаете, с трудом сдержался дать ему пощёчину. Я люблю женщин, но слава Богу, не так ещё извращён, чтобы… Что с вами? вам дурно?
— Ничего, ничего… я рано встала… не завтракала… голова кружится…
Я сделала сверхъестественное усилие, чтобы не упасть и держаться прямо. И это удалось. <…>
— Послушайте… я хочу попасть на этот бал… слышите? Просто как иностранке мне нужно посмотреть, что есть наиболее интересного в Париже.
Danet с сожалением развел руками:
— С удовольствием бы, но… не могу.
Так вот как?!
Я буду на этом балу…
29 ноября, пятница.
Был Бертье. Преданная любовь этого юноши глубоко трогает меня. В те дни, когда я не прихожу на лекции, он заходит ко мне, справляется, не нужно ли чего, исполняет всякие поручения. И при этом перед всеми держит себя как товарищ, так что никто на курсе и не догадается об его настоящем отношении ко мне. Сколько бы я ни разговаривала с другими — никогда ни слова упрёка или ревности. Словом, он безупречен. И я понемногу начинаю привыкать к его любви… Я так одинока, так несчастна, и это сознание, что существует хоть один искренно преданный мне человек — немного поддерживает меня. У нас не может быть общих умственных интересов, он слишком молод; но душа его прозрачна, как кристалл, и не загрязнена пока житейскою пошлостью.
Как хороша любовь! Настоящая, искренняя, преданная любовь!
Он показывал мне сегодня Консьержери {Тюрьма парижского парламента.}; по возвращении домой сели у камина чай пить… Я не зажигала лампы… в сумерках комнаты видно было, как красивые тёмные глаза Бертье смотрели на меня.
И я смотрела на него… и потом, сама не знаю как, меня обхватили сильные руки, и горячие губы прижались к моим губам. Я закрыла глаза.
— Милая, дорогая, любимая… полюбите меня — хоть немножко. Я буду и этим счастлив… Вся моя жизнь — ваша…— слышала я шёпот Бертье.
Ласка, давно, с детства не испытанная, окружала меня словно бархатным кольцом. Я инстинктивно обняла Андрэ и прижалась к нему.
Потом тихо отстранила его и сказала:
— Voyons… что же мы делаем?
— Я люблю вас!
— Но я серьёзно любить вас не могу… слишком много для этого причин…
— Я ваш паж… Cherubin {Керубино, персонаж комедии Бомарше “Женитьба Фигаро”.} …будьте моей крёстной, знаете — как в “Свадьбе Фигаро”… — шептал Бертье.
— Андрэ, мы делаем глупости.
— Позвольте мне любить вас и любите меня немножко. Мы уж и так друзья, — настаивал Андрэ.
И я позволила быть ему моим пажем.
Четверг, 5 декабря.
Danet давно собирался ко мне придти; встречаясь на лекциях, спрашивал, когда можно застать меня дома. Но всё не шёл.
Сегодня я вымыла волосы и сушила их, распустив по плечам. Мягкие, длинные, они покрывали меня как шелковистым покрывалом.
Пришел Danet.
— Bonsoir, mademoiselle… и он запнулся, с восторгом глядя на меня.— Какие волосы! Боже, какие волосы! Я никак не подозревал… вот так красота.
Он забыл раздеться и, стоя посредине комнаты в пальто и шляпе, любовался мною.
“Он в моих руках”, — подумала я, и, не говоря ни слова, быстро подошла к трюмо, вынула большую чёрную фетровую шляпу с широкими полями a la Rembrandt, надела и медленно повернулась к нему. Я знаю — это так ко мне идёт, что его артистическое чутьё не должно было устоять.
Danet действительно терял голову.
— О, как вы хороши! Картина! Если вас одеть в пеплум, и так, с распущенными волосами, а я буду одет римлянином — да ведь это чудно хорошо будет. Произвели бы такой эффект! Слушайте, — мы поедем вместе на бал интернов, я сегодня же нарисую для вас костюм, а дома, у нас, его сошьют.
Я нарочно молчала.
— Хотите, я готов сделать для вас всё, всё, только бы вы позволили видеть себя такой… Что за волосы! я никогда таких не видывал… Что ж вы молчите? Так едем вместе на бал, да? Ведь это такое интересное зрелище в самом деле. Это надо увидеть хоть раз в жизни.
— Поедем… — с расстановкой проговорила я, и, медленно подняв глаза, окинула его взглядом, в котором он мог прочесть, что хотел…
Он с жаром поцеловал мою руку.
— Теперь давайте чай пить, русский чай, с лимоном. Вы никогда ещё не пили? так вот, попробуйте…
И сняв шляпу, занялась хозяйством. Вся душа моя так радовалась… я увижу его на балу интернов, я увижу его.
И я кокетничала с Danet и позволяла ему целовать мои волосы. Ведь только через него я и могла попасть на этот бал, и чем больше он увлекался мной, тем вернее было то, что он сделает всё, и этого только мне и было нужно. <…>
7 декабря, суббота.
<…> Звонок… <…> В комнату влетел сияющий Андрэ.
— Я устроил ваше дело! нашёл учителя! согласен за двадцать франков в месяц давать два раза в неделю уроки по древним языкам и поправлять французские сочинения. Это мой бывший преподаватель, превосходный педагог. Вот его адрес. Пишите поскорее…
— Да неужели правда?! правда?! — и только присутствие Danet удержало меня броситься на шею Андрэ, и я ограничилась тем, что протянула ему обе руки.
— Не знаю, как вас и благодарить!
Андрэ видел, что он не один, и поэтому не хотел остаться ни на минуту.
— Я только забежал вам сказать, спешу в библиотеку. До свидания!
Он пожал руку Danet; я пошла проводить его в коридор.
— Для вас, для вас! — шептал он, обнимая меня. — Паж исполнил поручение крёстной… теперь — награда… награда.
Я чувствовала, как в темноте коридора блестели его глаза, и, взяв его голову, поцеловала беззвучным долгим поцелуем, чтобы никто ничего не слыхал, и потом потихоньку освободилась от его объятий… Заперла за ним дверь.
Danet, сидя в моей комнате, усердно рисовал детали костюма…
— Как хорошо будет! — повторял он. <…>
— Скоро ли бал?
— 16 декабря.
Как ещё долго ждать! как долго! Кажется, и не дожить до этого дня. <…>
10 декабря, вторник.
Я понемногу привыкла к свободной атмосфере гостиной Кларанс. Некоторые слова всё ещё остаются для меня тайной, но откровенность и смелость выражений уже не шокируют меня больше. <…> И ведь вся эта молодёжь нисколько не хуже других, тех, которые подходят к нам, молодым девушкам “из общества”, с безукоризненно почтительной манерой, вполне цензурной речью…
Мне интересно изучать эту мужскую подкладку. <…> Скульптор так и вертится около меня, впрочем — это слово не идёт к его неуклюжей грузной фигуре.
— Как вы хороши, как вы хороши! Вы вся создана для искусства… С вами можно сделать хорошие вещи,— говорил он сегодня по-русски, усевшись около меня.
— Перестаньте… уверяю Вас, мне надоели эти комплименты, — отвечала я.
— Это правда, а не комплименты. Я оцениваю вас с художественной точки зрения. Вы никогда не носили корсета?
— Нет.
—То-то и видно, что вы не изуродованы, как большинство женщин. Знаете что — позируйте мне! Я сделаю с вас красивый бюст и статую… и вам дам, конечно… Право! сделайте мне такое удовольствие.
— Для головы я согласна.
— А так, вся?
Я строго взглянула на него.
— Отчего нет? — нисколько не смущаясь, продолжал Карсинский.
— Оттого что… подобное предположение…
— Вот тебе и раз! а ещё считает себя передовой женщиной! Вот вам и развитие! Что ж, по-вашему, нечестно, неприлично — позировать для художника? <…> По-вашему, выходит, что ремесло модели как труд — презренно? А туда же — кричат всякие громкие фразы об уважении к труду… — неожиданно заговорил Карсинский серьёзно, искренне и убеждённо, чего я от него никак не ожидала… <…>
И Карсинский, грузно поднявшись с места, шумно двинул стулом и отошёл в другой угол.
Мне стало стыдно. И я подошла к нему.
— Послушайте…
Он поднял голову.
— Ну?
— Я хочу вам сказать, что вы не должны быть так резки; в данном случае и непривычка играет большую роль.
Он посмотрел уже более смягчённым взглядом.
— Хорошо, от непривычки можно избавиться — привычкой… <…>
14 декабря.
Получила от Danet письмо, что костюм готов, и я могу примерить его. Что я примерю у него на квартире — это было условлено и раньше, чтобы не узнала хозяйка. <…>
На широком турецком диване, обитом красным плюшем, лежал костюм: туника цвета mauve и пеплум — creme {Кремовый (франц.).} — всё из дешёвой бумажной фланели. Но этот материал казался дорогим и красивым в изящных складках костюма, который был сшит так, как шьют только здесь и нигде больше. <…>
Danet всё обдумал, как настоящий артист, — купил чулки, сандалии, ленту на голову и камни на неё наклеил…
Я, не раздеваясь, тут же на платье надела тунику и пеплум… Очень хорошо, как раз для меня. Как Danet снял мерку, я уже и забыла — кажется, длину и ширину груди, — однако, всё впору. И он смеялся над моим восхищением работой… <…>
— Ну, теперь я покажу вам пригласительные билеты. Надо вписать ваше имя. В Брока мне выдали дамский билет, не вписывая имени, по доверию. — Я сказал, что приведу с собой девушку-цветочницу… польку. Но всётаки имя вписать нужно, это формальность… Так какое же мы придумаем? По кортежу я буду римлянин, а вы моя вольноотпущенница.
Это слово мне напомнило что-то. Ах, вот!.. Да ведь в романе “Quo Vadis” {“Роман Генрика Сенкевича (1846—1916) “Камо грядеши” (1896).} есть вольноотпущенница Лигия… По-французски это только выходит не так красиво — Lygie {Lygie, в русском произнесении — “Лижи”, с ударением на второй слог.}, а лучше Lydia — это и по-русски также. <…>
16 декабря, понедельник.
С трудом дождалась конца урока Franco-English Guild. В четыре часа бросилась бежать домой, — и, вся запыхавшись, влетела в столовую, где madame Tessier с матерью спокойно дремали в сумерках, сидя у камина.
— Мадам Tessier, — вообразите, какая радость: встретилась только что с подругой, которая проездом в Париже всего на два дня. Мы так давно не видались, сейчас ухожу к ней в номер и не вернусь до завтра, полудня, — ночую у неё, вернее — всю ночь проговорим. Так что обо мне не беспокойтесь. Я сейчас ухожу, тороплюсь. До свиданья.
Мадам Tessier любезно пожелала мне провести приятно вечер с подругой, и я, покончив с этой неизбежной формальностью, поскорее собрала пакетик с полотенцем, мылом и разной туалетной мелочью — и поехала к Danet на rue Varin.
8 часов вечера.
Поскорее вынимаю из кармана заветную тетрадку и набрасываю последние строки.
Мы одевались в рабочем кабинете, который предоставлен в моё распоряжение. Danet и Шарль — в спальне.
— Ты готова, Lydia? — кричит Danet.
Вторник, 17 декабря.
Когда я вошла в спальню, мои товарищи уже оканчивали свой туалет.
Danet окинул меня быстрым взглядом, схватил карандаш, слегка провёл им по бровям, чуть-чуть тронул пуховкой лицо и торжествующим тоном воскликнул:
— Прекрасно! Посмотри теперь на себя — о, как ты хороша, Лидия…
И я увидела в зеркале прекрасную, бледную молодую женщину с тёмными бровями и волной белокурых волос, которые падали почти до колен туники цвета mauve и в белом пеплуме, который падал с плеч красивыми мягкими складками… Узенькая ленточка mauve с цветными камнями, надетая на лоб, придавала лицу какое-то таинственное выражение и глаза из-под тёмных бровей смотрели серьёзно и важно…
— Лидия, Лидия…
Danet любовался мной с восторгом артиста. В самом деле, — такая, какой я была в эту минуту, — разве не была я его созданием с ног до головы? Не он разве придумал и нарисовал этот костюм, — настоял на том, чтобы я распустила волосы, загримировал!
Здесь, в Париже, научилась я ценить и понимать внешность… И искренно, как ребёнок, залюбовалась своим отражением. Сознание того, что я хороша, наполняло меня всю каким-то особенным ощущением, делало почти счастливой… Серьёзная курсистка, суровая книжница, вся погружённая в науку — куда она делась?
Я сама себя не узнавала: мне казалось, что какая-то другая, новая женщина проснулась во мне…
Если бы кто-нибудь год тому назад предсказал, какой стану, я воскликнула бы с негодованием: “не может быть, немыслимо!”
Ведь я четыре года училась в Петербурге, и ни разу не полюбопытствовала пойти на костюмированный бал Академии Художеств.
А теперь… теперь ради него, — пойду не только на этот бал, но спустилась бы во все подземелья ада, если бы знала наверное, что встречу его там…
И я протянула Danet обе руки: “merci, merci, Georges.”
Он быстро оканчивал свой туалет перед зеркалом, и тоже слегка подвёл себе брови. Он был очень интересен в богатом костюме римского патриция: красная тога красиво оттеняла гордую темноволосую голову с римским профилем, а такого же цвета плащ свободно драпировался на его высокой, мощной фигуре!.. Казалось, этому бретонцу нужна была блестящая, театральная атмосфера, что он только и жил в ней, был действительно самим собой.
А бледный, худой, маленький Шарль рядом с ним казался ещё незаметнее в своей голубой тоге раба. Danet беспощадно торопил его, и бедный мальчик тщетно старался пристегнуть трико к тунике. Я помогла ему.
В девять часов мы уже выехали в Брока. Я сидела, как кукла, в углу кареты, бережно укутанная Danet в его длинный чёрный плащ, с головой, покрытой чёрным кружевным шарфом.
Карета остановилась у ворот госпиталя Брока.
Danet быстро выскочил.
— Ждите меня, — и исчез.
Ждать пришлось долго. Я совсем не привыкла быть одетой зимой не в мех, а только в суконный плащ; ноги в тонких чулках и сандалиях замерзали.
Холод мало-помалу пронизывал меня насквозь… казалось, кровь постепенно застывает в жилах… я закрыла глаза. И мысль о возможности схватить серьёзную болезнь, смешанная с сознанием того, что я скоро увижу его, — доставляла мне какое-то невыразимое наслаждение.
Я рада была замёрзнуть тут же, на улице, у ворот этого госпиталя, лишь бы он был там…
Сколько времени просидели мы так — не знаю.
Дверца фиакра отворилась, и показалась красивая темноволосая голова в венке из роз. Молодой человек сел рядом с Шарлем, за ним вскочил в фиакр Danet.
— Мой товарищ Michelin — Lydia — мой кузен Шарль… — торопливо представил нас Danet и велел кучеру ехать.
— Ты не очень озябла, Lydia? — тихо и быстро спросил он. Н-нет… — с трудом выговорила я. У меня все члены онемели от холода, и язык не поворачивался.
Через несколько минут фиакр остановился перед знаменитым Bullier. Перед ним уже собирались зрители, чтобы смотреть на съезд костюмированных.
Danet быстро и ловко высадил меня из кареты и повёл куда-то. Я шла с ним рядом, как в тумане, не замечая, куда мы идём и каким ходом… и яркий свет раздевальни совершенно ошеломил меня.
Небольшая лестница вела вниз в большой танцевальный зал, разделённый колоннами на три части. Он был пуст и слабо освещен.
— Погоди раздеваться, Лидия… Холодно. Что ж ты молчишь. Или замёрзла? Пойдем греться к печке.
Он повёл меня через всю залу, на другой конец, к одной из своеобразных печей невиданной мною доселе системы — не было видно огня, и теплота доставлялась большим медным рефлектором. Danet усадил меня около него, и сам стал тоже греться. Мало-помалу я пришла в себя, могла пошевельнуться и сознательно осмотреться кругом.
Зала была почти пуста. Никого ещё не было.
— Чего ж ты так торопился,Georges,— спросила я. — Мы так рано приехали.
— Наш кортеж формировался в Брока. Мне надо было сказать, что мы едем вперёд, — объяснил Danet. — Другие ведь идут пешком, а мы ехали — вот и вся причина.
Я увидела, что сидела на эстраде, которая шла вдоль всей залы и была уставлена столиками. Должно быть, это был ресторан. Danet отошёл в сторону, рассматривая зал. Я сняла шарф…
— Какие прекрасные волосы! — раздалось за моей спиной.
Я обернулась. Некрасивый субъект в костюме нищего римлянина фамильярно погрузил руку в волны моих волос.
— Да не про Вас! — резко оборвала я его, наклоняясь в сторону. Он быстро отошёл.
Danet всё это отлично видел и в ту же минуту был около меня.
— Послушай, Лидия, — прошептал он, обнимая меня за талию, — так нельзя. Ведь я же тебя предупреждал, что надо быть готовой ко всему.
— Но… это уж слишком скоро, ведь и бал-то ещё не начался, — оправдывалась я.
— Всётаки без резких замечаний, надо играть роль до конца… Куда это делся Шарль? Я поведу тебя в нашу ложу, видишь? — налево.
Мы сошли в зал и снова поднялись по ступенькам, входя в ложу. Она была, действительно, очень хороша и представляла террасу дома с видом на Помпею у подошвы Везувия… <…>
Зала мало-помалу наполнялась народом. Зажгли все люстры и ярко осветили пёструю толпу — тут была “смесь одежд и лиц, племён, наречий, состояний” {А. Пушкин, “Цыганы”.}. Египтяне, финикияне, средневековые монахи и пастушки Людовика XV, русские казаки и адвокат, алхимик и Пьеро — пёстрый поток наводнял залу…
Становилось жарко. Danet снял с меня плащ и унёс его в раздевальню.
На несколько минут я осталась одна…
Вдруг я скорее угадала, чем узнала его… Он шёл прямо на меня вдвоём с высоким красивым брюнетом, оба переодетые китайцами. Длинная коса смешно болталась сзади, так же как и длинное перо. Общий серьёзный вид его и очки составляли странный контраст с пёстрым костюмом.
Это он, — нет сомнения — это он!
Но нахлынувшая волна вновь прибывших подхватила и унесла их…
Впервые в жизни находилась я на костюмированном балу. Голова кружилась от массы разнообразных впечатлений.
— А, наконец-то, я нашёл тебя, Лидия! — обнял меня Danet. — Пойдём в нашу ложу. Там я тебя оставлю, — ты посмотришь, а я пойду танцевать. Он играл роль, как было условлено. И широким, видимым для всех жестом, но лишь едва дотрагиваясь до плеч, — обнял меня и осторожно поцеловал в лоб.
“Как это мило с его стороны, такая деликатность”, — подумала я.
— Вот стул, Lydia. Садись, Шарль, побудь с нею, — приказал Danet и исчез в толпе.
Рассеянно разговаривая с Шарлем, я искала в толпе его… пёстрая, многоголовая, она шумным роем двигалась по залу, — и нелегко было в ней найти его.
У меня уже начинала кружиться голова и глаза устали от этого беспрерывно движущегося потока, как вдруг вновь мелькнули китайские костюмы. Это он! И я скользнула за ним, как тень, увлекая за собой недоумевающего Шарля, который никак понять не мог, зачем я вдруг оставила ложу.
— Немного размяться, Шарль, — уверяла я, смотря, не отрываясь, вперёд.
Кругом веселье разгоралось… женщины — молодые, красивые, накрашенные, — и все доступные.
Я начинала понимать, что это за бал… и к чувству радости при виде его примешивалось острое сострадание.
А он шёл вперёд всё такой же серьёзный и важный, — не обращая внимания на женщин…
“Зачем он пришёл сюда, зачем? ведь он знает, что это за бал и всётаки пошёл… значит…”. Я чувствовала, если только увижу, что он, как и все, развратничает с женщинами — я не вынесу этого… убью её, его, себя…
Я задыхалась… рука инстинктивно искала какого-нибудь оружия, а его не было: я никогда не употребляю и не ношу его из принципа.
А теперь… о, будь они прокляты эти принципы! шагу мы, русские, никуда без них ступить не можем!
Полина Декурсель, полуиспанка, прямо сказала мне, что в день свадьбы покупает себе кинжал и револьвер, чтобы убить мужа в случае измены. Она так рассуждает: “Если я выйду замуж — не иначе как по любви. А если он изменит мне, то за мою разбитую жизнь — сам не должен жить”.
Я люблю его… он должен быть лучше других… а если ничем не лучше, так пусть погибнет и он, и я сама.
Мозг мой горел, в глазах заходили красные круги…
И вдруг меня осенила блестящая мысль, именно блестящая… <…> Я вспомнила, как Шарль вместе с носовым платком и портмоне взял ещё и большой перочинный нож и положил всё это в карман, который кое-как приколол булавкой под тунику.
— Шарль, дайте мне, пожалуйста, носовой платок. Я своего не взяла, у меня кармана нет…
Я знала, что неловкий Шарль, вынимая платок, наверное выронит и нож… Так и вышло. Он выворотил весь карман, и на пол выпал и нож, и портмоне, и какая-то бумажка и, кажется, даже… шпилька! Я наклонилась и, быстро подобрав нож, спрятала его в складки пеплума.
— Так вот как! вы приходите на бал точно в классы — с перочинным ножом, — так не отдам же я его вам.
Смущённый Шарль оправдывался, возился с карманом и просил отдать нож. Я отказалась наотрез:
— В наказание оставлю его у себя до завтра.
А сама, под складками пеплума, потихоньку открыла его и сжала ручку. И странно: я сразу успокоилась, словно какая-то сила и твёрдость от него сообщилась мне.
Но два китайца шли всё вдвоем. Danet разыскивал нас в толпе.
— Скоро полночь! пойдут процессии; пока очередь не дошла до нас — пойдём в ложу, Lydia, и посмотрим, — предложил он.
Чтобы он ничего не мог заподозрить, я тотчас же согласилась.
Мы с трудом нашли место у барьера ложи: она была переполнена.
Женщины — хорошенькие, весёлые, в самых разнообразных костюмах, — начиная от величавой египетской жрицы и кончая простой белой фланелевой туникой, — рассыпались по ложе.
Вдруг одна из них, сидевшая рядом со мной, исчезла и через минуту вновь появилась в одной газовой тунике, уже без шёлковой подкладки. Она спокойно прошлась по ложе. Две другие последовали её примеру: тоже сняли подкладку своих туник и отнесли в угол ложи.
Простота и непринуждённость, с какими эти женщины разделись тут же, на глазах у всех, — заставили и меня отнестись к этому совершенно спокойно. В такой атмосфере, в такой обстановке — это являлось естественным… Я осмотрелась: кругом мелькали голые женские фигуры или вовсе без одежды, или едва прикрытые прозрачным газом…
Сердце у меня почти остановилось: он входит в нашу ложу…
А вдруг он узнает меня? Как ни было нелепо подобное предположение — он близорук и никогда не видал меня без шляпы, — я всётаки инстинктивно прижалась к Danet. Тот прикрыл меня своим плащом.
— Что с тобой, Лидия?
— Так, ничего… мне хорошо с тобой… зачем только ты всё бегаешь к этим женщинам?
— Просто для развлечения.
Он со своим спутником вышли из ложи; очевидно, приходили только посмотреть живопись, не обратив никакого внимания на женщин, которые бегали в ложе.
Я вздохнула свободно! Так он не такой, как большинство… какое счастье! И я совсем забыла, что не он один вёл себя вполне прилично, что многие интерны были тоже одни, не приставали к женщинам, что хорошенький интерн с грустным лицом, который ехал с нами в карете, — тоже был всё время один…
Чем было объяснить такое поведение? Принципами, или только пресыщением благами жизни? Или же верностью своим любовницам, которых не могли почему-нибудь взять на этот бал? Кто их знает… я об этом не думала, — я видела только, что он всё время один — со своим товарищем, что, очевидно, бояться больше нечего…
Пёстрая толпа заколыхалась, раздвигаемая распорядителями. Шествие начиналось.
С другого конца зала показалась колесница, на которой высился гигантский фаллос из красной меди, обвитый гирляндами роз и красного бархата. Около него две нагие женщины раскидывались в сладострастных позах. Колесницу окружала весёлая толпа пляшущих, играющих, поющих жрецов и жриц…
Красота и откровенность этого зрелища — совершенно ошеломили меня… Колесница медленно двигалась кругом зала, и гигантский фаллос, окружённый женщинами, гордо высился над толпой.
Следующая колесница заставила меня вздрогнуть от ужаса и отвращения.
На операционном столе лежала кукла, покрытая полотенцем. Рядом с ней, в высоко поднятой руке, врач держал вырезанные яичники; его передник и полотенце были покрыты пятнами крови.
— Это госпиталь “des Enfants Malade” {Госпиталь Больных детей.} — вот программа, Lydia, — совал Danet мне в руки какую-то бумажку.
Что-то ещё будет?! — с ужасом подумала я и, обернувшись, — вдруг заметила вверху неприличный рисунок…
— Пойдём, пойдём скорее, Lydia — скоро наша очередь! — торопил меня Danet и, схватив меня и Шарля, потащил нас обоих куда-то.
В той части зала, где формировался кортеж, помещался летний сад и было страшно холодно.
Кругом суетились люди, накрашенные женщины взбирались на колесницы. На нашей уже лежал Помпеянец — высокий, рослый, красивый юноша, по типу — настоящий наследник римлян.
В первом ряду его друзей должен был идти Danet и с ним — я, его вольноотпущенница — Lydia. Нас окружили патриции, рабы, сзади — нищие. Распорядители бегали, суетились, уставляя нас.
Шествие тронулось. Danet обнял меня одной рукой, небрежно бросая другой монеты в толпу. У Danet от природы осанка патриция, так что он был чудно хорош… Я не смела поднять глаз… мне казалось, что я непременно встречусь глазами с ним…
Мы медленно двигались сквозь живую стену и сотни любопытных глаз. Я набралась мужества, подняла глаза и смотрела куда-то вдаль, стараясь не встречаться ни с одним из этих взглядов.
Мы два раза обошли залу; одну минуту показалось мне, что я прошла мимо него… не знаю… я в эту минуту инстинктивно вновь опустила глаза.
Когда мы вернулись в летний сад, Danet так же поспешно увёл меня обратно в ложу, чтобы не пропустить посмотреть другие процессии.
Остальные были очень хороши, вполне художественны по мысли и исполнению.
Госпиталь Неккер представлял союзников в Китае. Огромный китаец восседал на колеснице, по углам которой сидели курьёзные китайские куклы с огромными головами, которые качались в такт.
Я не успела понять, в чём заключалась процессия Notel Dieu, как в залу ворвалась весёлая компания поселян времени Louis XV, при сборе винограда и под звуки старинной музыки обходя весь зал… Древние египетские богини госпиталя Сент-Антуана — загадочные, как сфинксы, — двигались таинственно и важно.
И, как конец, — как дитя нашего века — бежала шумно cheminde fer de ceinture {Кольцевая железная дорога (франц.)} с локомотивом, вагонами, багажом и музыкантами, которые усердно во всю мочь играли какую-то пьесу, возбуждая общую весёлость.
Danet и Шарль исчезли из ложи — на раздачу призов. Я наблюдала женщин.
Одна из них — худенькая брюнетка лет под 40, вся накрашенная, — привлекала моё внимание. Она все время вертелась около нас, стараясь привлечь внимание Danet. Её жалкое, худое, с выдавшимися лопатками тело производило впечатление чего-то детского, беспомощного.
Я видела, как внизу в зале Danet танцевал. Как молодое животное, он наслаждался в этот вечер щедрою прелестью и красотой окружавших женщин…
— Смотри, Lydiа,— Диана, Диана.
— Кто эта Диана? — спросила я.
— Она позировала для Парижанки на Всемирной выставке. Молодая красивая женщина в чепце, с завитушками на висках, прошла мимо.
— Видишь, она поправилась,— долетел до меня отрывок разговора.
— О чём это, Danet? — тихо спросила я.
— Да была больна сильно эта Niniche… сифилисом.
Он сказал это просто и спокойно, как будто дело шло об инфлюэнце.
Что-то толстое и мягкое, как подушка, терлось около меня. Я обернулась.
Толстый низенький интерн танцевал около меня и силился обхватить. Чувство несказанного омерзения охватило меня. Но, помня обещание, данное Danet, я не смела оборвать его, и только грациозно уклонилась в сторону.
Danet подоспел ко мне на помощь.
— Римская патрицианка не привыкла к свободному обращению с ней клиентов, — комически важно произнёс он, покрывая меня своим плащом и уводя от него.
— А что, хорошо я ответил?
— Прекрасно.
Толпа понемногу редела. Его нигде не было. Я проследила все уголки залы… очевидно, он уехал давно.
Начался ужин.
Прислуга торопливо разносила приборы и мелкие картонные тарелки, и большие корзины с холодной закуской… Я сидела с Шарлем, а Danet за одним столом с большой весёлой компанией женщин и мужчин.
Одна из них, толстая блондинка, схватила Шарля. Тот совсем смутился. А женщина хохотала и обняла его ещё крепче.
Моя рука инстинктивно поднялась, чтобы защитить ребёнка от этих грязных ласк… В ту же минуту кто-то грубо сжал её, так что браслет до боли врезался в кожу…
Я обернулась. Danet со спокойным лицом, но всё более стискивая руку, прошептал на ухо:
— Оставь… забыла, где ты?
Я видела, как в нём, несмотря на всю его благовоспитанность, проснулся грубый инстинкт, который не мог допустить, чтобы женщина осмелилась заявлять о своей самостоятельности. Я молча высвободила свою руку из его железных пальцев.
Вся зала наполнилась дикими, нескладными звуками: интерны отняли у музыкантов инструменты, и делали нечто вроде выхода клоунов у Барнума {Питер Барнум — американский цирковой предприниматель.}. Это было какое-то безумие, не поддающееся описанию.
— Пойдём, пойдём, ты не должна этого видеть, Lydia, — тревожно сказал Danet. Голос его был серьёзен и глаза уже не смеялись. — Ты, наверно, устала, и Шарль тоже, он уже давно хотел уехать с бала…
Я сейчас же согласилась и, проходя по зале, всётаки, чтобы удостовериться, смотрела направо и налево — его не было.
Danet меня так же укутал и опять, как куклу, усадил в фиакр. И только очутившись у него на квартире, я почувствовала, как устала.
— Спасибо вам… вы доставили мне большое удовольствие.
— Позвольте мне ещё раз назвать вас Lydia, это так хорошо… Слушайте, зачем вы такая красивая?
Его руки обвили мою талию, и прекрасная голова наклонилась к моему лицу.
Волна каких-то новых, неизвестных доселе ощущений пробежала по мне. Я хотела вырваться из этих сильных объятий бретонца — и не могла.
Голова закружилась, я едва понимала, что со мной делается и, обняв его голову обеими руками — поцеловала… Потом оттолкнула его, заперлась на ключ и, не раздеваясь, бросилась на диван.
А сегодня консьерж поднялась с письмами к двенадцати часам, когда я, уже совсем одетая, собиралась уходить; дверь я уже отперла, и та, не ожидая найти никого в кабинете, вошла, не постучавшись, и, увидев меня, с лёгким — ах! скромно удалилась.
18 декабря.
Видела сегодня сон. Иду по дорожке сада какого-то госпиталя; полдень, жара страшная… интерны идут обедать и подходят к кассе; их много, белые блузы тянутся длинной вереницей, а среди них — вижу его. Хочу подойти и не могу: какая-то невидимая сила удерживает на месте… и чем ближе он подвигается к кассе — тем я дальше.
19 декабря, среда.
Вижу ясно, как день, что это безумие… Такая любовь губит меня и — не могу, не могу победить себя, не могу вырвать её из своего сердца. <…>
Мне кажется, что впереди стоит что-то страшное, беспощадное, тёмное, и я знаю это: это смерть…
Смерть! когда подумаешь, что рано или поздно она является исходом всякой жизни, а я — молодая, красивая, интеллигентная женщина — и не испытала её единственного верного счастья, — взаимной любви, без которой не может существовать ничто живое, мыслящее, чувствующее…
Невероятная злоба поднимается в душе, и хочется бросить бешеные проклятия — кому? чему? слепой судьбе?
Или я недостойна его?
Нет, нет и нет!
Всё моё существо говорит, что нет… Та, которую он полюбит, — не будет ни выше, ни лучше меня…
Так за что же это, за что?!!
Я стала точно инструмент, у которого все струны натянуты — вот-вот оборвутся…
Мне страшно оставаться наедине с самой собой… мне нужно общество, нужно говорить, действовать, чтобы… чтобы не думать… ни о чём не думать…
Сейчас получила письмо от Карсинского — приглашает завтра придти смотреть его мастерскую, опять будет просить позировать… что ж, не всё ли мне равно?
20 декабря, пятница.
Была у Карсинского; он показывал бюст Белинского, его маску, модель памятника.
И опять просил позировать.
— Ну, хоть для памятника Белинскому! Смотрите — какой неудачный торс у этой фигуры, которая должна венчать бюст лавровым венком! Я не мог найти хорошей модели. Если согласитесь,— я за это придам этой фигуре ваши черты лица и вы будете увековечены на первом в России памятнике нашему великому критику.
Как хорошо, что у меня так развита способность наблюдать! Я сразу увидела, что он хочет польстить моему женскому самолюбию, но я не тщеславна. И молча, отрицательно качала головой, в глубине души сама не понимая, зачем ещё продолжаю эту комедию отказа — ведь мне, в сущности, так всё безразлично.
А Карсинский точно догадался, и мягким жестом взял меня за руку.
— Ну, хорошо, не будем об этом говорить… приходите завтра, попробую начать ваш бюст, а там — увидим.
21 декабря, суббота.
Отправляясь к Карсинскому, захватила с собой костюм, в котором была на балу интернов; в нём удобно позировать для бюста, и удобно снять.
Мастерская была тепло натоплена. Карсинский в блузе, с руками, замазанными глиной, казался гораздо естественнее и лучше, нежели в салоне Кларанс.
Он работал над чьим-то бюстом, когда я постучалась.
— А, наконец-то! Я уже полчаса жду. Ну, с чего же мы начнём? Одну голову? это неинтересно, а для бюста вы должны снять свой корсаж… но лучше было бы, если бы решились позировать вся. Что вы думаете — не позировали у меня интеллигентные женщины, что ли?
— Не думаю, — сказала я.
— Вот и ошиблись! Взгляните — он показал на бюст молодой женщины с лицом необыкновенно выразительным и умным, и на большой барельеф во весь рост — св. Цецилию.
— Но ведь это — одетая.
— Да прежде надо слепить фигуру с натуры, а потом и одеть. Ведь и эта фигура — на памятнике Белинскому — неужели вы думаете, что так идёт оставлять её голой в нашем-то климате?
И нам стало смешно.
— Я должна переодеться.
— Вот ширмы.
Я сняла платье и надела тунику, распустила волосы. А когда вышла из-за ширмы, Карсинский окинул меня всю взглядом знатока.
— Для бюста надо обнажить себя до пояса, сказал он, — умелою рукою отстегивая крючок сзади. Туника спустилась с одного плеча.
Какое-то желание испытать позы, неизведанное ещё ощущение охватило меня…
Я видела, как Карсинский ждал. Незаметно отстегнула другой крючок, и туника упала, обнажив меня всю.
— Ах! — вырвалось у него… — Стойте теперь, вот так; повернитесь ещё раз; теперь выберем позу. Садитесь сюда на диван, к вам идёт что-нибудь такое, например, отчаяние…
Мне ли не знать, что такое отчаяние! При одной мысли о нём вся моя фигура и лицо сами собою выразили такое безграничное отчаяние, что скульптор в восторге вскричал:
— До чего верно вы понимаете мысль художника! Вы — неоценимая модель, вы меня вдохновляете… Ну уже и сделаю же я с вас статую! В России опять заговорят обо мне… Так и назову её — “Отчаяние”. Это будет большая работа… А пока — у меня есть ещё бюсты, которые надо кончить скорее; я начну с вас один из них… Грудь должна быть видна вся, голову слегка наклоните вправо, волосы — вот так… я назову ее “Лилия”. Как хорошо! У вас удивительное выражение лица — задумчивое такое, нежное…
Я пошла за ширмы и оделась; потом расстегнула лиф, приняла позу, какую он указал, и сеанс начался. Умелые пальцы постепенно придавали жизнь и человеческий облик бесформенной глиняной массе…
22 декабря, воскресенье.
Недели полторы тому назад получила приглашение участвовать в комиссии по устройству бала, который русское студенческое общество устраивает в первый день Нового года. В прошлом году, оказывается, был такой же бал, но тогда мой адрес, как только что прибывшей, был ещё неизвестен обществу. Я не была на первом заседании и сегодня получила вторичное приглашение.
Теперь я ухватилась за него: мне положительно было невыносимо оставаться наедине с самой собою и книгами. Заседание продолжалось около трёх часов; я спорила, горячилась, доказывала, хотя, право, мало смыслила, в чём дело.
Будучи на курсах, я была слишком занята, чтобы принимать участие в подготовительных хлопотах каких бы то ни было вечеров; а тут сразу надо было постигнуть всю премудрость организации этой подготовительной работы.
Мне поручили продавать билеты; дали список адресов, — что-то много, около тридцати, надо всех обегать и продать.
Во время заседания один за другим являлись члены первой комиссии с неутешительными известиями — кто совсем не продал билетов, кто на 30 франков, кто на двадцать.
— Господа, да что же это? ведь мы в прошлом году начали вечер с тремястами франков, а нынче и ста-то нет! Откуда же взять деньги на расход? — в отчаянии вскричал председатель. — Где список адресов? где самый главный, у кого?
— У Соболевой, она отказывается ехать.
— Слушайте, как же так? Список-то, по крайней мере, возвращён ею?
— Кому же ехать?
— Да вот новый член, Дьяконова, она в первом заседании не участвовала, так пусть теперь поработает, — протянул мне список один из студентов.
Я взяла список и обещалась сделать всё, что могу.
— Уж вы постарайтесь, а то на вас последняя надежда. Хорошо. Постараюсь. Если ни на что больше не годна — хоть билеты продам. И никакие лестницы, этажи и расстояния теперь не пугают меня…
23 декабря, понедельник.
Устала смертельно. Бегала с девяти утра до девяти вечера.
24 декабря.
То же самое. Поднималась и спускалась по этажам из квартиры в квартиру. Квартиры в Елисейских полях и скромные комнатки Латинского квартала. Безумная роскошь обстановки — в одних, скрытая бедность — в других. Какое богатое поле для наблюдений, какой материал для романиста! Только я-то не сумею воспользоваться всем этим. <…>
26 декабря, четверг.
Ещё день беготни, — и завтра сдаю отчёт. Последние десять адресов.
Из-за всей этой беготни — еле-еле успеваю позировать скульптору. Бюст подвигается быстро.
Сестра Надя прислала неожиданно сорок рублей, полученные по переводу. Вот прекрасно! Сошью себе на них русский костюм, благо, шёлк здесь дёшев!
Сошью голубой шёлковый сарафан, кокошник вышью в одну ночь… и рисунок есть — из Румянцевского музея давно взят. <…>
27 декабря, пятница.
Сдала отчёт. Привезла около полутораста франков. Теперь будет с чем начать вечер.
Я никого не знаю из этих господ, но один из присутствующих подошёл и отрекомендовался Самуиловым, “поэт по профессии”. Я с любопытством посмотрела на этого субъекта — еврейский тип, неряшлив, в общем — ничего особенного; голова — с претензией на Надсоновскую, но несравненно хуже её…
И так как я спешила домой, то он предложил свои услуги проводить меня. Я не боюсь ходить одна, но из вежливости — не отказала. <…>
— Не хотите ли зайти напиться чаю?
— С удовольствием.
За чаем, в качестве поэта, он повел атаку быстро. Заявил, что давно интересуется мной, что я — очень хороша собой и т.д. и т.д… <…>
— Ведь вы только по внешности кажетесь спокойной, а на деле у вас душа такая… бродящая, по глазам видно.
Он расположился было целовать мне руки, но я отдёрнула их. Этот нахальный субъект был мне противен.
28 декабря, суббота. Оказывается, сегодня получила по почте ещё десять франков за билеты. Надо было отдать их секретарю. Пошла в русский ресторан, — там, кажется, его можно всегда застать до 12 часов.
Я там никогда не бывала; и на минуту русский говор ошеломил меня: как будто в Россию попала.
За завтраком моим соседом был магистрант Юрьевского университета, высокий блондин с длинным носом и голубыми глазами. Он долго говорил мне о преимуществах мужчины, стараясь доказать его превосходство над нами…
— Да… женщины вообще неспособны к философии, к научному творчеству, они лишь скорее усваивают, чувствуют тоньше, а наш брат — грубоват. Но в области науки, в области философского мышления укажите мне женщину, которая создала бы своё, новое?
“Гм-м… много ли ты сам-то можешь создать своего, нового”, — подумала я, но не решилась сказать, боясь обидеть его мужское самолюбие. И отвечала вслух:
— Женщин, таких как есть, нельзя судить, как вы судите. Мы, половина рода человеческого, тысячелетиями были поставлены в такие условия, в каких мы могли развивать только свои низкие качества. <…>
Учёный не пытался, по-видимому, возражать, и вскоре, увлечённый своими мыслями, заговорил о нации.
— По-моему, государственность и религия необходимы, необходимы; в русском народе есть этакий христианский дух, которого я не замечаю здесь. Как сказал Гексли {Томас Генри Гексли (1825—1895), английский биолог, пропагандист учения Ч. Дарвина.}: люди, проповедующие: “возлюби ближнего своего, яко сам себе” {“Книга Левит (19: 18), также Евангелие от Матфея (22: 39) и Евангелие от Марка (12: 31).}, в жизни рады друг другу горло перерезать; а люди, убеждённые, что человек произошёл от обезьяны, и материалисты, в жизни следуют принципу — “положи душу свою за други своя” {Евангелие от Иоанна (15: 13).}.
— Так вы убеждены в том, что и у вас есть христианский дух?
— Убеждён.
— Ну, а как же связать с этим противоречие ваших собственных слов: вы ведь против того, чтобы женщинам давали права. А между тем, в Евангелии сказано: “возлюби ближнего своего, яко сам себе”. Без различия пола. И вот, согласно этому принципу, каждое человеческое существо должно иметь одинаковое право на жизнь, на существование, тогда как при настоящем положении дела женщина должна жить, не имея равных с мужчинами прав. И если вы признаёте это законным, естественным и восстаёте против её освобождения — какой же это христианский дух? Где тут любовь к ближнему?
Мой собеседник окончательно смутился, не находя выхода из собственных противоречий. И после неловкого молчания вдруг заговорил о себе…
— Я тороплюсь уехать из Парижа. Заниматься здесь неудобно; Национальная библиотека открыта только до 4 часов, книги приходится покупать… А характер французский — это наружная вежливость, а внутри — homo homini lupus {Человек человеку волк (лат.) — афоризм из комедии Плавта “Ослы”.}… Немцы откровеннее и сердечнее; с нетерпением жду, скоро ли буду в маленьком немецком городке.
“Книгоед!” — подумала я.
— Робок я очень, знаете ли, — продолжал магистрант, — да и нет у меня в голове этой… архитектоники.
— И слога? — спросила я.
— Н-нет… насчет слога я, знаете ли, стараюсь… а вот нет у меня архитектоники, построения, плана книги… и не знаю просто, как быть.
“Да, не знаешь, как быть, оттого, что у тебя нет научного гения, творческой жилки”, — подумала я, глядя на его ограниченное лицо. Нельзя высиживать из себя насильно книги.
После завтрака к нему подошел поэт Самуилов; начался спор, не возбуждавший моего внимания. И всётаки, несмотря на всю разницу моих взглядов, — учёный был для меня симпатичнее этого самоуверенного нахального субъекта, горячо толковавшего о политике…
— Ах, не говорите вы этого слова “режим”, — с гримасой прервала я его речь. — И видно сейчас, что вы — не русский человек. Надо говорить “образ правления”.
— Ну вот ещё! — небрежно возразил он. Я вспыхнула.
— Я, как чисто русский человек, стою за систему своего родного языка, а вы, русские евреи — с удивительною лёгкостью вводите в нашу речь иностранные слова. У вас нет этого чутья, чистоты русской речи, к которой мы привыкли с детства; вам не коробят слух эти выражения, — с негодованием воскликнула я.
— Да я и не русский писатель, а еврейский.
— Ну и пишите по-еврейски, к чему писать на чужом для вас языке.
— Позвольте, да разве можно запретить кому бы то ни было писать по-русски, раз я хочу этого? Я настолько хорошо знаю русский язык, смею сказать, что, быть может, буду блестящим стилистом.
“Недавно сказал, что Максима Горького испортят восхваления критики, — а сам себя ещё до всяких критик возвёл уже в блестящие стилисты, — эх ты, бахвал!” — с пренебрежением подумала я.
…И все мои симпатии были на стороне соотечественника, забитого, робкого, но смиренного. Эта добродетель смирения — великая вещь.
Вечером я сошла к Кларанс. Она была одна. Я просила её проанализировать его почерк {Речь идет о Е. Ленселе.}. <…>
— Человек этот много страдал, и вследствие этого создал себе такой характер искусственно; он очень сдержан, очень скрытен.
— Не находите ли вы, что эти сжатые строчки указывают на любовь к деньгам? — спросила я.
— О, да. Я только что хотела это вам сказать. Но им можно управлять, если вы будете знать его слабые стороны. В общем — хороший характер.
“Напрасно, значит, назвали его иезуитом, он вовсе не так плох на деле…”, — радовалась я.
Но всётаки — разве достаточно анализа почерка? <…>
1902 год
1 января, среда.
Вот и Новый Год. Здесь обычай рассылать поздравительные карточки в этот день. Как была бы я счастлива получить один узенький лист бристольской бумаги {Сорт высококачественной бумаги, плотной, с шероховатой поверхностью.}, — один из тех, который когда-то видела у него на столе. Но… ведь он даже не считает меня за знакомую, конечно, не пришлёт. <…>
4 января, суббота.
Неожиданно узнала, что любители из русских, живущих здесь, ставят “Дядю Ваню” {Пьеса А. Чехова, написанная в 1897-м; первая постановка осуществлена в МХТ, в 1899 году.}. Я так мало имею сношений с русскими, что решительно ничего не знаю, что у них делается. “Дядю Ваню” я еще не видала…
Что за пьеса! что за впечатление!
Говорят, пьеса эта для нас скучна: в провинции жизнь такая же, и со сцены пьеса кажется невыразимо скучной. Но здесь, на ярком, пёстром фоне парижской жизни — эта картина русской жизни выделялась так резко, производила такое сильное впечатление. Казалось,
*** Возможно, запись от 4 января делалась в два приёма, и последующее написано после просмотра спектакля.
вся зала, все зрители переживали одно чувство. И настроение, о котором столько было споров, — можно или нельзя ставить его на сцене — это настроение так и сообщалось зрителю…
И казалось мне, что я среди парижского веселья, шума расслышала один звук, проникший прямо в сердце — голос с родины, отзвук её жизни. <…>
7 января, вторник.
Когда я оделась в светло-голубой сарафан, кокошник, и белая фата спустилась сзади до полу, — я невольно засмотрелась на себя в зеркало…
Что, если бы я пришла к нему в этом костюме, опустилась бы перед ним на колени — устоял ли бы он против моей мольбы? Неужели его сердце не тронулось бы?
Какой-то тайный голос шепчет: попробуй, иди… Что ж? Завлекать его своею внешностью, что ли? Того, который знает лучшее, чем эта внешность, — мою душу…
Я вся блестела холодным блеском, как снег и лёд моей родины.
Когда сегодня принесли сарафан, Кларанс просила непременно сойти показаться. Я знала, что опять встречу у неё то же общество… Оно дает мне забвение, туда я убегаю от себя самой — и как магнит какой-то тянул меня в эту беспорядочную среду художников, литераторов, артистов, где все живут надеждами и любовью, — в эту атмосферу бесшабашного веселья.
И я уже так привыкла к этому обществу, что сама смеюсь, кокетничаю, выучилась даже вставлять скабрезные намёки, что возбуждает общий смех. Точно пьющий ребенок в кружке пьяниц… Им надо что-нибудь острое, всем этим пресыщенным людям, и они видят во мне свежее, ещё не заражённое их атмосферою существо, забавляются мной, как приятной игрушкой… а я ищу забвения…
Общий крик восторга приветствовал моё появление среди них…
Но сейчас еду на бал… И там, наверное, найду забвение…
8 января, среда.
Половина девятого. Только что вернулась с бала. Полный успех. Торговала больше всех {Вероятно, билетиками лотереи-аллегри.}; комплименты так и сыпались; поклонники окружили меня. К чему мне всё это?
Однако, холодно, хотя и топится камин. Простудилась я, должно быть, — в коридоре был сквозняк. <…>
9 января, четверг.
Мне хуже… Должно быть, инфлюэнца. На душе целый ад. И теперь уже не буду обращаться к нему… нет.
.
14 января, вторник.
Три дня пролежала в постели, — стало лучше. <…> Пошлю ему телеграмму с оплаченным ответом: можно ли принять Valer. d’ammoniaque? Из гордости я не хотела больше обращаться к нему. И когда увидела себя вынужденной сделать это — писать petit bleu {Городская телеграмма, писавшаяся на голубом бланке.} — рука моя дрожала…
15 января, среда.
Ответа не получила; что же это значит? <…>
16 января, четверг.
Только сегодня в два часа увидела серый конверт со знакомым почерком. На элегантной серой карточке я читала:
“Мадмуазель.
Я не мог вовремя прочитать Вашу телеграмму, так как не был в Бусико ни в понедельник, ни во вторник и получил её только сегодня. Если Вам необходимо срочно переговорить со мной, прошу зайти завтра, в четверг, с пяти до шести часов вечера.
С лучшими чувствами,
Е.Ленселе.
Среда, 15 января”.
И внизу адрес: 5, Rue Brezin… Идти или не идти? Но одна мысль, что я увижу его, войдя в этот дом, мимо которого столько раз проходила — решила вопрос…
Я получила это письмо, когда отправлялась в Брока. Там мадмуазель Анжела сказала:
— Вы ведь уже давно не виделись с мсье Ленселе?
— Пожалуй, впрочем, не помню, — отвечала я равнодушно.
— Он вернётся к нам в мае… к доктору Дроку. Он станет заведующим лабораторией и заменит доктора Дюрбаля, который уходит в клинику “Больные дети”. <…>
Вернувшись домой, я быстро приготовила туалет в комнате хозяйки. Она с удовольствием помогала мне, восхищаясь мной в чёрном костюме.
— Вы стали совсем парижанка. <…>
Я возвратилась к себе в комнату. Ещё рано; не надо приходить точно в пять, лучше позже, а то он подумает, что я очень спешила. И, сидя против часов, я стала ждать… Как медленно движется стрелка! Я беру книгу и с нетерпением читаю несколько страниц…
Уже пять часов! Я набросила пелерину и быстро вышла.
Со странным чувством поднималась я по лестнице. Каждая ступенька, каждый шаг приближал меня к нему. Ведь он ежедневно проходит по этой лестнице… Пятый этаж, и в рабочем квартале. Очевидно, он сын мелкого чиновника, что называется “petit bourgeois” {}, из семьи, где годовой бюджет рассчитан до последнего сантима… <…>
Он отворил сам.
В комнате топилась печка; у окна на большом круглом столе лежали книги, склянка с клеем, корректурные листы.
— Садитесь. Извините, но я положительно не мог прочесть вашей телеграммы. Разобрать в ней что-нибудь было невозможно; по-видимому, вы не отдавали себе отчёта, что пишете… <…>
— Я просила вас ответить, — можно ли принимать эти капли каждый раз, как усиливается головная боль?
Он прочёл.
— Но это лекарство не производит моментального действия, это невозможно… Вы не беспокойтесь. Не надо так нервничать. Верно говорят: славяне — очень нервный народ. Я и раньше имел случаи в этом убедиться. Но во всех случаях Вам вовсе — ещё раз повторяю — не надо так нервничать. Послушайте, что такое случилось за то время, что я Вас не видел?
Я, наконец, овладела собой и едва слышно сказала:
— Извините, что я пришла к вам сюда… Я не хотела больше обращаться к вам, потому что теперь это было бы слишком унизительно для меня. Каждый раз, когда я прихожу к вам — вы сами, без всякой просьбы с моей стороны говорите, что я могу обращаться к вам. <…>
— Извините, действительно, я был слишком небрежен к Вам. Но дело здесь вовсе не в моём отношении к Вам. Просто меня позвал приятель, приехавший из провинции, ему только что сделали небольшую операцию, и я не мог не поехать к нему, — сказал он равнодушно. <…> — Ну, расскажите же, что с вами случилось за это время, пока я вас не видел?
— Вы не искренни со мной, мсье, — не отвечая на вопрос, сказала я.
— Но почему? <…>
— Случайно услыхала разговор, — клянусь вам, я не искала его слышать. Я беседовала в обществе двух особ, мужчин или женщин — я не скажу. И вот одна из них говорит: “Он был с Ленселе, знаете этого иезуита?” А другая ей отвечает: “Ну, да …” — Я тотчас ушла, я не могла это слушать. — Мой голос задрожал, и по щекам покатились слёзы. — А потом, через несколько времени, я встретила одну из них и спрашиваю: “Отчего вы назвали его иезуитом?” — “Потому что он нечестный человек, невозможно доверять его словам”. И тогда я вспомнила, что действительно, вы обещаете и не исполняете ваших слов… И вот почему я не могла говорить с вами…
Я не смотрела на его лицо…
— Мадмуазель… возможно, это были люди, которым я причинил зло… мне глубоко безразлично, что они думают обо мне, я их презираю. Но если Вам встретятся мои друзья, они скажут обо мне совсем иное… <…> К тому же Вы не можете сказать, что я был с Вами неискренен. Мы столько с Вами общались, что Вы и сами можете составить мнение о моём отношении к Вам. Да, мне доводилось иногда говорить Вам неприятные вещи. Но всё это было без всякой задней мысли. Моё поведение по отношению к Вам…
И я вдруг невольно быстро прервала его:
— Да, мсье, Вы безупречны, но тут ведь дело и во мне. Я не уверена, что Ваше поведение не изменилось бы, если бы я приходила к Вам, напудрившись, в шёлковом белье розового цвета…
— Почему вы думаете, что моё поведение было бы совсем другое? — поспешно прервал он.
— Потому что… было бы другое… Я знаю, что Вы не прочь подразвлечься.
— Кто Вам сказал, что я любитель подразвлечься?
— Никто, мсье… но вы, мужчины, все на один манер…
— И женщины тоже. Вы ничем не лучше нас. Более того — женщины гораздо развращённее мужчин. И гораздо хитрее. А так как женщины, как правило, ещё и гораздо глупее, то они и стоят гораздо ниже мужчин.
Всё это он проговорил быстро, не останавливаясь, точно торопясь высказать свою мысль. Глаза его вспыхнули, и с минуту мы смотрели друг на друга как два врага.
Страшная усталость охватила меня…
— Ну, я не буду вам противоречить: думайте, что хотите, — машинально ответила я… <…>
А он, как будто успокоившись, взял лист бумаги.
— Я дам вам лекарство, облатки — и быстро начал писать, покрывая бумагу своим мелким, бисерным почерком. Я сидела молча и смотрела на его правильно очерченную голову с прямым профилем.
— Вот, это вы будете принимать в течение десяти дней, а потом — микстуру, а после десяти дней вы приходите…
— О, нет, нет, мсье, я больше не приду, — быстро прервала я его. Мне стало уже невыносимо слышать его слова… эти лживые слова… — Да, я не приду больше. Зачем? ведь у вас нет времени. Вы должны сдавать свои экзамены….
— Экзамены? Но для интернов они ничего не значат, это — пустая формальность. Я занят другой работой… Вот… Он взял огромный толстый том, раскрыл его и показал свою фамилию среди многих других.
“Dermatologie” — прочла я заглавие крупными чёрными буквами.
— И ещё это,— добавил он, взяв со стола корректуру… Подав руку, я простилась. Он проводил меня до дверей.
И, уходя, я почувствовала, что не увижу его больше никогда… никогда.
И медленно сошла я с лестницы, и пошла по avenue d’Orleans, с наслаждением вдыхая свежий вечерний воздух.
Если б он знал — сколько раз тихой летней ночью проходила я мимо его дома… если б он знал, если б он знал!
17 января, пятница.
На меня нашло какое-то отупение. Страдание дошло до высшей точки, и дальше идти некуда.
Я люблю человека чуждых убеждений, которому непонятны самые дорогие, самые заветные мои убеждения… люблю француза, с извращённым взглядом на женщину.
18 января, суббота.
Если нет сил для жизни — надо умереть. Нельзя занимать место в этом мире, которое с большей пользою могут занять другие.
19 января, воскресенье.
Когда стрелка подошла к часу, — я машинально пошла в Брока. Мне стоило страшного усилия, чтобы разговаривать спокойно с мадам Делавинь. Потом прошла к Анжеле. И та, болтая обо всех новостях, происшедших в госпитале, сказала:
— А между прочим, знаете? Месье Ленселе женится на родственнице доктора Д., на племяннице его жены. Очень хорошенькая, воспитывалась в монастыре. Очень его любит и ревнива страшно. Уже и теперь забрала его в руки… Теперь он далеко пойдёт!..
Я досидела до конца приёмного часа. И пошла домой.
На душе вдруг стало как-то покойно…
Что-то умерло во мне… Да я сама больше не живая.
Я прожила на свете целую четверть века и ещё два года… срок достаточно долгий для такого бесполезного существа.
Сколько ошибок сделала я в жизни! И кажется мне, что вся моя жизнь была одной сплошной ошибкой, бессмысленной загадкой, которую пора, наконец, разрешить.
Я и решаю… раз навсегда…
Кто пожалеет меня?
Те немногие интеллигенты, которых я знала. Но они, вечно занятые “принципиальными вопросами” или собственной личной жизнью, — никогда глубоко не поинтересовались моею душою, моим внутренним миром… Они не поймут и осудят… осудят беспощадным судом теоретиков, которые всё стараются подвести под определённые рамки.
Семья? Да разве она есть у меня? О матери и говорить нечего… Братья? Здоровые, жизнерадостные, ограниченные юноши, для которых я была как бельмо на глазу… Валя? У неё двое детей — залог будущего, источник радостей, надежд и печалей, который скоро изгладит следы горя.
Меня пожалеют разве только бабушка, тётя и бедная забитая Надя.
Надя будет горько плакать над моей могилой, и никогда не поймёт, отчего это Лиза, которой, кажется, дано было всё, чего она хотела — и на курсах была, и за границу поехала, и вела такую самостоятельную жизнь, — отчего это Лиза вдруг покончила с собой… Бедная, милая сестра! авось, она выйдет замуж, и в новой жизни — скорее забудет меня. А бабушка — милая, наивная старушка! Она вместе с тётей будет с ужасом молиться об упокоении моей “грешной души”, и, наверно, обе будут глубоко убеждены, что, не поступи я на курсы, — всё было бы иначе, что всё это последствия курсов…
Да ещё искренно пожалеет обо мне бедный Андрэ. Мне жаль его, я всётаки любила его… немножко… и его любовь доставила мне несколько хороших минут в этой жизни… Спасибо ему!
А Кларанс? она будет рассказывать своим друзьям убеждённым тоном, что я возвращусь в этот мир в другом виде, и, пожалуй, увидит меня на дворе… <…>
Всё готово. Письма написаны.
Я отворила окно. Стоит холодная зимняя ночь. Как хорошо, как тихо кругом. И страшно мне кажется, что завтра в это время я уже не буду существовать. Страшно… Чего я боюсь? Боюсь перешагнуть эту грань, которая отделяет мир живых от того неизвестного, откуда нет возврата…
Если бы он мог быть моим — моя измученная душа воскресла бы к новой жизни, но этого быть не может — следовательно, незачем и жить больше…
Но если выбирать между этой жизнью, которая вся обратилась для меня в одну страшную тёмную ночь, и этим неизвестным… жить? — нет, нет и тысячу раз нет! По крайней мере, покой и забвение… их надо мне.
А долг? а обязанности по отношению к родине? — Всё это пустые слова для тех, кто более не в силах быть полезным человеком…
Родина, милая, прости…
И ты, любовь моя,— прощай!
Последняя мысль — о нём… на его родном языке… —
Soyez heureux autant que j’ai ete malheureuse… Будьте же счастливы в той же мере, что я была несчастна… {По мнению Александра Дьяконова, в отличие от первых двух частей дневников, “Дневник русской женщины” писался сестрой как художественное произведение, предназначавшееся для публикации. В предисловии к изданию 1912 года он говорит: “Стремясь достичь наибольшей художественной выразительности, Е. А. пишет этот “Дневник” от начала и до конца в двух рукописях, неоднократно изменяет и дополняет повествование, переделывает заново многочисленные его эпизоды и пишет к ним варианты <…>. Кроме того, всё содержание “Дневника” — в строгом соответствии с заранее составленным “планом”. Этот “план” сохранился в бумагах писательницы — и вот как обозначен в нём конец повествования:
“…Вопрос Анжелы, мой ответ. Ожидание 5 часов. Иду к нему. Разговор. Я ухожу и… не увижу его больше… никогда… никогда… Мне кажется, что всю меня отравили каким-то ядом. У меня нет больше сил жить. Иду в Брока. — А знаете новость? monsieur Lenselet женится на родственнице д-ра Дрока… она очень его любит и ревнива страшно. Я ухожу. Мне больше ничего не остается, как умереть…”
И под датами 16, 17, 18 и 19-го января (1902 г.) именно так и написаны последние главы “Дневника русской женщины”. Но даты здесь вымышлены, так как работа над второю рукописью — художественно законченною — идёт непрерывно с мая до последних чисел июля (ст. ст.), т. е. до самого отъезда автора из Парижа на каникулы. Будто предчувствуя роковую близость смерти, Е. А. спешит кончить свою книгу и пишет её с лихорадочным рвением, непрерывно, страстно, работая не только целыми днями, но иногда и ночью до рассвета. В бумагах покойной сохранилась записка, где аккуратно, на каждый день ведётся подсчёт написанным “окончательно” страницам, и сделано приблизительное вычисление полистно, устанавливающее, что книга будет в “15 с лишком печатных листов, если печатать in—8°””.}
I
Последние полгода
О женском вопросе
{статья была опубликована посмертно}
Этому делу никогда не бывает конца. Я и теперь думаю о том же (о половом вопросе), и всё кажется, что нужно бы ещё много уяснить и прибавить. И это понятно, потому что дело такой огромной важности и новизны, а силы, без ложной скромности говоря, так слабы и несоответственны значительности предмета.
Поэтому я думаю, что всем надо работать, — тем, кого это интересует сердечно, — всем надо разрабатывать этот предмет по мере сил своих. Если каждый с личной точки зрения скажет искренно то, что он думает и чувствует об этом предмете, то многое тёмное уяснится, привычно ложно скрытое откроется, кажущееся странным по непривычности видеть это — перестанет казаться таким. По счастливой случайности я, больше, чем другие, имел возможность обратить внимание общества на этот предмет. Надо, чтобы другие продолжали дело с разных сторон.
Л. Толстой.
За границей появилась недавно книга “О половом вопросе. Мысли Л.Н.Толстого, собранные В.Чертковым”. В предисловии составитель заявляет, что “ответственность за порядок взаимного расположения должна лежать на нём одном, так как автор, высказывая эти мысли по различным поводам, вовсе не имел в виду их группировки когда-либо в одном сборнике, хотя и предоставил нам право распорядиться ими по нашему усмотрению”.
И вот появилась книга, за которую Л. Н., в сущности, нисколько не ответствен, но которая, тем не менее, вызывает критику.
Она составлена преимущественно из ответов на частные письма, касающихся самых интимных сторон нашей жизни. По словам составителя, эти отрывки большею частью вовсе не предполагались для печати.
К сожалению, составитель не обратил на это внимания. Его преклонение перед гением понятно и достойно всякого уважения, но именно оно-то и лишило его в данном случае критического чутья и помешало принять во внимание то соображение, что, как бы ни был велик авторитет — всё же далеко не всё написанное им может и должно становиться достоянием публики.
Эти ответы, каждый в частности, быть может, неоценимый по благотворному влиянию, которое мог оказать совет, данный вовремя, — эти ответы, собранные как “мысли” — производят странное впечатление.
В каждой строчке так и чувствуется, что это было написано кому-то, по какому-то частному поводу, тогда как публика должна читать их как “мысли”, независимо от их происхождения. Всякий, кто захочет отвечать на эту книгу, будет, без сомнения, в очень странном положении, но всё же её невозможно обойти молчанием.
Сущность взглядов Толстого на половой вопрос уже достаточно известна: брак не есть необходимость и является помехой религиозному служению Богу и людям; но если человек не имеет силы воздержаться — то лучше вступить в брак, чем жить распутно.
Из этого логично вытекает проповедь о целомудрии в браке.
Мало того, Толстой идёт далее, и этот его взгляд, как малоизвестный, — можно прочесть не без удивления:
“Одно из нужнейших дел человечества состоит в воспитании целомудренной женщины”, — говорит он, обвиняя тем самым женщину — как некогда древние отцы церкви — в том, что это она первая соблазняет мужчину.
Такой ветхозаветный взгляд он высказывает несколько раз.
“Ох, как хотелось бы показать женщине всё значение целомудренной женщины!”
“Целомудренная женщина (недаром легенда Марии) спасёт мир” (стр. 80).
Чем, собственно, он мотивирует подобное мнение — из приводимых отрывков не видать. Здесь мы сталкиваемся с удивительным явлением: гений, ум которого охватывает мировые явления, решает мировые задачи — вдруг делает шаг назад, и какой шаг! Вся история человечества показывает, что чувственность свойственна обоим полам, и вопрос о том, кому в большей, кому в меньшей степени — не может быть решён наукой, равно как и вопрос о произвольном зарождении полов. Все усилия ученых сбросить покрывало с этих тайн природы — до сих пор остаются тщетными, — и, без сомнения, скорее будет изобретён управляемый аэростат, чем найдена хоть тень надежды сделать что-нибудь в этой области.
А история современного общества, исследование проституции показывают, что, хотя женщины вызывают у мужчин потерю целомудрия, а 2/3 проституток впервые были соблазнены мужчинами, иногда мальчиками лет 15—16.
Так обстоит дело в низших слоях общества, а в среднем и в высшем девушки и до сих пор воспитываются в громадном большинстве случаев в полном неведении основных начал человеческой природы, и для них потеря девственности в браке нередко сопровождается сильным нравственным потрясением.
Вопрос об отношении между супругами, затронутый в этих письмах, — один из самых важных, и решение его Толстым глубоко справедливо и нравственно, хотя может казаться слишком прямолинейным. Кому неизвестно, как страдают женщины от невоздержания мужей во время беременности, кормления и проч.? Кому неизвестно, что русская баба кормит грудью детей до 2-х лет и долее, только для того, чтобы избежать беременности и связанных с нею новых страданий, подчас невыносимых при её трудовой жизни. Врачи по женским и нервным болезням знают такие тайны, такие интимные драмы, возникшие на почве именно этого супружеского невоздержания, что мороз по коже пробегает при мысли — чего только не выносит женщина!
Мужская невоздержанность в половых сношениях служит часто поводом к тому, что вполне честные женщины-матери со слезами умоляют своего “верного” мужа идти… к проституткам, и даже часто ничего не имеют против, если он заведёт себе любовницу. Так поступают неревнивые и холодного темперамента женщины, измученные беременностью, родами, болезнями, своими и детскими.
У женщин же ревнивых и страстных, сознание того, что им, в сущности, вредно иметь много детей, и организм требует отдыха, тогда как воздержание немыслимо для эгоиста-мужа, — сознание это развивает такой страх перед мыслью о возможности измены, что такие несчастные, закрыв глаза на последствия, — продолжают быть женою своего мужа.
Сколько семейных драм было вызвано кратким приговором врача: “жене вашей нельзя более иметь детей; организм истощён вконец”.
Или — запрещение половых сношений на год, на несколько месяцев вследствие послеродовой болезни жены.
Этот острый вопрос, если оставить в стороне неомальтузианские теории, пока ещё у нас мало распространённые, — этот вопрос может быть разрешён только воздержанием, воспитанием в мужчинах привычки к воздержанной жизни. Иного исхода нет и быть не может, так как всякое другое его разрешение приводит их к возмутительному насилию сильного над слабым, или же к разврату.
Нельзя также не согласиться и с другою мыслью Толстого, высказанною им по поводу укоренившегося общественного предрассудка, — разделения труда на “мужской” и “женский”.
Нужда и голод заставляют женщин идти на всевозможные работы, требующие по своей трудности мужской физической силы. С тех пор как женщины стали носильщиками, мастерами — для них фактически не существует разделения “мужского” и “женского” труда. В то же время это различие осталось в силе для мужчин. Экономическая эволюция последнего столетия выгнала женщину из семьи на фабрику. Но мужчина-отец допускает вполне хладнокровно, чтобы измученная дневною работою жена исполняла сверх того всю домашнюю работу, кормила бы его обедом, обшивала бы его и детей и проч.
Такой взгляд на женщину господствует во всех слоях общества — интеллигентном, крестьянском, рабочем — безразлично.
Он, конечно, возмутительнее всего в первом, так как доказывает, что мужчина, несмотря на всю свою интеллигентность, недалеко ушёл от грубого дикаря. Но этот класс у нас, в России, пока ещё не так многочислен.
А рабочее и крестьянское население? Кто не знает, что в нормальной крестьянской семье — мужик, если нужда не гонит его на зимние заработки, — всегда имеет отдых зимою; баба же — никогда. Она исполняет самые трудные летние работы, часто беременная, едва после родов — жнёт, косит, молотит, в то же время кормит ребёнка, а зимою — без устали сидит за ткацким станком, шьёт, стирает, вообще — одевает всю семью. У мужика всё же находится время и в кабаке посидеть, и погулять, у бабы же — никогда. И жизнь её представляет какую-то вечную толчею в узком круге мелких домашних работ. У нас принято говорить о несчастном русском мужике; об его “рабстве” и проч. И редко-редко кто вспомнит, что этот раб имеет свою рабу.
Слова Некрасова —
Три тяжкие доли дала ей судьба:
И первая доля — с рабом повенчаться,
Вторая — быть матерью сына-раба,
И третья — до гроба рабу покоряться {*}
{* Неточная цитата из поэмы Н.А.Некрасова “Мороз, красный нос”. В оригинале: “Три тяжкие доли имела судьба”.}
— верны и до сих пор.
И если развитие русского крестьянина за последние десятилетия сделало шаг вперёд, — этого никак нельзя сказать о крестьянке. Стоит только заглянуть в деревню одной из наших многочисленных земледельческих губерний, даже не очень близкую к городу, — и мы можем в ней встретить крестьянина смышлёного, читающего, который и о политике поговорить не прочь, и газету кое-какую иногда почитывает; но жизнь крестьянки везде одна и та же: то с ребятами, то у печки, то у станка, то у корыта… Женщина до того привыкла к подобному положению, что ей и в голову не приходит протестовать. Тёмная и забитая, она всё терпит: и побои пьяного мужа, и эту беспрерывную домашнюю толчею…
И такая картина почти во всех классах общества — одна и та же, видоизменяясь в обстановке; и только немногие женщины из обеспеченных слоев общества наслаждаются полною праздностью, — что является уже излишнею крайностью.
Толстой со свойственной ему прямотой и выразительностью замечает, что самый либеральный мужчина будет горой стоять за право женщины быть профессором, но не догадается сшить портки сынишке или пойти выстирать пелёнки. Совершенно не догадается, хотя с кафедры и в газетах будет толковать о восьмичасовом рабочем дне, не замечая, что рабочий день его собственной жены растягивается на 16 часов.
Мужчина совершенно устранил себя от ухода за маленькими детьми, от всей массы мелких домашних забот, и всё свободное от занятий время идёт сидеть на завалинку, или в кабак — если он крестьянин, в клуб — если он житель провинциального города, в какое-нибудь просветительное или благотворительное общество — если он интеллигентный учитель столицы, или — ещё хуже — в шато-кабак…
А жена —
“Работай, работай, работай,
Едва петуха я услышу;
Работай, работай, работай,
Хоть звезды проглянут сквозь крышу”…
И так всю жизнь. И никто не ценит этого труда, малозаметного, неблагодарного и… страшно тяжёлого. “Это страшное зло, — говорит Толстой, — и от этого неисчислимые болезни несчастных женщин, преждевременная старость, отупение самих женщин и их детей…”
***
Всем известно, что Толстой признаёт христианское учение Иисуса, поскольку оно выражено в двух евангельских заповедях о любви к Богу и ближнему и Нагорной проповеди. Казалось бы, затрагивая в письмах вопросы нравственного характера, Толстой, естественно, придёт к отрицанию подчинённого положения женщины в браке, — как противного тому закону любви к ближнему, на котором он строит мировоззрение.
Но здесь опять мы сталкиваемся с таким средневековым понятием о женщине, которое высказывать серьёзно в наш век почти немыслимо. Видя повсеместно факт, что женщина в среднем ниже мужчины, — Толстой заключает, что женщина от природы не имеет таких же духовных сил, как мужчина, что главная черта женская — меньшая вера велениям разума. Такой вывод до того странен, до того нелогичен, что невольно удивляешься, как мог его сделать Толстой?
Как мог он, глубокий рационалист, которому в выработке собственного взгляда на религию много помогла историческая наука, — как мог он, в данном случае, игнорировать историческую точку зрения?
Как он не понимает того, что если женщина в среднем умственном уровне ниже мужчины, то это уж никак не вследствие природной неспособности, а вследствие того, что её образование и развитие, как физическое, так и духовное, веками пренебрегалось?
Как может он не замечать той бьющей в глаза несправедливости — что всякая посредственность мужского пола проникает всюду и везде находит себе открытые двери, тогда как талантливая женщина должна преодолевать тысячи препятствий, и только потому, что она — женщина.
Кто не знает, что кафедры наших университетов полны безвестными математиками, а Софья Ковалевская принуждена была читать лекции в Швеции — для неё не нашлось ни одной кафедры в России. Клеманс Ройе {“Клеманс Ройе (1830—1902) — писательница, перевела на французский язык книгу Ч. Дарвина “Происхождение видов”.} — гениальная женщина — умерла в доме призрения для бедных литераторов и учёных, — в то время как сотни научных ничтожеств занимают кафедры французских университетов. Художественный талант Лагоды-Шишкиной {О.А. Лагода-Шишкина (1850—1881) — художница, жена пейзажиста И. И. Шишкина.} был в полном пренебрежении в её же семье: “не обращали внимания как на девочку” (см. воспоминания В. В. Стасова о Шишкине в “Неделе”). Муж Жорж-Занд {Барон Казимир Дюдеван.} никак не мог сообразить, что он женат на гениальной женщине, и не мог понять запросов её развивавшейся души: ведь она была — женщина, а он — хоть и ограниченное существо, да всётаки мужчина. И такое обожание своего мужского достоинства глубоко вошло в плоть и кровь мужчин всех времён и народов.
Но наука уже давно доказала, что оно ничем не оправдывается, что мужчина, кроме физической силы, не имеет перед женщиной ровно никаких преимуществ, что свободная женщина, при правильном разумном воспитании и образовании — является существом, одарённым ничуть не меньшею силою разума, нежели средний мужчина.
Доказательств тому бездна, и у нас в России — мы видим их на каждом шагу.
Женщины рады работать, и как работают на всех открытых им путях деятельности! Смело можно утверждать, что в России — воскресные школы своим существованием обязаны женщинам едва ли не больше чем мужчинам, равно как и другие просветительные учреждения последнего времени: бесплатные библиотеки, читальни, вечерние классы, дешёвые столовые.
Где бы ни открылась женщине возможность приложения своей энергии, своего труда, — она смело идёт туда и работает ничуть не хуже мужчины. И всё это не таланты, а именно обыкновенные средние женщины. Да никто и спорить не станет, что для дежурства в читальне не надо исключительного таланта, а просто одна добрая воля.
И однако Толстой, не обинуясь, признаёт женщину “более слабым духовно существом”, а также будто бы “материнские чувства поглощают так много энергии, что женщины уже недостает для нравственного руководства, и оно переходит к мужу” (стр. 68).
Поэтому жена должна быть подчинена мужу в браке: “хорошая семейная жизнь возможна только при сознательном, воспитанном в женщинах убеждении в необходимости всегдашнего подчинения мужу”.
Что это? Толстой или же Домострой?
“Я говорил, что это доказывается тем, что так было с тех пор, как мы знаем жизнь людей, и тем, что семейная жизнь с детьми есть переезд на утлой лодочке, который возможен только тогда, когда едущие подчиняются одному”.
Напечатав эти строки, составитель оказал Толстому поистине медвежью услугу.
Если Толстой одним из доказательств ставит то, что так всегда было — к чему в таком случае его неустанная проповедь против войны? Ведь один из главных доводов милитаризма и есть знаменитое “войны всегда были”.
С именем Толстого у нас не вяжется представление о софизмах, — в данном же случае он сам употребляет тот приём, несостоятельность которого доказывает другим.
“И таким руководителем признавался всегда мужчина, по той простой причине, что не нося, не кормя, он может быть лучшим руководителем жены, чем жена — мужа”, — рассуждает Толстой далее.
Лев Николаевич! Да неужели Нехлюдовы, Онегины, Печорины, Обломовы могут руководить пушкинскими Татьянами, тургеневскими Еленами, Лизами, Марианнами? Неужели мы в жизни не встречаем на каждом шагу доказательств нравственной силы и твёрдости характера у матерей даже многочисленных семей, при полном нравственном ничтожестве мужей, хотя те и не носят и не кормят?!
“Женщины были освобождены христианством”, — говорит Толстой в другом месте (68 стр.).
Посмотрим, как оно её “освободило?”
Справедливо то, что во всём Евангелии нет ни слова о подчинении жены мужу в браке; Иисус же, не касаясь прямо вопроса о подчинённом положении женщины, — своею заповедью о любви к ближнему, казалось, ясно высказал свой взгляд на отношения полов вообще, не делая никакого различия между мужчиной и женщиной. Так что, если бы христианское учение до сего времени оставалось в прежней чистоте и цельности — женщина могла бы действительно считать себя освобождённой им.
Но на деле было не то.
Взгляд на женщину еврейской религии, жестокого римского права и вообще всех древних цивилизаций, которые, основываясь на силе, закрепостили более слабое физически существо, — и постарались закрепить это не только правом — этот взгляд не мог быть смягчён учением Христа. Да и вообще всё это учение в чистом своём виде оказалось не по плечу тому времени и существовало крайне недолго.
Павел, которого справедливо называют “основателем христианства” в том виде, как оно представляется нам теперь церковью, — первый заговорил о подчинении жены мужу на религиозном основании, и своими знаменитыми посланиями, включёнными церковью в число “священных” книг Нового завета, закрепостил её в новой религии — на новых основаниях.
Если ранее — в Ветхом завете — это совершалось на основании предания об Адаме и Еве, то Павел, как поклонник греческой философии, соответственно прогрессивным требованиям времени, формулировал так: “Жёны, повинуйтесь своим мужьям яко же Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви, и Он же спаситель тела”. (Поел, к Ефесянам. гл. 5 ст. 22 и 23).
Иначе говоря, факт остался тот же, переменилась лишь его подкладка.
“Христианство” в том виде, как его основал Павел, смешав еврейские предания с собственными мыслями и греческой философией, — оказалось как нельзя более пригодным для требований времени: одряхлевшей цивилизации надо было что-то новое, но такое, которое не разрушало бы её вполне, а лишь оживило бы.
Новая религия, постепенно вырабатываясь в сложный цикл обрядностей, несла с собою желанное обновление: давала на смену старых богов — нового, и, вместе с тем, не разрушала всех обычаев и устоев языческого мира, а узаконивала существовавший государственный строй, не протестовала ни против рабства, ни против войн, — и удерживала старый строй семьи, основанный на порабощении женщины.
Одножёнство, введенное христианством, как и в наши дни, — оказалось пустою формальностью: оно не мешало никогда иметь наряду с законной женой — десятки незаконных.
Так что уверения всех сторонников церковной веры, будто бы христианство освободило женщину, — оказываются совершенно ложными.
Бебель справедливо замечает, что не христианство освободило женщину, а “успехи западной культуры вопреки христианству”. “Христианство” в том виде, как его преподавала церковь — давало женщине лишь надежду на избавление от “юдоли плача и скорби” — земной жизни — награду будущей блаженной жизни — рай.
И немудрено, что женщины с радостью шли навстречу новому учению, которое всё же являлось проблеском света в их безотрадной жизни. И характерно то, что они часто являлись первыми провозвестницами нового учения: в России — Ольга, во Франции — Клотильда, в Грузии — Нина. И за всё, за весь этот энтузиазм, “отцы церкви” разражались проклятиями на женщин. Не будучи, очевидно, в состоянии совладать с своею чувственностью — они не переставая громили женщину как “сосуд дьявола”.
…Распространяясь повсеместно, христианство несло с собою и закрепощение женщины на религиозной основе, которое как раз подходило к существовавшему уже ранее обычаю, и таким образом не делало никакой революции в семье. Каноническое право в этом отношении вполне согласовалось с римским, — так было узаконено и освящено религиею юридическое бесправие женщины. Вот как “освободило” женщину христианство! Цивилизация пошла своим ходом, почти не признавая её за человека. Мужчина, не переставая, учился, шёл вперёд, двигал искусства, науки, пользуясь женщиной, как хотел и когда хотел, для своих целей. И лишь немногие выдающиеся по своим духовным силам женщины — большею частью из высших слоев общества — могли пользоваться теми же умственными сокровищами.
Долгие века женщина была заперта в узком домашнем быту. Экономическая эволюция выдвинула её на сцену как самостоятельное существо, которому дана жизнь, но не дано средств к существованию, и перед современным обществом, среди массы других — встал и женский вопрос.
Социализм явился учением, соответствующим требованиям времени. Все неправды, все вопиющие злоупотребления правящих классов, все тёмные стороны жизни — предстали пред его судом, и приговор его беспощаден, хотя и вполне заслужен.
Даже самые ярые противники социализма не могут отрицать того, что в нём находятся те же истины, которые когда-то, давным-давно, были сказаны и совершенно забыты церковным христианством.
Пусть социализм отрицает религию. В том виде, как она практикуется теперь во всех цивилизованных странах — она ничего другого не заслуживает. И всякий искренний, убежденный социалист, умирающий за свои идеи — не есть ли это тот же мученик, каким привыкли мы воображать мучеников первых времён христианства?
Во все времена у истины всегда являлись герои, готовые умереть за неё. И современное общественное движение за всех угнетённых — кто бы то ни был — женщина ли, рабочий ли,— не есть ли это отзвук порыва к идеалу, который, не переставая, живёт в умах и сердцах людей?
Новейшая школа политической экономии — солидаризм — провозглашает в своём учении ту же евангельскую истину любви к ближнему и говорит о воспитании и развитии чувства солидарности в массах.
Социализм правильно разрешает и женский вопрос, рассматривая его как одну из сторон общего, социального вопроса.
Женщина признана им равноправной мужчине, проституция — злом, признана и необходимость совместного воспитания обоих полов для развития взаимного понимания и уважения, без чего немыслима жизнь. Брак — современный брак, в котором женщина закрепощается полигамисту-мужчине и делается “de jure” одной женой, тогда как “de facto” муж может иметь их десятки — это поистине позорное и лицемерное учреждение — должен существовать в новом обществе в новой форме: путем свободного выбора и не менее свободного сожительства.
Книга Бебеля “Женщина и социализм” {Вероятно, Е. Дьяконова читала книгу А. Бебеля в немецком оригинале — русский перевод появился только в 1904 г.} должна сделаться своего рода евангелием для всякой мыслящей женщины. Она по объему — куда больше “Мыслей”; но из неё не только нельзя выкинуть ни одного слова, но наоборот: кажется, что ещё мало, что надо бы ещё разработать, ещё прибавить. В ней — идея любви к ближнему проведена гораздо последовательнее, нежели у Толстого. В каждой строчке чувствуется, что писал человек, глубоко проникнутый сознанием векового зла, вековой несправедливости порабощения одного пола другим и всех вытекающих отсюда общественных бедствий. Книга проникнута благородством, и каждая мысль в ней драгоценна.
Страстной надеждой на новое, лучшее будущее дышат заключительные слова этой книги, и в убеждённом тоне автора чувствуется проповедник религии любви к человечеству. Такою же радостною и светлою надеждой оканчивается и последний роман Золя “Le Travial” {“Труд” (1901).}, написанный под влиянием социалистического движения.
Истина — “люби ближнего как самого себя” — жива, и не странно ли только, что наилучшими её выразителями являются те, которые не признают никакого “христианства” и отрицают всякую религию?
И не характерно ли, что книга Бебеля — этот благородный протест — написана именно социалистом, а не кем-либо иным из числа тех, которые “признают религиозное учение Христа”.
Ведь если откинуть из этой книги призыв к борьбе — под всем остальным мог бы смело подписаться любой “христианин”. И однако никто из них не занялся ни вопросом о проституции, ни вопросом об экономическом строе современного общества в связи с положением женщины в этом обществе.
Рассуждая о нравственности с точки зрения личной морали, Толстой как будто не замечает, что всё это теснейшим образом связано с женским вопросом.
В своей известной программе… требуя уравнения крестьян в правах с другими сословиями, уничтожения телесного наказания, прекращения применения усиленной охраны, свободы образования и свободы совести — Толстой умалчивает о том, что, кроме крестьян, есть ещё угнетенные — женщины — которые законом поставлены в такое положение, что делаются собственностью мужа после того, как дьякон прокричит над ними в церкви — “а жена да боится своего мужа”.
Наша нелепая и жестокая паспортная система, при которой муж является собственником своей жены, оказывает развращающее влияние особенно в крестьянском быту, где муж часто пользуется правом выдачи паспорта жене, как средством вымогательства от неё денег.
Право это — не менее позорно, нежели телесное наказание. И если требовать свободы — то надо прибавить к ней раскрепощение женщины в браке, требовать уничтожения этого бессмысленного и позорного для человеческого достоинства порабощения одного пола другим.
Брак — дело любви — должен быть основан только на взаимной любви и согласии, и во взаимных отношениях нет места приговору закона: “Жена должна покоряться мужу и следовать за ним”.
Любовь несовместима с насилием закона; она — вся свобода.
Христос, проповедуя свой закон любви к ближнему — не старался оформить его жандармскими предписаниями и не сделал исполнение его принудительным — из-под палки. Иначе — уничтожилась бы личная свобода. Так и в браке. Повиновения нельзя предписать ни законами гражданскими, ни доводами Толстого, которые не выдерживают никакой критики. Взаимные отношения супругов — их подчинение друг другу, а также и руководство семьёю — должны быть их чисто личным делом, основанным на добровольном согласии, и постороннему какому бы то ни было обязательному постановлению тут не должно быть места. Только тогда исчезнет то развращающее семью соперничество мужа с женою во власти, о котором говорит Толстой.
Чуткость гения, однако, подсказывает ему, что есть нечто неладное в современном строе семьи, и в одном из отрывков он говорит: “отношения полов ищут новой формы, и старая начинает разлагаться”… и что “существование старой возможно только при подчинении жены мужу, как это было везде и всегда и как это происходит там, где семья ещё держится”.
Да, совершенно верно, — отношения полов ищут новой формы. Но не такие “мысли” Толстого помогут молодому поколению найти эту новую форму.
Женщина, веками угнетённая, подавленная, приниженная — пойдёт за таким учением, которое обещает освобождение и человеческую жизнь. Таким учением является социализм.
Так было во все времена: всякое новое учение, всякий новый идеал находил себе горячих приверженцев среди тех, нужды которых он наиболее удовлетворял.
В современном строе общества — женщине, как самостоятельному человеческому существу, нет места. Она должна занимать или подчинённое положение жены, или бороться за своё существование, не имея одинаковых с мужчинами прав, следовательно — более слабая в борьбе.
И в том и в другом случае её путь труден и часто ей не по силам. Социализм, в программе которого стоит вопрос об изменении всего существующего строя общества, — даёт наибольшее удовлетворение нуждам всех угнетённых.
И да наступит скорее то время, когда все они соберутся под его знамя, — и рухнет весь этот старый, отживший строй общества…
Париж, 1902 г.
“Толстой умирает…”
Письмо из Парижа
{Вероятно, предназначалось для публикации в русской прессе. Напечатано в издании 1912 г.}
Воскресенье, 23 февр. 1902 г. 1 ч. ночи.
Толстой умирает! Сегодня в “Petit Journal” напечатана телеграмма: “D’apres les dernieres nouvelles de l’etat du comte Leon Tolstoi’, on peut constater un fort abaissement de la temperature el un affaiblissement du pouls.
La situation du malade est critique” {Согласно последним сведениям о состоянии графа Льва Толстого, у него наблюдается резкое падение температуры и ослабление пульса. Положение больного критическое (франц.).}.
Быть может — в эту минуту, когда я пишу эти строки, — уже угасло наше светило, наша гордость, наша слава… Сердце разрывается от боли и отчаяния, чувствуешь, что переживаются страшные минуты — когда уходит самое лучшее, что только есть в нашей жизни, когда великое сердце великого гения вот-вот перестанет биться…
Франция готовится с блеском праздновать столетие со дня рождения Гюго…
Мы же, русские, — что будем переживать в эти дни?
С 26-го начнутся торжества — в Пантеоне, потом в Сорбонне, потом ещё целый ряд празднеств.
А Россия, Россия! О, моя милая, далёкая, бесконечно любимая родина! Какое несчастье для неё, для нас, её детей!
Такие люди, как Толстой — если б они жили веками, — всё казалось бы, что мало жили, что их потеря — величайшая жестокость судьбы, — так они бесконечно дороги всем, таким ярким светочем сияет их жизнь, такая сила обаяния исходит из их сердца.
Гюго умер так недавно… Его многие знают и рассказывают, как несимпатичен он был в последние годы, — скуп и узкоэгоистичен. Его никто не вспоминает как человека, и чествуют только великого гения.
Тогда как Толстой… да у кого найдётся слово осуждения последних 20 лет его жизни, — кто осмелится сказать что-нибудь дурное о нём?
Недавно хоронили Клеманс Ройе. Ни одной слезы не было пролито над могилой этой гениальной женщины… Все говорили хвалебные речи, и только.
Когда человечество теряет великий ум — тяжелая потеря. Какова же она должна быть, — когда мы теряем не только великий ум, но и великое, святое сердце?.. Он искал истину.
Быть может, никому из нас не дано найти её, — но в этом искании, в этом бесконечном стремлении души к идеалу — и есть святость…
Он светил всему человечеству, не только нам. Не много найдётся гениев в истории человечества, и вряд ли есть равный Толстому гениальный человек — великое сердце, великая душа…
Как мы малы сравнительно с ним, и в то же время — как он близок всем нам, дорог как близкий человек, как чуткая любящая душа. Он не подавляет своим величием, не отчуждает от своей личности, а как магнитом притягивает, и блеск его согревает душу, наполняет её радостным сознанием — что человечество может бесконечно возвышаться, достигать высшего нравственного совершенствования. Какое счастье, что родятся такие люди! Какое бесконечное горе — при мысли об их потере!
Но великое сердце не может умереть… Великая всемирная любовь — всегда жива. И если есть там — за пределом нашей жизни — в вечной славе и вечном сиянии успокоится этот человек …
Но как же мы глубоко несчастны теперь!
Все эти дни — газету взять страшно. Страшно слышать: “mais vous savez — Tolstoi’ est tres malade” {А вы знаете — Толстой очень болен (франц.).}…
— О, не говорите, не говорите об этом! — говорю я с ужасом и чувствую, что точно стоишь над бездной…
Ужас, ужас … нет, не может быть! Кажется, что он не должен умереть… должен жить… Пусть другие умирают вместо него! Десятки, сотни, тысячи — только бы он жил! Нет, — это жестоко, это несправедливо… Судьба, посылая нам таких людей, — точно издевается, отнимая их у нас…
Из писем
{В издании 1912 года “собственником” писем назван И. С. Н-ко, бывший член Неплюевского братства, — по-видимому, он и является их адресатом.}
Париж. 36, rue de l’Arbalete. 4 апреля 1902 г.
…С чего же начать Вам повествование? 3-го августа прошлого года я сдала переходный экзамен на юридическом факультете, и теперь на II-м курсе. Здесь можно кончить в три года, и тогда получается, что называется здесь licence — по-русски это соответствует кандидату прав; но можно учиться ещё года два — тогда получишь диплом доктора прав. Это уже повыше нашей кандидатской степени, но и пониже ученой степени магистра. Не знаю, дойду ли я до доктора, это будет зависеть от многих посторонних — семейных обстоятельств. Пока что — просто готовлюсь к переходному экзамену на III-ий курс.
Вакации я провела в Англии. Научилась немного по-английски, видела Лондон, жила недолго и в провинции, недалеко от моря. Познакомилась с другом Толстого Чертковым, прочитала массу всяких заграничных изданий. В конце октября вернулась сюда — и началась снова студенческая жизнь.
Только я здесь гораздо меньше занимаюсь наукой. Жизнь — такая пестрая, разнообразная, захватывает меня всю,— и едва успеваешь наблюдать, знакомиться, изучать одну из сотой доли её явлений. Время здесь летит с такой ужасающей быстротою, что я только думаю — как же это? — ведь так, пожалуй, и не заметишь, как и смерть подойдёт, если жить до старости в таком Вавилоне. Напрасно Вы думаете, что я совсем офранцузилась. О, нет! Я слишком русская для этого. Только русские евреи, попав в Париж, разучаются говорить по-русски и не научаются хорошо по-французски. Вот уж поистине жалкие существа!
На торжестве по поводу столетней годовщины рождения Гюго я была везде, или почти везде — пропустила только приём иностранных делегатов и бал в Hotel de Ville — городской думе. Зато была в Пантеоне, куда попасть было страшно трудно. Но мне вдруг повезло. На весь наш факультет было прислано всего 32 билета; желающих оказалось 400 человек, и — вообразите — No по жребию получила я, одна женщина из всего этого числа! Я глазам своим не верила. Мне дали лучшее место впереди, прямо перед бюстом Гюго, в самом центре храма. Такая моя удача возбудила общее удивление среди моих товарищей; один из них — и поклонник в то же время {Вероятно, Андре Бертье.} — будучи в восторге от моей удачи, не нашёл ничего лучшего, как сказать:
— “Да для ваших прекрасных глаз можно всё сделать, не только что билет дать”… Я так на него рассердилась, что бедный мальчик чуть не плакал, и обещал вперёд свои комплименты не говорить так некстати. Вообще, французы очень привыкли смотреть на женщин только как на женщин, и несмотря на все мои усилия — держаться с ними просто на товарищеской ноге — всётаки чувствуется, что они видят в тебе женщину. Верите ли: нельзя показаться в новой шляпе, — сейчас все заметят: “а-а-а! о-о-о!” Их забавляет, как детей, что между ними есть одна молодая женщина. Но на 1-ом курсе нынче несколько русских; на III-ем одна, я на II-ом тоже одна.
Нынче на вакации приеду в Россию обязательно. Наверное, увидимся. Тогда будем говорить без конца, рассказывать друг другу, что пережили, что видели каждый за этот год…
Я познакомилась здесь с Боне-Мари, который был у вас в школах и у Н.Н. Неплюева. Это очень симпатичный господин; просил меня помогать ему переводить с русского книгу Голубинского “История Церкви” {Издание труда Е. Е. Голубинского (1834—1912) “История русской церкви”, начатое в 1880 г., продолжилось в 1900-м.} — его затрудняют некоторые главы, он не так хорошо знает наш язык. Уже несколько раз мы занимались — то у меня, то у него на дому. Он разыскал меня в одном заведении, где я была записана для изучения французского языка, я была там недолго, но адрес мой был записан. У него, как и вообще у протестантов, всегда сношения с англичанами, и когда ему понадобилась помощь русской — а я там была одна русская — вот ему и дали мой адрес. Он говорил, что Н.Н. Неплюев собирается за границу.
Я уже читала здесь о книге Абрамова статью, появившуюся в нашей газете “Северный Край”. Да, много зла наделает Абрамов Н.Н-чу своей книгой {И.С. Абрамов. В культурном скиту (Среди неплюевцев). СПб, 1902.}. Во всяком мнении есть доля истины. Несомненно, Абрамов — что-нибудь имеет против Н.Н. Но нельзя отрицать, что и Н.Н. делает много добра. Когда подумаешь, что он мог бы прожигать свои миллионы здесь, в Париже, Ницце, Биаррице… Ведь действительно справедливо изречение — “легче верблюду сквозь игольные уши пройти, нежели богатому войти в Царствие Божие”. У богатого больше искушений, больше соблазнов, о каких бедняк и понятия не имеет. Интересно было бы, чтобы Вы подробно написали мне Ваше мнение об этой книге. Что в ней верно? И насколько верно? Если она у вас есть — пришлите почитать, бандеролью; я возвращу непременно.
Бываю здесь в театре, только редко. Во-первых, — дорого, если часто ходить; во-вторых, — наблюдать комедии жизни гораздо интереснее. Как сказал один мой товарищ: “я романов не читаю, я их переживаю”. Так и я не хожу в театр: жизнь куда интереснее всякой театральной пьесы. Литература как ни гонится — никак не может поспеть за жизнью.
Читаю здесь Анатоля Франса, который, к сожалению, гораздо менее известен у нас, чем Золя и Мопассан. А между тем, он и Октав Мирбо — два крупнейшие писателя современной Франции. И Анатоль Франс куда тоньше Золя! По-моему, это умнейший и остроумнейший человек Франции. Такая тонкая ирония, и такой чудный слог, что читать его — невыразимое наслаждение. Наша цензура не пропустит полных его переводов, да и переводчики — не в силах передать его дивный слог, прозрачный, ясный, увлекательный!
Здесь недавно вышел перевод с английского: “Письма любви англичанки” {“An Englishwoman’s Love Letters” — роман Лоренса Хаусмана (1865—1959), выпущенный им анонимно в 1900 году.}. Ах, какая чудная вещь! Это целая лирическая поэма страстно влюблённой и несчастной женщины. Я нахожу, что со времён знаменитого Вертера, несчастной любви мужчины к женщине, — не появлялось ничего подобного. А эта книга — история несчастной любви женщины к мужчине — дополнила пробел, и теперь оба пола квиты: каждый отдал другому дань в виде литературного произведения. Автор этих писем неизвестен, и вся Англия ломает голову — кто бы это мог быть; — напрасный труд!
О брате своём {Речь идет об Александре Дьяконове.} я решительно ничего не знаю. Он не переписывается со мною. Лишнее говорить, какое впечатление производит подобная жестокость в его возрасте. Но мне столько приходится переносить в жизни, что, в конце концов, — если на всё отзываться всем сердцем, как разумно сказал один здешний врач, — придётся умереть. Ну, а я думаю, что пока — я ещё ничего не сделала путного, чтобы умереть.
Насчет брата Вы оказали бы мне большую услугу: сходите в III-ю гимназию и узнайте от швейцара, где, у какого воспитателя он теперь живёт. Потом — пойдите по указанному адресу и повидайтесь с воспитателем. Расспросите его подробно о брате, как и что, довольны ли им в гимназии — и обо всём напишите мне. Можете объяснить воспитателю, что брат отказался мне писать, и что Вы — мой хороший знакомый — пришли справиться. Сделайте это, пожалуйста, буду бесконечно признательна. Мне всётаки дорог этот мальчик, жестокий и холодный, как большинство мужчин.
Да, могу сказать, что я за это время изучила вашу братию, — и сколько жестокости, бессердечия, сухости в мужском сердце! Без преувеличения могу сказать, что прав Максим Горький в рассказе “Однажды осенью”. Прочтите этот чудный маленький рассказ …
Чем дольше живёшь — тем больше видишь нравственного безобразия рода человеческого. И вот почему я всем сердцем и душой люблю искусство и литературу: эти области стоят вне власти человеческой, их нельзя присвоить, унизить, обезобразить. Красота есть нечто вечное, стоящее вне раздоров. Конечно, можно создавать и скверные произведения, но они сами собою умрут, их забудут. А что вечно прекрасно — останется.
Мадонны Рафаэля, сочинения Гёте, Гюго, Толстого — вечны, доступны для всех народов; для них — нет границ, и войн, и вражды.
И здесь я увлекаюсь искусством. Какие музеи! какая скульптура! У нас в России нет ничего подобного. Я позирую теперь одному русскому скульптору для бюста. Это мой портрет, но как и фотография — помните с длинными волосами? — бюст этот в то же время представляет мечту художника. Я его вдохновляю и даю ему идеи.
Ну, до свиданья, т. е. до Вашего письма.
Ваша Е. Д.
Paris, 13 июня 1902 г.
Дорогой друг! За это время рассказ мой “Под душистою ветвью сирени” получил второй приз (бронзовую медаль) на литературном конкурсе, устроенном Парижским обществом студенток. Это была самая маленькая вещичка из всех представленных работ, и переведена по-французски не совсем гладко, но ей всётаки дали второй приз за оригинальность и свежесть, как выражаются французы. Одновременно с этим письмом — пишу и в редакцию “Нивы”, чтобы там на рукописи сделали соответствующую пометку. Я забыла адрес редакции и сочинила довольно фантастический — пожалуй, открытка-то и не дойдёт вовсе. Прошу Вас — зайдите туда и справьтесь.
Видите, как суждения различны. Эта рукопись буквально валялась в редакции нашей местной ярославской газеты целый год, и я требовала её обратно в течение пяти месяцев, пока наконец её выслали. А здесь журналист Лакур и профессор Шарль Рише признали в рассказе кое-что, причём профессор отозвался ещё лучше, чем журналист. Все общество “Парижских студенток” было очень довольно, и я была рада не призу, конечно, а удовольствию, которое всем доставила. В общем — смешно, так как у меня нет вовсе женского тщеславия.
На Ваше письмо отвечу непременно на днях …
Целую Вашу деточку.
Преданная Вам Е. Дьяконова.
II
О смерти Елизаветы Дьяконовой
(Фрагменты вступительной статьи А. Дьяконова к изданию 1912 года)
…Летом 1902 года родная тётка Е. А. {Евпраксия Георгиевна Оловянишникова.}, возвращаясь из путешествия, остановилась на несколько дней в австрийском Тироле, на Ахенском озере, в Hotel’-e Seehof.
Небольшое озеро как суровый узник среди гор. Со всех сторон — угрюмые вершины, сверху донизу покрытые сосновым лесом. От Hotel’я вдоль озера — лесные тропинки к ближней горе Unnutz, по склону которой ниспадает ручей Luisenbach. В каменистом ярко-сером ложе бежит он с крутизны, весело играющий, с неумолчным шумом, образуя при конце падения ряд водопадов. От Hotel’я до ручья — минуты ходьбы, и туристы этою дорогою совершают постоянные прогулки в горы.
В конце июля были ненастные дни. Неприветливым стало Achensee, холодным и сырым. И уже Е. Г. Ол-ова собирается уехать в Мюнхен, предупредив об этом свою племянницу, которая хотела здесь с нею встретиться: “quittons Seehof dans trois jours” {Уедем из Seehof’a через три дня (франц.).}. Но вдруг, накануне своего отъезда, г-жа Ол-ова получает от Е. А. телеграмму, что она 28 июля вечером приедет {Даты здесь даны по старому стилю.}.
О последней встрече с Е. А. г-жа Ол-ова говорит:
“Лиза приехала к нам в 9 + ч. вечера. Ужинала, поговорила со мною полчаса и ушла спать. Из разговора с нею я узнала, что экзамены она отложила до осени, едет теперь в Киев к сестре, а потом в Нерехту заниматься. Денег на дорогу до Киева у неё не хватает, “собственно, я к вам, тетя, за этим больше и приехала” — вот её слова буквально… Интересно знать, примет ли печать её произведение? О нём она мне ни слова не сказала”…
М. И. Б-тис {Мария Ивановна Балтрушайтис.}, кузина Е. А., говорит:
“Лиза получила нашу телеграмму — и всётаки, к нашему изумлению, приехала… Она была с нами всего один вечер. Показалась странной, больше чем когда-либо. Говорила, что французы влюбляются в неё… называют Sainte-Vierge {Святая девственница (франц.).}. Возмущалась нашими костюмами”…
На другой день (29 июля) утром Е. А. решила одна идти в горы — на Unnutz.
“Мы её просили не ходить, — рассказывает г-жа Б-тис, — так как погода в это утро была холодная, дождливая, а на горе туман…
Но и после уговоров Лиза сказала, что идёт на Unnutz… Я попросила показать её башмаки; они оказались совсем лёгкими, и я сказала, что в них невозможно идти, когда кругом такая ужасная сырость. Лиза ответила, что башмаки английские, необыкновенной прочности. Я опять спрашиваю, ходила ли она когда-нибудь в горы, знает ли, как это трудно; Лиза ответила, что была на Кавказе, где очень много лазала по горам… Я показала ей на гору, на которую она собиралась идти: она была вся в облаках — хотела её этим испугать. По-видимому, что-то дрогнуло в Лизе, но со свойственным ей упрямством она сказала, что дойдёт до вершины, хотя бы пришлось возвратиться ночью. Говорили ей ещё, что она не знает местного народного наречия; она рассмеялась: “В Лондоне не потерялась — а тут вдруг потеряюсь!”… Делать нечего, уж раз она во что бы то ни стало решила идти — мы снабдили её бутербродами, я дала свою большую альпийскую палку с большим стальным остроконечником, которым можно убить человека, а мама дала две кроны на молоко и всякие случайности. Она засунула деньги за перчатку. Одета была легко — в короткое резиновое дождевое манто, белую соломенную шляпу и легкие английские башмаки. Хотела взять ещё свою дорожную сумочку, но денег в ней не было, и мы сказали, что она будет ей только мешать. Она сняла сумочку…
В 10 + час. утра, в ту самую минуту, когда Лиза вышла — полил сильный дождь, небо заволокло тучами, с горы ничего не видно, и не было никакой надежды, что погода изменится. Дождь как бы предупреждал её…
На этой горе Unnutz мы были накануне. Она берёт весь день, но мы сходили очень быстро, вышли в 10 ч. утра, вернулись уже в 5. Измучились, идти было трудно… Отказавшись идти вместе с Лизой — я хотела этим её удержать; если один делает такую неосторожность (если не больше) — это ещё не значит, что и другие должны то же делать”.
Родственники Е. А. ждали её возвращения к вечеру. Но напрасно. Выходили по лесной тропинке навстречу, кричали — ответа не было.
Близилась ночь. Посылать кого-либо на поиски уже было бесполезно: в такой темноте даже с фонарями невозможно обыскать всю эту большую гору. Общая тревога увеличилась. Старались успокоить себя: Лиза, заблудившись, переночует в какой-нибудь хижине и придёт рано утром… Ночью было холодно, в горах выпал снег.
“В 8 час. утра, — рассказывает г-жа Б-тис, — заглянули в её комнату: никого. Мой муж {Юргис Казимирович Балтрушайтис.} взял проводника, башмаки Лизы, вина — и ушёл на гору. Когда он дошёл до половины её, где обыкновенно отдыхают и пьют молоко, — ему сказали, что Лиза была здесь вчера в 12 ч. дня и спрашивала у старика (мимо которого должны пройти все, кто идёт на вершины), сколько времени идти до Unnutz. Старик ответил, что до вершины — часа 1 + — 2, и советовал не ходить дальше, показывая, что в горах, выше — туман. Лиза плохо понимала, и ей объяснили на часах. Пить молока не захотела, и ушла в направлении вершины — и не возвратилась, хотя должна была непременно пройти мимо, чтобы вернуться обратно, домой. Мой муж тут же нанял двух людей обыскать гору, двух других послал по предполагаемой дороге, на которой Лиза могла заблудиться, — до той деревни, куда эта дорога приводит. Через несколько часов посланные возвратились: никого не видали. В гостиницу явился жандарм, записал с наших слов приметы Лизы, и уже от себя опять послал троих на розыски.
На другой день (31 июля) с 4-х часов утра 7 человек снова обыскивали всю гору, все тропинки — ничего. Посылали в Aschau, Kramxach, Brixlegg, — в местечки, куда Лиза могла попасть, расхворавшись от холода и усталости. Расспрашивали всюду — никто не видал, нигде нет.
1-го августа поехали в полицию, в Achenthal. Нас принял Gemeindevorsteher — начальник общины, — лицо ответственное. Просили его объявить всюду, где только возможно, что потерялась девица (её приметы), кто её найдет — получит премию в 100 крон, кроме платы за труды по таксе. Просили также послать опять людей на розыски, куда он найдёт нужным, всё будет уплачено. Оставили ему 200 крон. Он послал 4-х людей с собаками обыскать гору с противоположной стороны, где и дорог-то нет и никто не ходит — ничего.
Затем пригласили начальника общины и жандарма в гостиницу и сдали им весь багаж. Он был опечатан. В портпледе нашли портмоне Лизы с австрийскими деньгами. В нашем присутствии полиция сломала её маленькую дорожную сумочку. Там нашли паспорт, золотой медальон и чёрные часы, всякую мелочь — и яд! Я записала название: acid. oxalicum, из Англии, в большом количестве. Для предосторожности отдали его жандарму. Деньги, медальон, часы — всё переписано и сдано под квитанцию полиции. Ещё у Лизы остался на станции сундук, квитанции от которого мы не нашли. Он не пропадёт {Этот сундук впоследствии был получен родными Е.А. В нём среди книг, платья и прочих вещей находилась и связка тетрадей — вся рукопись “Дневника русской женщины” (Примечание А. Дьяконова в издании 1912 г.).}. От полиции взяли также свидетельство, что Лиза в такой-то день потерялась, приняты были все меры, но ничего не найдено… Во всей местности был такой переполох!”…
О своих розысках Ю. К. Б-тис говорит:
“Все меры были приняты немедленно. Сообщив обо всём полиции, я рано утром (30-го июля) лично отправился с первой партией людей на злополучную гору, опрашивая пастухов, приказав тщательно осматривать местность по обе стороны дороги и не пропускать ни одного следа на влажной от дождя тропинке. Немедленно были отправлены люди и в других возможных направлениях спуска с горы. Обыск всей горы был повторен на другой день людьми, выставленными полицией. Независимо от этого и одновременно я разослал народ обойти всю горную местность по окружности и объявить о случившемся и о назначении премии в 100 крон. В том же смысле от имени начальника общины был вывешен плакат на церковных дверях и всюду, где собирается или проходит мимо народ. В течение первых трёх дней люди посылались в горы сменами, как посылаются и сейчас… В своих сношениях с полицией Achensee я настойчиво требую не жалеть ни времени, ни людей, ходить в горы с собаками, смотреть, не собираются ли над каким-нибудь местом вороны и пр.”
У всех лиц, принимавших участие в поисках Е. А., естественно, возникают всякие предположения.
“Это исчезновение — прямо загадка, — говорит г-жа Б-тис. — Сначала думали, что Лиза расшиблась, потому что её мог застигнуть туман, или она заблудилась, или ногу сломала или вывихнула — и замёрзла, не будучи в состоянии двигаться. Но против всего этого говорит то, что Лизу непременно нашли бы, — ведь столько там народу искало! К тому же, мы были на этой горе накануне и видели, что она совершенно безопасная, всюду отмеченная дорога, и свалиться за туманом в пропасть нельзя, так как пропастей на горе нет. Остается предполагать, что Лизу убили и зарыли, так как на ней были бриллиантовые серьги. В таком случае, найти её невозможно.
Но мы думаем ещё и совсем другое: не была ли Лиза членом революционного комитета, и не подстроено ли всё это? Найденный яд заставляет так думать, и всякие нелегальные книги, которые у неё были. Революционный комитет в Швейцарии очень ищет таких, как Лиза. Непременно надо разузнать у парижских знакомых Лизы, что было с нею за последнее время?” {Последнее предположение г-жи Б-тис не выдерживает критики. Не считая нужным опровергать его по существу — заметим только, что “нелегальными книгами”, которые нашли у Е. А., были просто сочинения Л. Толстого, изданные за границей. И одна из книг — “Краткое изложение Евангелия” — вся в пометках Е. А. По-видимому, Е. А., живя в Париже, усердно изучала “подлинного” Толстого.
Ошибочное предположение г-жи Б-тис ценно лишь постольку, поскольку оно подчеркивает, что о личной жизни Е. А. в Париже никто из близких её ничего не знал.
Что касается яда — acidum oxalicum (щавелевая кислота),— то следует заметить, что род этого яда не принадлежит к смертельным. Чтобы отравиться им, нужна очень значительная доза. Большое же количество этого яда, найденное у Е. А. в “маленькой дорожной сумочке”, вероятно, не превышало пузырька вместимостью в 20 грамм (вид яда жидкий), и предполагать, что это количество Е. А. везла с собою с целью отравления — весьма неосновательно. (Примечание А. Дьяконова в издании 1912 г.)}. Ю. К. Б-тис говорит:
“Зная, что такое горы, да ещё в такой туманный день, какой был тогда, зная нерасторопность Елизаветы Александровны в критическую минуту, — лично я глубоко убеждён, что её уже нет в живых. Если она не погибла от ненастья, то её, вероятно, убили. Говорят, что это в Тироле бывает. Так или иначе — надо быть уверенным в худшем. Скоро ли найдут труп, да и найдут ли ещё, — всё будет зависеть от счастливой случайности”.
Поиски продолжаются. Г-жа Б-тис рассказывает:
“Мы получили географическую карту горы Unnutz и прилегающей к ней местности. До чего, в сущности, трудно найти Лизу! На карте дорога, по которой шла она, и где её искали, отмечена штрихами. Все возможные спуски с горы обысканы. В середине карты огромная часть не обыскана, штрихов нет — но это объясняется тем, что Лиза могла попасть на эти дороги только в том случае, если бы вернулась снова в Kogl. Alp., где её видели пастухи. А она туда не возвращалась. Пастухи утверждают, что были целый день дома, но не видели её в другой раз. К тому же, заблудившись, — она стремилась бы скорее в долину, к людям, а не на ещё более высокие горы.
За эти дни — целую неделю — сделано решительно всё, что можно было сделать. Поиски продолжаются с прежней энергией… Проводники — люди опытные в горных восхождениях и заинтересованные получить премию… Теперь в горах снег… В Seehof’e стало невыносимо тяжело, страшно, холодно, неуютно… Нравственно я измучилась невероятно. Все с ног сбились”…
Убедившись в бесполезности пребывания в Seehof’e и устроив всё, что было нужно для дальнейших розысков, кузина Е. А. вместе с мужем 5-го августа переехала в Мюнхен. Сношения с полицией всё время продолжаются, обмениваются телеграммами и письмами.
“Русскому консулу, — рассказывает Ю. К. Б-тис, — о несчастии не дано было знать немедленно, потому что в ближайших городах от Achenthal’я его не оказалось. Это сделано здесь, тотчас же по приезде в Мюнхен. Я обратился в Российскую Императорскую Миссию, которая обо всём подробно телеграфировала консулу в Вену. Кроме того, мы обратились и в здешний горный клуб. Он пошлёт от себя людей и собак …
От Генерального Консульства в Вене ещё нет ответа. Но после трёх телеграмм, здешняя Миссия клянется, что там сделано самое энергичное давление на местных властей… Как в горном клубе, так и со стороны местной полиции уже давно уверяют меня, что предпринимать что-либо сверх предпринятого бесполезно. Но моё мнение — то, что лучше сделать что-нибудь лишнее и ненужное, чем упустить нужное и полезное…
Здесь же я просил напечатать о несчастии в самой распространённой газете, в отделе “Известий с немецких, австрийских, швейцарских гор и курортов”. Вот, в переводе, текст сообщения:
“Пропавшая в области Achensee. Двумя соотечественниками m-lle Елизаветы Дьяконовой, парижской студентки, которая воспользовалась каникулами, чтобы посетить свою тётку в Hotel’e Seehof на Achensee, — нам сообщено с представлением свидетельства общинного начальства в Anhenthal’e, что упомянутая дама 10 августа (нов. ст.) отправилась из Hotels Seehof на Achensee Unnutz, и с тех пор пропала. Можно предположить, что легко одетая… 28-летняя дама заблудилась и погибла в холодную ночь в Уннюцском ущелье. Предпринимавшиеся до сих пор попытки отыскать её или её тело не имели результатов. Нашими поручителями внесена при Ахентальском общинном управлении сумма в 100 крон, которая достанется тому, кто предложит надежный способ найти погибшую. К сожалению, со времени её исчезновения прошла уже неделя. Известия, которые могут быть, просим прислать в нашу редакцию”.
На предложение редакции откликнулся один из читателей, бывший в дни исчезновения Е. А. в Hotel’e Seehof.
“Известие о том, что m-elle Дьяконова пропала, — пишет он, — быстро распространилось между остальными гостями Hotels, и можно представить себе тревогу, когда одна спасательная экспедиция за другой возвращалась без успеха. Один из проводников, принимавших участие в розысках, говорил мне, что наверху в горах господствует такой густой туман, что порою нельзя видеть руку перед глазами, а по свежевыпавшему снегу можно заключить, что в те ночи температура была самое большее +2°. Поэтому нет никакого сомнения, что молодая женщина поплатилась жизнью за своё легкомыслие”.
Уже 15-е августа. Все розыски — тщетны. Родная сестра погибшей пишет в эти дни из Мюнхена: “Была в русской Миссии. Там получили телеграмму, что искали 19 человек — и нет… Профессор Гейдельбергского университета прислал нам письмо, где пишет, что в те дни было крайне опасно идти на Unnutz… Другое письмо — по городской почте от господина, который видел Лизу в горах и разговаривал с нею. Он встретил её раньше, чем она дошла до того места, где продают пастухи молоко… Мы предпримем сейчас вот что: увеличим премию до 500 марок, тогда, может быть, найдутся охотники и из Мюнхена; затем думаем обратиться к здешней частной тайной полиции, она, может быть, поможет раскрыть исчезновение, а сами поедем снова в Achensee дня на три… Требовать сейчас судебного следствия преждевременно, так как никаких улик пока нет…
“В Миссии нам сказали, что этого дела не оставят хоть год и будут от правительства требовать найти тело. Такой случай с русской впервые. Нынче очень много погибло народу в Альпах, в особенности англичан, как любителей… Что Лиза погибла — это бесспорно, только найти бы теперь. Просто какое-то таинственное исчезновение! Искали и по соседним горам, и вообще повсюду — и нет!”
26-го августа — через четыре недели — тело Е. А. было найдено. Место гибели оказалось совсем близко от озера и от Hotels Seehof: на расстоянии пятисот шагов вверх по ручью Luisenbach, и трёхсот шагов от дороги — лесной тропинки. В дни тщетных поисков тело лежало в одном из водоёмов горного ручья Луизы — в том месте, где он, ниспадая по крутым отвесным скалам, образует водопад. И ещё долго бы хранилось тело в скрытом каменистом ложе, если бы не поздний август: разлившись от снегов, в сильном потоке ручей вынес погибшую на край уступа, где и увидел её молодой пастух.
27-го августа тело подвергли вскрытию, а 29-го вновь произвели исследование с удалением внутренних органов. “Лиза, кажется, покончила самоубийством, — пишет сестра Е. А. {Надежда Дьяконова.} — Нашли её у ручья раздетую, платье перевязано пажем. Она бросилась с одного из уступов, но неудачно, переломила обе ноги, страдания, вероятно, были ужасные… Но можно предполагать и другое, — что она от ужаса и голода сошла с ума, разделась и бросилась… Всё очень странно… Следствие начнётся, чтобы доказать нам, что убийства не было”…
Как место гибели, так и многие признаки, обнаруженные судебным следствием и медицинским вскрытием трупа, с достаточною очевидностью заставляют предполагать роковой, несчастный случай нечаянного падения с одного уступа скалы на другой, отчего и произошла смерть.
Штатгальтерство Тироля и Форарльберга. Донесение.
{Нижеследующие официальные документы, переведённые с немецкого языка, печатаются в извлечении, с сохранением всех дат по новому стилю. (Примечание А. Дьяконова в издании 1912 г.)}
Тело погибшей Елизаветы Дьяконовой было найдено пастухом в мелком болоте одного водопада, на расстоянии почти 500 шагов вверх по ручью выше Seehofa и около 300 шагов от дороги. Тело было совсем не одето и не обнаруживало никаких внешних повреждений. Поэтому предполагали, что Дьяконова отправилась из Seehofa в Unnutz, и на обратном пути хотела выкупаться в одном из водоёмов, образованных находящимися там водопадами, так как её платье связано в узел, — но в воде умерла от разрыва сердца. Но произведённое окружным врачом вскрытие тела обнаружило, что обе ее ноги были переломаны в голеностопном сочленении, так что вернее предположить, что она прыгнула в ручей в возбужденном состоянии духа. Других повреждений тела вскрытие не обнаружило. В таком водоёме тело могло пролежать несколько недель, до тех пор, пока выступившая в первые сентябрьские дни горная вода не переправила его через стену, вышиной почти в 30 метров, в мелкое болото у его основания. Также и узел с платьем мог быть увлечён водою, тогда как горная палка найдена прислонённой вверху у стены.
При нахождении, тело, с дорогими серьгами в ушах, лежало на краю водоёма лицом вниз, ноги висели через край, так что оно при следующем подъёме воды, вероятно, было бы увлечено также и через этот нижний уступ водопада.
Тело уже значительно предалось разложению, от волос были только остатки, верхняя же часть лица до сдвинутой кожи сохранилась довольно хорошо. Судебное следствие, равно как и вскрытие тела окружным врачом, не дали никакой точки опоры, чтобы предположить преступление.
Тело перенесено в Схоластику, и оттуда будет перевезено в Россию.
За Импер.-Кор. Штатгальтера (подпись).
12 сентября 1902 г.
Инсбрук.
Случай в Ахентале. Протокол.
Вследствие телеграфного сообщения, что тело Елизаветы Дьяконовой, пропавшей 4 недели тому назад, найдено, и что совершение преступления не исключается, И. К. Суда Адъютор Экхер отправился 7-го сего сентября в Seehof, куда прибыл в 10 часов ночи для необходимых распоряжений. Адъютору Экхеру сообщили, что тело лежит нетронутым на том же месте, где оно найдено, и охраняется жандармом и приставленными гражданскими лицами до прибыли Судебной Комиссии.
8-го числа сего месяца, в 11 ч. утра, собравшаяся Комиссия (из семи лиц, из которых двое врачей) отправилась на место нахождения трупа. Место нахождения трупа было в небольшой боковой долине. С большой дороги подымаешься… и приходишь к подошве лощинообразной долины, через которую по крутым скалам низвергается водопад.
Прежде всего отправились на возвышенное место, на противоположную сторону водопада, откуда удобно было обозревать всё местоположение. Водопад образует несколько уступов. На одном из них лежит совершенно голое тело, а на другом уступе — вверх на 10 метров от уступа, где лежит тело — горный шест и носовой платок.
Оттуда отправились к уступу, где было тело. Доступ туда с обеих сторон водопада очень крут и затруднителен. На самом краю уступа лежало тело на животе, голова немного повернута направо, руки подогнуты. Мягкие части лица не существовали. Верхняя и нижняя челюсти обнажены. Нижние конечности немного выходили за край уступа и были переломаны в голеностопном сочленении, так что нижние части костей голени торчали наружу. Волосы, равно и поверхностная часть кожи, не существовали, и были признаки сильного разложения. Обе серьги были налицо. Других повреждений как вышеуказанных, не было видно.
Площадь уступа, где лежит тело, такова: дно задней части уступа покрыто водой, которая на самом глубоком месте достигает 43 сантиметров; остальное дно в середине песчано и отчасти покрыто водой. Край уступа, через который течёт вода, скалист. На расстоянии 1 + метров влево от тела под большим камнем лежит лоскут рубашки. На расстоянии 2 м. 88 сант. от тела вглубь уступа (почти на середине его площади) лежит каучуковый дождевой плащ, связанный узлом, и из него выглядывает платье.
В дождевом плаще находились следующие предметы: паж; ботинка из черной кожи, на правую ногу; чёрная вставка с 4-мя застёгнутыми английскими булавками; соломенная шляпа с булавкой; женская кофта; женская кофта с мелкими чёрными и серыми клетками; небольшая верёвка; нижняя юбка с карманом, помеченная буквами Е. Д.; чёрная юбка; пара свёрнутых кожаных перчаток; брошка из чёрного стекла; 2 монеты по 20 геллеров и 2 монеты по 10 гел., — они были разбросаны в дождевом плаще.
Направо от места, где находился дождевой плащ, на расстоянии 1 м. 12 сант. лежала левая ботинка, соответствующая другой, в узле. Она была в воде, которая на этом месте бежит по песку.
Потом отправились на верхний уступ, площадь задней части которого также покрыта водою, глубиной в 59 сант. Почти на середине площади этого верхнего уступа лежала короткая горная палка, приблизительно в 160 сант., отчасти покрытая водою; над концом палки лежала другая узловатая палка. Тут же вблизи лежал носовой платок с завязанным углом.
По показанию приходского старшины Иоганна Руппрехтера, водопад обыкновенно имеет гораздо меньше воды, чем в тот день. По показанию Франца Эденгаузера, который нашёл тело 7-го сего месяца, около 7-ми часов утра, — он не видел его на этом месте в предшествующее дни, из чего можно заключить, что оно 6-го числа было снесено на это место проливным дождём, и до того, по всей вероятности, лежало в глубине уступа.
После этого тело было перенесено в прачечную, чтобы приступить к вскрытию. Найденные на месте происшествия предметы были вручены на хранение Комиссии. Найденное платье вполне сходно с платьем пропавшей, равно и величина, так что тождественность тела с пропавшей Елизаветой Дьяконовой не подлежит никакому сомнению.
Компетентные лица берутся за вскрытие тела, и на основании присяги излагают следующее:
В дополнение вышеописанного внешнего осмотра следует ещё добавить, что кроме мягких частей лица, мягкая части шеи вследствие разложения вполне распались.
Кроме вышеозначенных повреждений нижних конечностей, найдена небольшая рваная рана на левой черепной кости. При вскрытии черепной полости, кости свода и основания черепа были целы; что касается мозга, то только мозговые оболочки были покрыты какой-то бурой массой. У внутренности грудной и брюшной полости, которые были найдены в сильной степени разложения, нельзя было найти следов ни болезней, ни повреждений. Половые части не представляли ничего особенного.
Вывод:
По всему вышеизложенному, нельзя констатировать насильственной смерти.
Обстоятельство, что оба голеностопные сочленения были переломаны, тогда как не было других повреждений костей, доказывает, что особа при падении упала на ноги.
Более точная причина не может быть установлена по всему найденному.
Степень разложения соответствует времени её исчезновения и предполагаемой смерти её 4 недели тому назад.
Прочитано и приготовлено к утверждению. (Подписи).
Протокол составлен 8-го сентября 1902 г., в доме горного
проводника в Ахентале.
…Непреклонно было решение Е. А. дойти до вершины. Его не изменили ни предупреждения об опасности, ни ненастье. И нужно думать, что Е. А. вернулась бы назад только в том случае, если бы допустила возможность нападения. Но это казалось ей маловероятным, может быть, даже смешным — и принятое решение исполняется бесстрашно до конца.
Но и бесстрашный человек — во власти случайностей, которые в одно мгновение могут обратиться в непреодолимые препятствия. И нужно обладать хладнокровием, чтобы своевременно избежать или предупредить их. Если же этого хладнокровия нет — катастрофа неминуема. Так и случилось с Е. А…
Она идёт к вершинам широкими горными дорогами. Во всех направлениях они размечены условными знаками, которые указывают путь, нигде не видно ни пропастей, ни крутых обрывов, — и она, вероятно, уже не сомневается, что достигнет вершин Unniitz’a вопреки всем предупреждениям.
А между тем, с часу на час ненастье усиливается. Густой туман ложится на склоны гор, яростно бушует ветер, дождь переходит в ливень. Идти вперед уже труднее… Может быть, Е. А. пережидает, когда прекратится непогода, — и, кутаясь в свой резиновый плащ, с альпийской палкой в руках, где-нибудь укрылась от дождя и холодного тумана в чаще старых сосен. Может быть, уже близки вершины — желание исполнилось! — но достигнуть их уже поздно: ненастье не утихает — и внезапно погас сумрачный свет дня. — Это вечер нисходит, и уже не вечер — а непроглядная ранняя ночь! Тяжёлым мраком покрыта гора, кругом не видно ни зги, только гудит холодный ветер, сливаясь с шумом дождя. — И бедный путник в плену!
Вот первое мгновение страха. Хладнокровие побороло бы его, заставив путника остаться на месте и ждать помощи — быть обречённым, но не отдаваться во власть внезапных решений. А у Е. А. если и было самообладание, то лишь наполовину: ворвавшийся в её душу страх смутил её, уничтожил бывшее до этих минут спокойствие, — и она уже ищет исхода… И насколько сильно было до этих пор желание достичь вершины — настолько сильно теперь стремление достичь земли.
Назад! Назад! Во что бы то ни стало вернуться домой, вырваться из мрака, холода и непогоды — скорее избавиться от ужаса, который одолевает!
Но как? Ведь уже исчезли все пути! Кругом тьма слепит глаза, и если ждать ещё рассвета — то всё равно: все дороги уже перепутаны!
Но вдруг и на другой день она вновь будет скитаться по горам, уйдя в совершенно ином направлении от первоначального пути?!
Вот второе мгновение страха. Оно стократ сильнее первого и уже равносильно предчувствию гибели: ибо завтра голод лишит её сил! Отчаяние, отчаяние!
Единственный исход — достичь земли теперь же. Всякое замедление — только хуже…
Вероятно, как только утренний свет лишь слегка рассеял густые туманы, и в свете возникавшего дня побледнел непреодолимый ужас ночи — Е. А. уже стала искать пути, чтобы вернуться. — Стала искать своего спасения, ибо иначе: — как ей казалось — в горах её подстерегала смерть! И вот — ручей…
Вспомним, что она не могла его не заметить, когда поднималась на гору, так как некоторое время шла невдалеке от него. Может быть, тогда же её внимание привлекли и водопады — красивые и лёгкие, — они и в непогоду видны с большой дороги, при самом подъёме вверх … Во всяком случае, этот ручей она видела, он тут же впадал в Achensee, и он был так близок от Hotel’я, из которого она только что вышла…
Теперь же, когда Е. А. блуждала на вершине, потеряв все дороги, — найти ручей — значило найти самый верный путь возвращения! Ведь как бы прихотливо и капризно ни протекал Luisenbach по склонам и уступам гор — всё равно, рано или поздно он приведёт к земле!
И если вспомнить ещё, что в дни тщетных поисков гору обыскивали со всех сторон, исходив вдоль и поперек все её дороги и спуски, — то невольно приходится считать путь возвращения Е. А. почти недоступным не только для простого туриста, но даже и для горного проводника. Только крайняя необходимость могла заставить человека избрать его!
Так и случилось: Е. А. возвращалась домой самой верной, но и самой опасной дорогой — по дикому склону горы, где проложил ручей свой путь.
И уже казалось, что все препятствия ей удалось преодолеть: с вершин она спустилась к земле так близко, что была всего лишь в трёхстах шагах от большой дороги! Ещё несколько последних усилий — и путь благополучно кончен!
Но вот водопады. Тут гора почти отвесна. Страшная крутизна. И кроме того: самый доступ к водопадам с обеих сторон горы тоже “очень крут и затруднителен”. Это значит, что идти вперёд можно только по самому руслу ручья. Его каменное ложе — единственный путь.
И начинается переправа. Е. А. полураздетая идёт к водопадам. Часть своего платья она завернула в узел. Ей удалось достигнуть одного уступа. Она уже на нём — а внизу, на расстоянии десяти метров, — другой!
Что произошло здесь — неизвестно. Всякие догадки были бы одинаково и верны, и ошибочны. Только всё предыдущее может подсказать нам: здесь произошёл роковой случай. Она или упала, или сорвалась вниз, при падении переломив оба голеностопных сочленения и проломив себе череп в области виска. Лишилась сознания (может быть, произошло сотрясение мозга) — и умерла, схороненная на дне водоёма…
Если бы Е. А. искала здесь смерти — зачем ей было необходимо раздеваться, зачем все эти приготовления? И ещё последняя догадка: неужели тогда не бросилась бы она вниз стремительно, с внезапностью страшного отчаяния, встречая смерть так, чтобы после падения уже не было ни одной минуты ненужных страданий?
5-го сентября в “милой” Нерехте, на родной земле схоронили погибшую.
Август 1911 г. А.Д.
Елизавета Дьяконова. Хронология.
1874
15 (27 н. ст.) августа
Рождение Е. Дьяконовой в г. Нерехта Костромской губернии в купеческой семье Александра Дьяконова и его жены Александры, урожденной Горшковой.
1886
Лиза начинает вести дневник.
1887
12 января
Смерть отца, после которой семья перебирается на жительство в Ярославль.
1890
лето
Поездка в Москву, в гости к родственникам Оловянишниковым.
30 августа
Встреча с о. Иоанном Кронштадтским.
25 октября
Торжественный акт в ярославской гимназии. По итогам 7 класса Лизе вручается серебряная медаль.
1891
апрель
Лиза читает “Крейцерову сонату” Л. Толстого, оказавшую сильнейшее воздействие на её моральные представления.
май
Оканчивает ярославскую гимназию.
1893
30 января.
Завершает чтение дневника Марии Башкирцевой, публиковавшегося в NoNo 1—12 журнала “Северный вестник” за 1892 год.
ноябрь
Мать предпринимает попытки сосватать Лизу.
1894
январь
Лиза договаривается со студентом В. (репетитором её брата Саши и будущим мужем сестры Вали) о том, что он будет снабжать её труднодоступной литературой.
лето
Поездка в Москву.
18 июля
Новая встреча с о. Иоанном Кронштадтским на подмосковной станции Обираловка.
7 декабря
Знакомство со студентом Э-тейном, способствовавшим поступлению Лизы на Высшие женские курсы в Петербурге.
1895
август
Поступление в Петербурге на Высшие женские курсы (Бестужевские).
1896
Е. Дьяконова посещает дискуссии народников и марксистов, читает нелегальные пропагандистские брошюры.
30 апреля
Валя, сестра Лизы, выходит замуж за студента В. и уезжает из Ярославля в Киев.
конец июля — начало августа
Лиза посещает XVI Всероссийскую промышленную и художественную выставку в Нижнем Новгороде.
осень
В дневнике появляются настойчивые жалобы на головные боли и угнетённое душевное состояние.
1897
август
На сельскохозяйственной выставке в Киеве Лиза узнает о деятельности учреждённого Н.Н. Неплюевым Крестовоздвиженского Трудового Братства.
20 ноября
Из-за болезни ног Лиза ложится в Александровскую больницу Красного Креста.
1898
20 января
Выходит из больницы.
первая половина марта
Посылает письмо публицисту М. О. Меньшикову и встречается с ним.
15 марта
Знакомится с Н. Н. Неплюевым.
август
Посещает основанную Н. Н. Неплюевым школу на хуторе Воздвиженск в Глуховском уезде Черниговской губернии.
ноябрь
В газете “Русский труд” опубликована статья Е. Дьяконовой “Школа и братство Неплюева”.
декабрь
В газете “Женское дело” напечатана статья Е. Дьяконовой “Женское образование”.
1899
24 января
Посещает религиозно—философский кружок о. Григория Петрова.
февраль
Участвует в студенческих волнениях.
март
Встречается с В. Короленко в редакции “Русского Богатства”.
9—26 мая
Принимает участие в мероприятиях по оказанию помощи голодающему населению Казанской губернии.
лето
Лечится на Кавказских минеральных водах.
июнь
Пишет письмо Л. Толстому с просьбой о содействии в деле помощи голодающим.
30 августа
Двоюродная сестра Лизы, Мария Оловянишникова, тайно венчается с Юргисом Балтрушайтисом.
18 сентября
Окончание Высших женских курсов.
осень
Возвращение в Ярославль, где до отъезда в Париж осенью 1900 г. Е. Дьяконова работает в библиотечной комиссии Общества распространения начального образования и др. учреждениях, публикует в периодике статьи на общественные темы.
декабрь
Лечится на черноморском курорте близ Сухума.
1900
осень
Е. Дьяконова приезжает в Париж.
декабрь
Поступление на юридический факультет Сорбонны.
Обострение болезненного состояния, заставляющее Е.Дьяконову обратиться к медикам. Встреча с врачом-невропатологом Е. Ленселе, ставшим предметом её глубокой влюбленности.
1901
21 февраля (здесь и далее даты даны по н. ст.)
Лиза получает письмо из дому, сообщающее о смерти бабушки (с отцовской стороны).
Март — апрель
Поездка в Нерехту и Ярославль по делам бабушкиного наследства. На обратном пути в Европу навещает в Москве Оловянишниковых.
28 апреля
Возвращение в Париж.
Начало августа
Сдает в Сорбонне экзамен за первый курс и отправляется в Лондон.
конец августа
Поселяется в курортном городке Саусборн.
28 августа
Знакомство с В. Г. Чертковым.
сентябрь
Участвует в жизни русской колонии толстовцев.
20 сентября
Снова в Лондоне. Знакомство с деятельностью женских организаций и культурных учреждений.
30 сентября
Возвращение в Париж.
16—17 декабря
Бал интернов в госпитале Брока, на который Лиза является в костюме римской вольноотпущенницы.
с 21 декабря
Позирует скульптору Карсинскому.
с 22 декабря
Участвует в комиссии по устройству новогоднего бала русского студенческого общества.
1902
Пишет статью “О женском вопросе” (опубликованную посмертно).
4 января
11осещает спектакль “Дядя Ваня”, который даёт русская любительская труппа.
7 января
Бал русских студентов, где Лиза появляется в сарафане, кокошнике и белой фате.
16 января
Последний разговор с Е. Ленселе.
19 января
Е. Дьяконова случайно узнает о предстоящей женитьбе Е. Ленселе.
Последняя запись в дневнике с объяснением причин добровольного ухода из жизни (по мнению А. Дьяконова, январская датировка последних записей фиктивна, — как он утверждает, работа над текстом дневника идет непрерывно с мая до последних чисел июля (по старому стилю) 1902 г., т. е. до самого отъезда автора из Парижа на каникулы).
23 февраля
Пишет взволнованный отклик (по-видимому, предназначенный для публикации) на газетное известие об опасной болезни Л. Толстого.
Конец февраля
Присутствует на торжествах, посвященных 100-летию В. Гюго.
весна
Рассказ Е. Дьяконовой “Под душистою ветвью сирени” получает второй приз (бронзовую медаль) на литературном конкурсе, устроенном Парижским обществом студенток.
9 августа
На пути из Парижа в Россию заезжает в отель Seehof в австрийском Тироле, чтобы встретиться там с теткой, Е. Г. Оловянишниковой.
10 августа
Утром идёт на прогулку в горы и не возвращается.
7 сентября
В горах найдено тело Е. Дьяконовой.
18 сентября (5 сентября по ст. ст.)
Похороны в Нерехте.
1904—1905
В приложении к журналу “Всемирный вестник” выходит в трех книгах первое издание дневника Е. Дьяконовой, подготовленное ее братом Александром. Многочисленные отклики в прессе.
1912
Выходит четвёртое издание дневника.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg


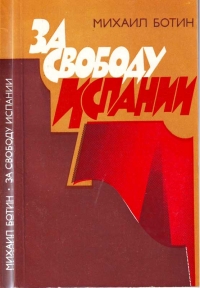

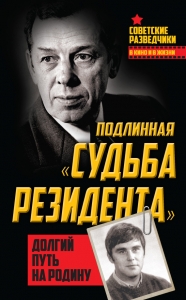
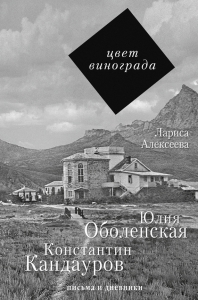
Комментарии к книге «Дневник русской женщины», Елизавета Александровна Дьяконова
Всего 0 комментариев