Георгий Агабеков, Евгений Думбадзе ГПУ
Георгий Агабеков
ГПУ. Записки чекиста
Бывший начальник восточного сектора иностранного отдела ОГПУ и резидент ОГПУ на Ближнем Востоке, невозвращенец
Евгений Думбадзе
На службе в ЧК и Коминтерне. Личные воспоминания
Советский разведчик-невозвращенец, открыто выступивший против сотрудничества с большевиками
ГПУ. Записки чекиста
Введение
Мне пришлось работать десять лет в наиболее «знаменитом» из всех советских учреждений, ВЧК — ОГПУ. С 1920 года, вплоть до 1930 года, я работал в центре ОГПУ в Москве и на периферии, в отделах по борьбе с врагами СССР внутри страны и последние шесть лет в иностранном отделе по работе за границей. За этот период мне много приходилось слышать и читать о нашей работе в иностранной прессе и в докладах иностранных представительств, попадавших в распоряжение ГПУ. Но нигде я не нашел хотя бы приблизительной картины той организации, какая существует в ОГПУ, ни того, что там делается, ни характеристики руководителей этого учреждения, ни достоверных сведений о сотрудниках.
Сколько раз в Москве, в нашем отделе, на Лубянке, читая эмигрантские газеты и листовки, мы искренно удивлялись наивности автора и смеялись над доверчивостью читательской массы, для которой предназначались эти статьи.
Сколько раз, читая перехваченные ОГПУ доклады иностранных послов и консулов своим правительствам, мы удивлялись, что они так плохо осведомлены о нашей работе. Вот поэтому я ставлю задачей своей книги дать подробное описание организации ОГПУ и методов работы. Говорю — по возможности, так как методы меняются по обстоятельствам времени и места.
Часть первая Что такое ОГПУ
Глава 1 Внутренняя организация ОГПУ
Центр ОГПУ (Общесоюзного государственного политического управления) находится в Москве, на Лубянской площади. Он занимает весь квадрат между Большой и Малой Лубянкой и тянется по Большой Лубянке вплоть до гостиницы «Селект» на Сретенке, содержащейся на средства ОГПУ для уловления приезжих иностранцев. Иностранные гости, останавливаясь там, подвергаются тщательной слежке, а их багаж тайно обыскивается в их отсутствие; руководящий персонал гостиницы является агентами ГПУ. Дома в Варсонофьевском и Милютинском переулках заняты под общежития-коммуны для сотрудников, и фактически вся территория между Лубянкой и Сретенкой находится в распоряжении ОГПУ.
В этом учреждении к настоящему времени работает около 2500 человек. Из них около 1500 являются членами коммунистической партии. Остальные — частью комсомольцы, частью беспартийные. Беспартийные, как правило, занимают низшие должности: это — машинистки, делопроизводители и пр.
ОГПУ разделено на отделы: контрразведывательный (КРО), иностранный (ИНО), секретный (СО), особый (ОО), специальный (СПЕКО), экономическое управление (ЭКУ), информационный отдел (ИНФО), оперативный отдел, восточный отдел (ВО), отдел пограничной охраны (ПО) и административно-организационное управление. Кроме того, имеются вспомогательные части: хозяйственная часть, комендатура, фельдъегерский корпус, кооператив, клуб, типография и тюрьма.
Во главе всего учреждения стоит председатель ОГПУ Менжинский, достаточно известный по своей прежней деятельности. Будучи высокоразвитым и образованным человеком, он, однако, не пользуется достаточным авторитетом в Центральном комитете партии и в политбюро (верховное руководство Центральным комитетом). Менжинский сильно болен, редко вмешивается в дела внутреннего управления ОГПУ и ограничивает свою деятельность тем, что представительствует это учреждение в Центральном комитете партии.
Менжинский имеет двух заместителей. Первый из них — Ягода — фактически управляет всем учреждением.
Ягода, человек властолюбивого характера, обладает сильной волей и готов на все ради достижения намеченной цели. Насколько Менжинский благовоспитан и образован, настолько Ягода груб и некультурен. Держится он на своем посту благодаря угодливости перед членами политбюро и ЦК и благодаря искусству интриги — оружию, которым он владеет в совершенстве. Он своевременно учитывает возможность конкурентов и принимает меры к их уничтожению. Так, например, видя во втором заместителе председателя ОГПУ, Трилиссере, опасного противника, он добился через Центральный комитет партии его снятия с работы в ГПУ.
Для проведения в исполнение своих целей Ягода окружил себя хотя и бездарной, но преданной публикой, которая за его подачки и поддержку готова делать и делает все, что он захочет. Одним из таких прихлебателей является его секретарь Шанин — уголовная личность, с явно садистскими наклонностями. Этот Шанин устраивает частенько для Ягоды оргии с вином и женщинами, до которых Ягода большой охотник. Девочки на эти вечера вербуются из комсомольской среды.
Все отделы О ГПУ, за исключением иностранного, пограничного и специального, объединяются в секретно-оперативное управление, начальником которого состоит тот же Ягода.
Иностранный и пограничный отделы подчиняются второму заместителю председателя. Специальный отдел, во главе с начальником Бокием, подчиняется непосредственно Центральному комитету партии.
Все начальники отделов, оба заместителя и председатель составляют коллегию ОГПУ, которая собирается раз в неделю для обсуждения и решения очередных дел.
Чем занимается каждый из отделов?
Контрразведывательный отдел ведет работу внутри СССР по борьбе с иностранным шпионажем и с контрреволюционными выступлениями в среде гражданского населения. Этот отдел обслуживает также все иностранные миссии в СССР, ведя разведку и добывая информацию и документы в этих миссиях. Отдел имеет широкую внутреннюю агентуру. Все управляющие гостиницами, заведующие кино и театрами состоят его агентами. Контрразведывательный отдел, или как он сокращенно называется — КРО, имеет агентуру во всех советских учреждениях и ежедневно получает от своих агентов сведения о происходящем в этих учреждениях. Он же поставляет мелких служащих: горничных, шоферов и т. п. для иностранных миссий и через них получает разного рода сведения, вербуя в то же время в агентуру других служащих иностранных миссий. Начальником КРО является Ольский. Это человек лет под тридцать пять, молодой, энергичный, преданный сторонник Ягоды. Ольский сумел подобрать соответствующих людей в свой аппарат, и работа отдела считается удовлетворительной. Отдел распадается на несколько отделений, обслуживающих каждое свою отрасль. Так, например, первое отделение КРО ведает исключительно наблюдением за гостиницами, театрами, ресторанами. Оно же вскрывает перехваченную корреспонденцию, главным образом дипломатическую почту иностранных посольств и миссий, тем или иным путем попавшую в руки ГПУ.
Второе и третье отделения занимаются работой по борьбе со шпионажем прибалтийских стран; третье отделение, например, заманило в Россию Савинкова и др. Четвертое отделение борется со шпионажем восточных стран, пятое отделение — с англо-американским шпионажем и т. д.
Секретный отдел (СО) ведет работу по борьбе с враждебными коммунизму политическими партиями, с течениями внутри коммунистической партии и, наконец, он же борется с религией и ведет работу по ее разложению. Агентура отдела охватывает все слои населения и главным образом духовенство.
Работа по духовенству поручена 6-му отделению СО, и руководит ею Тучков. Он считается спецом по религиозным делам и очень ловко пользуется разделением церкви на старую и новую, вербуя агентуру с той и с другой стороны. 6-е отделение помещается рядом с иностранным отделом, и мне часто приходилось видеть у дверей Тучкова священников, ожидающих с ним беседы.
Секретный отдел, как и все другие, разбит на отделения со строго определенными функциями. Начальник отдела Дерибас, старый член партии, интересуется больше делами партийных группировок, на разоблачении которых надеется нажить себе капитал перед Центральным комитетом и получить в награду пост второго заместителя председателя ОГПУ. Это его давнишняя мечта. Она заставляла его все время блокироваться с Ягодой против Трилиссера, чтобы, спихнув последнего, занять его место. Благодаря такой личной занятости начальника отдел работает сравнительно неважно, если не считать энергичной деятельности Тучкова по разложению духовенства.
Экономическое управление (ЭКУ) ведет работу среди промышленных, торговых и финансовых учреждений СССР по выявлению экономических злоупотреблений, причин невыполнения планов и борется с экономическим шпионажем в СССР. Начальник отдела — Прокофьев, человек образованный и энергичный. Раньше Прокофьев был помощником Трилиссера по иностранному отделу, но Трилиссер постарался от него избавиться, боясь, что со свойственной ему энергией Прокофьев столкнет его самого с места.
Информационный отдел (ИНФО) следит за настроениями во всех слоях общества и содержит колоссальный штат секретных осведомителей. Этот же отдел выполняет роль цензуры над литературными и театральными произведениями и перлюстрирует корреспонденцию, обращающуюся внутри СССР. Начальником отдела является Алексеев, бывший анархист, перешедший в коммунистическую партию, кажется, в 1920 году.
Алексеев работает не за страх, а за совесть, но все-таки не пользуется большим доверием у президиума ГПУ. При нем всегда, в качестве заместителя, имеется один из надежнейших партийцев. Таковым «наблюдателем» в настоящее время состоит некто Запорожец, испытанный чекист, бывший помощником Трилиссера по иностранному отделу и ушедший вследствие несогласия с осторожной политикой Трилиссера. Этот Запорожец славился тем, что во время петлюровщины сумел проникнуть к Петлюре и состоял одно время его личным адъютантом.
Особый отдел (ОО) ведает наблюдением за армией и флотом. Через военных комиссаров и политруков, обязанных информировать отдел, ГПУ всегда находится в курсе настроений армии. ОО наблюдает также за снабжением армии продовольствием и амуницией и следит за правильностью охраны военных складов. Начальником отдела является сам Ягода, но фактически управляет им Ольский, начальник КРО.
Восточный отдел (ВО) ведет работу в восточных национальных республиках и среди восточных национальных группировок. Номинально им управляет Петерс, фактически же работой руководит некто Дьяков. Петерс же, как известно, является членом Центральной контрольной комиссии и ей отдает все свое время.
Петерс — фигура морально окончательно разложившаяся. Женщины и личная жизнь интересуют его больше, чем все остальное. Еще будучи полномочным представителем ОГПУ, он, разъезжая по окраинам, всегда имел при себе в вагоне двух-трех личных секретарш, которых, по мере ненадобности, высаживал из поезда по пути следования. Так, например, в бытность мою резидентом ОГПУ в Бухаре в 1922 году, Петерс приезжал с двумя девицами и, высадив их в Бухаре, предложил мне устроить их куда-нибудь. Его заместителем по восточному отделу в 1929 году был некто Петросян, бывший председатель грузинской ЧК, расстрелявший председателя крымского ЦИКа Ибрагимова для того, чтобы жениться на его жене. Когда об этом узнал Центральный комитет, то Петросяна уволили без права работы в органах ГПУ. Он потом жаловался мне, что Петерс, его начальник и друг, делал много худшие вещи, и тому это сходило с рук, а вот когда он, Петросян, сделал маленький проступок, то негодяй Петерс не встал на его защиту.
Специальный отдел (СПЕКО) работает по охране государственных тайн от утечки к иностранцам, для чего имеет штат агентуры, следящий за порядком хранения секретных бумаг. Другой важной задачей отдела является перехватывание иностранных шифров и расшифровка поступающих из заграницы телеграмм. Он же составляет шифры для советских учреждений внутри и вне СССР.
Шифровальщики всех учреждений подчиняются непосредственно специальному отделу. Работу по расшифровке иностранных шифров спецотдел выполняет прекрасно и еженедельно составляет сводку расшифрованных иностранных телеграмм для рассылки начальникам отделов ГПУ и членам ЦК.
Третьей задачей специального отдела является надзор за тюрьмами и местами заключения по всему Советскому Союзу, охрану же их несут войска ГПУ. При отделе имеется канцелярия, фабрикующая всевозможные документы (паспорта, фальшивые удостоверения и пр.), необходимые для той или иной цели в работе ГПУ.
Начальником отдела состоит Бокий, бывший полпред ВЧК, буквально терроризировавший Туркестан в 1919–1920 годах. О нем еще и сейчас, десять лет спустя, ходят легенды в Ташкенте, что он любил питаться сырым собачьим мясом и пить свежую человечью кровь. Несмотря на то что Бокий только начальник отдела, он, в исключение из правил, подчиняется непосредственно Центральному комитету партии и имеет колоссальное влияние в О ГПУ. Подбор сотрудников в специальном отделе хорош, и работа поставлена образцово.
Пограничный отдел (ПО) управляет войсками особого назначения О ГПУ, всеми пограничными войсками и ведет борьбу с контрабандой. Все таможни обязаны иметь тесный контакт с ПО и фактически подчиняются ему. Начальник отдела Вележев был прежде помощником Трилиссера по иностранному отделу. Это идейно убежденный коммунист, хотя в партии состоит только с 1920 года. В 1924 году его послали под фамилией Ведерников в Бизерту на приемку от Франции флота Врангеля, затем под этой же фамилией он ездил в Китай и был там одним из руководителей китайской революции и организатором работы ГПУ.
Начальником иностранного отдела (ИНО) и вторым заместителем председателя ОГПУ был до недавнего времени Трилиссер. Ныне его сменил Мессинг, бывший до того полномочным представителем ГПУ в Ленинграде. ИНО обслуживает исключительно заграницу. При каждом полпредстве и крупном консульстве он имеет своего полуофициального представителя, которому иногда придаются помощники. Эти представители, или резиденты ГПУ, занимают главным образом должности второго секретаря или атташе при полпредстве, но иногда устраиваются в торгпредствах и в других хозяйственных учреждениях за границей.
Работа иностранного отдела заключается в освещении политического и экономического положения иностранных государств, в добыче всевозможных документов, имеющих ценность для советского правительства, в выявлении отправляемых в СССР разведчиков других стран, освещении жизни эмиграции, разложении эмигрантских организаций, и пр. и пр. Этот отдел, кроме самостоятельных заданий, обязан выполнять и задания других отделов ОГПУ, поскольку дело касается заграницы. Кроме того, на обязанности его лежит освещение работы советских дипломатических и хозяйственных учреждений.
Иностранный отдел, кроме указанных официальных представителей, имеет в тех же странах свою нелегальную агентуру, работающую под вымышленными фамилиями и с фальшивыми паспортами. Эти секретные — нелегальные — резиденты пользуются особыми правами и доверием. Главная их задача заключается в том, чтобы прочно обосноваться в данной стране, завести связи и укрепить положение настолько, чтобы можно было продолжать дело даже в случае военного столкновения и высылки официальных представителей. Посылки «нелегальных» резидентов начались года два назад, когда анализ внешних событий показал неизбежность будущей войны. С тех пор нелегальные резиденты обосновались в Персии, Афганистане, Турции, Ираке и западных странах. Посылаемые таким порядком представители ГПУ не должны поддерживать связи с официальными советскими представительствами за границей.
На остальных отделах останавливаться не стоит, ибо они играют подсобную роль, за исключением оперативного отдела, ведающего агентурой для наружного наблюдения. Обыкновенно для наружного наблюдения за тем или другим лицом заинтересованный отдел обращается в оперативный отдел, который и принимает на себя выполнение задачи. Оперативному отделу подчиняется комендантская часть. Комендантская часть производит аресты, обыски и расстреливает приговоренных в специальных подвалах, находящихся под зданиями ГПУ.
Эти подвалы расположены во внутренней тюрьме ГПУ и усиленно охраняются красноармейцами из войск особого назначения. Даже во внутренний двор тюрьмы никому из сотрудников не разрешается входить без прямой надобности и специального разрешения. Только из некоторых окон здания ГПУ можно видеть маленький двор и окна камер, закрытые щитами от посторонних глаз. За все мое пребывание в ОГПУ я не видел, чтобы арестованных выводили на прогулку.
Отделы ОГПУ разбиты на отделения. Как общее правило, не только один отдел не должен знать работы другого, но даже отделения одного и того же отдела не смеют посвящать друг друга в свою деятельность.
ОГПУ имеет полномочные представительства во всех национальных республиках и крупных центрах СССР. Эти представительства организованы по типу Москвы, только в меньшем масштабе. Вместо отделов там имеются отделения — филиалы московских отделов. Полномочные представительства, подчиняющиеся Москве, имеют в свою очередь филиалы в губернских, окружных и уездных центрах, являющиеся еще меньшей их моделью.
Я нарочно остановился на организации ОГПУ, чтобы читатель мог видеть всю структуру этого аппарата, так как без этого он не может себе представить всей колоссальной машины, законспирированной от остальных учреждений советской власти и конспирирующейся внутри самой себя. Из этой организационной схемы читатель видит, что каждый отдел имеет свою самостоятельную сеть секретных агентов. Ему легко будет теперь поверить, что общее число секретных агентов в одной только Москве превышает десять тысяч человек. Через них ОГПУ контролирует не только деловую жизнь всех учреждений и предприятий, но и частную жизнь каждого, чем-нибудь выдающегося гражданина, не говоря уже об иностранцах, которые находятся под особенно тщательным наблюдением.
Помимо всего описанного нужно помнить, что в помощь ОГПУ приданы милиция и органы уголовного розыска и что по завету Ленина — «каждый коммунист должен быть чекистом». Каждый коммунист, каждый комсомолец, наконец, каждый «сознательный» гражданин СССР, узнав или услышав что-нибудь, идущее вразрез с интересами советского правительства, обязан сообщить об этом в ГПУ.
Таких добровольцев-осведомителей сотни тысяч в СССР; но они считают нужным помогать ГПУ или находиться с этим учреждением в хороших отношениях, потому что только тогда они могут рассчитывать на относительно спокойную и обеспеченную жизнь. Таким образом, зерна, посеянные двенадцать лет тому назад Дзержинским, ныне выросли в повсеместный шпионаж: сын доносит на отца и сестра на брата.
Глава 2 ОГПУ и правительство
ОГПУ по своей работе связано со всеми учреждениями в СССР и во всех учреждениях пользуется более или менее сильным влиянием.
ОГПУ только формально подчиняется Совнаркому СССР, а фактически — политбюро ЦК. Оно беспрекословно выполняет все директивы, получаемые от руководителей ЦК партии. Если при жизни Дзержинского ОГПУ иногда пускалось в обсуждение того или иного вопроса или постановления ЦК, то после его смерти оно получило при ЦК партии чисто исполнительные функции и не смеет рассуждать. Это можно видеть на многочисленных политических примерах и на частных примерах Бажанова и Беседовского, которых ОГПУ хотело ликвидировать и не сумело настоять на своем: политбюро запретило. Перемена объясняется разницей в личном авторитете Дзержинского и Менжинского. В то время как первый сам был членом политбюро и играл там крупную роль, последний едва прошел на последнем съезде в члены ЦК. Отсутствие личного авторитета несколько снизило авторитет и всего ГПУ по отношению к другим наркоматам, руководителями которых являются более крупные фигуры, чем Менжинский.
Когда после смерти Дзержинского в 1926 году обсуждалась кандидатура на пост председателя ОГПУ, политбюро долго колебалось и одно время даже думало поручить руководство ОГПУ Орджоникидзе или Микояну. Их имена выдвигались ввиду малой известности Менжинского и его недостаточного авторитета в партийной среде. Однако, учитывая ропот среди сотрудников ОГПУ, которые, заслышав об этих кандидатурах, чуть не открыто говорили о национал-шовинистических тенденциях Орджоникидзе и о беспросветной глупости Микояна, политбюро утвердило безличную кандидатуру Менжинского. С тех пор орган диктатуры пролетариата стал послушным орудием в руках политбюро, то есть его руководителя Сталина. Весь мир мог в этом убедиться на примерах расправы с троцкистами и правой оппозицией.
* * *
Между ОГПУ и Наркоминделом всегда шла и идет жестокая борьба за влияние в политбюро. Несмотря на то что внешними сношениями СССР заведует Наркоминдел, Центральный комитет информируется по вопросам внешней политики также в ГПУ. Почти всегда сведения и заключения этих двух учреждений по одним и тем же вопросам расходятся между собой. Так, например, по вопросу о восстании в Афганистане в 1929 году Наркоминдел стоял за поддержку Амануллы и его сторонников, а ГПУ высказывалось в пользу Бачаи Сакао, выдвинутого народными массами. В этих разногласиях корень антагонизма между руководителями обоих учреждений, и антагонизм передается по всей линии ОГПУ и Наркоминдела до самых низов. Наиболее ярым врагом ОГПУ является замнаркоминдела Литвинов. Он органически ненавидит ГПУ, однако другой заместитель наркома, Карахан, имеющий личные счеты с Литвиновым, не гнушается иногда заигрывать с ГПУ.
Борьба принимает особенно острые формы при назначении сотрудников за границу и продолжается за границей между полпредом или консулом и представителями ОГПУ.
Обыкновенно при назначении того или иного сотрудника за границу вопрос должен решаться в специальной комиссии ОГПУ, собирающейся раз в неделю. Комиссию возглавляет начальник иностранного отдела, а чаще кто-нибудь из его помощников. В состав ее входят представитель ЦК, он же заведующий бюро заграничных ячеек при ЦК, и представитель учреждения, которое командирует сотрудника. Заблаговременно заполненная и присланная в иностранный отдел ГПУ анкета ходит по всем отделам и отделениям ОГПУ, о данном лице наводятся справки в архивах и по картотеке. Достаточно, чтобы его фамилия фигурировала в каком-нибудь донесении агентов ГПУ, даже без всякого повода, как комиссия отказывает ему в визе и предлагает заменить его другим. Решающее слово в комиссии принадлежит представителю ОГПУ.
Как заносятся подозреваемые лица на картотеку, можно судить по тому, что в начале 1929 года, когда решили проверить и обновить картотеку, в ней нашли личные карточки… Бриана, Вильсона, Ллойд Джорджа и других «крамольников». На картотеку заносятся часто только фамилии или только имена, так что почти невозможно установить тождество лица. Поэтому достаточно бывает просителю визы на въезд или выезд иметь похожую фамилию или имя, чтобы он получил отказ. В этих случаях не только он, но зачастую и само ОГПУ не знает, в чем он, собственно говоря, обвиняется. Случается, что когда задерживается лицо, имеющее крупную протекцию, и ОГПУ получает запрос о причине его невыпуска за границу, то оно не может выдвинуть никакого мотива отказа. Попав впросак, оно нехотя выдает разрешение. Помню, летом 1929 года поступило множество анкет от американских и английских туристов. Многим из них ОГПУ отказало. Центральный комитет, по требованию Наркоминдела, предложил ОГПУ отменить постановление. Оказалось, что органы ГПУ не могли выдвинуть никаких конкретных обвинений против «отказываемых», а ЦК партии нуждался в долларах туристов.
Особенно часто ОГПУ задерживает сотрудников Наркоминдела. Наркоминдел отвечает тем же при назначении сотрудников ОГПУ за границу через аппарат Наркоминдела. Но Наркоминдел поступает благоразумнее и старается найти какой-нибудь благовидный предлог, если не для отказа, то в крайнем случае для оттяжки, ссылается на неимение штатов, на несоответствие назначаемого и т. п.
Так, например, было со мной.
В 1927 году ОГПУ выдвинуло меня на должность резидента в Ангору, с зачислением на официальную должность атташе посольства. Наркоминдел ответил, что должен запросить согласие полпреда в Турции Сурица. Спустя две недели пришел ответ: Суриц согласен. Тогда спохватились, что по штатам Ангоры нет должности атташе и что таковую необходимо специально учредить на одном из ближайших заседаний коллегии НКИД. Наконец, спустя еще три недели, должность по штату была учреждена, а еще через неделю Наркоминдел сообщил, что все готово, однако находит, что меня, как армянина, посылать в Ангору неудобно, хотя официально, по паспорту, я должен был ехать как еврей, под чужой фамилией.
Борьба за границей между полпредом или консулом и представителем ОГПУ выливается иногда в ожесточенные формы. Корень борьбы лежит в двоевластии, создающемся вследствие полной автономности представителей ГПУ.
Представитель ГПУ, или, как он иначе называется, резидент, формально подчинен полпреду по должности секретаря или делопроизводителя, но на самом деле благодаря возложенным на него специальным задачам и полной бесконтрольности сообщений с Москвой авторитет его выше и страх перед ним совслужащих за границей сильнее страха перед самим полпредом. Полпред, сам чувствуя над собой постоянный контроль и всегда ожидая какой-нибудь пакости со стороны резидента, естественно, старается себя застраховать и первый нападает на него, полагая, что нападение есть лучший способ защиты. Для этого используется формальное подчинение резидента. Начинается склока, раскалывающая полпредство и очень часто все остальные совучреждения в стране на враждебные лагери. Драка углубляется и разрастается, пока кого-нибудь из лидеров не отзовут в Москву; оставшийся другой лидер высылает затем всех сторонников своего врага. Приезжает новый на место высланного, борьба обновляется, вчерашний победитель терпит поражение, начинается высылка новой группы, и так без конца. Этим, и главным образом этим объясняется столь частая смена сотрудников заграничных учреждений, стоящая колоссальных средств государству, ибо при переездах выдаются большие суточные, подъемные, проездные и т. д.
Яркий пример такой склоки дало в 1927–1928 годах полпредство СССР в Тегеране, где тамошний посол Юренев, столкнувшийся с торгпредом Гольдбергом, выжил его и всю его группу, а затем, после отъезда Юренева, были выброшены из Тегерана и все сторонники Гольдберга.
Подобные же склоки происходили в Афганистане, в Мешеде, Тавризе, Пехлеви. На них я потом остановлюсь подробнее.
* * *
Отношения ГПУ с Наркомторгом при назначении сотрудников приблизительно таковы же, как и с Наркоминделом, но ввиду малой сопротивляемости представителей Наркомторга трений между ними бывает меньше. До 1927 года ОГПУ использовало аппарат Наркомторга за границей не только для легального прикрытия своих агентов, но и для финансирования и снабжения секретных агентур товарным фондом, лицензиями и пр.
Так, например, агентура Мешеда, добывавшая английскую почту, снабжалась мануфактурой для открытия магазина, который должен был служить прикрытием агенту ГПУ. Мешедское купечество за доставку сведений в ГПУ снабжалось лицензиями Наркомторга, что подрывало монополию внешней торговли и вызывало недовольство среди честного персидского купечества. Тегеранская агентура снабжалась сахаром и нефтепродуктами для лавок, открытых для камуфлирования агентов. В связи с колоссальными убытками от таких операций Центральный комитет партии воспретил, наконец, ГПУ иметь торговые сношения с Наркомторгом. ГПУ ныне довольствуется использованием торгового аппарата для переброски сотрудников за границу, да и то на вторые роли. Работники Наркомторга не имеют дипломатических паспортов и потому меньше гарантированы от провалов, чем сотрудники полпредств. С другой стороны, советская власть опасается компрометировать свои хозучреждения за границей после налета на АРКОС.
Резидент ОГПУ за границей собирает экономический материал по указаниям из Москвы, но обязан выполнять и иногда выполняет задания полпреда и торгпреда по добыче нужных им документов, договоров конкурирующих фирм и т. и. В таких случаях торгпредство берет все расходы на себя. Обыкновенно же весь информационный материал направляется в иностранный отдел ОГПУ в Москву, где его перерабатывают и рассылают затем в копиях по заинтересованным инстанциям.
* * *
Почти до 1926 года отношения между ОГПУ и Коминтерном были самые дружеские. Начальник иностранного отдела Трилиссер был большим приятелем заведующего международной связью Коминтерна Пятницкого, и оба учреждения находились в теснейшей деловой связи. Да иначе и быть не могло, так как ОГПУ ведет работу за границей по обследованию контрреволюционных и оппозиционных организаций, в которые входят все русские и иностранные антибольшевистские партии, начиная от социал-демократии и 4-го Интернационала и кончая фашистами. Этим материалом ОГПУ, естественно, должно делиться с Коминтерном, чтобы облегчить ему работу в борьбе с враждебными коммунизму влияниями. Кроме того, в иностранных компартиях, в особенности в восточных странах, имеется большой запас провокаторов, борьбу с которыми и выявление которых взяло на себя ОГПУ, так что, повторяю, деловая связь между ОГПУ и Коминтерном неизбежна.
На местах, за границей, эта связь, однако, приняла совсем другой характер. Резиденты ОГПУ, поддерживающие связь с представителями Коминтерна за границей, пошли по линии наименьшего сопротивления в своей работе. Вместо того чтобы самим рисковать и вербовать нужную агентуру, они стали пользоваться для шпионской работы местными коммунистами, что в конце концов стоило дешевле и было безопаснее, как в идейном отношении, так и в отношении возможной провокации.
Шумиха, поднятая в связи со знаменитым «письмом Зиновьева», непрекращающаяся дискуссия в европейской печати по вопросу о единоличии советской власти и Коминтерна и риск предательства и провокации среди завербованной из местных коммунистов агентуры заставили ОГПУ в 1927 году дать категорическое распоряжение своим представителям ни в коем случае не связываться с представителями Коминтерна и с местными партийными организациями. Такого рода распоряжения получили одновременно представители Наркоминдела, Наркомторга и Разведывательного управления за границей.
Распоряжение это, однако, не всегда и не всеми выполнялось и выполняется. В Москве же и поныне отношения остались старыми. Так же, как и раньше, из всех поступающих материалов выделяются интересующие Коминтерн вопросы и отсылаются тому же Пятницкому. Связь еще более окрепла с тех пор, как Коминтерн в Москве сумел организовать (в течение последних двух лет) превосходно поставленное паспортное бюро, то есть отдел по фабрикации фальшивых паспортов. ОГПУ, имеющее такое же собственное бюро, часто обращается за помощью по снабжению своих сотрудников фальшивыми иностранными паспортами в бюро Коминтерна.
* * *
Разведывательное управление является 4-м управлением штаба Рабоче-крестьянской Красной армии. Начальником его состоит Берзин. Это управление ведет военную разведку за границей через военных атташе при посольствах. Кроме того, управление имеет нелегальную агентуру, независимую от аппаратов военных атташе. Для снабжения ее иностранными паспортами и разными удостоверениями Разведупр прибегает к помощи паспортного бюро Коминтерна. Как и представители ОГПУ, военные атташе и нелегальные агенты Разведупра не имеют теперь права связываться с местными компартиями и использовать их для своей работы.
Отношения между Разведупром и ОГПУ в Москве чисто официальные. Они заключаются в обмене информационным материалом. В отношениях существует некоторая натянутость: ОГПУ никогда не упускает случая заняться часто военным шпионажем и часто конкурирует с Разведупром. Считая, что оно может выполнять эту работу лучше, ОГПУ время от времени поднимает перед ЦК партии вопрос о ликвидации Разведупра и передаче его функций и бюджета в ОГПУ. Однако Центральный комитет предпочитает сохранять оба органа отдельно. Это дает ему возможность взаимно их контролировать.
За границей связь и сотрудничество между резидентом ОГПУ и военным атташе зависит от личных взаимоотношений. Однако чересчур тесная дружба Москвой не одобряется, так как резиденты могут спеться и Москва будет лишена возможности их контролировать. В этом я убедился на собственном опыте, когда, получив назначение в Афганистан, я спросил свое начальство, каковы должны быть мои отношения с военным атташе, и выслушал ответ: «Никаких отношений, наблюдайте за ним»…
Говоря об отношениях иностранного отдела ОГПУ с другими организациями, необходимо упомянуть о связи его с собственными отделениями на местах.
В то время как Москва посылает представителей в иностранные столицы для освещения общих вопросов, приграничные отделения ГПУ имеют право посылать своих агентов в ближайшие пограничные районы для освещения вопросов местного значения. Эти агенты должны подчиняться московскому представителю и вести работу в точно указанном районе. Однако, поскольку нет точной разграниченности, очень часто эти агенты проникают глубоко в страну и иногда, чувствуя свое превосходство над московским представителем, стараются взять инициативу в свои руки, приобрести самостоятельность и расширить сферу своей деятельности. Эти попытки всегда вызывали в Москве твердый отпор, однако местные отделы все-таки кое-чего добились. Так, например, Ташкентское ГПУ самостоятельно работает в Западном Китае, Северном Афганистане и Восточной Персии. Владивосток ведет работу в районе Харбина, Одесса работает в Бессарабии, но больше всех добилось кавказское ЧК, захватившее в сферу своей работы Западную и Северную Персию, всю Азиатскую Турцию и имеющее своего почти независимого представителя при Константинопольской резидентуре ОГПУ.
Местные отделы ГПУ стараются использовать для посылки агентов советские консульства, но большей частью довольствуются торговыми учреждениями. Так, например, Кавказ использует аппарат Наркоминдела (резидент ГПУ в Тавризе сидит в консульстве), закавказского торгового представительства и Нефтесиндиката для посылки агентов в Персию и Турцию. Ташкент использует для работы в Персии и Афганистане аппараты Бюроперса, Нефтесиндиката и Афганского торгового общества.
Но, повторяю, несмотря на раздвоенность в работе, местные работники подчиняются представителю Москвы, посылают ему копии донесений и получают от него деньги за работу. Работники Разведупра, наоборот, работают каждый в отдельности и посылают свои донесения непосредственно в Москву, не обмениваясь друг с другом информацией.
* * *
Бюджет ОГПУ трудно исчислить. Помимо правительственных ассигнований, оно имеет огромные приходы от контрабанды, захватываемой на границах, и от собственного колоссального хозяйства: жилых домов (в этих домах живут сотрудники, бывшие и настоящие, ГПУ, платящие за квартиры и комнаты, между прочим, дороже, чем жильцы всех других советских домов), кооперативов, типографий и пр.
Если бы даже я мог произвести точный учет этому бюджету, то не думаю, чтобы он представлял собой большой интерес. Я хочу остановиться только на бюджете иностранного отдела, который может дать некоторое представление о размерах и размахе работы ГПУ за границей.
Нужно сказать, что бюджет иностранного отдела отпускается в долларах и из года в год сокращается в связи с острой нуждой в валюте. Так, например, в то время, как на 1928/29 год было отпущено три миллиона долларов, уже в январе 1929 года, то есть когда не истек еще бюджетный год, средства были сокращены сперва на 10, а затем, к концу года, на целых 30 %. На 1929/30 год был отпущен один миллион пятьсот тысяч долларов, то есть только половина прошлогоднего бюджета. Лозунг экономии проводится и здесь.
Как составляется бюджет иностранного отдела.
Перед началом октября отдел запрашивает смету у всех резидентов. На основании этих смет, расчетов с Наркоминделом и возможности непредвиденных расходов составляется смета всего отдела и вносится в политбюро. Бюджет иностранного отдела ГПУ, как секретный, утверждается не Народным комиссариатом финансов, а политбюро.
Получает деньги отдел от правительства каждые три месяца. Несмотря на то что при составлении бюджета запрашиваются резиденты на местах, однако при утверждении местных смет начино исходит не из представленных требований, а из необходимости в работе: иногда отпускают во много раз больше представленной сметы, а иной раз сократят на половину.
Это зависит от успешности работы резидента. Так, например, в начале 1927 года я, будучи в Персии, имел ежемесячную смету в две с половиной тысячи долларов, а к концу того же года смета была увеличена до пяти тысяч. Берлинская резидентура ОГПУ имела в 1928 году 15 тысяч долларов ежемесячной сметы, а в 1929 году эта смета была снижена до семи тысяч.
Резиденты обязаны ежемесячно посылать в Москву отчет об израсходованных суммах, и если в течение трех месяцев расход составляет меньше, чем отпущенные по смете суммы, то смета соответственно сокращается, если же затем, в связи с развитием работы, резиденту необходимы дополнительные средства, он должен представить мотивированное объяснение. Очень часто резиденты, чтобы избежать сокращений, тратят или, по крайней мере, показывают, что тратят больше, чем на самом деле следует. На каждый произведенный расход должен иметься оправдательный документ, а если такового по тем или иным причинам нет, то справка самого резидента с указанием, на что израсходованы суммы.
Отчеты резидентов поступают вместе с общей почтой в соответствующие отделения и по рассмотрении и утверждении направляются к заведующему финансовой частью иностранного отдела.
Финансовая часть иностранного отдела совершенно обособлена от финансового отдела ОГПУ. Заведует ею некто Ключарев, молодой парень, лет тридцати, ведающий этой работой уже в течение шести лет. До того он работал в Лондоне вместе с Розенгольцем, но разругался с послом, приехал в Москву и не пожелал больше состоять в коммунистической партии, несмотря на многократные увещевания партячейки. Однако он пользуется полным доверием как партии, так и ОГПУ.
Деньги резидентам посылаются в долларах через Наркоминдел, почтой или телеграфно. В первом случае — в особо запечатанном конверте на имя резидента, во втором — Наркоминдел телеграммой просит полпреда выдать соответствующую сумму резиденту, которую ОГПУ внесло в кассу Наркоминдела в Москве.
* * *
ОГПУ держит связь со своей заграничной агентурой через дипломатических курьеров Наркоминдела. Каждый резидент ГПУ за границей имеет кличку. Так, например, берлинский резидент Гольдштейн имеет кличку Александр, константинопольский резидент Наумов — Бур и т. д.
Соответствующее отделение в Москве заготовляет письмо с инструкциями для резидента на простой бумаге и нумерует ее. В последнее время, после налета китайцев на Пекинское полпредство, запрещено начинать письма словами: «Уважаемый товарищ». Ставится только номер.
Инструкция подписывается соответствующим помощником начальника ИНО, причем подписью также служит условный псевдоним. Письмо запечатывается в конверт, на конверте ставится кличка резидента и пометка: «никому другому не вскрывать, вскрыть только адресату». Этот конверт вкладывается в другой, на котором пишется адрес того полпреда или консула, куда письмо направляется, и в таком виде почта сдается в Наркоминдел. Печать на внутреннем конверте ставится условная, часто какая-нибудь печать царского времени, а на наружном конверте накладываются печати Наркоминдела. Кличка резидента известна полпреду или консулу, и тот по получении письма, не вскрывая, передает его по назначению.
Таким же способом посылаются письма нелегальным резидентам, с той лишь разницей, что внутри резидентского конверта помещается еще один конверт для нелегального, кличку которого не должен знать даже полпред; ее знает только один легальный резидент ГПУ, который и направляет письмо адресату через имеющуюся у него секретную связь.
Почта в Москву идет обратно таким же порядком.
Резидент, подписавшись кличкой, запечатывает все имеющиеся материалы в конверт без адреса, но с указанием: «вскрыть только адресату». На конверт ставится резидентская условная печать, он вкладывается в другой конверт, запечатанный полпредской печатью и адресуется в Москву в «Историко-научное общество, Трипольскому», что означает заглавные буквы подлинного адреса: иностранный отдел, Трилиссеру. Получающая в Москве почту дипкурьерская часть Наркоминдела знает, чьи это письма, и сообщает об их получении в ГПУ. Оттуда приходит сотрудница ГПУ и уносит почту.
За последние два года эта связь перестала удовлетворять ОГПУ: во-первых, Наркоминдел все время боится изобличения и компрометации своего учреждения и настаивает на изменении системы связи, а во-вторых, опыт афганских и китайских событий показал, что связь через Наркоминдел непрочна и в случае разрыва дипломатических отношений или других причин связь с резидентами часто обрывается, то есть разведка не достигает основной своей цели — сохранения ее на время военных действий. Эта мысль, собственно, и натолкнула на идею организации нелегальных резидентур ГПУ параллельно с легальными, и она же поставила на очередь вопрос о новых способах связи с ними.
В этом направлении проведены следующие реформы: Константинопольская резидентура, помимо дипкурьерской связи, поддерживает связь с Москвой через советские пароходы, курсирующие между Одессой и Константинополем, на которых разъезжает специальный агент ГПУ по связи. Через советские же пароходы поддерживается связь с агентами ГПУ в Геджасе и Йемене.
На этом я заканчиваю описание организационной структуры ОГПУ, его сил, средств и перехожу к личным воспоминаниям.
Я буду писать главным образом о работе, которую проделал сам или которой руководил, и буду ссылаться только на факты, которые мне достоверно известны. Обвинять меня в преувеличении не придется, ибо, когда пишешь о себе, неудобно выставлять себя и свою работу на первый план. Поэтому, вероятно, скорее всего будут обвинять в преуменьшении. Однако мне легко будет опровергнуть и это обвинение, ибо, во-первых, как я упоминал, мне не могло быть все известно, так как каждый сотрудник О ГПУ знает только порученное ему дело, а во-вторых, я был за последние шесть лет почти все время за границей и не мог знать многого того, что я слышал бы, если бы находился в Москве. Я ставлю своей задачей объективную передачу фактов, участником и непосредственным свидетелем которых я был. Заинтересованные державы могут свободно их проверить.
Часть вторая Воспоминания чекиста
Мне часто приходится слышать вопрос, да и сам я не раз себе его задавал: почему я, проработавший десять лет, с 1920 по 1930 год, в ЧК и ГПУ, решил порвать с советской властью и опубликовать свои записки.
Я больше чем кто-либо был знаком с системой и механизмом советской власти, я видел совершавшееся из года в год перерождение, вернее, вырождение этой власти. Я потерял веру в то, что нынешнее правительство сможет осуществить мои идеалы. Я порвал с ним. Не только порвал, но поставил себе целью помочь ему скорее уйти и дать место другому.
Одним из главных оплотов этой власти является ОГПУ, и я решил в первую очередь ударить по нему, разоблачив то, непосредственным участником и свидетелем чего я был в течение последних десяти лет.
Глава 1 ЧК на Урале
Началось это на Урале, в городе Екатеринбурге (ныне Свердловск) в конце 1920 года, когда я из губкома (губернского комитета партии) был направлен на службу в местную губчека. Мне было тогда двадцать четыре года. Помню вечное недоедание, голод и холод в Красной армии, где я до того служил. Они сменились более или менее сытой жизнью, как только я перешел в ЧК.
Губчека помещалась на Пушкинской улице в доме номер 7. Это было небольшое двухэтажное здание, с большим подвалом для арестованных, со двором и с конюшней на конце двора, где производились расстрелы выводимых из подвала. Председателем ЧК и одновременно председателем особого отдела 3-й армии, находившегося в Екатеринбурге, был Тунгусков, старый матрос. Об этом недалеком человеке, жестоком по природе и болезненно самолюбивом, рассказывали страшные вещи. Его товарищами были начальник секретно-оперативной части Хромцов, человек очень хитрый, наиболее образованный из всей тройки, до революции мелкий служащий в Вятской губернии, и латышка Штальберг, настолько любившая свою работу, что, не довольствуясь вынесением смертных приговоров, она сама спускалась с верхнего этажа в конюшню и лично приводила приговоры в исполнение.
Эта тройка наводила такой ужас на население Екатеринбурга, что жители не осмеливались проходить по Пушкинской улице.
Это было десять лет тому назад. Сейчас, в 1930 году, Тунгусков сам расстрелян за бандитизм, Хромцов, исключенный из партии, ходит безработным по Москве, и только Штальберг работает следователем по партийным взысканиям заграничных работников при Центральной контрольной комиссии. Их садистские наклонности получили некоторое возмездие только много лет спустя, после того как они погубили тысячи безвинных людей, прикрываясь защитой революции и интересами пролетариата.
Я был назначен сотрудником для связи с агентурой при уполномоченном по борьбе с контрреволюцией и бандитизмом. Моим начальником был Коряков, простой полуграмотный крестьянин Пермской губернии. Он был честным человеком, относился к делу добросовестно, и поэтому улов контрреволюционеров был у него не обильный. По этой причине начальство было им недовольно. Проработал я там до января 1921 года и, как военный, был затем переведен в особый отдел 3-й армии помощником начальника агентуры. Как я упоминал, начальником особого отдела состоял все тот же Тунгусков, а его заместителем был некто Старцев, человек интеллигентный и образованный, но страшный пьяница. Моим же непосредственным начальником в отделе являлся некто Иванов, бывший ремесленник-жестянщик. Беспробудный пьяница, больной алкоголик, он по утрам не мог выйти на работу, не выпив предварительно бутылку водки. Такие же порции он принимал в течение дня, а вечером уже настоящим образом напивался. Все мое время при нем уходило на добычу водки, что было довольно трудно, так как в то время спиртные напитки были запрещены, а отпускаемый месячный запас спирта на секретную работу Иванов поглощал в течение недели. На мой вопрос, почему он так много пьет и не лучше ли ему прекратить это занятие, он отвечал, что не может бросить пить, потому что, будучи в Перми, он расстрелял тысячи людей, которые «приходят его мучить», если он не напивается. Что это была за фигура, видно хотя бы из следующего.
В апреле 1921 года пришла на имя начальника особого отдела бумага из пермского ревтрибунала, в которой сообщалось, что трибунал рассмотрел дело о хищении серебра (серебряной посуды и прочих вещей), конфискованного у буржуазии, и, установив виновность Иванова в хищении, приговорил его к пяти годам тюремного заключения. Трибунал просит направить Иванова в Пермь для отбытия наказания. Начальник особого отдела передал бумажку Иванову и велел дать письменное объяснение под его диктовку. Когда я его спросил, почему же он сам не напишет, он признался, что писать не умеет, а только может подписать фамилию. Объяснение, конечно, удовлетворило начальника, и Иванов был оправдан.
В то время из центра пришло распоряжение об отмене красного террора. Однако подвалы губчека и особого отдела были полны всяким народом, начиная от офицеров и священников и кончая крестьянами, прятавшими хлеб от реквизиции. Каждую ночь происходили ликвидации этих «нахлебников», как их называли в ЧК. Хотя для расстрелов существовал специальный штат комиссаров, однако в них принимало участие и начальство. Обыкновенно после такой работы Старцев и Иванов напивались до положения риз и не показывались на службе по два, по три дня. Так длилось до мая 1921 года, когда пришло распоряжение о переформировании 3-й армии в 1-ю трудовую и о ликвидации особого отдела.
Началась ликвидация не только дела, но имущества. Было множество конфискованных золотых и серебряных вещей, денег, драгоценностей, одежды, даже продовольствия. Все это было вынесено в общую комнату и распределено между сотрудниками. После этого была устроена генеральная попойка всех сотрудников, и особый отдел 3-й армии закончил свое существование.
* * *
К весне 1921 года в Тюменской губернии восстали крестьяне Ялотуровского уезда, перебили около четырехсот коммунистов и объявили в своих районах безвластие. Местные войска не могли справиться с восстанием. На помощь им были посланы части из Екатеринбурга и Омска. Одновременно для усиления местного ЧК было послано несколько сотрудников из Екатеринбургской губчека. В числе командированных находился и мой бывший начальник Коряков, которым, как я говорил, начальство не было довольно и решило его сплавить. Приехав в Тюмень, Коряков получил назначение заведовать информацией губчека и, узнав о ликвидации особого отдела, потребовал моего откомандирования в Тюмень. Приехав в Тюмень в июле 1921 года, я получил назначение помощником Корякова по секретной агентуре.
По информационным сведениям, восстанием крестьян руководили работники из местного губернского продовольственного комитета, где полно было эсеров и меньшевиков и было очень мало коммунистов. Были сведения, что сам губпродкомиссар находится под влиянием эсеров и посылает на места уполномоченных, которые подстрекают крестьян к выступлению против советской власти. ЧК командировала меня в губпродком на официальную должность заведующего личным составом, чтобы я мог проверить весь состав служащих и следить за их работой и передвижениями.
Прежде чем продолжать, остановлюсь немного на руководителях тюменской губчека. Председателем был некто Студитов, старый путиловский рабочий, но деклассировавшийся, с огромным животом. Ныне он состоит членом ЦКК в Москве. Членами коллегии были Бойко — начальник секретного управления, человек развитой и претендовавший на пост председателя, и некто Пильчак, который ничего собой не представлял, кроме того, что был родственником начальника спецотдела ВЧК в Москве Бокия. Между тройкой шла глухая вражда, передававшаяся в среду сотрудников. С одной стороны был Студитов, а с другой — Бойко и Пильчак.
Вступив в должность заведующего личным составом, я получил директиву немедленно очистить аппарат от всех бывших офицеров и других подозрительных лиц. Директиву эту я осуществлял, постепенно заменяя увольняемых людьми, присланными из губернского комитета, а чаще приходившими по личной рекомендации губернских вождей.
Сидя в отделе личного состава, я, конечно, завел агентуру и в других отделах и имел полное представление о работе всего продовольственного комитета. С агентурой в то время расплачивались не деньгами, так как деньги не имели почти никакой цены, а продуктами, водкой или же протекцией в учреждениях, где агенты служили. В распоряжении губчека имелся секретный фонд спирта, выдававшийся агентуре для угощения лиц, у которых можно было получать сведения.
Одним из таких агентов мне было сообщено, что из Тюменской губернии вывезено 20 тысяч пудов хлеба незаконным путем и что за это дело крупные взятки получили председатель ЧК Студитов, председатель губисполкома и председатель губернского комитета партии. Я, конечно, доложил об этом своему непосредственному начальнику Бойко. Недели две спустя Бойко при очередном скандале со Студитовым намекнул о взятке. В ту же ночь, по распоряжению Студитова, был арестован Бойко, а заодно с ним и Пильчак по обвинению в склоке и подрыве авторитета начальства.
Пильчаку вскоре удалось, при помощи своих приверженцев, бежать из Тюмени в Москву и найти там поддержку у Бокия, а спустя несколько дней в Тюмень прибыл для расследования дела инспектор от полномочного представителя ВЧК в Сибири. В результате расследования Бойко был освобожден, а Студитов выехал в Новониколаевск к полномочному представителю ВЧК Павлуновскому и, получив там изрядный нагоняй, вернулся обратно в Тюмень.
Я искал случая покинуть Тюмень, потому что боялся, что Студитов рассчитается со мной. Однако со мной ничего не случилось. То ли Студитов не знал о моем участии в этом деле, то ли, ввиду наступившей чистки партии в 1921 году, решил переждать.
Из Москвы тем временем поступило циркулярное распоряжение о командировании лиц, владеющих восточными языками, в распоряжение ВЧК. Я воспользовался циркуляром и, как знающий турецкий и персидский языки, стал проситься в командировку. Студитов меня не задерживал.
Глава 2 В восточном отделе ВЧК
Приехал я в Москву вскоре по объявлении НЭПа. Уже начали открываться кое-какие магазины, в витринах стали появляться пирожные и булочки, вперемежку с сапогами и другими товарами.
Я явился в административный отдел ВЧК. Там меня зарегистрировали и, как восточника, направили в 14-е специальное отделение. В то время были только специальные отделения, которые затем уже преобразовались в отделы. Так, 14-е отделение ВЧК обратилось в иностранный отдел ГПУ, 8-е отделение — в специальный отдел и т. д.
Начальником 14-го отделения был Михаил Абрамович Трилиссер. Делами отделения он мало интересовался и даже помещался не при отделении, а при коллегии ВЧК. Работой фактически руководил его помощник, эстонец Стырнэ, молодой человек лет двадцати двух, однако очень способный. До работы в ВЧК он служил в коммунальном хозяйстве, перешел в ВЧК из соображений карьеры и для выслуги перед начальством готов был на что угодно.
Явился я к Стырнэ и после первого же разговора был зачислен сотрудником для поручений. Когда на следующий день я пришел на работу, то застал десяток молодых людей, занятых чтением газет и разговорами о продовольственных карточках. Упомяну из этих людей только Триандофилова, грека с Кавказа, Казаса, караима из Крыма, и Риза-заде, азербайджанца из Баку, так как к ним мне придется вернуться в моем рассказе. Я присоединился к общей компании и начал знакомиться с московскими условиями жизни.
Поселился я в доме номер 9 на Большой Лубянке, отведенном под общежитие сотрудников ВЧК и называвшемся тогда Домом коммуны номер 2. В одной комнате помещалось 8 человек: 5 мужчин и 3 женщины — жены сотрудников. Помещение отапливали мы сами — дровами, которые нам предоставлено было искать где угодно. Скоро я понял, почему все заняты были разговорами о продовольствии: в Сибири всегда можно было достать хлеб, но здесь, в Москве, все выдавалось исключительно по карточкам.
Мне, как знающему персидский язык, поручили ознакомиться с материалами по афганскому посольству в Москве и передали два толстых дела, содержавшие донесения наружной разведки. Члены иностранных миссий, конечно, не нуждались в продовольствии (часть запасов привозилась из заграницы). У них было множество знакомых, пользовавшихся их связями для легкого получения продуктов. Среди знакомых особенно много было женщин. В донесениях агентов наружного наблюдения регистрировались все лица, посещавшие посольства, и все лица, с которыми встречались члены миссии в городе, но сообщались только приметы лиц, без указания адресов, фамилий и пр.
Одновременно с делами афганского посольства я просмотрел дела по персидскому и турецкому посольствам и нашел там точно ту же картину. Я был молодым и неопытным разведчиком, но понял, что одним наружным наблюдением многого не достигнешь. Вскоре я представил Стырнэ доклад с предложением организовать внутреннее освещение иностранных посольств. Мой доклад был передан Трилиссеру и утвержден. Для выполнения его мне предложили поступить сотрудником в отдел Среднего или Ближнего Востока Наркоминдела и оттуда завести знакомства с членами миссий, среди которых предстояло вербовать агентуру для ВЧК.
Заместитель председателя ВЧК Уншлихт снабдил меня письмом к управляющему делами Наркоминдела с просьбой устроить на службу. Несмотря на личное письмо Уншлихта, Наркоминдел меня не принял (уже тогда существовал антагонизм между Наркоминделом и ВЧК). Пробегав по кабинетам ВЧК со своим проектом полтора месяца, я ничего не добился и вдобавок разругался на одном из собраний ячейки со Стырнэ, а потому решил уехать из Москвы.
Моей мечтой было попасть в Туркестан, где я оставил родных.
В декабре 1921 года я подал заявление об откомандировании меня в Туркестан и, несмотря на уговоры Трилиссера, отправился в Ташкент в распоряжение полномочного представителя ВЧК в Средней Азии знаменитого Петерса.
Перед отъездом из Москвы я впервые познакомился с системой отправки за границу работников ВЧК. Это, собственно, была первая проба ВЧК посылки своих людей на заграничную работу. В конце 1921 года в Ангору назначили нового посланника СССР. К составу его миссии пристроили двух наших сотрудников — Триандофилова, уехавшего под фамилией Розенберг, и Риза-заде, не помню под каким псевдонимом. По позднейшим сведениям, Риза-заде успел на границе с кем-то подраться, расшифровал себя и был задержан, а Триандофилов поехал в Турцию и проработал там около года, пока Москва не отозвала из-за какой-то склоки, разыгравшейся в стенах ангорского полпредства.
* * *
Приехал я в Ташкент в первых числах января 1922 года и представился Петерсу. Познакомившись с моим личным делом (я забыл сказать, что на каждого сотрудника ГПУ имеется личное дело, куда заносятся все его деяния, передвижения по службе и отзывы начальствующих лиц), Петерс вызвал к себе заведующего политическим сектором Рейсиха и, сказав, что назначает меня в Бухару, велел ознакомить меня с обстановкой, в которой мне придется работать. В кабинете Рейсиха я получил все материалы из Бухары и о Бухаре.
Положение в Бухаре в то время было крайне напряженное. Население, издавна подогреваемое панисламистской и пантюркской пропагандой, к концу 1921 года почти поголовно восстало против советской власти. Повсюду оперировали повстанческие отряды басмачей, руководимые активными панисламистами. Ферганскую область терроризировал знаменитый курбаши (вождь) Курширмат, прозванный Джангиром (покорителем мира). Беспощадно вырезая все европейское население, он ради забавы иногда уничтожал дотла и узбекские кишлаки.
Другой курбаши, Фузаил Максум, действовал в Таджикистане и, наконец, Ибрагим-бек, представитель бежавшего в Афганистан эмира Бухарского, являлся фактическим правителем локайцев.
Каждый из этих вождей имел десятки шаек, возглавляемых мелкими вождями. В эти шайки вкрапливались военнопленные турецкие офицеры, находившиеся в Туркестане. Фактическими руководителями басмачей были турки, хорошо подготовленные в военном и культурном отношении.
Энвер-паша, который по уговору с Лениным должен был после I съезда народов Востока в Баку поехать в Туркестан для усмирения этих банд, объединения их в один кулак и, под лозунгом освобождения народов Востока, двинуть затем через Афганистан в Индию, не сдержал своего слова.
Бывшие министры-младотурки сговаривались с советским правительством в Москве о восстании мусульманского мира против Европы. Энвер-паша, бывший военный министр Турции, был принят в Кремле лично Лениным. Опираясь на свой авторитет среди народов Востока, он просил Ленина дать ему возможность поднять родственные туркам народы Туркестана и повести их через Афганистан на Индию. Ленин согласился. Каждый преследовал собственную цель. Энвер надеялся организацией движения напугать союзников и помешать разделу Турции. Ленин же полагал, что восстание восточных народов расширит сферу большевистских влияний и подорвет могущество Англии, благодаря чему ускорится революционное движение на континенте. Во всяком случае, движение отвлечет внимание Европы от советской России, даст большевикам возможность выиграть время и подготовиться ко второму приступу революции.
Энвер-паша выехал в Бухару. Бухарцы встретили его восторженно. Когда он проезжал по улицам Бухары, женщины, стоявшие на крышах домов, сбрасывали чадру и открывали свои лица в знак высшей чести. В Бухаре Энвер нашел много старых приверженцев из турецких офицеров.
Польщенный приемом населения и видя слабость советского правительства, честолюбец Энвер немедленно решил использовать положение. Почему бы в самом деле до похода на Индию ему не стать правителем Туркестана. Достойный сын Чингисхана и Тамерлана, он, завоевав
Центральную Азию, сможет затем, подобно предкам, повести свои полчища на запад.
Через несколько дней после приезда в Бухару Энвер отправился со свитой на охоту и больше не вернулся в отведенную ему резиденцию. А спустя неделю он, объединив часть басмаческих отрядов, уже наступал на Бухару.
Оборона затруднялась тем, что среди членов бухарского правительства имелись сторонники Энвер-паши, подробно информировавшие его о передвижениях красных войск и даже помогавшие ему материально.
Маленькая группа русских войск с трудом несла охрану железнодорожной линии и еле сдерживала наступавших басмачей. Энверовцы подходили все ближе и уже заняли селение Багауддин в девяти верстах от Бухары.
Тем временем пришло подкрепление буденновцев. Прямо с эшелонов их перебросили к Багауддину. К вечеру дивизия вернулась в Бухару. Штаб бухарского военного министерства получил краткое донесение: противник разбит и отступил от Бухары.
На поле сражения у Багауддина осталось до пяти тысяч трупов. Убирать их было некому, так как местное население разбежалось. Поселок был буквально сровнен с землей. Скот и все ценное буденновцы увели с собой.
Несколько отдохнув, буденновская дивизия выступила в Восточную Бухару. По пути следования войска не оставляли камня на камне. Жители частью погибли под буденовскими шашками, частью бежали и присоединились к басмаческим отрядам. Война приняла затяжной партизанский характер.
Я должен был ехать в Бухару в качестве начальника агентуры вместе с бывшим начальником особого отдела в Фергане Окотовым и начальником секретного управления при нем Яковлевым. Все трое мы должны были приехать в Бухару секретно, чтобы никто не мог догадаться о нашей миссии. Задача же заключалась в организации агентуры по «освещению» членов бухарского правительства и выяснению, кто из них и как помогает повстанцам.
В беседах со мной Рейсих рассказал следующую историю. Он был делегирован на съезд народов Востока в Баку и остановился в общежитии со всеми восточными коммунистами. Энвер-паша, приехав из Москвы, посетил общежитие. Едва Энвер вошел, все коммунисты-восточники упали на колени, поползли к нему и стали целовать ему руки и одежду. Эта картина произвела такое гнусное впечатление на Рейсиха, что он выхватил наган и хотел застрелить Энвер-пашу. Его вовремя схватили чекисты, охранявшие Энвера. Ныне, после бегства Энвер-паши, его, Рейсиха, выпустили из тюрьмы и назначили начальником политического сектора по борьбе с басмачеством, то есть с Энвером. После этого случая он, да и все русские коммунисты перестали доверять коммунистам-восточникам. Если мне поручили работу в Бухаре, то только потому, что я вступил в партию в России. Недоверие к восточным коммунистам я затем неоднократно наблюдал у многих видных работников, всегда возражавших против приема восточных коммунистов в органы ГПУ.
В течение недели я изучал материалы. Затем мне выдали корзину бумажных денег, выпуска 1919 года, ходивших в то время в Бухаре, и я выехал на место назначения. Со следующим поездом должны были ехать Окотов и Яковлев. Кроме денег я был снабжен документами на фамилию Азадов. Документы удостоверяли, что я бывший белый офицер, демобилизованный из Красной армии как чуждый элемент, и должны были служить свидетельством моей политической благонадежности для бухарского правительства, которое, по сведениям ГПУ, не проявляло симпатий к коммунизму.
Приехав в Бухару, я, как военный человек, пошел искать работу в штаб бухарских войск. Мне посчастливилось, так как я сразу был принят сотрудником в оперативный отдел штаба. Начальство мое вскоре приехало. Окотов устроился в Бухаре под видом делопроизводителя при уполномоченном Туркестанского фронта, а Яковлев — делопроизводителем при полпредстве Наркоминдела, которое тогда еще имелось при бухарском народном правительстве.
Военным министром, или назиром, был младобухарец Арифов, записавшийся после бухарской революции в коммунистическую партию. Его заместителем был крымский князь Тамарин, бывший офицер царской армии. Комиссаром штаба состоял коммунист Куцнер, с которым я подружился и от которого через несколько дней взял подписку о готовности работать для ГПУ. Благодаря моим стараниям и помощи комиссара штаба мне поручили через несколько дней организацию разведывательного отделения. Приняв это предложение, я выписал секретно нескольких сотрудников ЧК и назначил их начальниками разведывательных пунктов в разных городах Бухары. Таким образом, благодаря счастливой случайности весь разведывательный аппарат бухарского штаба попал к нам в руки. Мы могли делать, под прикрытием бухарского правительства, что угодно.
Недели через две аппарат заработал. Поступавшие материалы предварительно сортировали, не важную для нас часть я докладывал бухарскому правительству, а другую часть секретно, через Наркоминдел, отправлял в Ташкент. Одновременно мы начали налаживать внутреннюю агентуру в самом штабе. Благодаря ей мне удалось установить, что сам военный министр Арифов активно помогает басмачам, держит тайную связь с Энвер-пашой и с афганским посланником в Бухаре Мамед-Расул-ханом, через курьеров которого сносится с вождями басмачей.
Тем временем приехал в Бухару сам Петерс вместе с военным командованием Туркестанского фронта на Бухарский съезд Советов. Бухарское правительство устроило им великолепный прием. На съезде было произнесено много революционных речей. Арифов, оставаясь военным министром, был избран заместителем председателя Совнаркома Файзулы Ходжаева. По окончании съезда меня вызвал Петерс для доклада. Когда я сообщил ему, что сам зам-предсовнарком и военный министр Арифов является организатором басмачества, Петерс назвал это провокацией и, не веря мне, велел немедленно ликвидировать дела и приготовиться к выезду в Ташкент, напомнив, что за такую работу он обыкновенно расстреливает. Я ничего не ответил и ушел укладывать вещи. В ту же ночь меня вновь вызвали к Петерсу. В возбужденном состоянии он заявил, что я был прав, так как вечером Арифов убежал к басмачам.
Петерс тут же велел мне составить письменный доклад об остальных министрах. Я это сделал, и через несколько недель часть бухарского Совета народных комиссаров была вызвана в Москву якобы для доклада и больше к своим обязанностям не возвращалась. Увезенные министры были заменены новыми, по строгому подбору Петерса. Сам я после этого вскоре выехал в Ташкент, передав дела вновь организовавшемуся особому отделу XIII корпуса; начальником отдела был назначен Лозоватский, ныне занимающий должность советского консула в Керманшахе (Персия).
Вместе со мной уехали из Бухары Окотов и Яковлев. Работа их ни в чем особенно не успела проявиться. Окотов с первого же дня по приезде начал увлекаться бухарскими женщинами и был быстро провален, а Яковлев беспробудно пил. Эта командировка была их последней деятельностью по линии ГПУ. После этого их обоих уволили. Сейчас Окотов работает где-то в Туркестане по кооперации, а Яковлев состоит во Владивостоке советским судьей, продолжая пьянствовать.
Петерс недели через две по возвращении из Бухары в Ташкент уехал в Москву и больше не возвращался в Туркестан.
Во время пребывания в Бухаре я познакомился с тогдашним начальником Разведывательного управления Туркестанского фронта Ипполитовым, ныне совконсулом и представителем Разведупра в Авхазе (Персия). Когда я приехал в Ташкент, он сделал мне предложение перейти на работу к нему. На этом же настаивал Реввоенсовет Туркестанского фронта, требуя моего откомандирования из ГПУ. В мае 1922 года я уже числился за Разведупром.
Глава 3 Убийство Энвер-паши
Военные действия на Бухарском фронте принимали неопределенный характер. Красные войска, стянутые в Восточную Бухару, не могли продвигаться вследствие своей малочисленности, отсутствия снабжения, сильной жары и противодействия местного населения. Население не столь сочувствовало Энвер-паше, сколь ненавидело Красную армию. Ненависть бурно вырастала в связи с безобразиями, которые чинили красные части. Особенно неистовствовала буденновская армия.
Энвер после неудачной попытки захватить Бухару отступил и расположился со своим штабом в Таджикистане. Его отряды появлялись то с фронта, то с тыла красных войск и были неуловимы. Командование советскими войсками пришло к убеждению, что басмачество можно ликвидировать только уничтожением Энвер-паши.
Задача заключалась в поимке Энвера. Это было трудно, так как Энвер часто менял свою стоянку. Было решено прибегнуть к глубокой разведке и, установив местопребывание Энвера, не выпускать его из виду. Задачу эту поручили мне.
Я должен был проникнуть в расположение басмачей под видом торговца-разносчика.
Получив директивы и деньги, я выехал из Ташкента вместе с сотрудником Разведупра Осиповым. Он должен был служить связью между мной и штабом войск.
Я имел простой паспорт на имя купца Расулова. Осипов ехал под своей фамилией.
В Бухаре мы закупили всякого товара и отправились в Карши. Дальше железная дорога была разрушена. Наняв двух ослов, мы выехали в Гузар. Ехали мы целых пять дней по пустынной дороге. Изредка попадались уцелевшие чайханы и возвращавшиеся с фронта солдаты.
Некогда цветущая Бухара напоминала древнее заброшенное место. Жители бежали к басмачам или в Афганистан. Проходившие части Красной армии забирали съестные припасы, реквизировали скот для перевозок. Страна была разорена дотла…
Приехав в Гузар, мы остановились в чайхане и стали, предлагая товары, знакомиться с городом и населением. Город представлял собой полуразвалины. Дома частью были разрушены, частью же пустовали, покинутые жителями. В уцелевших жилищах расположились войска и госпитали, до отказа набитые больными тропической лихорадкой.
В Гузаре мы заручились рекомендательными письмами от местных купцов в Юрчи и Деннау, наняли расторопного узбека Абдурахмана в качестве помощника по торговле и выехали втроем дальше.
По дороге в Деннау мы окончательно завербовали Абдурахмана. В Деннау он оказывал нам ценные услуги, познакомив с местными жителями, рекомендуя нас как мирных купцов и собирая полезные сведения.
Гарнизон Деннау состоял из роты пехоты и эскадрона кавалерии с пулеметами. Жизнь в городе замирала с наступлением сумерек. Чувствовалось, что фронт недалеко.
Мы связались с начальником гарнизона. Тем временем Абдурахман выяснил, где расположен штаб Энвер-паши, и в одну ночь мы покинули Деннау, направляясь через горы к басмачам. Через два дня мы прибыли в кишлак, где расположился Энвер. Остановились мы в чайхане, так сказать, клубе басмачей. Они там ели, пили, спали и делились новостями.
После трехдневного пребывания мы стали в чайхане своими людьми и узнали все, что было нужно. Энвер помещался в отдельном доме вместе с турецкими офицерами-адъютантами. Изредка он выходил для прогулки вокруг кишлака, носил форму турецкой армии, но вместо шапки надевал чалму-тюрбан. Чувствовал он себя здесь в безопасности и расположился, по-видимому, надолго.
Нужно было действовать. Под предлогом посылки за товаром я отправил Осипова и Абдурахмана с донесением в Деннау и остался один среди басмачей. Прошло пять дней, показавшихся мне бесконечными. Абдурахман вернулся и сообщил, что в Деннау послан дивизион кавалерии для поимки Энвера. До его прибытия нельзя терять из виду Энвера.
В ожидании новых распоряжений мы жили в басмаческом стане, продавая привезенные Абдурахманом товары. Наконец явился Осипов с сообщением, что дивизион прибыл в Деннау и ночью выступит для захвата штаба.
В тот же вечер мы втроем покинули кишлак, направляясь в Деннау. В 20 верстах от расположения басмачей нас встретил дивизион. Дав подробные указания начальнику и комиссару дивизиона, мы двинулись дальше, а кавалерия пошла заканчивать наше дело.
На другой день пришло известие, что Энвер-паша убит. Моя задача была выполнена, и я расположился на отдых в Деннау. Вечером пришло подробное донесение о произведенной операции.
Дивизион, приняв тщательные меры предосторожности, продвигался по указанному нами маршруту. На рассвете войска подошли к месту расположения штаба Энвер-паши. Чтобы отрезать отступление, один эскадрон был отправлен в обход селения.
В семь часов утра войска пошли в атаку на басмачей. Однако врасплох их застать не удалось. Началась перестрелка. Под пулеметным огнем басмачи не выдержали, дрогнули и отступили. Энвер-паша, поняв положение, приказал басмачам держаться, пока он не отойдет вместе со штабом в горы.
Вместе с тридцатью своими приближенными он помчался в противоположную от боя сторону. Расчет его не оправдался. Он наткнулся на эскадрон, посланный в обход селения. Видя себя окруженным, Энвер бросился в рукопашный бой.
Произошла короткая схватка. Штаб Энвера был изрублен шашками. Успели спастись только двое. Красноармейский отряд не знал, с кем вел бой. Лишь потом, при осмотре трупов, опознали Энвер-пашу. Ударом шашки буденновец снес ему голову и часть плеча. Рядом с обезглавленным трупом валялся Коран. Энвер, видимо, держал его в руках, когда повел свой штаб в атаку. Коран отправили в ташкентское ГПУ и приложили к «делу» об Энвер-паше, ведшемуся в ГПУ.
Дело Энвера было прекращено и сдано в архив. Басмачество лишилось вождя и пошло на убыль. Приверженцы Энвера рассеялись по стране небольшими группами, искали убежища в Афганистане.
Успешно выполнив операцию, я вернулся в Ташкент и получил двухмесячный отпуск.
Советские власти деятельно ликвидировали остатки басмаческого движения. В районе Восточной Бухары еще держался вождь локайцев Ибрагим-бек, а в Хорезме действовал Джунаид-хан.
Один из руководителей ГПУ по борьбе с басмачеством, Скижали-Вейс, работавший затем за границей под фамилией Шмидт, рассказывал мне, как он расправлялся с басмачами. Он подсылал людей к повстанцам, поручая травить пищу басмачей цианистым калием, отчего погибали сотни людей; люди Скижали-Вейса снабжали басмачей самовзрывающимися гранатами, вбивали в седла главарей отравленные гвозди и т. д. Так было уничтожено большинство руководителей басмаческого движения.
В один из ближайших после отпуска дней я пошел зарегистрироваться в ГПУ (каждый работник ГПУ, после своего откомандирования или ухода, продолжает состоять на учете и должен ежемесячно регистрироваться) и встретил там своего бывшего московского начальника Стырнэ. Оказывается, ГПУ в конце 1922 года приступило к организации в Туркестане контрразведывательного отдела, и Стырнэ был прислан из Москвы для постановки дела и руководства. Встретив меня, он пригласил вновь перейти к нему на работу. Я дал согласие и через несколько дней сидел в КРО на должности уполномоченного 1-го отделения контрразведки. Это было отделение по борьбе с иностранным шпионажем. Начальником отделения состоял небезызвестный Уколов, посланный затем в 1925 году от ГПУ в Кантон; захваченный с документами при нападении китайцев на советское консульство, он был убит китайским полицейским.
В ГПУ имелись сведения, что английский представитель в Кашгаре Эссертон использует в разведывательных целях кашгарцев, ведущих торговлю с Туркестаном и проживающих на советской территории. ГПУ установило наружное наблюдение за всеми видными кашгарцами, в частности за аксакалами (старшинами). Ни наблюдение, ни перлюстрация писем никаких улик не давали. Дела пухли от маловажных сведений. Число лиц, подозреваемых в шпионаже, росло, и к моему приходу в одном только Ташкенте числилось до девятисот подозрительных по шпионажу кашгарцев.
Как велась борьба со шпионажем, можно видеть из следующих примеров.
В январе 1923 года из бухарского ГПУ от Лозоватского поступило донесение о раскрытии тайной организации, вербующей людей в Бухаре, снабжающей их оружием и готовящейся к выезду в Семиречье для поднятия восстаний. Руководителями организации являются кашгарцы, действующие по инструкциям англичан. Сведения эти Лозоватский получил от индусского эмигранта Абдул-Каюма, бежавшего из Северной Индии в 1920 году вместе с Роем, вождем индусских коммунистов. Организация должна была проехать через Ташкент.
Каюма срочно вызвали в Ташкент. Он подтвердил донесение и добавил, что организация заготовила даже знамя для восстания. Через несколько дней действительно в Ташкент приехали шесть мужчин и две женщины. По указанию Каюма их арестовали и при обыске обнаружили несколько револьверов и патронов, а также какое-то расшитое полотно, которое, по-видимому, должно было служить знаменем для повстанцев.
Задержанные лица не говорили по-русски. Переводчиком был приглашен тот же Каюм. На допросах арестованные чистосердечно сознались во всем. В ожидании суда их продержали под арестом около восьми месяцев. Тем временем приехал из Памира переводчик памирского отряда О ГПУ Хубаншо. Он как-то встретился с арестованными и передал, что они хотят говорить со мной. В ожидании новых разоблачений я вызвал их к себе. На новом допросе неожиданно выяснилось, что никакого признания они восемь месяцев тому назад не делали, а все запротоколированные показания выдумал сам Каюм, который был и доносчиком, и переводчиком. Тут же выяснилось, что оружием и «знаменем» снабдил их под благовидным предлогом тот же Каюм.
Арестованные после девятимесячного заключения были выпущены. Я возбудил дело против Каюма, который в то время уже находился в Москве. Но ничего не мог добиться. Каюм и поныне работает переводчиком при полномочном представителе ОГПУ в Средней Азии.
Другой случай.
Поступило агентурное донесение, что один кашгарский купец в разговоре с другими сказал, будто он знает в Ташкенте до тридцати английских шпионов-кашгарцев. Купец был незаметно схвачен на улице и водворен в тюрьму при ОГПУ, причем в книгах арестованных его записали под другой фамилией, чтобы никто не догадался о его местонахождении. Его допрашивали с пристрастием в течение пятнадцати дней. О шпионаже он ничего не мог сказать. Его освободили и прямо из тюрьмы выслали на китайскую территорию.
Таковы были методы борьбы ОГПУ со шпионажем в 1922–1923 годах.
Спустя месяц после поступления в КРО я был назначен помощником начальника отделения, и ко мне перешли все дела по афганскому и персидскому шпионажу. Нас особенно интересовали отношения афганцев с басмачами. В то время как афганское правительство официально заявляло о своей дружбе с советской Россией, басмаческие шайки всегда находили убежище на афганском берегу Амударьи и оттуда совершали налеты на советскую пограничную стражу.
Что касается Персии, нас не столько интересовала персидская разведка, сколько английская. Английский военный атташе в Мешеде Томсон имел близкие связи с русскими эмигрантами и пользовался их услугами для разведки в советском Туркестане.
Помню, из Мешеда прибыл русский эмигрант Герасимов. Он явился в ГПУ как раскаявшийся и передал нам шифр, якобы украденный у генерала Выгорницкого, проживавшего в Мешеде и, по нашим сведениям, состоявшего на службе у английской разведки. При подробном допросе он объяснил, что шифр был выкраден персом, слугой Выгорницкого, и передан ему. Еще через несколько дней, на очередном допросе, он обмолвился, что перс был неграмотен. В ответ на вопрос, как же неграмотный перс мог узнать шифр, Герасимов сознался, что его прислал военный атташе. Герасимова расстреляли.
Вслед за ним прибыл другой эмигрант, некто Багдасаров. Он работал в Мешеде у англичан шесть месяцев с ведома советского консула, получил задание и явки от англичан и с нашего же ведома приехал в Туркестан. Благодаря Багдасарову была выявлена часть английской агентуры в Туркестане. Ее ГПУ использует до сих пор для дезинформации представителя английской разведки. Одновременно в Ташкенте возникла идея организовать агентуру для борьбы со шпионажем в приграничных районах. Первые опыты были начаты в Хоросане, и представительство ОГПУ было поручено советскому консулу в Мешеде Хакимову.
Хакимов вскоре уехал, и его заменил Апресов, прослуживший затем консулом в Мешеде в течение трех лет. Хакимова же перевели в Аравию, где он сейчас состоит полпредом СССР в Йемене при имаме Яхье.
Апресов, занимая должность советского консула и резидента ГПУ, являлся одновременно представителем Разведупра и Коминтерна и работу в Мешеде поставил на должную высоту. Юрист по образованию, очень толковый, хорошо знающий психологию Востока, владеющий персидским языком и тюркским наречием, любящий риск и приключения, он самой природой был создан для работы ОГПУ на Востоке. К тому же он имел некоторую практику в работе. Будучи советским консулом в Реште, он сумел похитить через сожительницу английского консула в Реште архив консула и передать его в ГПУ, чем завоевал полное доверие этого учреждения.
Айресов взялся за работу, и к середине 1923 года от него стали поступать копии всей секретной переписки английского консульства в Мешеде с английским посланником в Тегеране и с индийским Генеральным штабом. К этому времени я уже занимал пост начальника отделения, так как Стырнэ уехал в Москву в контрразведывательный отдел, где состоит поныне в должности помощника начальника КРО, а в Туркестане его заменил Уколов. Несмотря на успехи Апресова, ГПУ не было им довольно, потому что свои донесения он в копиях посылал Разведупру и Наркоминделу, а ГПУ любит владеть информацией монопольно. Поэтому было решено послать в Мешед специального человека для продолжения нашей работы. К этому вынуждало также то обстоятельство, что Шумяцкий, полпред СССР в Тегеране, уехал в отпуск и, оставив Апресова своим заместителем, велел ему выехать в Тегеран.
Сперва был послан в Мешед некто Вонаг, под видом управляющего делами конторы Нефтесиндиката. Затем Вонага сменил Вербов, старый партиец, выживший из ума старик; Москва прислала его нам, желая от него избавиться.
К тому же времени мы учредили резидентуру ОГПУ в Мазари-Шарифе (Афганистан): работа была поручена консулу Думпису.
Иллюстрацией того, как мы в то время работали и к каким средствам прибегали для добывания нужных сведений, может служить следующая история.
Как я упоминал, нас весьма интересовало отношение Афганистана к басмачеству и роль афганского консула в Ташкенте в этом деле. Для целей осведомления мы использовали памирского переводчика Хубаншо, таджика по национальности, который еще в Памире помогал отделу ГПУ вести разведывательную работу в Индии. Для этой работы был выбран именно он, так как афганский консул в Ташкенте тоже был таджиком.
Подосланный к консулу, Хубаншо быстро с ним подружился. Используя племенную вражду между афганцами и таджиками, он уговорил консула продать нам шифры и секретную переписку консульства. Однако консул запросил за это 10 тысяч рублей золотом и не соглашался уступить за тысячу, которую мы предлагали. Тогда мы решили получить шифры и переписку даром. Выбрав день, когда в консульстве остались только консул и секретарь (охрану мы не считали: она была нашей), мы пригласили консула на ужин, а секретаря вызвала к себе его сожительница (наша агентша). В консульстве никого не осталось. Ужин мы устроили с вином и женщинами. К концу пиршества одна из женщин всыпала консулу в стакан снотворное, и к 11 часам вечера консул спал беспробудным сном. Мы же, отстегнув у него с часовой цепочки ключи от несгораемого шкафа, проникли в консульство и сфотографировали все, что нам было нужно. После операции ключи были водворены на место. На следующее утро консул проснулся в объятиях одной из пировавших с ним женщин и, ничего не подозревая, с головной болью вернулся в консульство.
В заключение этой главы расскажу об убийстве атамана Оренбургского казачьего войска Дутова.
Разведупр Туркестанского фронта имел в Чугучаке секретного агента, бывшего штабс-капитана. Ему поручили убийство атамана Дутова, находившегося со своим штабом в Западном Китае. Штабс-капитан нанял для убийства одного киргиза. Киргиз выполнил свою задачу превосходно.
На быстром коне он подскакал к штабу Дутова и попросил вызвать атамана, для которого он якобы привез личный секретный пакет. Дутов вышел на крыльцо. Киргиз подал левой рукой пакет. Когда Дутов взял пакет, киргиз правой рукой выхватил револьвер и, выстрелив в упор, убил атамана наповал. Повернув коня, убийца умчался к советской границе и был пропущен в СССР.
За это дело киргиз был награжден орденом Красного Знамени. Офицер же, организовавший убийство, получил в награду полную амнистию, советский паспорт и возвратился к своей семье в Ташкент.
По приезде в Ташкент ГПУ вызвало его, чтобы расспросить о положении в Западном Китае.
Окончив допрос, во время которого он весь дрожал, я спросил, в какой части города он живет, и, узнав, что нам по пути, вышел вместе с ним из ГПУ. На улице к офицеру подошла женщина, оказавшаяся его сестрой. Он мне признался, что, получив вызов в ГПУ, он думал, что его расстреляют, и взял с собой сестру, чтобы она хотя бы знала, что с ним случилось. Выйдя живым из ГПУ, он радовался, как мальчик. Мы устроили его на службу куда-то бухгалтером, однако через месяц он явился ко мне как-то вечером и в крайне возбужденном состоянии просил меня сказать, почему за ним продолжает следить ГПУ. Я пытался его разуверить. Он ушел, видимо не поверив. Еще через месяц явилась его сестра и сказала, что брата, заболевшего манией преследования, отвезли в больницу. Нервы этого человека, бывшего восемь лет на войне, не выдержали страха перед ГПУ.
Глава 4 Работа в партаппарате
В августе 1923 года моя разведывательная работа кончилась. На очередных партийных перевыборах меня избрали секретарем ячеек войск органов ГПУ в Средней Азии и членом комитета партии в Ташкенте.
Я вступил на новое поприще партийной работы. Описывать ее не буду; она заключалась в получении директив из вышестоящих партийных органов и проведении их в жизнь. Остановлюсь только на партийной дискуссии 1923 года, между Центральным комитетом и Троцким. По этому случаю из Москвы приехал специально Межлаук, ныне работающий в Высшем совете народного хозяйства, и, собрав весь партийный актив района, или аппарат, как его называл Троцкий, дал нам соответствующую линию поведения. Однако, несмотря на мои и всего начальства ОГПУ старания, несмотря на суровую дисциплину в органах и войсках ГПУ, все-таки при голосовании 45 % партийцев оказались на стороне Троцкого, и то только потому, что счетчики голосов были наши. Как потом выяснилось, в Центральном ГПУ в Москве также большинство сотрудников стояло за Троцкого, и дело дошло до того, что собрание пришлось прервать на сутки, а на следующий день вызвать из Ленинграда Зиновьева, который в четырехчасовой речи наконец убедил сотрудников ГПУ голосовать за Центральный комитет.
О том, насколько советские государственные органы зависимы от партии, показывает также следующий случай.
Предстоял большой показательный процесс в Верховном суде Туркестана. Я был избран членом суда. Судили некоего Махлина, заведующего исправдомом (тюрьмой), за то, что он, пользуясь своим служебным положением, брал взятки, злоупотреблял властью и заставлял арестованных женщин сожительствовать с ним. Кроме того — и это было главное — на Махлина поступил донос, будто он служил в контрразведке у англичан, когда те занимали Туркестан. Несмотря на недоказанность обвинения, ЦК туркестанской партии, учитывая «настроение масс», предложил вынести Махлину смертный приговор. Приговор мы, конечно, вынесли. Он немедленно был приведен в исполнение.
Руководя партийными делами, мне пришлось ближе познакомиться с полномочным представителем ГПУ в Туркестане Русановым, а потом с заменившим его Бельским.
Русанов, молодой человек лет тридцати, бывший студент Томского университета, член партии с 16-го года, был сильным, энергичным и независимым человеком, вследствие чего часто имел столкновения как с ОГПУ в центре, так и с местными властями. Он не терпел ничьего авторитета и делал все, что ему вздумается. До Туркестана он был представителем ГПУ в Закавказье, где, как рассказывал его постоянный секретарь Вивчинский, ЧК захватила однажды видного грузина-меныпевика, приехавшего из заграницы. Русанов донес в Москву, с просьбой разрешить его расстрелять. Дзержинский, который еще был жив, потребовал отправить меньшевика в Москву. Русанов, получив такой ответ, решил, что если он отправит меньшевика в Москву, то там за него похлопочут и добьются освобождения. Поэтому он отдал приказ немедленно его расстрелять, а в Москву сообщил, что, к сожалению, телеграмма Дзержинского запоздала и пришла после расстрела. Дзержинский вызвал Русанова в Москву для объяснения, но Русанов отложил выезд на несколько дней, чтобы дать Дзержинскому успокоиться, ибо знал, что тот за неисполнение приказаний может с горячей руки расстрелять его самого. Расчет оказался правильным: он выехал в Москву с опозданием и получил за свое деяние только строгий выговор.
В Туркестане Русанов задержался недолго. Центральный комитет партии, с которым он был не в ладах, потребовал его отозвания. Осенью 1923 года он уехал, а на его место прибыл Бельский, который и поныне является представителем ОГПУ в Средней Азии. Русанов же, приехав в Москву, подал в отставку и со скандалом ушел из ГПУ. Ныне он руководит трестом в Москве и категорически отклоняет все приглашения вернуться в ГПУ.
Бельский оказался полной противоположностью Русанова. В то время как его предшественник шел напролом, он старался обойти препятствия, выждать, улучить момент и благодаря такой тактике в течение семи лет бессменно держится в Туркестане, постепенно прибрав к рукам всю страну. Это один из сильнейших работников ГПУ. Он тайно добивается поста заместителя председателя ОГПУ, и добьется, конечно, если не сорвется на каком-нибудь резком повороте партийной линии. Его единственный недостаток с точки зрения ОГПУ тот, что он старый бундовец и в коммунистическую партию вступил только в 1917 году. Для ответственного поста зампреда ОГПУ это является недостаточным стажем.
Одновременно с работой в ОГПУ я состоял слушателем Восточного института в Ташкенте и к этому времени находился уже на втором курсе.
Случайно я встретился со своим старым знакомым Ипполитовым. Он предложил мне опять перейти в Разведывательное управление и поехать в Мешед вести работу по военной линии. Мне, признаться, шаблонность партийной работы надоела, и я с удовольствием готов был переменить службу, а потому попросил Ипполитова договориться с Бельским. Через несколько дней меня вызвал Бельский и сказал, что Ипполитов просил отпустить меня к нему, но что он, Бельский, на это не согласен; если же я желаю переменить работу, то могу ехать за границу резидентом ГПУ. Окончательное решение вопроса он отложил до своего возвращения из Москвы, куда должен был выехать на несколько дней для доклада.
В конце апреля 1924 года Бельский вновь вызвал меня и передал, что начальник иностранного отдела Трилиссер приглашает меня ехать резидентом ОГПУ в Кабул. Если я согласен, то должен немедленно выехать в Москву для официального оформления назначения. Ехать надо было вместе со вновь назначенным в Кабул послом Старком. На следующий день после этого разговора я, снабженный личным письмом Бельского, выехал в Москву в распоряжение Трилиссера.
* * *
Приехав в Москву в начале мая 1924 года, я в тот же день был принят Трилиссером. Трилиссер поговорил со Старком по телефону и направил меня к нему. Старк проживал в гостинице «Савой». Я явился к нему прямо от Трилиссера. Меня принял человек лет тридцати пяти, довольно полный. Он и оказался Старком. При нем была его жена, по национальности армянка.
Первым вопросом Старка было, как я думаю вести свою работу в Афганистане. Я уклончиво ответил, что я молод во всех отношениях и впервые еду за границу, поэтому рад, что буду работать под руководством такого старого опытного товарища, как Старк. Он был членом партии с 1905 года. Ответ мой его удовлетворил, так как он, видимо, не особенно любил самостоятельную работу чекистов, да и вообще, как потом оказалось, враждебно относился к членам своей собственной миссии. Вопрос о моей поездке тут же был решен в положительном смысле.
Старк написал записку управделами Наркоминдела Дмитриевскому. Я пошел с ней в Наркоминдел и через несколько дней был официально зачислен на должность помощника завбюро печати и информации при кабульском полпредстве.
Около недели я просидел в аппарате иностранного отдела ОГПУ, знакомясь с делами и со всеми циркулярами по работе ГПУ в Афганистане. В то время почти совсем не было материалов по Афганистану, если не считать сводок Ташкентского ОГПУ о положении в приграничной полосе. Мне сказали, что до сих пор фактически ОГПУ не вело работы в Афганистане. Обязанности резидента ОГПУ в Кабуле выполнял поверенный в делах СССР Вальтер, но от него пока ничего не поступало. Мне придется принять от него дела, если таковые имеются, и организовать самостоятельную агентуру, которая освещала бы деятельность афганского правительства и его отношение к англичанам. Особенное внимание, вслед за англичанами, предлагалось обратить на немцев, которые в то время усиленно приглашались афганским правительством на службу; советское правительство было этим обстоятельством обеспокоено. Кроме того, я должен был освещать внутреннее политическое и экономическое положение Афганистана, обратить серьезное внимание на бухарскую эмиграцию и на пограничные племена Северо-Западной Индии (о них мы тогда ничего не знали, но возлагали на них большие надежды для организации восстания в Индии). В циркулярном порядке мне предлагалось также наблюдать за положением и охраной полпредства, поведением сотрудников и т. д. Одновременно я знакомился с правилами связи с Москвой, составлением денежной отчетности, порядком учета агентуры и конспирации. О связи и денежной отчетности я уже рассказывал, остановлюсь на агентуре.
Вся тайная агентура должна иметь нумерацию. Ежемесячно резидент ГПУ посылает в Москву список вновь завербованных агентов, их характеристики и перечень обязанностей с указанием вознаграждения.
Кроме того, желательно иметь фотографическую карточку агента. Настоящие фамилии агентов посылаются в Москву отдельно, в зашифрованном виде. Копии агентских донесений не должны храниться в архивах резидентуры, во избежание возможного провала. Клички агентов не обязательны, но крупные агенты могут иметь, кроме номера, и кличку.
После ознакомления с делами в иностранном отделе ОГПУ меня отправили в специальную лабораторию КРО (тогда еще не имелось своей лаборатории при иностранном отделе) и научили там способу вскрывать запечатанные пакеты, познакомили с составом для изготовления печатей, снабдили химическими чернилами для секретной переписки и рецептом чернил. На этом приготовления закончились. В последний день меня снабдили специальным шифром ОГПУ и пятью тысячами долларов, и в конце мая вся миссия, в том числе и я, выехала из Москвы в Кабул.
Миссия состояла из полпреда Старка, его жены, личной машинистки Булановой (как потом оказалось, его второй жены), первого секретаря Эдуарда Рикса, военного атташе Ивана Ринка, завбюро печати Мархова, шифровальщика Фритгута, казначея Данилова с женой и меня. Кроме того, с нами ехали два дипкурьера, везшие дипломатическую почту и миллион рублей золотом. Эти деньги советское правительство посылало афганскому правительству в силу договора 1919 года, по которому правительство СССР обещало выдавать афганцам ежегодную субсидию в один миллион золотых рублей. Несмотря на договор, советское правительство только в 1924 году сделало свой первый взнос.
В Ташкенте мы остановились на несколько дней. Старк договаривался с туркестанским правительством по некоторым пограничным вопросам. Военный атташе устанавливал связь с Разведупром Туркестанского фронта, а я явился к Бельскому, получил от него задания и договорился о способах связи с ним, так как Москва разрешила мне выполнять поручения ташкентского ГПУ с условием не давать возможности его агентам выходить из приграничной полосы.
Договорившись по всем вопросам, мы выехали через Бухару в Термез, где на следующий день, 28 июня 1924 года, переправились через реку Амударью и очутились на афганском пограничном посту Патта-Гиссар.
Глава 5 Афганистан
На афганской границе нас встретили с почетом. По распоряжению эмира Аманулла-хана навстречу нам были поданы 20 верховых и 40 вьючных лошадей и эскадрон кавалерии, сопровождавший миссию до Кабула.
По оказании обычных почестей полпреду мы в тот же день выехали в Мазари-Шариф, куда прибыли через сутки. Как я уже упоминал, в Мазари-Шарифе представителем ГПУ был советский консул Думпис. Несмотря на то что официально я был всего только начальником бюро печати, он по линии ГПУ был моим подчиненным.
На следующий же день после прибытия я попросил у Думписа отчет о работе и убедился, что он ровно ничего не делал. В свое время ему было отпущено на работу 50 фунтов стерлингов. Я попросил вернуть деньги и считать себя свободным. Поступил я так потому, что, по сведениям консульских сотрудников, Думпис исключительно занимался потреблением кокаина, забросив все остальные дела. Я сообщил об этом Старку, и он обещал принять меры к замене Думписа другим лицом. Действительно, спустя месяц после нашего прибытия Думписа отозвали в Москву. Его место занял бывший консул в Маймине (Афганистан) Постников.
Отдохнув дня три в Мазари-Шарифе, миссия пустилась в дальнейший путь и благополучно прибыла в Кабул в 20-х числах июля. В пути мы пробыли около месяца, проделав всю дорогу на лошадях, с ежедневными ночевками в караван-сараях. В пути я успел познакомиться ближе со своими будущими сотрудниками и выяснить их взаимоотношения. Оказалось, что машинистка Буланова была второй женой Старка, с ведома и разрешения первой. Буланову Старк нашел в Германии и увез с собой в Эстонию, где занимал пост полпреда. Там он устроил ее машинисткой в полпредстве и одновременно, чтобы упрочить положение, ввел ее в члены эстонской коммунистической партии, куда ее, конечно, сразу приняли по рекомендации советского посла. Получив перевод в Кабул, он повез ее с собой через всю Россию.
Мархов был евреем из Англии, прибыл в СССР в 1919 году, в последнее время состоял студентом Восточного института в Москве по языку урду (индийское наречие) и ныне командировался институтом и Наркоминделом в Кабул для практического ознакомления с языком и индийскими делами. Помимо обзора прессы, он должен был выполнять поручения полпреда по линии работы Коминтерна, тайное представительство которого Старк совмещал со званием и обязанностями советского посла. Мархов, учась в Москве, информировал ГПУ о жизни института; Трилиссер советовал мне связаться с ним за границей и использовать его. Однако я решил сначала к нему присмотреться.
Рикс — первый секретарь — был полковником в старой армии. После революции его приговорили к расстрелу на Украине, он оттуда бежал в Туркестан и, как знающий персидский язык, был взят прежним полпредом в Кабуле Сурицом в качестве переводчика в Афганистан. Ему же в то время было поручено ведение военной разведки. Будучи беспартийным, он никаких политических взглядов не высказывал и состоял на положении лакея при полпреде и его женах. Старк очень уважал его именно за эту полную беспринципность.
Ринк — военный атташе, беспартийный, заслуженный военный специалист, бывший капитан царской армии — был очень образованным и развитым человеком. Держал себя всегда с большим тактом, никому в то же время не уступая своей самостоятельности. Остальные сотрудники миссии интереса не представляли, за исключением шифровальщика Фритгута, который служил одновременно наушником полпреда. Тайная влюбленность в Буланову в конце концов погубила его карьеру, так как Старк, узнав о его любовных чувствах, мгновенно откомандировал его в Москву, несмотря на все его прежние заслуги.
Наш приезд в Кабул совпал с национальным собранием в Афганистане, так называемой Большой джиргой, начавшей заседать в конце июля 1924 года. Для выяснения внутреннего положения Афганистана правильная информация о Джирге могла сыграть большую роль. Это заставило меня сразу же по приезде приняться за работу. Однако, когда я обратился к бывшему поверенному в делах СССР Вальтеру и спросил, какой секретной агентурой он располагает, то оказалось, что почти никакой агентуры у него нет и что фактически советская миссия не имеет никакого осведомления о внутренних делах Афганистана. Тут мне помог Мархов, который уже успел по линии Коминтерна связаться с некоторыми лицами, в частности с небезызвестным афганцем и индийским англичанином Раджой Протапом, находившимся в то время в Кабуле; от него Мархов получал все подробности о происходившем на Джирге.
Раджа Протап, или, как он себя сам называл, «Раб человечества», пользовался большим уважением у эмира Аманулла-хана.
Протап проживал в Кабуле в германской миссии, где также пользовался большим уважением. Во время мировой войны Протап был германофилом и оказывал услуги германской миссии Нидермайера, который с группой немецких офицеров пробрался в Афганистан, чтобы поднять афганские племена против англичан. В 1919 году, когда, по мнению советской власти и группы индийских революционеров, нарастала революция в Индии, было избрано народное индийское правительство в Кабуле: Протап был президентом этого правительства.
Осенью 1924 года эмир отправил Протапа через Россию и Америку для популяризации идеи паназиатского союза и для пропаганды избрания эмира Амануллы всемусульманским калифом. Протап проехал через СССР, надеясь, что дружественные отношения с советским полпредом в Кабуле и вражда к англичанам послужат ему достаточной рекомендацией в СССР. Он жестоко ошибся. Несмотря на личные рекомендательные письма полпреда, он по выезде из Москвы был высажен агентами ГПУ на одной из станций, обыскан и арестован. Только после энергичного вмешательства Наркоминдела его освободили и выпустили за границу, где он опубликовал в газетах свои злоключения. Протапа эти неприятности не обескуражили. Попав затем в Китай и Японию, он пытался снова связаться с советскими представителями, однако у ГПУ возникли подозрения, что он является японским и английским агентом, и связь с ним была прекращена. В 1929 году Протап вновь приехал в СССР и намеревался проехать в Персию и Афганистан. Так как его туда не пустили, то он остался в Москве на попечении афганского министра иностранных дел Гулам-Джелани-хана, заменявшего афганского посла в Москве, пока посол Наби-хан путешествовал с военной экспедицией по Северному Афганистану.
Я принял дела ГПУ у Вальтера. При приемке оказалось, что он имеет всего только одного агента: жандармского полковника Абдул-Меджид-хана. Его Вальтер завербовал в бытность свою секретарем советского консульства в Герате. Кроме того, для связи имелся в посольстве некий Ефендиев, персидский подданный, родом из Мешеда, по настоящей фамилии Мамедов, Измаил. Архивов и денег у Вальтера не оказалось: архивов он не заводил, а деньги успел истратить. Пришлось с этим смириться и принять от него то, что имелось. В таком же положении, по словам военного атташе Ринка, оказались и дела Разведупра, порученные тому же Вальтеру. Разведупр прислал ему для работы вместо валюты 12 каратов бриллиантов. Он их якобы истратил, но не сделал ничего для Разведупра. Впоследствии Ефендиев рассказывал, что Вальтер присвоил эти бриллианты и преподнес их своей жене.
Глава 6 Агенты и сотрудники ОГПУ в Афганистане
По приезде в Кабул моим намерением было не торопиться и постепенно знакомиться со страной и людьми для организации сети. Однако события не ждали. Через месяц после Джирги вспыхнуло восстание на юге Афганистана, известное под именем Хостинского восстания.
Первое время для получения информации я пользовался услугами Абдул-Меджид-хана, но вскоре его арестовали за отказ ехать драться с повстанцами: он был в родственных отношениях с племенем мангну и не хотел против него воевать. Пришлось опять прибегнуть к помощи Мархова.
Нужно сказать, что к этому времени взаимоотношения в полпредстве резко обострились. Старк оказался всецело под башмаком своих двух жен. Жены же, не удовлетворяясь одним Старком и ценя в нем, по-видимому, только его дипломатическое звание, искали развлечений на стороне. Внимание обеих остановилось на Мархове. Я, однако, крепко прибрал его к рукам, и по моему настоянию он отдавал почти все свои досуги работе. Обиженные неудачей женщины начали настраивать Старка против меня и отвергнувшего их прелести Мархова. Старк повел открытую войну, пользуясь всеми средствами и лицами, в частности Фритгутом. Вслед за уехавшим Вальтером он вдруг откомандировал в Москву Ефендиева, чтобы лишить меня возможности пользоваться его услугами. Не довольствуясь этим и другими мелкими неприятностями, он предложил мне, прежде чем посылать шифрованные телеграммы в Москву, показывать ему их текст, по циркуляру же ГПУ он на это не имел права. Чувствуя, что мои позиции слабы, так как Москва меня знала мало, а выявить своей работы я еще не успел, боя я не принял и выжидал удобный для себя момент. Не отказываясь показывать ему тексты шифровок, я показывал ему не настоящие, отправляемые мной в Москву, а специально для него составленные, которые я тут же, возвращаясь домой, уничтожал.
Отношения Старка с военным атташе Ринком испортились благодаря все тем же женам, за одной из которых военный атташе ухаживал. Фактически единственным работником Старка остался Рикс, служивший с рабской верностью своему новому хозяину.
Мархов тем временем принял всю тайную коминтерновскую агентуру, в которую входила, между прочим, сикхская военная организация, державшая связь с полпредством через владельцев (членов организации) лавки с канцелярскими принадлежностями у входа в Сарыпуль-базар в Кабуле. Для иллюстраций наших отношений в полпредстве приведу следующий пример: сикхская организация как-то доставила Мархову план индийской крепости Равалпинди. Мархов, конечно, прежде, чем снести план полпреду, показал его мне. Я сказал, что этот план представляет интерес не столько для ГПУ, сколько для военного ведомства, и посоветовал дать возможность ознакомиться с ним военному атташе Ринку. Карту отнесли Ринку. Он заинтересовался ею и попросил казначея Данилова сфотографировать ее. После этой операции Мархов представил карту Старку. Старк вызвал для фотографирования ее того же Данилова, а тот, по злому умыслу или по глупости, доложил, что он уже фотографировал этот план для военного атташе. В результате вспыхнул скандал, ухудшивший отношения Старка со мной, Марховым и военным атташе.
Среди агентов Мархова был индусский мусульманин из Читрала, ярый сторонник Надир-хана. В то время Надир-хан проживал в Париже, и этот читралец жил в его загородном имении. Там его обычно навещал Мархов. Он имел большие связи на территории независимых племен и познакомил нас со знаменитыми вождями Мулла-Баширом и Падша-Гулем. Кроме того, он же дал нам несколько человек помельче для отправки на агентурную работу среди независимых племен. Мулла-Башир получал из коминтерновских денег 500 фунтов стерлингов каждые три месяца за доставку сведений о положении племен и на ведение среди них коммунистической пропаганды.
Агентом Мархова был также индус, дававший уроки персидского языка директору афгано-германского торгового общества Ибнеру. Индус, будучи связан со своей индусской колонией, давал подробную информацию о текущих событиях и обо всех членах индусской колонии в Кабуле. Агенты, информируя Коминтерн по специальным вопросам, попутно освещали и вопросы, интересующие ГПУ. Вспоминаю следующий интересный проект, пересланный мною в то время в Москву.
Видный индус, представленный нам лицом, приближенным к Надир-хану (он сейчас, кажется, назначен министром просвещения в Афганистане), просил меня отправить его в Москву. На мой вопрос «зачем?» он объяснил, что хочет научиться в Москве делать фальшивые фунты стерлингов, а затем поехать в Индию, печатать английские деньги и вести на них коммунистическую пропаганду… Не знаю, что из этого проекта потом вышло: им занялся Коминтерн, так как вопрос выходил из сферы ведения ГПУ.
Я усиленно вел самостоятельную вербовку людей для работы по линии ГПУ. После ареста Абдул-Меджид-хана я связался с его двоюродным братом, служившим в кабульской полиции, и получал через него все сведения, добывавшиеся афганской полицейской агентурой. Раджа Протап познакомил меня с Мустофи (заведующим налоговым управлением) Кабульской провинции, через которого я получал правительственные сведения. От него же я получал сведения о мусульманской Индии, с вождями которой он, по поручению Аманулла-хана, поддерживал тесную связь.
Однажды вечером на квартире у Мустофи я познакомился с начальником кабульской полиции. После продолжительной беседы мы согласились, что у нас имеются общие интересы, диктуемые враждой к англичанам. Мы с ним договорились быстро. За ежемесячное вознаграждение в 600 рупий он дал обязательство, по моим указаниям, арестовывать всех английских тайных агентов. Естественно, что это условие мною было использовано полностью. Всякий, подозревавшийся нами в английском шпионаже, арестовывался через этого начальника полиции.
В Кабуле, как я упоминал, было много немцев. Они были единственными европейцами, поддерживавшими отношения с нами. Среди них я завербовал некоего Лещинского, служившего переводчиком в министерстве иностранных дел Афганистана. Вторым нашим агентом был агроном Бюрде, работавший в Кабуле, затем командированный в район Мазари-Шарифа. В районе Кандагара работал для нас инженер-агроном Мазух и, наконец, в самом Кабуле давал нам сведения один инженер-техник, фамилию которого сейчас не помню. Лещинский и техник были членами германской коммунистической партии, поэтому с ними мы связались просто, а остальных потом они сами завербовали. Мазух и Бюрде освещали экономическое положение страны, Лещинский давал копии с переводимых в министерстве докладов, договоров и т. д., а техник сообщал сведения о немецкой и о всей остальной европейской колонии в Афганистане.
Затем мною был завербован некто Бернарди, совмещавший должность советника министра финансов Афганистана с должностью драгомана при итальянском посольстве и представителя «Америкен ист Кº» по заготовке кишок. Бернарди освещал различные отрасли общественной и экономической жизни Афганистана, а также давал сведения об итальянском посольстве. В награду за это по моему настоянию ему было уступлено представительство Нефтесиндиката в Кабуле. Бернарди затем переехал в Персию и после моего отъезда из Персии порвал связь с Советами.
В то время в Кабуле строилось новое здание для английской миссии. На этих постройках работал русский эмигрант Семехин. Он был завербован мною с условием, что после года работы для ГПУ он будет амнистирован и получит разрешение возвратиться на родину в Советский Союз. Через Семехина мне удалось завербовать несколько индусов при английском посольстве, которые сначала освещали внутреннюю жизнь английского посольства, а затем по мере откомандирования в Индию работали там, посылая оттуда сведения через того же Семехина.
В начале 1925 года, когда восстание в Хосте несколько стихло, полпред Старк получил письмо от бывшего шейх-уль-ислама с просьбой увидеться с ним или с его доверенным человеком. Письмо было доставлено сыном шейха. Старк, вызвав меня, предложил заняться этим делом. В тот же вечер я вместе с сыном шейха отправился к нему на дом, где меня встретили сам старик и его старший сын. Старик начал свой рассказ с 1916 года, говоря, что он уже тогда мечтал пробраться в Россию, увидеться с русскими властями. Затем перешел к событиям 1919 года, когда в Вазиристане возникло восстание против англичан. Он подробно рассказал о своей встрече в то время с Джемаль-пашой, турецким министром, приезжавшим в Кабул. Джемаль-паша предложил ему поехать в район независимых племен и поднять восстание против англичан, обещав помощь оружием и деньгами от имени советского посла в Кабуле Раскольникова и советского правительства. Шейх отправился с сыновьями в район племен и поддерживал восстание в течение восемнадцати месяцев, но обещанное оружие не прибыло. Ныне, в связи с восстанием в Хосте, он опять выражал готовность поехать к восставшим племенам и направить их против англичан. Он предлагал вести партизанскую войну, уничтожать форты, разрушать дороги, мосты, блокгаузы, все сооружения, воздвигнутые англичанами.
Для этой работы шейх просил 100 тысяч рублей и 5 тысяч винтовок со 100 патронами к каждой. Я обещал доложить о нашей беседе послу и сообщить ответ. С первой же почтой я передал предложение шейха в ОГПУ в Москву. ОГПУ ответило, что против предложений шейха советское правительство не возражает, но отказывается дать оружие, так как доставка оружия из СССР или через СССР вскроет нашу работу и может вызвать нежелательные политические осложнения с Англией и с Афганистаном. Переговоров с шейхом продолжать не пришлось. В месяц Рамазана, не выдержав длительного поста, он умер.
Месяц спустя после его смерти я возобновил переговоры с его сыновьями. Мы условились, что они будут вести информационную работу для ГПУ. Сфера их деятельности должна была охватывать район племен от Джелалабада до Газни. К своей работе они привлекли некоего Мовлеви Мансура, индийского эмигранта, числившегося на афганской службе. С Мовлеви я был знаком со времени моего пребывания на должности начальника отделения КРО в Ташкенте в 1923 году. Тогда Мовлеви, бывший секретарем афганского посольства в Ангоре, направлялся через СССР в Афганистан. О его приезде в Ташкент мне донесли агенты ГПУ, причем в донесении указывалось, что Мовлеви везет письма ташкентским афганцам, подозревавшимся нами в шпионаже. Кроме того, агенты сообщали, что он везет с собой подозрительные по размерам ящики, в которых могло быть запаковано оружие. Когда Мовлеви выехал из Ташкента на пограничный с Афганистаном пункт Кушку, начальнику кушкинского особого отдела было приказано выяснить, какие письма и какой груз везет с собой афганский дипломат. Начальник особого отдела понял телеграмму ГПУ в прямом смысле и велел арестовать и обыскать Мансура, не обращая внимания на дипломатический паспорт. Во время обыска Мансур пытался сопротивляться. Его жестоко избили и принудили сдаться. Результатом инцидента явилась нота афганского посла в Москве в Наркоминдел, и мне было предложено выехать в Кушку для расследования дела. Там я и познакомился с Мансуром.
Завербованная мной тройка распределила свою работу следующим образом.
Старший брат выехал в Газни, где он владел большим поместьем. Оттуда он должен был руководить пропагандой среди племен гийзаев и нозиров.
Мансур посредством взятки получил должность учителя школы в Джелалабаде и поселился там. Оттуда он должен был вести работу среди племен восточных провинций, среди адридиев и в княжествах Северной Индии Дир-Сват и Баджаур.
Младший брат остался работать в Кабуле, где у него были большие связи среди духовенства. Он же служил связью между двумя первыми членами тройки и мной.
Все трое получили порядковые номера 13, 14 и 15. Работу свою они выполняли аккуратно. Информация Мансура отличалась точностью и детальностью. Старший брат в Газни специализировался в организации нападений на английские транспорты в пограничной зоне. Младший брат в Кабуле вел работу в правительственных учреждениях. Он вскоре предложил мне приобрести за две тысячи рупий афганский шифр министерства иностранных дел. О предложении мною было сообщено в Москву, но Москва ответила, что тратить деньги на покупку не следует, так как шифр… уже имеется в распоряжении спецотдела ОГПУ.
Глава 7 Разложение бухарской эмиграции
В Афганистане нашли убежище бывший эмир бухарский (проживавший в 18 километрах от Кабула в местечке Калай-Фатум) и главари басмаческого движения Фузаил-Максум и Курширмат. Оба главаря пользовались большой славой и влиянием как среди местных эмигрантов, так и среди населения советской Бухары. Эмир бухарский имел при себе около 300 человек; из их среды пополнялись руководители басмачества, и они же держали связь между эмиром и басмачами в советской Бухаре. Кроме того, в районе Северного Афганистана сосредоточилось около 30 тысяч эмигрантов, преимущественно туркмен.
Москва очень интересовалась бухарской эмиграцией и в каждом письме торопила меня с развитием работы. Подступ к эмиграции я нашел случайно. Однажды, катаясь верхом в окрестностях Кабула, я познакомился с бухарцем, любезно пригласившим меня в гости. Бухарец принадлежал к свите эмира и проживал в Калай-Фатуме. В одну из ближайших пятниц я поехал к нему и очутился среди басмаческого отряда. Благодаря моему знанию узбекского и турецкого языков меня сначала приняли за сотрудника турецкой миссии, но затем я признался, что служу в советской миссии, недавно приехал из Бухары. Признание мое было встречено враждебно, но затем слушатели, заинтересованные моими рассказами о родине и об общих знакомых, начали задавать вопросы, и мы мирно пробеседовали часа три. Оставив свой адрес, я уехал в Кабул, расставшись друзьями с хозяевами дома.
Результат беседы сказался через несколько дней. Явились три бухарца с просьбой выхлопотать для них разрешение вернуться на родину. Я просил прийти за ответом через два дня, сказав, что передам их просьбу послу. Когда они пришли через два дня, я заявил, что советская власть должна быть уверена в искренности их намерений без задних мыслей вернуться на родину. Свою искренность они должны доказать, во-первых, сообщением сведений обо всем, что они знают и узнают о действиях бухарского эмира, а во-вторых, ведением пропаганды среди эмигрантов-бухарцев в пользу возвращения на родину. Когда наберется партия в 20–30 человек, мы их отправим в Бухару.
Недели через две желающих возвратиться на родину было около 30 человек и среди них пять наших агентов.
Я послал доклад в Москву, подробно развивавший идею реиммиграции бухарцев. Я настаивал главным образом на реиммиграции вождей бухарского движения, ибо думал, что вслед за вождями группами двинутся и рядовые члены эмиграции. Москва приняла мое предложение, однако с той поправкой, что надо организовать возвращение рядовых эмигрантов и, лишив таким образом вождей опоры, уничтожить их влияние и значение.
С целью содействия идее «возвращения на родину» ближайший съезд бухарских Советов постановил амнистировать всех эмигрантов, добровольно возвращавшихся в Туркестан, и наделить их землей и инвентарем, чтобы они вновь могли заняться хозяйством. Меры эти диктовались, кроме политических соображений, соображениями экономическими. Восточная Бухара после ликвидации басмачества в 1925 году почти опустела. Жители частью бежали в Афганистан и Персию, частью были вырезаны воюющими сторонами. Глинобитные дома развалились, поля были брошены и не обрабатывались. Некогда богатые селения представляли собой развалины среди пустыни. Еще больший ущерб причиняла стране эмиграция туркмен, которые увели с собой на афганскую территорию всех каракульских овец, ценившихся наравне с валютой. Все это богатство теперь находилось в Афганистане.
Весной 1925 года мною была отправлена первая партия эмигрантов в 20 человек, среди которых находились два агента ГПУ для наблюдения. Остальные агенты были оставлены в Афганистане для развития идеи возвращения и для дальнейшего ведения информационной работы. Отправляя эмигрантов, я одновременно послал письмо Бельскому, председателю ГПУ в Ташкенте, с просьбой обойтись с эмигрантами насколько возможно лучше и избежать арестов и неприятных формальностей, чтобы слухи об их приеме могли, дойдя до остальной эмиграции в Бухаре, благоприятно содействовать нашей пропаганде возвращения. Однако первая партия, а вслед за ней и вторая, придя на границу, подверглись тщательному обыску, на все пожитки эмигрантов были наложены большие пошлины, часть людей была арестована по подозрению в шпионаже, а часть, не получив обещанной земли и инвентаря, оказалась без средств к существованию и вынуждена была бежать обратно в Афганистан. Прибывшие в Кабул, конечно, быстро расхолодили пыл эмиграции, и приток «возвращенцев» прекратился. Но агентурная сеть, налаженная мной, действовала аккуратно, и сведения об эмире бухарском систематически поступали в распоряжение ГПУ. Часть агентуры я отправил в Северный Афганистан для работы среди туркменской эмиграции. Сведения от этих агентов поступали в распоряжение советского консула в Мазари-Шарифе Постникова, являющегося одновременно представителем ОГПУ.
Для работы в ГПУ мне удалось завербовать полковника Хассан-эфенди, бывшего турецкого офицера, служившего в военном министерстве Афганистана. Хассан-бей во время Энверовской операции состоял в его отряде, после смерти Энвер-паши эмигрировал в Афганистан и поступил на афганскую службу. Многие главари басмаческих отрядов его знали и, приезжая в Кабул, останавливались у него. В его же квартире проживал известный вождь басмачей Фузаил-Максум.
С помощью Хассан-бея были завербованы сначала Фузаил-Максум, а затем и Курширмат. Курширмат интересовал нас тем, что, по нашим сведениям, руководя восстанием в Ферганской области, он заключил договор с индийским правительством об оказании ему помощи. Завербовав его, мы рассчитывали достать этот договор или другой подобный документ, компрометирующий англичан, чтобы противопоставить его опубликованному в Лондоне письму Зиновьева. Начались переговоры с Курширматом, и вскоре выяснилось, что такого документа у него нет. Тогда и этих агентов мы бросили на освещение эмира бухарского. Особенно старался в этом направлении Фузаил-Максум, ненавидевший эмира смертельной ненавистью.
В середине 1925 года ко мне поступили два предложения: первое — от представителя эмира бухарского, заявившего, что эмир готов примириться с нами, при условии, если ему дадут небольшую компенсацию: пенсию и фиктивную власть над одной из провинций Бухары. Эмир бухарский получал от афганского правительства 14 тысяч рупий ежемесячно, и поэтому я начал вести с ним переговоры исключительно в плоскости субсидии, отвергая всякую мысль о предоставлении ему власти, хотя бы и фиктивной. Другое предложение поступило от Фузаил-Максума: убить эмира бухарского или же похитить его и отправить в СССР. Оба предложения я немедленно передал в Москву и получил ответ, что ни на какие соглашения с бухарским эмиром советское правительство не идет. Что же касается вопроса о «ликвидации» его, то Москва принципиальных возражений не имеет и предоставляет осуществление проекта на мое усмотрение, при непременном, однако, согласовании моих действий с полпредом. Я обсудил вопрос со Старком; Старк тоже принципиальных возражений не встретил, но посоветовал выждать более удобный момент для «ликвидации эмира», когда будет меньше риска вызвать осложнения с афганским и другими правительствами.
К этому времени благодаря хорошо поставленной работе мое положение в Москве укрепилось, и я счел возможным дать наконец отпор Старку, не перестававшему воевать со мной с начала моего приезда. Случай представился, когда я отправлял телеграмму в Москву о предложениях эмира бухарского. Старк потребовал показать ему текст телеграммы. Я категорически отказал, заявив, что мне надоело составлять для него фальшивые тексты. В ответ на это он разразился бранью, закончившейся между нами рукопашной схваткой. После этого случая отношения наши совершенно прекратились. Старк стал бомбардировать Москву телеграммами о моем отозвании.
Следует сказать несколько слов о расходах резидентуры ОГПУ. На работу ГПУ в Афганистане было ассигновано 10 тысяч рупий, или 2 тысячи долларов в месяц. Я получал жалованье наравне с полпредом, то есть 1000 рупий ежемесячно. Часть жалованья, как сотрудник Наркоминдела, я получал в полпредской кассе, а остальные — из кассы резидентуры ГПУ. Кроме того, конечно, все разъезды, угощения и прочие непредвиденные расходы относились на счет ГПУ.
Агентура оплачивалась в размерах от 8 до 20 фунтов стерлингов в месяц, смотря по работе. Несмотря на небольшую смету, мне удавалось экономить средства, ибо большую часть расходов оплачивал полпред из сумм Коминтерна. Так, например, Мулла-Баширу на ведение пропаганды и освещение настроений независимых племен Старк выплачивал 500 фунтов стерлингов каждые три месяца. Организации сикхов отпускалось 100 фунтов стерлингов в месяц. Эти деньги присылались за счет Коминтерна, и полпред выплачивал их через Мархова.
Летом 1926 года в Кабул приехал представитель Наркомторга Лежава-Мюрат с заданием заключить с афганским правительством торговый договор. Афганцы приняли его очень любезно. Переговоры начались при активном содействии полпреда Старка, но затем затянулись, а одновременно начали портиться личные отношения, и Лежава, охладев к Старку, стал дружить со мной. Желая насолить Лежаве, Старк замедлял темп переговоров. Тем временем начало изменяться политическое положение в Афганистане, бывшее особенно благоприятным для нас после Хостинского восстания, подавленного при помощи советских аэропланов и бомб. Когда вспыхнуло Хостинское восстание, Старк предложил афганскому правительству советские аэропланы и летчиков, надеясь таким образом использовать удобный момент для внедрения советской авиации в Афганистане — важном с точки зрения штаба Красной армии плацдарме для наступления на Индию. Предложение было принято, и из СССР прилетели в Афганистан 10 аэропланов системы Хавеланд и Юнкере с летчиками и механиками.
В августе 1925 года Мархов, по окончании годичной командировки, уехал в Москву. Его заменил Францевич, человек, заслуживший через месяц по приезде прочную репутацию подхалима и дурака. Францевич считал себя большим спецом по коминтерновской работе и неутомимо сочинял всяческие планы об организации революции в Индии. Старк их задерживал и не посылал в Москву, потому что вообще не верил в возможность революции где бы то ни было.
В сентябре 1925 года шифровальщик Фритгут был срочно отослан в Москву за признание в любви машинистке Булановой и желание на ней жениться. Перед отъездом он пришел ко мне и, каясь во всех грехах, рассказал подробно, как он по поручению Старка старался травить меня. Я предложил ему изложить все это письменно и послать этот документ в Москву на заключение О ГПУ.
Считая организованную в Афганистане работу удовлетворительной, я в октябре 1925 года поставил перед Москвой вопрос об организации агентурной сети в Северной Индии. Вместе с тем я просил разрешения выехать в Москву, ибо мои отношения со Старком настолько ухудшились, что уже не было ни одного случая, по которому у нас не происходило бы ожесточенной схватки.
Получив разрешение Москвы выехать с докладом об организации работы в Индии, я в ноябре 1925 года покинул Кабул, сдав временно ведение дел ГПУ Старку (таково правило), а тот затем поручил его Францевичу.
* * *
Приехав в Москву, я явился с докладом к Трилиссеру. Он остался очень доволен работой, предложил мне месячный отдых и велел выдать 100 рублей наградных. Однако на следующий же день он снова вызвал меня и сказал, что замнаркоминдела Карахан очень интересуется афганскими делами и просил меня сделать доклад в Наркоминделе. В тот же день я пошел в Наркоминдел к заведующему отделом Среднего Востока Цукерману и условился о дне доклада. В это время приехал в Москву из Кабула торгпред Лежава-Мюрат, которому Старк поручил от своего имени сделать доклад в Наркоминделе о политическом и экономическом положении Афганистана. В условленный день я пришел в Наркоминдел и застал среди собравшихся Лежаву-Мюрата.
Мой доклад касался главным образом внутреннего положения Афганистана и возможностей, которые следует использовать в северо-западной полосе Индии, населенной независимыми племенами. Выступивший после моего доклада Лежава заявил, что, хотя у него имеются директивы Старка с другими установками, он, однако, всецело присоединяется ко мне и считает также, что вместе с экономическим завоеванием Северного Афганистана необходимо утвердить наше политическое влияние в Южном Афганистане. Выступление его вызвало впоследствии колоссальную склоку, в результате которой Лежава после рассмотрения дела в политбюро ЦК был отставлен от торгпредства.
После доклада Наркоминдел предложил мне вернуться в Афганистан, на что я уклончиво ответил, что мое возвращение зависит от моего начальника Трилиссера. Когда же на следующий день Трилиссер повторил предложение, я ему откровенно заявил, что считаю мое возвращение в Кабул нецелесообразным вследствие плохих отношений со Старком. Трилиссер сказал, что примет мое заявление к сведению и согласится на мое возвращение только при условии, что Наркоминдел гарантирует мне благоприятную обстановку для работы. Через несколько дней Трилиссер сообщил, что Наркоминдел настаивает на моем возвращении и гарантирует возможность работы. Сталин и Чичерин будто бы напишут письмо Старку о недопустимости его поведения, и письмо будет отправлено с первой почтой. Вместе с тем будет поднят вопрос о замене Старка другим лицом.
Настояния Наркоминдела, в частности Карахана, объяснялись тем, что Старк был ставленником Литвинова и Карахан хотел во что бы то ни стало спихнуть его или же в крайнем случае насолить ему и Литвинову. Настаивал он на моем возвращении исключительно из желания «удружить» Старку. Хотя я все это прекрасно понимал, мне ничего не оставалось, как подчиниться, и в декабре того же года, снабженный 10 тысячами долларов и инструкциями об организации информационной сети ГПУ в Северной Индии, я вновь покинул Москву, направляясь в Кабул.
* * *
В Ташкент я приехал как раз в тот момент, когда Красная армия заняла остров Урта-Тугай на реке Амударье.
Полномочный представитель ГПУ Бельский, к которому я явился в Ташкент, смеясь объяснил, что Красная армия не вторгалась на афганскую территорию, но что просто само население острова, недовольное афганской властью, устроило «социальную революцию», арестовало представителей власти и, как самостоятельная единица, присоединилось к СССР. Шутя, Бельский просил меня поддерживать эту версию, когда я буду проезжать по афганской территории. Когда я выразил неодобрение и опасение, что инцидент может вызвать неприятные последствия, он признался, что остров захвачен потому, что служил базой для басмаческих шаек, которые, скопляясь на острове, совершали регулярные налеты на советскую границу. Остров занят из стратегических соображений, а произошел захват просто. Ночью послали туда отряд переодетых красноармейцев из местного населения, отряд арестовал афганские власти и объявил остров присоединенным к СССР. Туркестан в этом вопросе действовал самостоятельно, не сговариваясь с Москвой, но полагая, что в Москве учтут свершившийся факт и поддержат захват. Для укрепления положения отряд переодетых красноармейцев предложил населению собраться и голосовать по вопросу о власти. Конечно, население «высказалось за присоединение к СССР».
Вообще, говорил Бельский, неприятности с афганцами в последнее время участились. Недавно он поручил своим агентам украсть чемодан с дипломатической почтой у афганского дипкурьера, ехавшего из Ташкента в Кабул. Агенты украли чемодан, но выбросили его из вагона неудачно. Афганцы заметили кражу, открыли стрельбу, остановили поезд и захватили одного агента, который, испугавшись, признался, что действовал по поручению ГПУ. О краже и допросе агента был составлен акт.
Распрощавшись с Бельским, я в январе 1926 года вновь прибыл в Кабул. Политическая обстановка за это время резко изменилась. В связи с захватом красными отрядами острова Урта-Тугай по улицам демонстрировали афганские войска, по нескольку раз в день проходя перед зданием советского посольства в знак протеста против захвата. Полпредство было сильно испугано. Ни один из его членов не выходил в город. Связь с секретными информаторами, таким образом, оборвалась, и не имелось никаких сведений о намерениях афганского правительства.
По приезде я немедленно явился к Старку, но он, осведомленный о моих московских переговорах, отказался меня принять.
Между нами началась открытая война. Когда я пожелал принять дела и агентуру ГПУ у представителя Коминтерна Францевича, последний заявил, что полпред велел не сдавать мне агентуру, так как агентура нужна им самим, для коминтерновской работы. Я, конечно, не мог мириться с таким положением дел. Пользуясь тем, что испуганный Францевич не выходил из полпредства, я в течение двух дней, зная адреса своих агентов, связался с ними, переменил явки и время следующего свидания. Когда Францевич после ликвидации конфликта захотел с ними связаться, то уже не мог никого найти.
Меня особенно занимали индийские дела. Москву, кроме пограничных племен, особенно интересовала так называемая секта ахмедийцев, состоявшая, по московским сведениям, в значительном числе из агентов английской разведки. По этому вопросу Москва прислала мне для ознакомления информационный материал, полученный из берлинской резидентуры ГПУ и из ташкентского ОГПУ, которое захватило двух членов секты ахмедийцев с грузом сектантской литературы; на допросах оба ахмедийца признались в своей работе для англичан. Помимо этих материалов, Москва вообще присылала мне для сведения свою информацию об Афганистане. Судя по точной и подробной осведомленности автора донесений, можно было полагать, что автор находится в самом Афганистане. В то время, однако, я еще не знал, откуда и как получаются эти документы Москвой. Они потом оказались… копиями донесений британского посланника в Кабуле.
Отношения между мной и Старком приняли чрезвычайно острый характер. Посол отказывался визировать мои телеграммы и пересылать мою почту в Москву. Меня поэтому удивило, когда однажды он сам вдруг предложил отправить почту ГПУ с ближайшим дипкурьером. Подозревая неладное в такой неожиданной любезности, я запаковал несколько газет в пакет и сдал их Старку, а настоящую почту сдал частным образом дипломатическому курьеру, бывшему чекисту, с обязательством доставить ее в собственные руки Трилиссеру.
Впоследствии оказалось, что мои подозрения были правильны. Старк, отправляя мой пакет, одновременно написал консулу в Мазари-Шарифе Постникову, чтобы тот изъял этот пакет и вернул обратно Старку в Кабул. Постников, будучи одновременно резидентом ГПУ, этого не сделал и переслал письмо Старка мне для сведения. После этого случая и многих подобных я, видя, что Москва не сдержала обещания, просил телеграфно Трилиссера отозвать меня. В марте 1926 года моя просьба была наконец удовлетворена. Законсервировав сеть, то есть дав агентам содержание за три месяца вперед, я сдал дела тайно от полпреда бывшему летчику в Кабуле Софронову и выехал обратно в Москву.
Глава 8 Персия
Приехав в Москву, я рассказал о своих злоключениях Трилиссеру, а также сообщил обо всем в Центральную контрольную комиссию, где разобрали это дело и оставили его без последствий. В частной беседе решение было мотивировано тем, что сейчас идет усиленная борьба Центрального комитета партии с троцкизмом и что в этой борьбе каждый старый член партии, стоящий на платформе ЦК, очень дорог. Поэтому пока нельзя тронуть Старка.
Получив двухмесячный отпуск, я собрался провести его в Туркестане, где проживают мои родные. В это время в Москве получили сведение, что в Хоросанской провинции Персии началось восстание, возглавляемое персидским офицером Салар-Джангом. Полученные сведения были разноречивы. Советский консул в Хоросане Айресов сообщил, что восстание вызвано искусственно, спровоцировано англичанами, и в доказательство называл английских агентов, связанных с главарями движения. Из Ташкента в то же время доносили, что движение носит народно-революционный характер, что программа Салар-Джанга по крестьянскому вопросу вполне сходится с коммунистической, и просили разрешения поддержать восстание оружием и инструкторами. Конкретных фактов о восстании обе стороны не сообщали. Москва, как всегда в таких случаях, кинулась изучать вопрос. Раскопали колоссальные архивы в поисках сведений о Хоросанской провинции. Материалов по социальному составу населения, по экономическому его положению и вообще мало-мальски серьезных данных об этом районе Персии в архивах ГПУ не оказалось.
Однажды утром меня опять вызвал Трилиссер. Обрисовав в общих чертах положение в Хоросане, он велел мне более подробно ознакомиться с поступившими из Туркестана донесениями. Так как я ехал в отпуск в Туркестан, он просил заодно проехать в район восстания и выяснить на месте, каковы цели Салар-Джанга, как широко восстание пользуется симпатией населения, какова роль англичан в этом движении, каковы силы и состав повстанцев и т. д. Я принял поручение и выехал в Туркестан.
Приехав в пограничный с Персией город Ашхабад, я пришел к председателю Туркменского ГПУ Карутскому и просил его ознакомить меня с положением дел в Хоросане.
С Карутским мы были старые приятели. Молодой человек, чрезвычайной толщины, большой добряк, он, несмотря на свои тридцать лет, очень любил выпить и совсем запил после смерти жены, покончившей с собой из-за каких-то семейных неладов.
За обедом Карутский рассказал, что теперь с восстанием делать нечего, так как его фактически уже нет. Правительственные персидские войска, поддержанные курдами этого района, разбили повстанцев. Остатки повстанческих отрядов, в числе 700 человек, отступили к советской границе и просят разрешения интернироваться в СССР. Об этом Карутский уже донес в Москву и Ташкент. В той же дружеской беседе он указал, что, без сомнения, движение Салар-Джанга носило революционный характер. Советская власть сделала большую ошибку, не поддержав восстания, так как этим уронила себя не только в глазах населения Хоросанской провинции, которое надеялось на поддержку СССР, но и во многих других восточных странах, где наше равнодушное отношение к восстанию, несомненно, произведет удручающее впечатление. По мнению Карутского, умело использовав восстание, можно было бы образовать из Хоросанской провинции нечто вроде второго Кантона, но с той выгодой, что этот «персидский» Кантон стоял бы на границе с СССР и мог бы получать от нас постоянную помощь. Не получая разрешения из Москвы, Карутский на свой страх и риск переодел человек пятьдесят советских пограничников и перебросил их к повстанцам вместе с несколькими пулеметами в качестве инструкторов. К сожалению, помощь оказалась недостаточной. Виновником ошибки Карутский считал консула Апресова, неправильно информировавшего Москву.
По-видимому, в Москве также пришли к этому убеждению. Апресова вскоре уволили, и консулом в Мешеде на его место был назначен Кржеминский. Для работы же ГПУ в Мешед прислали некоего Брауна, работавшего прежде в Китае также по линии ГПУ. Когда в Мешеде узнали об увольнении Апресова, то недели через две в одном из почтовых ящиков Ашхабада были обнаружены и оттуда доставлены в ГПУ заявления иранской коммунистической партии, иранского комсомола и союза печатников Персии на имя Чичерина, Сталина и Дзержинского. Авторы заявлений просили не отзывать Апресова из Мешеда, так как будто бы только благодаря ему эти организации существовали и успешно работали. Впоследствии выяснилось, что заявления были посланы не без ведома и одобрения самого Апресова, что послужило ему не в пользу, а во вред.
Я отправил Трилиссеру доклад и получил в ответ разрешение продолжать отпуск. В начале июля 1926 года, по окончании отпуска, я вернулся в Москву. Москва в то время обсуждала мою кандидатуру на посылку в Турцию или Персию.
В Турции резидентом ГПУ в то время был Гольденштейн, известный больше под кличкой Александр или Доктор (ныне резидент ГПУ в Берлине)[1]. Однако, как я писал об этом выше, Наркоминдел, считая мою армянскую национальность неудобной для работы в Турции, отвел мою кандидатуру.
Началось обсуждение вопроса о назначении меня резидентом ГПУ в Персию.
В то время резидентом ГПУ в Персии был Казас, тот самый, который работал со мной в 1921 году в 14-м специальном отделении ВЧК. Оказалось, он ездил в Турцию с комиссией по репатриации эмигрантов, вернувшись в Москву, поступил в Академию восточных языков и после ее окончания получил назначение в Тегеран. Он там работал уже год, но иностранный отдел ОГПУ не был им доволен, вменяя ему в вину отчасти бездеятельность, отчасти то, что он вмешался в склоку, происходившую в Тегеране между тогдашним полпредом Юреневым и торгпредом Гольдбергом.
В ожидании окончательного выяснения вопроса о назначении я сидел в Москве, когда однажды меня вызвал по телефону Трилиссер и задал вопрос:
— Как вы думаете, могли бы мы переправить нелегально людей в Индию через Афганистан?
Учитывая подкупность афганских чиновников и силу оставленной мною в Афганистане агентуры, я ответил, что, конечно, это возможно.
— Можете ли вы гарантировать доставку одного или двух лиц в Индию?
Я сказал, что гарантировать, конечно, не могу, но если дело серьезное, то я сам могу проводить этих лиц и уверен, что провезу их благополучно через весь Афганистан и доставлю на территорию независимых племен, откуда эти лица уже сами могут пробраться в Индию. Успех дела зависел главным образом от того, насколько отправляемые лица знакомы с языком страны, и от их наружности. Трилиссер сказал, что человек, которого надо переправить в Индию, подходит наружностью к восточному типу и владеет восточными языками.
На следующий день Трилиссер вызвал меня и велел ехать с ним, не говоря куда. Мы ехали из ГПУ в его личном автомобиле, подъехали к зданию Коминтерна и через несколько минут оказались в кабинете Пятницкого, заведующего международной связью Коминтерна. Трилиссер представил меня Пятницкому в очень лестных выражениях. Пятницкий стал расспрашивать меня о путях между Афганистаном и Индией и об имеющихся там у нас возможностях. Затем в кабинете появился человек, которого надо было тайно переправить в Индию. Он оказался Роем — главой индийской коммунистической партии, членом Исполкома Коминтерна. Мы стали обсуждать маршруты в Индию, но не могли прийти к определенному решению. Я предлагал ехать нелегально через Афганистан, Рой же хотел ехать до Кабула с советским паспортом и только там, выбрав окончательно путь, перейти на нелегальное положение. Пятницкий не одобрял ни одного из этих проектов. Он указывал на колоссальную потерю времени, которую вызовет переезд через Афганистан верхом на лошадях, и предлагал Рою ехать с американским паспортом через Америку прямо в один из индийских портов. В результате долгого спора мы ни к чему не пришли и решили оставить вопрос открытым до следующего дня. На следующий день я явился в назначенный час в гостиницу «Люкс» на Тверской улице (общежитие Коминтерна, куда посторонних без пропуска не пускают). Рой принял меня в своей комнате и сообщил, что вопрос о маршруте по-прежнему не разрешен, а когда будет разрешен, он сообщит об этом Трилиссеру.
Рой сейчас находится в опале, под подозрением, и, кажется, проживает в Германии. По-видимому, он уже тогда не пользовался большим доверием, так как я помню, когда мы вышли из Коминтерна, Трилиссер меня спросил:
— Что вы думаете о Рое?
Я сказал, что, по-моему, Рой просто соскучился по родине и хочет проехать хотя бы в сопредельную с ней страну, Афганистан. Рисковать же не хочет, чем и объясняется его желание иметь при себе легальный советский паспорт. Трилиссер ответил, что тоже считает Роя шкурником и не особенно ему доверяет.
Я не дождался ответа. В Москву приехал Гольдберг, торгпред в Персии, явился в ГПУ и, рассказав о своей склоке с полпредом Юреневым, просил поддержать его. ОГПУ воспользовалось случаем и предложило ему устроить меня в торгпредстве, взамен чего обещало поддержку против Юренева. Я был немедленно зачислен в штаты Наркомторга на должность старшего инспектора торгпредства с назначением в Тегеран.
В августе 1926 года я выехал через Баку — Энзели в Тегеран, причем на прощание Трилиссер еще раз просил меня обратить особое внимание на пути, ведущие из Персии в Индию, и сказал, что его заветная мечта — иметь хорошего резидента ГПУ в Индии; не какого-нибудь местного агента, а одного из своих помощников по иностранному отделу.
Я пообещал сделать все, что в моих силах.
* * *
Не успел я приехать в Тегеран, как стали поступать телеграммы из Мешеда, от советского консула Кржеминского и от резидента ГПУ: консул просил убрать резидента, а резидент требовал отзыва консула. Ввиду важного значения для нас Мешеда, где мы перехватывали английскую почту, я отложил прием дел в Тегеране и выехал в Мешед, якобы для инспектирования советских хозяйственных учреждений.
В Мешеде я застал склоку между консулом и резидентом ГПУ Брауном в полном разгаре. Распря разгорелась из-за жены секретаря консульства Левенсон, в которую оба были влюблены и которая отдавала предпочтение поочередно то консулу, то резиденту ГПУ.
Браун был старым партийцем и личным приятелем Трилиссера. В 1924 году он работал для ГПУ в Лондоне, затем, после разрыва сношений с Англией, был отправлен в Китай и из Китая, как знающий английский язык, переведен в Мешед, для перлюстрации английской почты. По профессии он был ювелир, едва умел читать и писать и попал за границу на службу ГПУ только благодаря личной дружбе с Трилиссером и знанию английского языка. Кржеминский же был вполне образованным человеком и тонко разбирался в персидских делах, несмотря на недавнее пребывание в Персии, зато был необыкновенно ленив и больше всего на свете ценил личное благополучие и женщин. Видя, что склока между этими двумя ответственными работинками доходит до рукопашных схваток, я откомандировал Брауна в Москву и сам принял от него дела до приезда нового резидента ГПУ в Мешед.
Приняв дела резидентуры, я убедился, какую крупную работу проделал здесь Апресов.
Английское генеральное консульство в Мешеде состоит из генерального консула и военного атташе, являющегося одновременно представителем индийского Генерального штаба. Оба они переписываются с британским посланником в Тегеране и с индийским генеральным штабом. Штаб информирует военного атташе о положении на Востоке посредством месячных и шестимесячных сводок. Всю эту переписку мы аккуратно получали и пересылали в ОГПУ в Москву. Делалось это следующим образом. У Апресова состоял агентом некто Мизроев, глубокий старик, азербайджанец, родившийся в Персии. Мизроев еще в 1923 году завербовал на персидской почте чиновника, ведающего иностранной корреспонденцией. Между Персией и Индией английские дипломатические курьеры очень редки, и пакеты, запечатанные сургучными печатями, обычно доверяются для отправки персидской почте. Завербованный нами чиновник задерживал на сутки корреспонденцию, полученную на имя английского консула, и вечером, в день получения, передавал ее нам через Мирзоева. Мы немедленно вскрывали пакеты, копировали документы и в ту же ночь возвращали обратно. На следующее утро почта благополучно доставлялась английскому консулу.
Апресов обрабатывал почту самым примитивным способом. По особому рецепту ГПУ снимался слепок с печати, представлявший собой в застывшем виде точную копию печати на пакете. Затем печать ломалась, и посредством специально сделанных костяных спиц невредимо вскрывался конверт. По окончании операции конверт опять заклеивался и запечатывался копией печати. Апресов документов не фотографировал, так как не имел необходимых для этого приспособлений, а переписывал; чтобы успеть переписать документы за ночь, он пользовался почти всем наличным персоналом консульства. Это было опасно и грозило провалом работы.
Браун несколько улучшил дело, начав фотографировать документы. Так как в здании консульства не было электричества, он пользовался магнием. Я продолжал работать в духе Брауна. Связь между почтовым чиновником и нами поддерживал Мирзоев. К сожалению, старик долго не выдержал. Надо сказать, что в бытность Апресова консулом персидское правительство заподозрило Мирзоева однажды в шпионаже в пользу Советов, арестовало и заключило в подвал, наполовину наполненный водой. Мирзоев просидел в воде несколько часов, пока Апресов выхлопотал у губернатора приказ о его освобождении. Холодная ванна не прошла старику даром. Через некоторое время он тяжко заболел и скончался.
Мирзоева заменил его старший сын Гуссейн. Для того чтобы отвести от него подозрения, ГПУ распорядилось отпустить Мирзоеву на 3 тысячи долларов советских товаров и помогло открыть мануфактурную лавку. С полученными на почте пакетами Мирзоев приходил вечером в советский клуб. Ночью, после перлюстрации, мы доставляли пакеты на квартиру Мирзоева, а он в свою очередь, через сестру, рано утром возвращал их чиновнику почты. Платили мы за работу сдельно, за каждый пакет по доллару. За мое трехмесячное пребывание в Мешеде мы уплатили Мирзоеву около 600 долларов, то есть вскрыли за это время около 600 английских пакетов.
В поступавших из Тегерана пакетах на имя английского военного атташе большей частью находились месячные сводки о положении в Персии, рассылавшиеся военным атташе майором Фрезером всем британским консульствам для сведения.
Из Индии поступали сводки о положении в Западном Афганистане и в Южной Персии, по донесениям Белуджистанского осведомительного бюро и английского военного атташе в Кабуле. Наконец, поступали отпечатанные в виде брошюры шестимесячные сводки о положении на всем Дальнем и Среднем Востоке.
На имя английского генерального консула серьезных бумаг не поступало. Нужно добавить, что в то время я еще совершенно не был знаком с английским языком и получаемые документы отправлял для перевода в Москву. Оттуда мне присылали обратно в переводе все, что меня могло интересовать. Помню, что в одном из документов из Индии военного атташе предупреждали, что большевики послали для работы в Ирак и Индию двух индусов (фамилии не помню) и просили в случае их появления в Персии дать знать в индийский штаб.
Иногда Мирзоев не заставал нас в клубе и привозил пакеты прямо в консульство. Однажды мы чуть не провалились с нашей работой. Было 8 часов вечера. Я принял пакеты от Мирзоева и стал торопливо вскрывать, чтобы поспеть к 10 часам на свидание с другим агентом. Вскрывая один из пакетов, адресованных военному атташе майору Уйлеру, я нечаянно сорвал нитку, которой был прошит пакет, и испортил наружную сторону конверта. Мирзоев, находившийся тут же в комнате, от ужаса чуть не упал в обморок. В пакете оказалась дислокация советских технических войск в Петроградском районе. На наше счастье, этот конверт, вместе с другим, находился в одном общем большом пакете. Выход был найден. Мы стерли резинкой номер испорченного конверта на наружном пакете и оставили в нем вместо двух только один конверт для англичан. Из осторожности мы на некоторое время прекратили перлюстрацию почты, чтобы убедиться, не догадались ли о чем-нибудь англичане. Но почта продолжала так же нормально поступать, и мы возобновили прерванное дело.
Приняв дела резидентуры в Мешеде, я послал телеграмму в Москву с просьбой выслать скорее заместителя. Москва ответила, что заместитель подыскивается и прибудет не раньше двух-трех месяцев, поэтому я должен начать работать по освещению всей Хоросанской провинции.
Кроме того, на меня возлагалась задача организовать сеть ГПУ в Белуджистане с выяснением путей на Индию.
Я деятельно принялся за работу. Занимая официальную должность инспектора в советском торгпредстве, я жил в здании консульства вместе с Кржеминским. Уполномоченным торгпредства был некто Деницкий, старый чекист, оказывавший мне всяческое содействие в работе.
В течение месяца благодаря торговым связям Деницкого были завербованы персидские купцы в Мешеде — М-вы, Гаджиевы, Садри-Тоджар, Даниш и ряд других, доставлявших нам нужные сведения и знакомивших нас с нужными людьми. В это время как раз обсуждался торговый договор между СССР и Персией. Персидское правительство, желая вынудить советское правительство на уступки, организовало экономический бойкот, препятствуя вывозу персидских товаров на советские рынки. Шла соответственная обработка общественного мнения, в которой, по сведениям наших агентов, играли немалую роль англичане. Нужно было дезорганизовать группу бойкота. Для этой цели нами были использованы вышеназванные купцы, которые, по нашим указаниям, провоцировали одних, подкупали других и разлагали боровшийся с нами лагерь.
Так, например, в то время очень часто устраивались собрания купцов. Если на собраниях выступали сильные сторонники антисоветской торговли, то наши агенты устраивали шумный скандал и срывали собрания.
В самый разгар бойкота благодаря помощи вышеназванных купцов мы завербовали Садри-Тоджара, одного из активных руководителей антисоветского движения. За эту работу мы расплачивались с купцами не деньгами, а лицензиями — разрешениями на ввоз того или другого выгодного товара в СССР.
Мешед является религиозным центром мусульман шиитов. Там находится гробница одного из чтимых мусульманских святых Али-Ризы. При гробнице святого состоят около трех тысяч священнослужителей; среди них имеются лица, оказывающие крупное влияние на политическую жизнь Персии. Естественно, что мы направили нашу работу в эту сторону, вербуя агентов среди духовных лиц для тех же политических целей. В этом отношении нам много помог тот же купец Садри-Тоджар. Задача его облегчалась тем, что он был зятем Ага-заде, главы мешедского духовенства. Через Ага-заде Садри-Тоджар проводил нужные нам действия. Например, во время экономического бойкота нам важно было, чтобы купечество Мешеда само обратилось к персидскому правительству с требованием скорее заключить торговый договор с СССР. Телеграмма правительству должна была выражать независимое мнение купечества. Ага-заде дал свое благословение на посылку трех таких телеграмм, и стоило это нам… лицензии на ввоз в СССР из Персии 500 кубов чаю.
Нас интересовали религиозные дела также потому, что религиозные группы Персии находились в оппозиции к правительству. Мы рассчитывали в нужный момент использовать этот антагонизм.
Стараясь влиять на общественное мнение, нельзя было, конечно, обойти вниманием местную печать. На деньги ГПУ издавались газеты, помещавшие нужную нам информацию, и на советском иждивении состояли редакторы газет Азад, Сеид-Мехти и Гулыпан.
Интересный тип был Сеид-Мехти. Еще в 1920 году, когда в Туркестане имелась восточная секция Коминтерна, Сеид-Мехти приехал из Мешеда в Ашхабад и сообщил местным руководителям, что у него имеется организованная партия коммунистов в две тысячи человек. Был послан в Мешед представитель Коминтерна, который при обследовании не нашел ни одного члена партии. Однако ему начали с тех пор отпускать деньги на газету, на заглавном листе которой Сеид-Мехти и сейчас для рекламы печатает лозунг: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь».
Кроме информации от собственных агентов, мы пользовались также услугами членов местной коммунистической партии. Иранские коммунисты сообщали сведения через переводчика советского консульства Гуссейнова.
Иранская коммунистическая партия информировала нас главным образом о подозрительных лицах, поехавших в СССР, и давала вообще сведения о лицах, которыми мы интересовались.
Так я работал в Мешеде, «инспектируя советские хозучреждения», открыто встречаясь с публикой, обрабатывая полученные сведения, а вечерами перлюстрируя английскую дипломатическую почту.
Читатель видит, что в 1926 году советское консульство в Мешеде являлось одновременно представителем 3-го Интернационала, точно так же, как в 1924–1925 годах полномочный представитель СССР Старк в Афганистане одновременно являлся тайным представителем Коминтерна и руководил работой 3-го Интернационала в Афганистане и северных провинциях Индии. Советская и заграничная печать того времени, однако, упрямо утверждала, со слов народного комиссара иностранных дел Чичерина и его заместителя Литвинова, что советская власть совершенно обособлена от 3-го Интернационала и что Коминтерн, «пользуясь гостеприимством советской республики, никакого отношения не имеет к советской власти, поэтому правительство СССР не может брать на себя ответственность за его действия».
Удивительно, до чего бывает упорна слепота некоторых государственных людей Европы. До сих пор многие из них не хотят понять того, что разделения между советской властью и 3-м Интернационалом не было и нет, не могло быть и не может быть. Неужели их не убеждает даже то, что председатель Коминтерна, ныне генеральный секретарь, всегда совмещает свою должность со званием члена политбюро Центрального комитета партии, то есть состоит одновременно членом органа, фактически руководящего советской политикой и управляющего Советским государством.
Все государственные мероприятия, все планы внутреннего российского и международного характера обсуждаются предварительно в политбюро: каждый член политбюро, в том числе и председатель Коминтерна, должен неуклонно руководствоваться принятыми решениями. Глава Коминтерна принимает непосредственное участие в решении вопросов внутренней и внешней политики советского правительства. Остальные члены политбюро принимают точно такое же участие в разрешении вопросов и задач, стоящих перед 3-м Коммунистическим интернационалом. Факт неоспорим. Первый председатель Коминтерна Зиновьев был одновременно одним из активных руководителей политбюро. Его преемник — Бухарин — не только входил в состав политбюро, но одновременно являлся официальным идеологом российской коммунистической партии. И наконец, ныне Молотов — новый руководитель Коминтерна — не только член политбюро, но правая рука Сталина, диктатора России.
Нет поэтому ничего удивительного в том, что дипломатические и торговые представители советского правительства за границей выполняют поручения Коминтерна и зачастую руководят пропагандой 3-го Интернационала в странах, куда их пустили правительства, поверившие лицемерным заявлениям и обманным обещаниям Литвинова. Примеров этому я приводил достаточно.
Глава 9 Организация работы ОГПУ в Белуджистане
Кроме Мешедского района, мне было поручено вести работу в персидском Белуджистане и в пограничном с Индией городе Дуздабе. От ташкентского ГПУ я имел также поручение организовать разведку в пограничной с советским Туркестаном полосе.
Первым агентом, посланным мною в Бирджан, на территорию Белуджистана, был полковник царской армии Гофман. Он выехал в Бирджан в качестве представителя торгового общества «Шерсть» якобы для закупки шерсти для советской России. Полковник работал в Белуджистане под кличкой Пан. Он давал нам описания всех дорог и стратегических пунктов, лежащих в приграничной с Индией полосе. Специальное военное образование весьма помогало ему в работе. Имея личные знакомства среди белуджских племен, он одновременно выяснял силу и состав этих племен, взаимоотношения вождей, давал их личные характеристики и выяснял их отношения к англичанам. Все это нам нужно было, чтобы в случае надобности знать, на кого можно рассчитывать. Помимо этого, Пан давал экономические обзоры и присылал материалы о деятельности эмигрантов из СССР, поселившихся в этом районе.
Другой агент ГПУ, бывший царский генерал Самойлов, расположился в Дуздабе, на самой границе Индии. Он давал нам материалы по провозоспособности железной дороги Дуздаб — Карачи, освещал английскую колонию в Дуздабе, давал сведения о местной персидской администрации и ее взаимоотношениях с английскими представителями. Мы Самойлову особенно не доверяли, и, чтобы обеспечить себя от измены, отправили в СССР «учиться» его сына, жившего в Мешеде и работавшего для ГПУ по добыче персидских секретных военных приказов.
Во время пребывания бывшего афганского эмира Амануллы в СССР сын Самойлова, прекрасно знающий персидский язык, был приставлен ГПУ лакеем к Аманулле. Не выдавая своего знания персидского языка, он должен был подслушивать разговоры между Амануллой и членами свиты и сообщать о них в ГПУ.
Сведения, собранные Самойловым-отцом и Гофманом, отправлялись резиденту ГПУ в Мешед через бывшего эмигранта, некоего Белыпина, собственника автомобилей, курсирующих между Дуздабом и Мешедом.
Одновременно велась работа по организации агентурной сети в пограничной с СССР полосе. В персидском пограничном городе Баджиране был устроен на службу в бюро персидских перевозок агент ГПУ Алексей Пашаев. Он должен был освещать Баджиранскую таможню, следить за контрабандистами, переходившими из Персии в СССР, и давать сведения о местной администрации и настроении населения. В городе Кучане представителем ГПУ являлся агент Нефтесиндиката Михаил Ганиев, старый тамошний житель, дававший детальные сведения о своем районе, где нас главным образом интересовали настроения курдских племен. Одновременно он должен был наблюдать за секретным агентом английского консульства Арамаисом, проживавшим в Кучане и ведшим оттуда разведку СССР.
Наконец, в районе Буджиурда в качестве представителя ГПУ был командирован из Мешеда эмигрант Круглов, на которого была возложена задача освещать настроения туркменских племен. За эту работу ему была обещана от имени советского правительства амнистия и восстановление в правах советского гражданина.
Не буду перечислять мелких агентов, так как их было около пятидесяти человек. Скажу просто: сеть была организована так хорошо, что не было распоряжения или действия персидского правительства, не было документа в дипломатической переписке, которые не были бы нам известны. Благодаря хорошо организованной сети агентов мы имели почти неограниченную возможность влиять в нужном для нас духе на персидскую администрацию в Мешеде. Нашли мы управу даже на губернатора.
Однажды ночью в советское консульство прибежал редактор коммунистической газеты «Азад» (фамилия его также Азад) и сообщил, что он только что убежал из дома, куда явилась полиция, чтобы его арестовать. Увидев полицейских и узнав, чего они хотят, он выпрыгнул в окно и побежал искать спасения в консульстве. Посоветовавшись с консулом Кржеминским, мы решили его не выдавать и оставили его у себя, хотя не были уверены, удобно ли скрывать члена иранской коммунистической партии в здании советского консульства. Переговоры тянулись три дня, но увенчались успехом. Губернатор разрешил Азаду выехать из Хоросанской провинции, дав слово не арестовывать его в пути следования. Не вполне доверяя слову губернатора, мы все-таки решили лично проводить Азада до границы провинции. Ночью мы выехали на консульском автомобиле якобы на охоту, довезли Азада до города Нишабура, а там пересадили его в другой автомобиль, который благополучно доставил его в Тегеран.
* * *
С приходом к власти консервативной партии отношения Англии с СССР все более ухудшались, и Москва, ожидая прямого или косвенного нажима со стороны Англии, в каждой почте напоминала мне о необходимости скорее приступить к организации агентурной сети внутри Индии. Мне ставилась задача подготовить на случай конфликта с Англией возможность восстания на индийской границе из Индии. Подготовка должна была заключаться в подкупе вождей племен, расположенных у индийской границы, и устройстве тайных складов оружия, которым можно было бы в нужный момент вооружить племена и двинуть на Индию.
Ощупывая почву в этом направлении, я через одного купца познакомился с Сауледом Салтанэ, персидским губернатором пограничного с Афганистаном участка Бехраз. Губернатор являлся одновременно вождем племени хазара, расположенного по обе стороны границы, на территории Персии и Афганистана. Это был сравнительно молодой человек, большой кутила, промотавший почти все свое состояние и по горло завязший в долгах. Осторожно начав переговоры, мы наконец условились, что он будет помогать нам своими людьми и перебрасывать из СССР в Афганистан оружие и людей в любом количестве. В Афганистане он обещал свести нас с друзьями, которые сумеют переправить оружие в Кандагар и дальше в афганский Белуджистан. О ходе переговоров я подробно и систематически осведомлял Трилиссера.
Организовывая тайную агентуру ГПУ, я не забывал, что ношу официальное звание старшего инспектора торгпредства, и попутно ревизовал советские хозяйственные учреждения в Хоросане. Это были громоздкие аппараты с раздутыми штатами сотрудников, проедавшие не только всю прибыль от торговых операций, но часто и основной капитал учреждений. Так, например, местное отделение Хлопкового комитета (Хлопком), обороты которого доходили до полутора миллионов долларов в год, не имело ни сметы, ни денежных отчетов за прошлые два года и фактически тратило деньги как взбредало в голову руководителю учреждения. Обнаружились колоссальные хищения. В то время как по книгам значился расход в 40 тысяч долларов на покупку хлопкового завода в Сабзеваре, по ревизии оказалось, что никакого завода в Сабзеваре нет, а стоят какие-то развалившиеся глиняные стены, среди которых даже козе переночевать негде…
Ревизия, произведенная в бюро персидских перевозок, показала, что бюро перевозило грузы персидских купцов в кредит, и затем этот кредит использовался заведующим бюро Алахведовым в собственных целях. Представитель торгового общества «Шарк» просто сидел с тремя служащими в течение двух лет без всякого товара и расходовал ежемесячно на себя и на содержание «аппарата» около тысячи долларов, и т. д.
По моему предложению была составлена комиссия из представителей консульства, торгпредства и ячейки компартии для чистки всех хозяйственных учреждений. В течение двух месяцев общее число «сокращенных» достигло 250 человек.
В начале января 1927 года пришла телеграмма из Москвы от Трилиссера с извещением, что заместитель мне найден и выехал в Мешед. После передачи дел моему преемнику мне предлагалось немедленно выехать в Москву для обсуждения плана работы ГПУ в Индии и для отправки туда Роя, так как заведующий международной связью 3-го Интернационала Пятницкий принял наконец мой план.
В начале февраля приехал мой преемник Михаил Бродский с официальным назначением на должность секретаря консула под фамилией Лагорский. Я быстро сдал ему дела и, ознакомив его в общих чертах с работой, выехал в Москву.
Через несколько дней после моего приезда в Москву Наркоминделу была вручена ультимативная нота министра иностранных дел Англии Чемберлена с требованием прекратить коммунистическую пропаганду в британских владениях и с угрозой разрыва дипломатических отношений. Советское правительство очень встревожилось. Трилиссер предложил отложить организацию работы в Индии до более благоприятного момента, а мне поручил «изучать индийские возможности» из Персии. Ехать я должен был немедленно. Совершив, таким образом, бесполезную поездку, я через несколько дней уехал обратно в Тегеран.
Глава 10 Советский шпионаж в Азербайджане
В конце апреля 1927 года я занял в Тегеране официальную должность атташе полпредства и, поселившись в здании полпредства, принял дела у прежнего резидента ГПУ Казаса.
Казас уже год работал в Персии, причем заботился исключительно о личном благополучии.
Ежемесячное жалованье в 300 долларов на всем готовом его не удовлетворяло. Пользуясь своим влиянием, он устроил на службу в советских учреждениях Персии свою жену и сестру на такое же жалованье. С теплым местом ему, конечно, не хотелось расставаться, и мой приезд его мало обрадовал. Этот «идеальный коммунист», ответственный представитель авторитетнейшего учреждения советской республики, ГПУ, жестоко карающего за всякое нарушение законов и партийной этики, вывез с собой из Тегерана 28 пудов багажа: чемоданы его были набиты всевозможными дорогими тканями, которых, если он не перепродал их из-под полы в Москве, должно хватить ему на десятки лет. Вез он этот громоздкий и дорогой багаж в то время, когда рядовым сотрудникам полпредства разрешалось ввозить с собой в СССР только два костюма и полдюжины белья. Вооруженный дипломатическим паспортом и полномочиями ГПУ, Казас, однако, без всякого осмотра провез свои 28 пудов через советскую таможню и благополучно доехал до Москвы.
Состояние тегеранской резидентуры при моем приезде было таково: под номером один числился некий Абдулла, по профессии доктор, по национальности курд, работавший секретным агентом еще при царском посольстве. Он имел колоссальные связи в столице и, ежедневно обходя знакомых и пациентов, каждое утро являлся в посольство и составлял сводку собранных накануне сведений.
Номером третьим был армянин Орбельяни, тегеранский корреспондент телеграфного агентства ТАСС. Орбельяни состоял членом иранской коммунистической партии и членом армянской рабочей партии, а в тайной сети ГПУ был групповиком, то есть в своем распоряжении имел целую группу секретных агентов. На нем лежала задача поддерживать связь с членами группы и вербовать новых агентов для работы в ГПУ.
Номером четвертым был чиновник министерства общественных работ в Персии, бывший родственник министра двора Теймурташа. Его братья, работавшие в министерстве финансов, носили номера восемь и девять. Три брата каждый вечер доставляли Орбельяни всю переписку, поступавшую в министерства финансов и общественных работ. Орбельяни выбирал из нее все, что может интересовать ГПУ, фотографировал документы, и затем переписка доставлялась обратно в министерства. Учет документов в персидских министерствах поставлен настолько плохо, что иногда некоторые интересовавшие нас дела (например, дело об англо-персидской нефтяной кампании или дело о дорожном строительстве) мы иногда задерживали на несколько дней. Никто в министерстве этого не замечал.
Номер семь — некто Май — работал в торгпредстве и также был руководителем группы секретных агентов. На его обязанности, как экономиста, лежало наблюдение за советскими хозяйственными учреждениями в Тегеране, за их операциями и за жизнью советской колонии. Он имел информаторов во всех советских учреждениях и знал все, что в каждом учреждении происходит. На его обязанности также лежало составление для ГПУ ежемесячных отчетов о хозяйственном положении Персии.
Номер десять — бывший редактор газеты, родственник одного из руководителей Хоросанского восстания, имел хорошие личные связи в Тегеране и передавал нам полезные сведения. Это был энергичный молодой человек, и впоследствии, как читатель увидит, он оказал ГПУ очень важную услугу.
Следующим номером был шестнадцатый — принц из дома Каджаров, ответственный работник министерства общественных работ. Он информировал нас о всех планах министерства и доставлял интересовавшие нас документы. Мы, таким образом, держали в одном министерстве двух человек, которые, не зная друг о друге, давали часто одни и те же сведения. Это позволяло контролировать добросовестность их работы.
Вот приблизительно все, что имелось в Тегеране к моему приезду. Положение в провинциях было не лучше. Хоросан и Белуджистан находились в непосредственном подчинении Москве. Гилянская провинция подчинялась бакинскому ГПУ, представитель которого Михаил Ефимов сидел в Пехлеви на должности делопроизводителя советского консульства.
Азербайджанская провинция с центром в Тавризе находилась в ведении тифлисского ГПУ. Его представитель Минасьян занимал официальную должность делопроизводителя советского генерального консульства в Тавризе, но подчинялся только Тифлису. Одновременно в Тавризе имелся также представитель центрального ГПУ, генеральный консул Дубсон. И Минасьян и Дубсон работали самостоятельно и независимо: один — на Тифлис, другой — на Москву.
На юге Персии мы не имели собственной агентуры и пользовались консульскими донесениями.
В Москве знали о плохой работе в Персии, о неразберихе в отношениях и неопределенности обязанностей сотрудников. Мне были даны поэтому следующие директивы:
1) централизовать работу ГПУ в Персии и подчинить себе работников ГПУ во всех провинциях;
2) организовать агентуру на юге Персии и продвинуть ее в юго-восточном направлении — на Индию и в юго-западном направлении — на Ирак;
3) обратить особенное внимание на освещение племен Южной Персии, населяющих район Хузистана, где расположена концессия англо-персидской нефтяной компании, и, наконец,
4) освещать саму концессию.
Ознакомившись с делами резидентуры ГПУ и с обстановкой, я взялся сначала за централизацию агентурной сети. Задача была нелегкая. Всюду царила склока, без которой не обходится ни одно советское учреждение за границей. Тифлисское и бакинское ГПУ не желали выпускать руководства из своих рук.
Пришлось ждать случая, чтобы начать действовать в захваченных ими районах. Случай скоро представился. В конце мая 1927 года начали поступать донесения генерального консула в Тавризе Дубсона и резидента ГПУ Минасьяна, обвинявших друг друга во всех смертных грехах и требовавших взаимного отозвания. Склока возникла в процессе работы ГПУ. Имея каждый свою агентурную сеть, Дубсон и Минасьян использовали ее друг против друга. Распря приняла резкий характер. Полпред СССР Юренев предложил мне поехать в Тавриз для расследования дела.
Прежде чем приступить к расследованию, я ознакомился с работой обоих представителей ГПУ. У консула Дубсона я не нашел ничего ценного, за исключением нескольких информаторов, снабжавших его базарными сплетнями.
При их помощи он старался вылавливать агентов своего соперника Минасьяна, мешая ему работать.
Минасьян же был хорошим работником. Основной своей задачей он поставил добычу документов. Тавриз является пунктом, откуда армянская партия Дашнакцутюн ведет революционную работу в советской Армении и в турецком Курдистане. Из Тавриза же руководит работой в советском Азербайджане партия мусаватистов. Представителем партии Дашнакцутюн в Тавризе был некто Ишханьян. О своей деятельности он систематически информировал Центральный комитет партии в Париже, и от Центрального комитета получал указания для дальнейших действий и сведения о положении партийных дел в других центрах. Переписка шла по почте, причем письма посылались обеими сторонами в зашифрованном виде и писались химическими чернилами. Шифр дашнаков и состав химических чернил был известен ГПУ. Оставалось организовать перехватывание писем.
Минасьян завербовал на службу в ГПУ одного из крупных чиновников Тавризского почтового отделения, через которого все письма дашнаков и мусаватистов передавались нам для снятия копий. По этим письмам мы узнавали, кого и с какими целями партия дашнаков тайно отправляла в советскую Армению. Ишханьян подробно информировал обо всех планах партии Центральный комитет. Письма давали подробные сведения о роли и участии членов дашнакской партии в курдском движении против турок.
Ишханьян посылал в Париж доклады Арташеса Мурадьяна, работавшего среди курдов. Эти доклады подробно осведомляли нас о курдском движении, о силах курдов и их революционных планах. Мы знали не только курьеров связи заграничных дашнаков с советской Арменией, но и узнавали имена и адреса их сообщников в Армении. Армянское ГПУ получало, таким образом, возможность ликвидировать ячейки дашнаков по мере их возникновения и созревания.
Точно то же было с партией мусаватистов. Представитель мусаватистов в Тавризе Мирза-Бала переписывался с константинопольской группой. Перехватывая его письма, мы получали сведения не только о работе мусаватистов в Азербайджане, но и о работе их в Константинополе. Мы знали о переговорах, происходивших в Константинополе между мусаватистами и остальными кавказскими группами: горцами, дашнаками, меньшевиками и т. д., старавшимися объединиться в одну группу под общим названием «Комитет единения», ибо, как заявлял один из представителей этих партий, «иностранцы не хотят давать материальной помощи, пока мы не объединимся». Из писем мы всегда узнавали о приезде в Константинополь представителя польского правительства Т. Голувко, с которым поддерживали связь эти группы и у которого они финансировались до 1928 года. Поляки, субсидировавшие их по тысяче долларов ежемесячно, перестали платить, убедившись в бездеятельности групп.
Для снятия копий с писем Минасьян имел прекрасно оборудованную лабораторию при консульстве, где он жил и откуда управлял агентурой ГПУ. У Минасьяна была богатая сеть информаторов среди местной армянской и тюркской колоний, точно осведомлявшая его о том, кто и откуда приезжает и кто куда уезжает.
Находя, что две независимые агентурные сети в одном и том же городе всегда будут сталкиваться и мешать друг другу, особенно когда их руководители находятся во враждебных отношениях, я решил объединить работу в руках одного лица. Естественно, мой выбор остановился на Минасьяне. С тифлисским ГПУ мы пришли к соглашению: я объединяю в руках Минасьяна всю работу в Азербайджанской провинции, помогая ему людьми и материальными средствами, а Минасьян переходит в мое подчинение, одновременно продолжая информировать тифлисское ГПУ по интересующим Тифлис вопросам.
Минасьян устроил мне свидание с агентом, работавшим на почте. В разговоре с ним выяснилось, что он может снабжать нас не только письмами дашнаков и мусаватистов, но также перепиской английского, турецкого и германского консулов. К жалованью в 100 долларов в месяц я добавил 50, и почтовый чиновник согласился доставлять в ГПУ и корреспонденцию иностранных консулов. Первые пакеты начали поступать к Минасьяну до моего отъезда из Тавриза.
* * *
Нас очень интересовал курдский вопрос. В Москве, в иностранном отделе ГПУ, мы пришли к следующим выводам: курдские племена в настоящее время разбиты между четырьмя государствами — Турцией, Ираком, Персией и советской Россией.
Все они расположены на путях, ведущих из Ирака на Кавказ, и в будущем столкновении между Англией и Россией поведение их будет иметь колоссальное значение для воюющих сторон. Надо добавить, что курдский народ сам по себе представляет великолепный военный материал. Перед нами, таким образом, стояла задача заблаговременно подготовить курдские племена к выступлению против Ирака, где, по сведениям ГПУ, концентрировались воздушные силы англичан. Для разрешения задачи советское правительство предполагало в 1927 году объявить «самостоятельной республикой» маленький кусочек Курдистана, находящийся на советской территории, чтобы этим путем привлечь на сторону Советов симпатии остальных курдских племен. Однако проект встретил сопротивление со стороны Наркоминдела, опасавшегося обострить отношения с турецким и персидским правительствами. Пришлось принять другой план: обрабатывать курдские племена нелегальным путем. Для этой цели необходимо было тщательно изучить состояние племен, познакомиться с вождями, насадить в Курдистане агентуру ГПУ и постепенно подготовлять племена к заключению тайного союза с нами на случай выступления против враждующей с СССР стороны.
Центром работы был назначен Соудж-Булак.
Одновременно Минасьяну было поручено освещать экономическую и политическую жизнь азербайджанской провинции, изучать пути сообщения и экономического проникновения англичан в этот район Персии. У нас были сведения о готовившейся прокладке дороги из Тавриза в Трапезунд, а с другой стороны, англичане уже строили дорогу из Ирака к Урмийскому озеру и создавали флотилию на озере. Советские торговые учреждения были сильно обеспокоены этими приготовлениями. Азербайджанская провинция могла стать экономически независимой от советской России, найдя другие пути для вывоза товаров в Европу. С потерей же экономического влияния мы, естественно, рисковали потерять и политическое влияние.
Глава 11 Работа ОГПУ в Тегеране
Вернувшись в Тегеран, я узнал, что за время моего отсутствия агент номер 10 завербовал шифровальщика при Совете министров Персии. Шифровальщик был обозначен номером 33. Это было очень кстати, потому что как раз в это время начались торговые переговоры в Москве между Караханом и персидским послом Али-Гули-ханом. Благодаря услугам шифровальщика Совета министров мы имели возможность получать все инструкции, посылавшиеся персидским правительством своему представителю в Москве. Мы знали, по каким пунктам Персия готова уступить в крайнем случае, а из ответных телеграмм Али-Гули-хана узнавали его подлинное мнение о различных пунктах проекта.
Эти сведения сослужили колоссальную службу нашему послу в Тегеране, который в беседах с министром двора Теймурташем знал все его карты так хорошо, словно держал их в собственных руках.
Насколько хорошо было поставлено перехватывание шифрованных телеграмм персидского правительства, можно судить по следующему случаю: однажды полпред Давтьян, вернувшись от министра Теймурташа, вызвал меня и сообщил, что ему удалось убедить Теймурташа на некоторые уступки. Теймурташ обещал в тот же день послать соответственные инструкции Али-Гули-хану в Москву. Не будучи уверен, сдержит ли Теймурташ обещание, Давтьян просил достать телеграмму, которую отправит Теймурташ. Полчаса спустя после беседы копия телеграммы была в наших руках. Давтьян убедился, что Теймурташ выполнил обещание.
* * *
Вернусь назад, ко времени, когда полпредом в Персии был Юренев. Приехав из Тавриза, я не застал торгпреда Гольдберга. Юренев, находившийся с ним не в ладах, настоял на его отозвании в Москву. Вслед за Гольдбергом начались увольнения его сторонников из хозяйственных учреждений. На место Гольдберга приехал Буду Мдивани, бывший до этого торгпредом в Париже.
Мдивани играл крупную политическую роль на Кавказе, был личным другом Ленина и Сталина, но в 1923 году оказался на стороне Троцкого. Чтобы лишить его возможности вести пропаганду среди кавказских коммунистов, у которых он пользовался большой популярностью, его выслали в Париж на должность торгпреда. В торговых операциях он, конечно, ничего не смыслил, да и не интересовался ими. К своему назначению сначала в Париж, потом в Персию он относился как к ссылке.
Вместе с ним приехал на должность советника посольства Гамбаров, бывший председатель Совнаркома в Абхазии, хороший партийный работник, но не дипломат. В Тегеране он занимался больше спорами о китайской революции, чем дипломатической работой.
После отъезда Гольдберга склока в Тегеране временно притихла. Однако полпред Юренев был не такой человек, чтобы жить без склоки. Маленького роста, большим умом не блещущий, но хитрый, он ловко лавировал среди подводных камней внутрипартийных споров, знал в совершенстве искусство интриги, широко его применял и в мире разного рода закулисных комбинаций чувствовал себя как рыба в воде. В Персии он поочередно выживал своих подчиненных, предпочитая убрать их прежде, чем они сами затеют против него борьбу.
В Наркоминделе, несмотря на его ловкость и дружбу с Литвиновым, к Юреневу относились все-таки недоброжелательно. Недоброжелательство было вызвано двумя крупными ошибками, допущенными им в дипломатической работе. Во-первых, во время переворота в Тегеране в 1925 году, в результате которого Реза-хан провозгласил себя шахом, Юренев, не зная, какой позиции держаться, выехал на три дня в провинцию и возвратился в Тегеран, когда все было кончено. Вторая ошибка была серьезнее. После ликвидации восстания арабского шейха Хейзала на юге Персии Юренев сообщил в Москву, что шейх сдался персидскому правительству не потому, что был разбит в боях, а потому, что его к этому вынудили англичане. Англичане же, оказав услугу Реза-хану, получили от него обещание бороться по вступлении на персидский престол против советской власти и содействовать распространению английского влияния в Персии. В частности, Реза-хан будто бы обещал пригласить в персидскую армию английских инструкторов, призвать английских советников для управления страной, закупать военное снаряжение в Англии и пр., и пр. Юренев настолько был уверен в существовании такого договора (так называемого Ахвазского соглашения), что поручил резиденту ОГПУ Казасу и военному атташе Бобрищеву достать во что бы то ни стало текст договора.
Бобрищев действительно достал договор, и Юренев послал его в Москву. Но там вышел конфуз. Договор оказался поддельным. Вместо благодарности Юренев получил нагоняй.
Кстати, о военном атташе Бобрищеве. Человек лет пятидесяти пяти, старый холостяк, полковник царской армии, он был одним из первых офицеров, перешедших на сторону революции. Несмотря на то что он в коммунистическую партию не вступил, Ленин в начале революции предлагал ему принять на себя организацию Красной армии. До назначения в Персию Бобрищев работал в Финляндии, но там организованная им агентура с треском провалилась. Его перебросили в Персию, но трудно предположить, что он вел здесь серьезную работу.
Он настолько конспирировался, что даже ГПУ не знало, чем он занимается. Все его секреты, однако, скоро стали нам известны благодаря тому, что он принял к себе машинисткой жену моего секретного сотрудника Мая. Перепечатывая его бумаги, машинистка снимала лишнюю копию и через мужа передавала нам. По этим материалам мы установили, что Бобрищев завербовал к себе на службу всех шифровальщиков главного штаба Персии, благодаря чему знал не только дислокацию персидской армии, но был в курсе всех изменений в составе армии и ее передвижений. Не успел, однако, Бобрищев наладить работу, как с ним случилось несчастье. Мои сотрудники донесли, что один из агентов Бобрищева болтает в городе о своей работе и отношениях с военным атташе и что о болтовне уже известно персидской полиции. Я предупредил Бобрищева и просил его быть осторожнее. Бобрищев отрицал свою связь с болтуном. Спустя несколько дней персидская полиция арестовала болтливого агента и вместе с ним трех шифровальщиков военного штаба. После суда шифровальщики были расстреляны. Как потом выяснилось, агент связи имел сожительницу, которая из ревности донесла на него и на всех агентов Бобрищева, свидания с которыми он устраивал на ее квартире. После такого провала Юренев предложил военному атташе выехать в Москву. Бобрищев отказывался до тех пор, пока на одном из приемов в военном министерстве персы демонстративно отказались подать ему руку. После такого позора Бобрищеву ничего не оставалось, как уехать. На его место приехал начальник разведывательного отдела кавказской армии Маликов.
Бобрищев же был сначала назначен в Грецию, потом назначение отменили и оставили его работать при разведывательном управлении в Москве.
Работой 3-го Интернационала в Персии ведал генеральный консул в Тегеране Владислав Платт. К этой работе я не имел касательства и только получал от Платта информацию, которую доставляли ему местные члены иранской коммунистической партии. Особенно ему помогал местный коммунист Казнев, служивший в советском торговом учреждении «Шарк». Он имел родственников и друзей среди членов партии Мусават и, выпытывая у них сведения, передавал нам. Другим коммунистом, оказывавшим помощь нашей работе, был перс-учитель в советской школе в Тегеране.
Летом 1927 года из Пехлеви, Гилянской провинции, начали поступать сведения о склоке, возникшей там среди советских работников. Виновником недоразумений был Образцов, заведующий рыбными промыслами на персидском побережье.
Старый коммунист Образцов вел такую хищническую эксплуатацию промыслов, что ему позавидовал бы любой капиталист. Не довольствуясь работой на советских промыслах, он начал подкупать чиновников, управлявших персидскими промыслами. Получая взятки, те саботировали ловлю, и промыслы начинали терпеть колоссальные убытки. Тогда вмешивалось тегеранское полпредство и предлагало персидскому правительству передать промыслы в руки Образцова, который-де легко обеспечит их прибыльность. Благодаря такой политике Образцов захватил в свои руки все персидское побережье Каспийского моря.
Но кроме этой внешней политики, Образцов вел и внутреннюю. Руководителями на промыслах он назначил своих людей, вызванных специально из России. Персидских рабочих, которые должны были по кодексу труда работать восемь часов, он заставлял работать четырнадцать часов и платил мизерное жалованье. Большую часть прибыли, получаемой от такой жестокой «экономии», старый коммунист клал в свой личный карман. Все безобразия благополучно сходили ему с рук, так как со всем начальством в Москве, начиная с председателя Высшего совета народного хозяйства Куйбышева и кончая мелкими чиновниками, он поддерживал наилучшие отношения и засыпал их подарками из Персии. По подсчетам резидента ОГПУ в Пехлеви, Образцов отправил высшим должностным лицам в Москву подарков на сумму не меньше десяти тысяч долларов. Не забывал он также и свое тегеранское начальство, систематически подкармливая полпреда и торгпреда икрой и рыбой. Полпред и торгпред, естественно, поддерживали его гнусную политику.
Образцов вдруг почувствовал, что резидентом ГПУ Ефимовым и консулом Сычевым ведется работа против него. Решив напасть первым, он обратился к Юреневу с просьбой убрать работников ГПУ и консула, так как де они мешают ему работать. С той же почтой я получил донесение Ефимова о проделках Образцова, причем к письму были приложены фотографии документов, доказывавшие присвоение Образцовым казенных денег.
Юренев вызвал меня и сообщил о склоке, происходящей в Пехлеви. Он предложил мне откомандировать резидента ГПУ и заявил, что снимает с должности консула Сычева, так как, по его мнению, необходимо всячески облегчить работу Образцова, так много сделавшего для советской России. Разговор происходил за завтраком, и Юренев, уплетая присланную Образцовым икру, естественно, не мог иначе рассуждать.
Я предложил ему вызвать Образцова и Ефимова в Тегеран для расследования дела. Юренев со мной согласился.
Объяснение происходило с глазу на глаз между Юреневым, мной и Образцовым. Выслушав Образцова, рисовавшего себя чистым как снег, я молча вынул фотографии его расписок в получении взяток и при нем передал Юреневу. Юренев очень смутился, не знал, как быть, и, наконец, повысив голос, предложил Образцову, чтобы «этого больше не было». Инцидент этим был исчерпан. Несмотря на мои неоднократные представления в Москву, ГПУ не могло настоять на снятии Образцова. Тем временем он, увидев во мне тоже начальство, начал засыпать меня икрой и рыбой.
Воспользовавшись приездом Ефимова, который до того времени подчинялся бакинскому ГПУ, я написал с его согласия в Баку и добился его перевода в мое непосредственное подчинение.
Ефимов был узкий специалист своего дела. Не вдаваясь в политику и нисколько не разбираясь в политических вопросах, он с увлечением занимался разведкой и контрразведкой. Особенно хорошо он организовал агентуру ГПУ внутри мусульманской партии Мусават, представители которой в Гилянской провинции вели революционную работу в советском Азербайджане. Письма представителя мусаватистов Ахунд-заде и доктора Ахундова к своим сторонникам в Баку и в бакинской провинции и их переписка с главарями партии за границей неизменно попадали в руки Ефимова и давали ГПУ подробные сведения о состоянии этой организации.
Не забывал Ефимов также и русскую эмиграцию. Он завербовал для работы в ГПУ полковника царской армии Джавахова и заставил его связаться с руководителями антибольшевистской организации Братство русской правды. Братство не только приняло Джавахова в члены, но назначило его руководителем антибольшевистской работы в этом районе. Систематически бакинское ГПУ составляло письма для Джавахова, тот подписывал их и отправлял на имя Братства, а полученные ответы, за подписью «братьев» номер 1 и номер 9, передавал в наше распоряжение.
Бакинское ГПУ старалось заставить Братство русской правды связать Джавахова с какой-нибудь иностранной державой, чтобы та оказала ему помощь в поднятии восстания в Азербайджане. Братство отвечало, что оно ведет кое с кем переговоры, но пока безуспешно. Ефимов, кроме того, заставлял Джавахова писать членам Братства, проживавшим в разных городах Персии (например, полковнику Грязнову в Мешеде). Из получавшихся ответов ГПУ осведомлялось о деятельности «братьев».
Всю агитационную литературу Братство русской правды направляло на имя Джавахова, а тот передавал ее нам.
Для того, чтобы Джавахов мог лучше вести работу, ГПУ отпустило ему средства на открытие гостиницы в Реште. В этой гостинице он предоставлял помещение для собраний русских эмигрантов и мусаватистов. Дела и планы этих организаций были видны нам как на ладони.
Секретный агент Ефимова в Реште состоял шифровальщиком при штабе Северной бригады Персии и адъютантом командующего бригадой. От него мы получали тексты всех телеграмм, циркулировавших между командующим бригадой и главным штабом в Тегеране.
Выслушав доклад Ефимова, я пришел к заключению, что Джавахова можно использовать более рационально, и предложил Ефимову командировать его в Тегеран. Я хотел связать его с английским посольством и таким образом получить некоторые данные о работе англичан на Кавказе.
Через неделю Джавахов приехал в Тегеран, связался с местной русской эмиграцией, принявшей его с большим почетом, как закаленного борца против большевиков. Он сделал доклад о положении в Гилянской провинции, а местные руководители Братства в свою очередь сделали ему доклад о состоянии организации. В ту же ночь Джавахов передал эти сведения мне.
Насколько хорошо был принят Джавахов русской эмиграцией в Тегеране, настолько же плохо кончилась его попытка связаться с англичанами.
Английский военный атташе Фрезер отказался принять его до наведения о нем справок. Впоследствии из перехваченного донесения английского консула в Реште на имя посла в Тегеране мы узнали, что англичане считают Джавахова большевистским агентом. Попытки подослать Джавахова к англичанам пришлось прекратить. Но Джавахов, насколько знаю, до сих пор служит ГПУ в Персии, пользуясь полным доверием мусаватистов и русской эмиграции. За свою работу он вначале получал 80 долларов в месяц. За проявленное усердие и успехи жалованье затем было повышено до 150 долларов в месяц.
Мной было приказано Ефимову найти возможность получать переписку английского и турецкого консулов в Реште и были указаны пути, какими он может этого достичь. Наконец, он должен был также освещать политическую и экономическую жизнь Гилянской провинции и настроения местных жителей. По нашим сведениям, население было недовольно властями и готовилось к революционным выступлениям.
Глава 12 Секретная корреспонденция иностранных миссий
В Тегеране разыгралась новая склока. Участниками ее с одной стороны были тот же полпред Юренев, а с другой — советник посольства Гамбаров, первый секретарь Славуцкий и генеральный консул Платт. Спор разгорелся из-за китайской революции. На собрании ячейки Юренев выступил с речью о политике Центрального комитета партии и Коминтерна в китайском вопросе. Отход Фэн Юй-сяна от советской России и Чан Кайши от Гоминдана знаменовал, по его мнению, полный провал нашей политики в Китае и стоил СССР громадных денег, так как вся фэ-нюйсяновская экспедиция была снаряжена на советские деньги. Гамбаров резко обвинил Юренева в пораженчестве, в троцкизме и в других смертных грехах. Его поддержали Славуцкий и Платт. Аудитория молчала. На следующий день после собрания началась открытая война. Оба лагеря лихорадочно вербовали сторонников. Юренев, воспользовавшись тем, что персидское правительство разрешило открыть советское консульство в Сеистане, предложил Платту поехать туда. Цель была двоякая: избавиться от противника и насолить ему понижением по службе.
В Москву полетели доносы. Наркоминдел отозвал Гамбарова, а через некоторое время уехал и Юренев.
Торгпред Мдивани, по убеждению троцкист, открытого участия в борьбе не принимал, подзуживая стороны из-за кулис и, ухмыляясь в кулак, глядя, как дерутся между собой «ортодоксальные марксисты».
На место Платта генеральным консулом в Тегеран приехал Байман, бывший заместитель управделами Наркоминдела. У нас с ним сразу установился тесный контакт. Насколько Платт старался держаться в стороне от нас, настолько Байман старался согласовать с ГПУ каждое дело. Генеральное консульство в Тегеране превратилось фактически в отдел ГПУ. Вся работа консульства проходила под нашим контролем и по нашим заданиям. Лица, желавшие выехать в СССР, заполняли анкеты в консульстве, но виза им выдавалась только тогда, когда мы, проверив анкету, не встречали возражений. Восстановление в советском гражданстве также предварительно разрешалось ГПУ. Ничего исключительного в этом не было. Такой порядок существует во всех советских консульствах за границей.
Среди многочисленных посетителей консул и секретарь высматривали полезных и ценных для ГПУ людей, знакомили нас под тем или другим предлогом или просто сами вербовали их для службы в ГПУ.
Как я уже упоминал, связь с местной коммунистической организацией поддерживало консульство. Однажды консул Байман пришел ко мне и сообщил, что в Тегеран приехал специальный представитель Коминтерна для связи с персидскими коммунистами и руководства революционной работой Персии. Этот представитель привез письма из Москвы с просьбой к полпреду и консулу оказывать ему содействие и помощь в работе и просил познакомить его со мной, чтобы я помог ему на первых порах ориентироваться.
Наша встреча произошла на другой день в помещении консульства. Это было в августе 1927 года. Представителем Коминтерна оказался молодой человек лет тридцати, татарин по национальности. В Тегеран он приехал под видом члена научного общества и остановился на частной квартире в городе. Он уже успел познакомиться с руководителями коммунистической партии и нашел всю организацию в хаотическом состоянии. Нужно было полностью реорганизовать ее: пусть она будет малочисленна, зато вполне надежна. По его сведениям, партия была наполнена агентами персидской полиции. Моя помощь должна была заключаться в том, чтобы устанавливать провокаторов, обличать их и очищать от них партию. Кроме того, я должен был указать надежных людей в других провинциях Персии, которым можно было бы поручить организацию коммунистических ячеек. Коминтерн особенно интересовался районом Абдана, где находятся промыслы и заводы англо-персидской нефтяной компании и где сконцентрировано около десяти тысяч рабочих. Взамен этого мне был обещан информационный материал, который представитель Коминтерна будет получать от персидских коммунистов, и разрешалось использовать любого из членов иранской коммунистической партии для работы ГПУ, если в этом встретится надобность.
Наконец, представитель Коминтерна желал ознакомиться с положением местной армянской рабочей партии и вообще с жизнью армянской колонии.
Дело в том, что, как я упоминал выше, мой агент номер 3 — Орбельяни — был одновременно одним из лидеров армянской рабочей партии. Через него ГПУ фактически руководило этой группой. Благодаря влиянию Орбельяни группа послала заявление в Коминтерн с просьбой переименовать ее в коммунистическую партию и слить с персидской коммунистической партией, являющейся секцией 3-го Интернационала. Коминтерн принял просьбу, но прежде чем решить, просил своего представителя на месте выяснить социальный состав и политическую физиономию группы. Я обещал сделать все, что в моих силах. Связью между нами должен был служить генеральный консул Байман.
Армянская рабочая партия, однако, вызывала в Москве второстепенный интерес. Гораздо больше внимания привлекала к себе армянская партия Дашнакцутюн. Я в свое время говорил, что вся переписка руководителей партии нами перехватывалась. Москва считала это недостаточным. По мнению Москвы, члены партии были слишком решительными людьми и могли не только начать индивидуальный террор против советских вождей, но в случае военного столкновения СССР с иностранными державами могли благодаря своей численности, организованности и хорошей связи послужить серьезным орудием в руках противника на Кавказском фронте. Чтобы предотвратить такую возможность, ГПУ получило задание разложить партию Дашнакцутюн, отколоть низы от верхов и перетянуть их на советскую сторону. Для выполнения этого плана мы завербовали в Тегеране одного из старых членов партии, доктора Газарьяна, бывшего долгое время членом ЦК, и уговорили его издавать газету на армянском языке. Доктор развивал в газете идею поддержки советской Армении, разлагал своими статьями партию дашнаков и отрывал от нее рядовых членов. Его бывшее положение в партии и личный авторитет способствовали тому, что многие рядовые члены партии дашнаков последовали его примеру и начали переходить на сторону советской власти.
Газарьян издавал свою газету «Гахапар» в течение двух лет. За эту работу он был принят врачом в советскую больницу, а дочь его была пристроена в одно из советских хозяйственных учреждений. Кроме того, за редактирование газеты ему платили 100 долларов в месяц.
Газета рассылалась в агитационных целях даром и приносила ежемесячно дефицит в 300 долларов, поэтому было решено в конце 1927 года ее закрыть, тем более что к этому времени авторитет Газарьяна в партии упал до нуля.
Для обработки общественного мнения армян служил также Комитет помощи Армении (Хок). Эта организация возникла после землетрясения в советской Армении. Целью ее была организация материальной помощи пострадавшим, но постепенно деятельность ее перешла на политическую почву: развитие идеи поддержки советской Армении среди армянского населения за границей. Председателем комитета в Персии был избран Каро Минасьян, личный врач шейха Хейзала, или шейха из Мухаммеры, как называют его англичане в официальной переписке. Каро Минасьян, руководя комитетом по нашим указаниям, давал нам также сведения о шейхе Хейзале.
После поражения и сдачи на милость персидского правительства шейх Хейзал с одним из сыновей был водворен на жительство в Тегеране и находился под постоянным наблюдением персидской полиции. Его имущество на персидской территории было конфисковано и владения разграблены. Из перехваченных докладов английского посланника в Тегеране Клайва и его предшественника, поверенного в делах Никольсона, мы знали, что шейх Хейзал обращался с протестами к персидскому правительству и копии протестов направлял в английскую миссию с просьбой помочь ему вернуть имущество. Английский посланник, пересылая эти просьбы в Лондон, просил поддержать их перед персидским правительством, но хлопоты его остались безрезультатными. Каро Минасьян сообщал, что Хейзал страдает глазной болезнью и просится в Германию для лечения, однако персидское правительство не разрешает ему выехать, боясь, что он вновь появится в районе Хузистана и поднимет восстание.
* * *
Пока шла работа по разложению армянской эмиграции, я поручил агенту номер 10 изучить пути следования секретной корреспонденции иностранных миссий в Тегеране и наиболее важных персидских министерств, главным образом министерства иностранных дел и военного министерства. Изучение путей и подготовка к добыче документов продолжалась четыре месяца. Наконец, в сентябре 1927 года вопрос был разрешен. Первой почтой, которую перехватил агент номер 10, была турецкая почта. Для советского правительства это было очень кстати. В то время курдский вопрос настолько осложнился, что мы ожидали разрыва дипломатических отношений между Турцией и Персией. Почта заключала в себе донесения турецкого военного атташе с подробными сведениями о событиях в Курдистане. На основании этого доклада и сведений, почерпнутых из переписки дашнаков, перехваченной ГПУ в Тавризе, Наркоминдел ознакомился с действительным положением на турецко-персидской границе и выступил мирным посредником между двумя странами, ссора которых была в то время не в интересах советского правительства.
Постепенно мы начали перехватывать и документы остальных иностранных миссий. Наиболее интересными, конечно, были доклады английских консулов в Персии посланнику в Тегеране. Консулы аккуратно и систематически доносили раз в две недели, а то и каждую неделю о политическом и экономическом положении своего района. Их доклады ценились нами гораздо больше, чем доклады наших собственных консулов, так как были достовернее и добросовестнее составлены. Английские консулы в Исфагани, Ширазе и Кермане подробно писали о настроениях населения, возбужденного декретом о «шапках Пехлеви». Из донесений консулов в Кермане и в Мешеде мы узнавали о подробностях борьбы между персидским правительством и вождем белуджей Дост-Магомет-ханом. Ширазский консул Чик подробно освещал экономическое положение своего района, в частности нефтяной рынок. Об английской нефти мы получали также сведения из донесений английского консула в Ахвазе. О движении курдов подробно сообщали донесения английских консулов в Тавризе и Керманшахе. Таким образом, помимо донесений от собственных агентов, которых мы имели приблизительно в тех же районах, мы получали все сведения, которыми располагало английское посольство в Тегеране, и ими контролировали работу агентов ГПУ.
Вторыми по интересу шли доклады бельгийского посланника в Тегеране. Это был, видимо, очень усидчивый и трудолюбивый работник, подробно передававший в Брюссель обо всем, что он видел и слышал. Судя по его письмам, он был в прекрасных отношениях с французским посланником, осведомлялся у него по разным вопросам и полученные сведения аккуратно сообщал в Брюссель. Его работа носила исключительно дипломатический характер. Советский посол Давтьян, читая его доклады, пополнял свои знания и всегда с нетерпением ожидал их, проходя при их помощи «курс дипломатического самообразования». Доклады других миссий — французской, голландской, чехословацкой, японской, американской, польской и немецкой — были менее интересны. Немцы в отправке почты были осторожнее всех. Они вкладывали запечатанные пакеты в металлическую трубку со специальным замком, затем упаковывали трубку в бумагу и запечатывали. Однако это их мало спасало…
Также аккуратно поступала в наши руки почта персидского правительства. В первую очередь нас интересовала, конечно, почта министерства иностранных дел. Нужно сказать, впрочем, в ней мы редко находили что-нибудь ценное. Персидское правительство ограничивалось отправкой своим посланникам очередных циркуляров и всевозможных финансовых отчетов. Лишь последнее время начали посылаться информационные бюллетени, но и они особого интереса не представляли, так как все, что в них сообщалось, мы узнавали раньше. Интересной для нас была только переписка персидского министерства иностранных дел с персидским представителем в Ираке. Дело в том, что до 1927 года дипломатических сношений между Персией и Ираком не существовало, и только после упорных настояний со стороны Ирака персидское правительство послало в Багдад уполномоченного для ведения переговоров. О ходе переговоров ГПУ узнавало из шифрованных телеграмм, доставлявшихся нам агентом номер 33, шифровальщиком при Совете министров. Доклады персидского представителя полны были ценными сведениями о шиитах и суннитах в Ираке, о курдах, об айсорах и т. д.
Почта военного министерства представляла чисто военный характер. ГПУ аккуратно фотографировало ежемесячные сводки о состоянии армии, о снаряжении, о комплектовании и пр., и пр.
Более полной информации о персидских делах нельзя было желать. Стоило это сравнительно дешево (мы платили по 1–2 доллара за каждый перехваченный и доставленный резиденту ГПУ пакет), а устроено было в высшей степени просто.
Дипломатическими курьерами иностранные миссии в Персии почти не пользуются. Отправкой и доставкой дипломатической корреспонденции ведает персидская государственная почта. Каждый вечер видный почтовый чиновник министерства доставлял нам сданные ему для отправки или прибывшие в Персию пакеты. Мы вскрывали их, фотографировали документы, запечатывали и утром возвращали на почту. Пакеты следовали дальше по назначению, ни в ком не вызывая подозрения. Помню, как-то германский посланник Шуленбург встретил полпреда Давтьяна на рауте, жаловался ему на дороговизну персидской почты. Давтьян отнесся к его жалобам с вполне понятным сочувствием: всего несколько часов назад он читал доставленную мной копию доклада Шуленбурга на Вильгельмштрассе.
Чиновник министерства, любезно доставлявший нам чужую почту, иногда за одну ночь зарабатывал до 50 долларов.
Агент номер 10 за организацию этой работы, помимо жалованья, получил единовременно две тысячи долларов.
Вследствие увеличения работы мне прислали из Москвы в помощь Макарьяна, сотрудника ГПУ. В Тегеране он занял официальную должность делопроизводителя полпредства. Вместе с собой он привез специальную машинистку из ГПУ.
Глава 13 Перемены в полпредстве
Когда Юренев и Гамбаров уехали, поверенным в делах остался первый секретарь посольства Славуцкий, очень талантливый молодой человек. Он прослужил в Персии около пяти лет, знал язык и обычаи страны и к тому же хорошо говорил по-французски. В Персии у него было много друзей, особенно среди депутатов парламента и журналистов, которых он широко оплачивал из сумм посольства за помещение в газетах благоприятных для СССР статей.
Особенно старался редактор тегеранской газеты «Шефагэ сурх» Фарухи, всецело находившийся на иждивении советского посольства. Во время советско-персидских переговоров он ежедневно по заказу писал статьи о взаимной выгодности торгового соглашения. Затем он совершил поездку в Москву и, вернувшись, начал ежедневно помещать статьи о виденном им в СССР под заголовком «из Тегерана в Москву». Статьи длились до тех пор, пока Реза-шах на одном из приемов журналистов не обратился к Фарухи с фразой: «Довольно, Фарухи, писать о Москве, ведь я знаю, ты давно доехал до нее». Со следующего дня статьи о путешествии Фарухи прекратились.
Работа по подкупу печати велась исключительно полпредством. Представители ГПУ в эту отрасль не вмешивались. Славуцкий пробыл поверенным в делах два месяца. Затем из Москвы приехал новый посол Давтьян и новый советник Логановский.
Давтьян в 1922 году был начальником иностранного отдела ГПУ и оттуда перешел на работу в Наркоминдел. Поддерживает его и толкает по службе Карахан. До приезда в Персию он был советником посольства в Париже и в Персии впервые попал на самостоятельную роль. Это аккуратный, трудолюбивый чиновник, боящийся проявить в чем-либо инициативу, запрашивающий по самым незначительным вопросам разрешения Москвы.
Логановский был до 1925 года помощником Трилиссера в иностранном отделе ГПУ, а затем также перешел в Наркоминдел. В противовес Давтьяну это был решительный и властолюбивый человек, добившийся к тридцати двум годам двух орденов Красного Знамени и поста советника посольства. По национальности поляк, очень хитрый, скрытный и выдержанный, он представлял настоящий тип чекиста.
Вслед за приездом нового посла я начал готовиться к отъезду в район Керманшаха. Поездкой в Керманшах нужно было разрешить следующие три задачи:
1. Организовать работу ГПУ в Керманшахском районе. Район населен курдскими племенами, которые систематически восстают против персидского правительства. Нас интересовали причины волнений и возможность использовать их в наших интересах.
2. Организовать агентуру в Ираке. По поступавшим к нам сведениям, англичане устроили на территории Ирака авиационную и техническую базу, которая могла угрожать Кавказу в случае столкновения с СССР. В особенности ГПУ беспокоилось за бакинские нефтяные промысла, которые могли быть разорены воздушным налетом. Военным атташе в Тегеране было вычислено, что для полета из Багдада в Баку и обратно нужно семь часов, что является сущим пустяком при нынешней технике. Надо было выяснить силы англичан в этом районе и их намерения. Кроме того, желательно было связаться с арабскими племенами в Ираке и подготовить почву для возможного их использования в случае столкновения с Англией.
3. Наконец, нас интересовала разработка англичанами ханакинских нефтяных промыслов. Расположенные у самой границы, они представляли угрозу конкуренции с бакинской нефтью на персидском рынке.
Со мной поехал заместитель председателя Нефтесиндиката Вагнер, чтобы придать поездке торговый характер. Мой единоличный приезд в этот район мог вызвать подозрения у персидской администрации.
Советским консулом в Керманшахе был Лозоватский, тот самый начальник особого отдела, который принимал у меня дела ГПУ в Бухаре в 1922 году, а его секретарем некто Алхазов, также туркестанский работник (настоящая фамилия его Аллахвадов). В 1922 году он работал в особом отделе на Памире, затем переехал в Ташкент, служил в информационном отделе ГПУ и был командирован оттуда в Академию восточных языков в Москву. По окончании академии ГПУ командировало его на службу в Наркоминдел. Должность секретаря консульства в Керманшахе была его первым шагом на дипломатическом поприще. Таким образом, оба дипломата в Керманшахе оказались бывшими сотрудниками ГПУ. Мне нетрудно было с ними сговориться. Ведение технической работы я поручил Алхазову, а общее руководство Лозоватскому. Оба должны были организовать агентуру ГПУ в Керманшахском районе и попытаться протянуть сеть до Багдада.
Не прошло месяца, как сказались результаты работы Лозоватского и Алхазова. Они завербовали керманшахского купца, связанного торговлей с Багдадом. Разъезжая между этими двумя пунктами, купец доставлял ГПУ собранные сведения и намечал для вербовки агентов в Багдаде. В курдском районе Алхазову удалось связаться в городе Сенне с влиятельным курдским шейхом Низаметдином, который подробно осведомлял нас о деятельности курдских племен этого района, связи их с курдами в Ираке и с курдским комитетом. Наконец, они же организовали агентуру в районе Луристана, где в то время происходило восстание против персидского правительства в связи с проведением шоссейной дороги от Ахваза на Тегеран. Восставшие луры пользовались помощью правителя Пуштекуха, территория которого граничила с Ираком. Имелись предположения, что восстание поддерживается иракским правительством, то есть англичанами, с целью оказать давление на персидское правительство, так как в то время шли переговоры об англо-персидском договоре.
Вернувшись в Тегеран, я получил еще одну возможность организовать агентуру в Ираке. С советского Кавказа приехали персидские консулы в Эривани и Нахичевани. Одновременно с их приездом я получил телеграмму от тифлисского ГПУ с извещением, что эти лица, будучи персидскими консулами в СССР, находились в связи с ГПУ и предлагали свои услуги ГПУ по возвращении на родину. Для связи с ними Тифлис сообщал пароль и явки.
Установив связь с персидскими консулами, я предложил им добиваться в министерстве иностранных дел назначения в Ирак или в Индию. Оба выполнили данное поручение. Эриванский консул получил назначение персидским консулом в Мосул, а нахичеванский — в Ханакин. Обоим перед выездом к месту назначения мной были даны инструкции. Свои донесения они должны были пересылать через персидского дипломатического курьера. Таким образом, участие ГПУ в разведывательной работе в зоне английского влияния было скрыто. В случае провала англичане должны были думать, что работа велась для персов.
Консулам было выдано жалованье за три месяца вперед, по 150 долларов в месяц, и на расходы по 50 долларов в месяц.
Ханакинский консул работал лучше мосульского; он систематически сообщал ГПУ о движении работ на промыслах «Ханакин ойл компани».
* * *
В середине 1927 года после обысков, произведенных китайской полицией в советских консульствах в Шанхае и Кантоне, пришла циркулярная телеграмма для полпредства, торгпредства, Разведупра и ГПУ с предписанием просмотреть все архивы этих учреждений и уничтожить документы, которые могли бы компрометировать работу советской власти за границей. Полпредство и торгпредство немедленно приступили к разбору архивов. Отобрали колоссальные кипы бумаг, подлежавших сожжению. Целую неделю эти бумаги жгли во дворе полпредства. Пламя поднималось так высоко, что городское управление, думая, уж не пожар ли в советском полпредстве, хотело прислать пожарных.
ГПУ получило более строгое распоряжение. Москва предписывала уничтожить вообще весь архив и впредь сохранять переписку только за последний месяц, но и ее предлагалось хранить в таком виде и в таких условиях, чтобы в случае налета на посольство можно было немедленно уничтожить весь компрометирующий материал. По этой спешке можно было заключить, насколько велика была паника в Москве. Ждали нападения и обыска в посольстве даже в такой стране, как Персия, которая в общем дружественно относилась к советской России. Нападения ожидали каждый день. На мое предложение отправить архивы в Москву Москва ответила категорическим приказом немедленно сжечь все, что имеется…
Жгли бумаги торгпредство и другие советские хозяйственные учреждения. Интересный способ разбора и уничтожения секретных бумаг изобрел бывший председатель Нефтесиндиката в Тегеране Ланцов. Это был отменный пьяница, напивавшийся до безобразия. Старый член партии и рабочий кроме всего прочего был нечист на руку и, как потом оказалось, ухитрялся получать два жалованья в месяц, не говоря о других художествах. В это время в Тегеране же находился член правления Нефтесиндиката из Баку, он же член ВЦИК. Оба молодца решили совместно разбирать бумаги Нефтесиндиката и уничтожить все, могущее компрометировать советское правительство. Прежде чем приступить к делу, они решили подкрепиться коньяком. Часа через два после начала разборки архивов сотрудники Нефтесиндиката, привлеченные возней и собачьим лаем в кабинете директора, вбежали туда и остановились на пороге как вкопанные, пораженные невероятным зрелищем: на полу лежали разбросанные дела и пустые бутылки. Ланцов с Ларионовым ползали по полу на четвереньках, вырывали зубами бумаги из дел и лаяли друг на друга. Сперва все были удивлены, а потом недоразумение разъяснилось просто. Начальство, напившись, играло в собачки…
Через некоторое время Ланцов был отозван в Баку и назначен членом Центральной контрольной комиссии Закавказского ЦК партии. Он охраняет теперь партию от разложения.
* * *
Вслед за первым циркуляром из Москвы пришел второй. Сотрудникам полпредства и консульств категорически запрещалось вступать в какие-либо сношения с членами местных коммунистических партий. Мне пришлось прекратить встречи с представителем Коминтерна, начавшим налаживать кое-какие связи в Тегеране и пытавшимся перебросить работу в другие провинции. Прекратив личную связь, я все же поддерживал с ним отношения через агента номер 3 и находился в курсе его деятельности.
Вскоре состоялся нелегальный съезд коммунистических партий Персии и Турции. Съезд собрался в городе Урмия на персидской территории. По окончании его представитель Коминтерна уехал в Москву, а его место занял секретарь иранской коммунистической партии Гасанов, ездивший затем представителем иранских коммунистов на IX пленум Коминтерна. Из Москвы он вернулся окончательно утвержденный в должности эмиссара 3-го Интернационала. Мы относились к Гасанову недоверчиво, так как имели серьезные основания подозревать его в связи с персидской полицией. После его назначения я прервал отношения с членами иранской коммунистической партии.
Полпред Давтьян, получив циркуляр о прекращении связи с местными коммунистами, до смерти перепугался и велел не впускать на порог полпредства ни одного персидского коммуниста.
В своем паническом рвении он до того перестарался, что, когда в день годовщины революции 7 ноября 1927 года в посольство явилась делегация от персидских рабочих-печатников с поздравлением, испуганный Давтьян вызвал меня и предложил немедленно выпроводить делегацию за ворота, чтобы она не могла «компрометировать его перед другими гостями», представителями буржуазного и капиталистического мира, собравшимися в тот день в полпредстве.
Бывали, впрочем, случаи, когда Давтьян превозмогал страх и шел на риск. Помню, в январе 1928 года Гасанов, секретарь иранской коммунистической партии, только что утвержденный представителем 3-го Интернационала в Персии, вернулся в Тегеран. Давтьян два раза принял его в полпредстве у себя в кабинете. Правда, встречи происходили поздно ночью, когда весь город спал, Гасанов входил в полпредство не через главные ворота, а через боковую калитку, находившуюся при моей квартире и ключ от которой был только у меня…
Вместе с Давтьяном из Москвы были присланы, или, вернее, высланы, несколько коммунистов-оппозиционеров, сочувствовавших Троцкому. Их разместили на должности в разных советских хозяйственных учреждениях. Оппозиционная группа, возглавлявшаяся торгпредом Мдивани, усилилась и начала оживленно вербовать сторонников среди советских служащих. Я получил распоряжение из Москвы установить наблюдение за коммунистами-оппозиционерами и принять меры к пресечению их деятельности. Для этого мне предписывалось войти в связь с секретарем коммунистической ячейки Цейтлиным, присланным на эту должность специально из Центрального комитета партии. Цейтлин был мелким чиновником, малокультурным и необразованным, хваставшимся при каждом удобном и неудобном случае тем, что он когда-то месяца два был маляром, а потому принадлежит к подлинному пролетариату, на самом же деле был шкурником, карьеристом и выдвинулся в секретари ячейки исключительно благодаря хорошо подвешенному языку и умению во всем соглашаться с линией Центрального комитета. Цейтлин каждые три-четыре месяца ездил в Москву, то по болезни, то для доклада, причем из Тегерана всегда выезжал с несколькими наполненными доверху чемоданами, прекрасно одетый, а возвращался обратно в старой пролетарской форме. Советским гражданам не разрешалось провозить в СССР много заграничных вещей. Цейтлин, присланный в Тегеран для наблюдения за чистотой нравов, находил, однако, способы ладить с таможней.
У советского читателя тип Цейтлина едва ли вызовет особое отвращение. Таких людей, как он, в российском аппарате коммунистической партии не менее 90 %. Это результаты партийной политики за последние годы. Аппаратом управляет сейчас Сталин и через него давит и сокрушает всякую свободную мысль, в чьей бы голове она ни появилась. Это не новость. Верную характеристику партийного аппарата, превратившегося окончательно в скопище партийных чиновников, дал Троцкий уже в 1923 году. Цейтлин был типичным представителем этого обнаглевшего, безыдейного партийного чиновничества.
Пришлось связаться с ним для наблюдения и охранения чистоты партийной доктрины от ересей.
Из этой связи ничего не вышло. Цейтлин понял наше сотрудничество иначе. Он пожелал использовать агентуру ГПУ не в целях выявления идеологических уклонов, но вообще для слежки за частной жизнью членов партии. Я следовать за ним отказался. После первой его попытки в этом направлении я ему напомнил о его собственном поведении, и между нами мгновенно произошел разрыв. Сотрудничество прекратилось.
Первое время после приезда полпреда и советника все было мирно в посольстве. Но первый секретарь Славуцкий, остававшийся поверенным в делах и надеявшийся получить должность советника, не мог стерпеть обиды и начал войну против советника Логановского. Снова возникла склока. К Логановскому присоединился Цейтлин.
Славуцкий для укрепления позиции сошелся с торгпредом Мдивани. Через месяц вся партийная ячейка разделилась на два лагеря. Из личных отношений выросли политические. Бедный Славуцкий, хороший чиновник, не имевший не только оппозиционной, но и вообще никакой идеологии, оказался зачисленным в «троцкисты».
Как раз в это время началась дискуссия перед XV партийным съездом. На спорах выступали обе группы, сталинцы и оппозиционеры, и в результате ячейка постановила… исключить из партии Мдивани, торгпреда СССР в Персии, вместе со всеми его единомышленниками. Я отправил доклад в О ГПУ с предложением немедленно отозвать Мдивани. Две недели спустя Мдивани был вызван в Москву и отстранен от должности[2].
Глава 14 Бегство секретаря Сталина
В начале января 1928 года я собирался объехать районы Южной Персии и лично проверить работу ГПУ, когда внезапно пришла телеграмма о том, что из советского Туркестана бежали в Персию два крупных коммуниста — Бажанов и Максимов.
Бажанов работал в Москве в секретариате Сталина, но был откомандирован в Ашхабад в Туркестане за сочувствие оппозиции. В Ашхабаде он занимал должность управляющего делами Центрального комитета партии Туркестана и мог при бегстве захватить важные документы. Предлагалось обнаружить его местопребывание и немедленно сообщить в Москву.
Через несколько дней я получил телеграмму от резидента ГПУ в Мешеде Лагорского (настоящая его фамилия Бродский) с извещением, что Бажанов и Максимов появились в Мешеде. Я немедленно телеграфировал в Москву. В ответ из Москвы пришел приказ: «ликвидировать» Бажанова, служившего в секретариате Сталина и знавшего секретные сведения о деятельности политбюро. Так как резидент ГПУ в Мешеде бездействует, то мне предлагалось немедленно выехать в Мешед и лично, в кратчайший срок, организовать убийство Бажанова, пока он не успел никому разгласить служебных тайн. С такой же просьбой обратился ко мне полномочный представитель ГПУ в Туркестане Бельский, которого особенно волновало то, что побег Бажанова был совершен с подведомственной ему территории.
Получив обе телеграммы, я посоветовался с полпредом Давтьяном. Мы решили, что ликвидация должна быть произведена немедленно. Вылетев на аэроплане из Тегерана, я к вечеру был в Мешеде.
В ту же ночь я передал приказ из Москвы Лагорскому и генеральному консулу СССР Дубсону. В беседе с ними выяснилось следующее: в ночь на 1 января 1928 года Бажанов и Максимов отправились якобы на охоту, вышли из Ашхабада и, незаметно перейдя персидскую границу, оказались в пограничном городке Людфабаде. Председатель туркестанского ГПУ Каруцкий, узнав об этом, немедленно отдал приказ во что бы то ни стало перехватить беглецов на персидской территории и доставить их живыми в Ашхабад. Для этой цели через границу была пропущена, под видом контрабандистов, группа туркмен с обещанием крупного вознаграждения в случае быстрого и удачного выполнения приказа. Но туркмены опоздали. Беглецы успели выехать из Людфабада. Тогда резидент ГПУ Пашаев, занимавший внешне скромную должность агента в бюро персидских перевозок в Бажгиране, получил приказ перехватить беглецов в дороге и ликвидировать их собственными средствами. Пашаев выехал в Кучан, куда должны были прибыть беглецы. Он приехал вовремя, но узнал, что Бажанов и Максимов выезжают из Кучана в Мешед. Благодаря своему званию агента по перевозкам и личным знакомствам Пашаев устроился в одном автомобиле с беглецами и выехал в Мешед, надеясь по дороге выполнить приказ. Ему это не удалось, так как при Бажанове и Максимове неотлучно находились персидские конвоиры.
Приехав в Мешед, Бажанов и Максимов остановились в гостинице. Пашаев отправился в советское консульство и доложил обо всем Лагорскому. Оба решили действовать совместно. В тот же вечер один из агентов ГПУ, некто Колтухчев, заведующий советским клубом в Мешеде, вооруженный наганом, прокрался на балкон гостиницы, где остановились беглецы, и намеревался выстрелом через окно прикончить их. Однако и тут нас постигла неудача. Охранявшие Бажанова и Максимова агенты персидской полиции схватили Колтухчева, арестовали и, обнаружив у него наган, препроводили в тюрьму. В тюрьме он признался, что убийство ему было поручено ГПУ. Встревоженные персы, опасаясь вторичного покушения, перевели беглецов из гостиницы в полицейское управление, где охрана была надежнее. Тем временем из Ашхабада были специально присланы шесть человек с поручением во что бы то ни стало прикончить беглецов.
В таком положении я застал дело по приезде в Мешед.
На следующий день я, как атташе посольства, сделал с консулом визит губернатору, с которым мы были знакомы еще в Керманшахе. Свой приезд я объяснил недоразумениями в деле вывоза персидских товаров в СССР и необходимостью расследовать этот вопрос. Однако губернатор, как, впрочем, и вся персидская администрация, прекрасно знал о занимаемом мной положении и немедленно принял соответствующие меры. Когда я, выехав из губернаторского дома, намеренно проехал мимо полицейского управления, то нашел его густо окруженным полицейскими чинами. Видя настороженность персидских властей, я решил дать им немного успокоиться. Консулу и местному резиденту ГПУ я предложил пока ничего не предпринимать, а присланных из Ашхабада людей отослать обратно в СССР.
Прошло несколько дней. За это время мы старались выяснить, что собираются персы делать с беглецами, и связались с нашим агентом, арестованным персами и помещенным в полицейском участке, где сидели Бажанов и Максимов. Затем был выработан следующий план: решили переслать через надежную связь порцию цианистого калия нашему арестованному агенту, который затем должен был найти возможность в тюрьме угостить им Бажанова и Максимова. Однако в тот же день из Москвы пришла телеграмма, отменявшая приказ о «ликвидации» и предлагавшая мне произвести ревизию мешедской резидентуры ГПУ. Выяснилось, что Бажанов по своей работе в Москве никаких особенных тайн не знал, и, стало быть, его разоблачения не могли представлять опасности…
При ревизии оказалось, что Лагорский в течение восьми месяцев не вел абсолютно никакой работы, растерял всю агентурную сеть и дошел до того в своем бездействии, что даже не отчитывался перед Москвой в денежных суммах.
Пользуясь пребыванием в Мешеде, я решил съездить в Ашхабад для разрешения некоторых вопросов, связанных с пограничной разведкой. В Ашхабаде я имел с Каруцким долгую беседу. Прежде всего, конечно, мы обсудили дело Бажанова и Максимова. Я сообщил о распоряжении Москвы и сказал, что больше этим делом не интересуюсь. Но Каруцкий показал свежую телеграмму от Бельского из Ташкента, где предлагалось, вопреки распоряжению Москвы, во что бы то ни стало довести дело до конца. На мой отказ предоставить для выполнения этого приказа силы мешедской резидентуры он рассказал мне свой секрет.
Видя полную бездеятельность Лагорского и пользуясь ею, Каруцкий организовал в Хоросане собственную агентуру, которая, по его словам, осведомляет его о деятельности англичан в Хоросане лучше, чем это делал Лагорский из Мешеда. Для посылки агентов он использовал следующий способ. Снабжая агента ложными сведениями, он пропускал его в Персию, куда тот являлся в качестве перебежчика. В Мешеде «перебежчик» связывался с эмиграцией и, по ее рекомендации, устанавливал сношения с тогдашним атташе в Мешеде майором Уйлером.
Уйлер, вербуя агентов ГПУ, посылал их обратно в Туркестан за сбором интересовавших его сведений. Таким образом, как передавал Каруцкий, вся агентурная сеть английского атташе фактически состояла из агентов ГПУ. Но этого было мало. Каруцкий завербовал в ГПУ сына одного из известнейших агентов в Мешеде, туркмена Джабара, и получал от него все сведения, какие отец доставал для англичан.
В способах своей работы Каруцкий не стеснялся. Англичане посадили в Людфабаде перса, который рассылал оттуда агентов по всей территории советского Туркестана. Каруцкий, переодев группу пограничных красноармейцев в туркменскую одежду, велел им перейти границу и доставить ему этого агента живым. Ночью переодетые красноармейцы перешли границу, захватили английского агента в постели, завернули его в простыню и, избив до полусмерти, привезли в ашхабадское ГПУ. Сейчас он сидит в подвале ГПУ, но Каруцкий не может допросить его, так как не имеет переводчика, знающего персидский язык. Воспользовавшись моим приездом, он просил меня помочь ему в допросе. Я согласился. Каруцкий велел привести арестованного. Допрашивали мы его в течение часа. Он сознался, что был связан с персидской полицией, но связь с англичанами отрицал. После допроса Каруцкий водворил его обратно в тюрьму, но, по дальнейшим моим сведениям, он затем был освобожден и отправлен в Персию, откуда должен был давать сведения для ашхабадского ГПУ.
Вернувшись из Ашхабада в Мешед, я узнал, что Бажанов и Максимов отправлены персидскими властями в сторону Дуздаба, на индийскую границу. С первым аэропланом я вернулся в Тегеран.
Дело Бажанова, однако, этим не кончилось. Ташкентское ГПУ телеграфно просило полпреда Давтьяна оказать содействие в убийстве Бажанова. Советский консул в Систане Платт тем временем сообщил, что Бажанов и Максимов поселились в Дуздабе и что, если нужно принять меры к их ликвидации, то он имеет в своем распоряжении все нужные средства.
Бельский, полпред ГПУ в Ташкенте, послал Платту 5 тысяч долларов на расходы, необходимые для убийства Бажанова. Советский консул в Систане немедленно выехал в Дуздаб для личного руководства убийством. Однако ничего ему не удалось, так как его приезд в Дуздаб и появление в консульском автомобиле близ дома, где проживали беглецы, заставили персидское правительство скорее отправить беглецов в Индию. Они оба теперь благополучно проживают в Париже…
Глава 15 Организация ОГПУ в Южной Персии
В Тегеране я нашел почту из Москвы с приказом приступить к чистке всех советских учреждений в Персии. Тут же прилагался список лиц, подлежавших увольнению. Список состоял приблизительно из ста человек и был составлен в ГПУ на основании агентурных донесений моего предшественника. Сведения были совершенно не проверены, и среди лиц, которых предстояло выбросить на улицу, находились люди абсолютно преданные советской власти или же относившиеся к ней вполне лояльно и честно выполнявшие свою работу. Я сообщил в Москву о своих соображениях, но получил ответ, что список уже утвержден Центральным комитетом партии и потому никаким изменениям не подлежит.
Насколько небрежно был составлен список, можно судить по тому, что в него попали некоторые из моих секретных агентов и, наконец, люди, которые никогда у нас не работали, но служили у частных персидских лиц. Для производства чистки была образована комиссия в составе советника посольства Логановского, генерального консула Ваймана, секретаря партийной ячейки Цейтлина и моего помощника Макарьяна. Чистка началась в феврале 1928 года и продолжалась три месяца. Многие из уволенных вернулись в СССР, но часть не пожелала ехать и начала обосновываться в Персии. Это были первые ласточки невозвращенства — движения, которое затем быстро начало разрастаться и которое благодаря диктаторским и бюрократическим мерам управления в СССР несомненно в ближайшем будущем примет широкие размеры.
* * *
Перехватывание иностранной дипломатической почты в Тегеране тем временем все более развивалось. Мы получали уже не только почту, которую отправляли иностранные миссии из Тегерана, но и почту, которая приходила в Тегеран. Количество доставляемых пакетов доходило в месяц до 500–600 штук. Оплату агентам, доставлявшим нужную почту, мы производили поштучно — по 2 доллара за английские и персидские пакеты и по 1 доллару за остальные. Для экономии времени мы стали фотографировать почту аппаратом системы Лейтц, присланным из Москвы. Лента аппарата вмещала 36 снимков. Ленты отправлялись в Москву в непроявленном виде, чтобы в случае, если они будут обнаружены по дороге и вскрыты, снимки могли сами сабой уничтожиться.
Организационную работу на севере и западе Персии я считал законченной. Мне оставалось организовать работу ГПУ на юге Персии и в Индии. Для этой цели в марте 1928 года я выехал из Тегерана на юг Персии по маршруту: Тегеран — Исфагань — Шираз — Бендер-Бушир — Авхаз— Султан — Абад — Тегеран. На всем юге у нас совершенно отсутствовала агентура ГПУ и нужно было строить ее заново. Кроме того, после 6-го конгресса Коминтерна и недавних решений ЦК ВКП на эти районы было обращено особенное внимание. Нужно было в случае нападения империалистических держав на СССР использовать здесь агентуру в целях организации восстаний и разведки. Задача заключалась в изучении племен южных провинций и в вербовке влиятельных вождей, которых в случае войны можно было бы подкупить и направить против англичан на дезорганизацию военного тыла и разрушения нефтяных промыслов «Англо-першен ойл Кº» и подъездных путей к ним. Это было основной задачей. Разрушив нефтяную базу англичан на юге Персии, мы существенно затрудняли снабжение нефтью британский флот.
Кроме того, нас беспокоили переговоры о заключении англо-персидского договора. Правда, переговоры находились в затяжном состоянии, но нужно было торопиться, чтобы помешать их успешному завершению. Отношения между Персией и Англией несколько обострились в связи с претензиями персов на остров Бахрейн в Персидском заливе, объявивший себя под покровительством Англии. Между англичанами и персами стояли в то время и другие неразрешенные вопросы: 1) вопрос о признании Ирака Персией; 2) о разрешении английскому воздушному флоту перелета через персидскую территорию в Индию с установкой аэродромов и складов на персидской территории; и, наконец, 3) вопрос о продлении концессий англо-персидской нефтяной компании и Империал-банка в Персии, выпускавшего персидские кредитные билеты. Эти вопросы выдвигала персидская сторона. Англичане в свою очередь ставили вопрос о персидском долге Великобритании и о возмещении расходов, произведенных англичанами во время оккупации Персии в 1918 году.
Персы желали получить обратно остров Бахрейн. За признание Ирака они требовали привилегий для своих подданных в этой стране, где они насчитываются сотнями тысяч, и присоединения куска территории в районе Ханакина, где англичанами недавно были обнаружены нефтяные месторождения. По вопросу о продлении нефтяной концессии: персы хотели увеличить получаемый казной процент с прибыли (до того времени персидское правительство получало 16 % с прибылей компании). Концессию же банка персы желали совершенно ликвидировать и, организовав свой собственный государственный банк, передать ему функции и доходы английского банка.
Между прочим, министр двора Теймурташ подробно излагал тогда план аннулирования эмиссионных операций англобанка. Для этого персидское правительство хотело приступить к выпуску казначейских билетов, которые вытеснили бы английские банкноты.
Переговоры вел английский посол в Тегеране Клайв и персидский министр двора Теймурташ. Некоторые вопросы разрешались в Лондоне, между тамошним персидским послом и Форин Офисом. О переговорах в Тегеране мы были в курсе благодаря откровенным беседам Теймурташа с советским послом и получаемой из Москвы документальной информации, почерпнутой из докладов Клайва. О лондонских переговорах мы знали из перехватываемых телеграмм персидского посла в Лондоне и его донесений в министерство иностранных дел Персии.
Советское посольство в Тегеране, естественно, оказывало всяческое давление на персов, чтобы помешать соглашению с англичанами. Давтьян указывал, что остров Бахрейн явится морской базой англичан в случае столкновения Англии с Персией; что с устройством английских авиаплощадок и складов для нефтепродуктов фактически вся Южная Персия перейдет под влияние Англии, что, наконец, бессмысленно отдавать концессии англичанам в Южной Персии за гроши, когда советская Россия, взявшая концессию на семнанскую нефть, платит персам треть своих доходов. В это время началось восстание племени луров на юго-западе Персии и белуджей под предводительством белуджского вождя Дост-Магомет-хана. Советский посол доказывал Теймурташу, что восстание организовано англичанами с целью оказать давление на персидское правительство и вынудить на подписание договора.
Во время поездки на юг Персии я должен был изучить все эти вопросы на месте.
Выехал я на юг с двумя агрономами, специалистами по хлопку: один ехал с научной целью, а другой — для инструктирования провинциальных отделений Хлопкома. Первой нашей остановкой был Кум.
Это священный персидский город, центр персидского духовенства, находившегося в оппозиции к правительству за проводимые советские реформы. По сведениям ГПУ, кумское духовенство поддерживало связь с духовенством священных городов Неджафа и Кербалы в Ираке. Работа в Куме представляла поэтому для ГПУ существенный интерес. Ее вел местный агент Хлопкома и, надо сказать, весьма умело. Благодаря прекрасному знанию персидского языка и большим деловым связям он глубоко проник в жизнь местного духовенства. Поручив ему продолжать работу по наблюдению за духовенством и за разрастающимся восстанием луров, мы выехали дальше в Исфагань.
Поехали мы не прямо, а по старой окольной дороге через Кашан. Этот город, когда-то торговый центр средней Персии, постепенно вымирает вследствие отсутствия воды и множества знаменитых кашанских скорпионов. Жизнь поддерживается исключительно ковровым производством. Не найдя ничего интересного в этом городе, мы переночевали и на следующее утро продолжали путь.
Советским консулом в Исфагани был мой старый знакомый Кржеминский, переведенный сюда из Мешеда. Работу ГПУ вел один из агентов Бюроперса Струдзюмов. Он, собственно, ничего еще не сделал, так как только что приехал в Исфагань, был слишком молод и неопытен. Единственным информатором ГПУ в Исфагани был сотрудник советского банка Челидзе. Грузин по национальности, он сумел близко сойтись с грузинской колонией, расположенной в местечке Феридан и насчитывающей около трех тысяч человек. Главари колонии были связаны с вождями соседних племен, в частности с бахтиарскими племенами. Челидзе использовал эти связи и накопил довольно богатый информационный материал.
Исфагань интересовала нас как центр, к которому тяготели бахтиарские племена, наиболее сильные и смелые в Персии, всегда игравшие большую роль в ее истории.
Работу в Исфагани я распределил следующим образом: консулу Кржеминскому поручил изучение племен и установление связи с их вождями, а Струдзюмову — организацию агентуры для всестороннего освещения жизни в городе Исфагани.
Из Исфагани мы проехали в Шираз, где советским консулом был Батманов. Батманов до того был консулом в Авхазе, присылал нам оттуда информационный материал и, получив назначение в Шираз, претендовал на звание представителя ГПУ в этом районе.
Такое желание было вызвано отнюдь не страстью к нашей работе. Представительство ГПУ давало ему возможность получать деньги, дополнительные ассигновки и освобождало от присутствия специального нашего представителя, который, освещая район, одновременно сообщал бы нам и о деятельности самого консула. Секретарем консульства был некто Эйнгорн, бывший сотрудник туркестанского ГПУ, работавший в 1923 году вместе со мной в Ташкенте. Наконец, в Ширазе же находился один из моих тегеранских агентов Ергемлидзе, командированный сюда в качестве сотрудника вновь организованного отделения торгового общества «Шарк». Информационная работа консульства никуда не годилась. Единственное, что заслуживало внимания, — это перехват переписки местного отдела англо-персидской нефтяной компании с центром. Настолько слабо была поставлена информационная работа, что о волнениях в Ширазе в конце 1927 и начале 1928 года мы сначала подробно узнавали из перехваченных донесений английского консула в Ширазе и лишь после этого получали общие сведения от нашего консула. Работу ГПУ я поручил секретарю консульства Эйнгорну, научив его одновременно способу вскрывания пакетов, и выехал дальше в Бендер-Бушир.
С нами поехал также Эйнгорн. По дороге в Бушир мы остановились в городе Казерун, где посетили местного помещика Сардар-Низама, информатора советского консульства. Переночевав у него, мы на следующий день приехали в Бендер-Бушир.
В Бушире я получил телеграмму от полпреда Давтьяна с сообщением, что в Луристане неизвестными убит командующий войсками. Давтьян просит меня не ехать в этот район, дабы не дать персам повода говорить о возможном нашем участии в этом убийстве. Опасаясь, что такие разговоры могут вызвать политические осложнения, он настаивает на моем возвращении в Тегеран.
В Бендер-Бушире мы пробыли несколько дней. За это время я изучил вопрос нелегального проезда и контрабандного провоза товаров из Бушира в соседние страны. Это было нужно для подготовки возможности тайной переброски людей из Персии в Индию и Ирак. Работу в Бендер-Буширском районе я также поручил Эйнгорну.
Вернувшись в Шираз, мы проехали в Иезд. Иездские жители занимаются производством шелковых тканей. Оказалось, что нитки для выработки тканей привозятся главным образом из Бомбея, где иездское купечество имеет отделения своих контор. Мы тотчас выработали план вербовки иездских крупных купцов, через которых можно было бы посылать агентов ГПУ в Бомбей под видом торговых служащих. Осуществление плана я поручил представителю общества «Шарк» в Иезде Иванову.
Из Иезда, через Исфагань, мы вернулись в Тегеран. Послав в Москву обстоятельный доклад о поездке на юг Персии и о возможностях, которые там открываются, я просил, ввиду более чем годичного пребывания в Персии, разрешения выехать в Москву с личным докладом, а затем в отпуск.
В это время, то есть в апреле 1928 года, в Тегеране загорелось здание советского банка. Пожар был быстро ликвидирован. Удалось вынести все ценное из банка, но, однако, при разборе бумаг оказалось, что из несгораемых шкафов банка исчезли акции банка, взятые у Хоштария, ценностью в полтора миллиона рублей. В пропаже акций заподозрили нескольких служащих банка. Председатель банка обвинял в краже секретаря Аралова, с которым у него были личные счеты. Для меня мотив обвинения был ясен: Аралов был агентом ГПУ и знал много о личной жизни председателя банка Мерца. Тем не менее по требованию Мерца секретарь банка был выслан в Москву якобы с поручением, а вслед ему полетели телеграммы Давтьяна и председателя банка с просьбой арестовать его и допросить о пропаже хоштариевских акций. Однако расследование раскрыло игру Мерца, и Давтьяну был объявлен выговор от Центральной контрольной комиссии.
В конце апреля я получил телеграмму от Трилиссера, разрешавшую мне выехать с докладом в Москву. 6 мая я уехал из Тегерана, оставив своим техническим заместителем Макарьяна и поручив наблюдение за ним советнику полпредства Логановскому.
Проездом в Москву я остановился в Баку, где имел беседу с тогдашним заместителем председателя азербайджанской ЧК Морозом. Год спустя этот Мороз вместе с другими ответственными работниками ГПУ был приговорен к семи годам тюремного заключения за то, что незаконно расстрелял бакинского рабочего в подвалах ГПУ. Убийство обнаружилось вследствие склоки, вспыхнувшей среди ответственных партийных работников бакинской организации.
Мороз очень интересовался Джаваховым, работой Братства русской правды в Персии и просил доложить об этом деле в Москве. Он сообщил, что по его инициативе на границе с Персией им посажены агенты ГПУ с поручением играть роль повстанцев и дезинформировать центр Братства русской правды. Эти же агенты вливаются в настоящие повстанческие отряды, оперирующие в районе Ардебиля, и дают возможность ГПУ настигать повстанцев и уничтожать их. Я обещал Морозу сделать доклад в Москве в контрразведывательном отделении ГПУ и о результатах сообщить ему.
Глава 16 Восточный сектор ОГПУ в Москве
Приехав в Москву, я явился в тот же день к Трилиссеру и был принят очень приветливо. Вообще, нужно сказать, он ко мне относился чрезвычайно хорошо и, будучи о моих способностях высокого мнения, всегда поручал мне наиболее рискованные дела по иностранному отделу. Назначили день для доклада о положении дел в Персии и о дальнейших планах. Доклад состоялся через несколько дней в присутствии Трилиссера и начальника восточного сектора Триандофилова. Было решено признать работу в Персии удовлетворительной и принять меры для дальнейшего развития деятельности ГПУ в Индии и Ираке. Тут же была мной представлена смета на работу в этих странах, требовавшая ежемесячного расхода в 5 тысяч долларов. Смету утвердили. Трилиссер предложил мне двухмесячный отпуск, по окончании которого я должен был снова выехать в Персию.
После отпуска, проведенного в Туркестане, я вернулся в Москву. К этому времени начали поступать на меня доносы от моего заместителя в Персии. Не обращая на них внимания, Трилиссер предложил мне готовиться к выезду. В начале августа пришла телеграмма из Тегерана с сообщением, что агент номер 3 (Орбельяни), которому велено выехать в Москву, не может выехать, так как растратил около двух тысяч долларов.
Начали выяснять подробности его биографии по анкетам и другим материалам, которые имелись в достаточном количестве, так как этот агент работал для ГПУ в течение пяти лет. Оказалось, что до работы у нас он работал в Английском банке в Персии, где также совершил растрату, подделал чек для покрытия растраты и был выгнан англичанами со службы.
Трилиссер предложил мне немедленно отправиться в Тегеран для расследования и улаживания дела, так как существовала опасность, что Орбельяни, оставшись в Персии, может выдать всю известную ему агентуру.
Получив персидскую визу и купив железнодорожный билет, я собирался ехать, когда пришла новая телеграмма от полпреда Давтьяна с просьбой задержать меня в Москве. Давтьян приехал через неделю и сообщил, что в Тегеране поднялась против меня склока, руководимая секретарем ячейки Цейтлиным и поддерживаемая моим помощником.
Давтьян поэтому считал, что было бы целесообразнее послать вместо меня другого резидента. Трилиссер вынужден был согласиться с ним, отменил мое назначение, но посылать нового резидента ГПУ отказался. Вызвав Триандофилова и меня, он сообщил, что решил организовать в Персии нелегальную резидентуру ГПУ, совершенно обособленную от полпредства и других советских организаций. Необходимо перейти на методы нелегальной работы возможно скорее, так как только таким способом работники ГПУ могут быть избавлены от тех склок, которые неизбежно возникают во всех заграничных учреждениях. Нелегальным резидентом в Персию должен был ехать начальник восточного сектора Триандофилов. Ему придавалось несколько помощников. При полпредстве оставлялся официальный представитель ГПУ для облегчения связи нелегального резидента с Москвой и для маскировки нелегальной резидентуры. На эту должность по моей рекомендации наметили секретаря керманшахского консульства Алхазова. Моего помощника Макарьяна решено было немедленно отозвать из Тегерана. Мне же поручили помочь Триандофилову подготовиться к выезду в Персию и после его отъезда принять в заведование восточный сектор.
Опасения относительно Орбельяни не оправдались. После настойчивых требований он приехал наконец в Москву и, уволенный за растрату из иностранного отдела, поступил на работу в восточный отдел ГПУ, где находится и поныне…
После четырехлетнего пребывания за границей я вновь вернулся на работу в центральный аппарат иностранного отдела ГПУ. Восточный сектор предоставляет соединение двух отделов: восточного — руководящего работой на всем Ближнем и Среднем Востоке, и англо-американского — руководящего работой в Англии и Америке. Соединение было произведено потому, что в работе на Востоке всегда приходилось сталкиваться с англичанами, а потому необходимо было находиться в курсе дел английской метрополии. Америка же была дана английскому сектору, как страна, родственная Англии, в которой еще не была развернута настоящая работа.
До меня восточным сектором руководил Триандофилов, с которым я работал в 1921 году, а англо-американским ведал некто Мельцер. Триандофилов, по национальности грек, член партии с 1917 года, идейный коммунист, пользовался колоссальным авторитетом в партийной среде, но больше вел партийную, чем чекистскую работу. Человек умный и сообразительный, он, хотя не имел практического опыта в разведывательной работе, однако, справлялся с ней довольно успешно, придумывая всевозможные хитроумные комбинации. Так, например, им была выдвинута идея использования для работы ГПУ армянского духовенства. Идея организации работы в арабских странах для поднятия восстаний в тылу у англичан также принадлежала ему и т. д.
Мельцер, бывший до 1925 года резидентом ГПУ в Персии и работавший там под фамилией Борисовский, затем был под той же фамилией переведен в Берлин. Несмотря на то что он кончил Академию Генерального штаба, он был глуп и несообразителен до невероятности, но глупость свою оправдывал якобы нервной болезнью, развившейся на почве работы в ГПУ. По натуре же был шкурник и карьерист, каких трудно сыскать. Человек абсолютно безыдейный, он всегда стоял на стороне сильных, как на службе, так и в партии. Прочтя утром передовицу газеты «Правда» и зарядившись на целый день высказанными там очередными мыслями, он разносил их по коридорам ГПУ, выдавая за свои. На службе, выслушивая соображения подчиненных по тому или иному вопросу, он немедленно докладывал их по начальству, также выдавая за свои. Материально он был вполне устроен, так как за время пребывания в Персии и Германии сумел на долгие годы обеспечить себя всем необходимым.
Охарактеризую вкратце других сотрудников сектора.
Риольф, старый член партии, простой рабочий, выдвиженец, присланный для обучения в ГПУ. Как свежий человек, он с отвращением относился к методам провокации, которым пользовались в иностранном отделе. Руководил он работой по Афганистану.
Кеворкьян, армянин по национальности, был исключен из партии в 1921 году за несогласие с новой экономической политикой. В 1923 году его командировали в Восточный институт в Москву, по окончании которого приняли на работу в ГПУ. Молодой парень, лет двадцати четырех, он прекрасно разбирался во взаимоотношениях кавказских национальных партий: меньшевиков, дашнаков, мусаватистов, горцев и прочих, и руководил работой по борьбе с ними в течение двух лет. Будучи политически вполне грамотным, он, однако, не имел собственной твердой платформы и колебался то влево к Троцкому, то вправо к Бухарину. Несдержанный по натуре, он часто вслух высказывал сомнения по поводу партийной линии, за что был причислен начальством к числу «неустойчивых». На заграничную работу его поэтому пускать не решались.
Эйнгорн, еврей, лет двадцати восьми, член партии с 1918 года, старый партийный работник, имел большие личные связи в партии. До ГПУ, где служил недавно, он участвовал долгое время в подпольной работе Коминтерна в Германии, Австрии и Польше. Он больше интересовался партийными делами, чем прямой службой. Руководя работой в Персии и Индии, он порученного ему дела не знал. Зато от него мы узнавали интимную сторону жизни руководителей партии и все новости, которые не опубликовывались.
Аксельрод, еврей, тридцати лет от роду, работал до 1927 года в Наркоминделе, откуда был командирован в Йемен, Геджас и провел там пять лет. Окончив Восточный институт и имея пятилетнюю практику в Аравии, он считался в СССР одним из лучших знатоков арабского языка. Кроме арабского, он владел также немецким, французским, итальянским и английским. Одновременно с работой в ГПУ занимался журналистикой и состоял членом Общества востоковедения. Не имея практического стажа по работе в ГПУ, если не считать Аравии, где он вел разведку добровольно, он не пользовался большим авторитетом в секторе. Руководил он работой ГПУ в арабских странах, где, собственно, еще не было ничего организовано. Вся деятельность его пока заключалась в переводе на русский язык арабских материалов и их обработке.
Работой по Турции руководил сам Триандофилов, считавший себя специалистом по Турции, так как в свое время проработал там около года.
Делопроизводительница Бортновская, жена заместителя начальника Разведупра Бортновского, вела техническую работу сектора. От нее мы узнавали новости из Разведупра, где она имела массу друзей.
Приняв сектор, я занялся подготовкой Триандофилова к организации нелегальной резидентуры в Персии и разработкой задач, которые перед ней стояли.
Однажды меня вызвал Трилиссер и спросил — знаю ли я, кто такой Мясников. Я сказал, что лично его не знаю, но слышал, что он является одним из активных членов так называемой «рабочей оппозиции». Трилиссер рассказал мне следующее: Мясников за свою оппозиционную деятельность был выслан на Кавказ, затем переведен в советскую Армению и работал там в Эривани в финансовом ведомстве. После октябрьских торжеств администрация финансового управления заметила, что Мясников перестал являться на службу, и сообщила об этом в армянское ГПУ. Начались розыски. Выяснилось, что Мясников бежал через пограничный пункт Джульфу в Персию. Ныне, по сведениям тифлисского отдела ГПУ, Мясников находится в Тавризе, где по распоряжению персидских властей его арестовали и содержат в местном полицейском управлении. Центральный комитет партии отдал распоряжение во что бы то ни стало вывести Мясникова из Персии и доставить живым в Москву. Приказ велено выполнить Тифлисскому ГПУ, однако он, Трилиссер, сомневается, что тифлисские чекисты сумеют это сделать, и просит меня помочь им. В Москве находится председатель грузинской ЧК Берия, с которым он уже сговорился о моем участии. Я же, связавшись с Берией и условившись о деталях, должен немедленно выехать в Тифлис и дальше в Персию для выполнения поручения. Трилиссер несколько раз подчеркнул, что Мясникова нужно доставить во что бы то ни сталоживым. Получив приказ, я в тот же день встретился с Берией в гостинице «Селект», и на следующий день мы вместе выехали в Тифлис.
Берию я знал раньше, но мало. За трехдневное совместное путешествие мне пришлось познакомиться с ним ближе. В Тифлисе, будучи председателем грузинской ЧК, он одновременно занимал должности заместителя полномочного представителя О ГПУ в Закавказье и народного комиссара внутренних дел Грузии. В аппарате ГПУ о нем ходили целые легенды. Он с 1922 года выживал всех полномочных представителей ГПУ, которые по тем или другим причинам восставали против него. Как раз перед своим приездом в Москву он подрался с полномочным представителем ГПУ в Закавказье Павлуновским, имевшим колоссальное влияние в Москве, и, несмотря на его могущественные связи, добился его отозвания из Тифлиса и назначения на его место некоего Кауля, совершенно бесцветной фигуры. Конечно, Берия мог держаться так долго на своем посту не благодаря личным способностям, а вследствие личной близости к Орджоникидзе, нынешнему председателю ЦКК и РКИ.
В дороге мы беседовали исключительно на партийные темы, так как в то время только что обнаружились первые попытки правых уклонистов выступить против Центрального комитета. Полагая, что такой крупный работник, как Берия, получавший по положению все стенографические отчеты политбюро для ознакомления, должен хорошо разбираться в вопросах партийной и внутренней политики, я заговорил с ним на эти темы, но оказалось, что это политически абсолютно безграмотный человек: он интересовался тифлисскими уличными происшествиями больше, чем событиями всесоюзного масштаба.
Приехали мы в Тифлис вечером и в ту же ночь, в 11 часов, созвали совещание по делу об увозе Мясникова из Персии. На заседании присутствовали: полномочный представитель ГПУ в Закавказье Кауль, сам Берия, начальник секретно-оперативной части ГПУ Лордкипанидзе и я. Остановлюсь на характеристике Лордкипанидзе.
В 1925 году он работал в иностранном отделе ГПУ в Москве и был командирован в Париж для ведения работы среди грузинских меньшевиков. Тогда, после восстания в Грузии в 1924 году, эта работа носила ударный характер. Кипанидзе пробыл в Париже около девяти месяцев, организовал кое-какую агентуру, но не мог наладить правильной работы вследствие отсутствия политического опыта и кругозора. Кроме того, были сведения, что в Париже его расшифровали, и тем самым миссия его потеряла смысл. Его отозвали в Москву и командировали в Тифлис. Очень горячий по натуре, быстро увлекающийся, он вечно предлагал ГПУ фантастические планы, от которых сам же через некоторое время открещивался.
Наше ночное заседание открыл Кауль, сообщивший, что Мясников находится в Тавризе и сидит в полицейском участке под строгой охраной персидской полиции. В помощь Минасьяну, резиденту ГПУ в Тавризе, послан из Тифлиса начальник иностранного отделения ГПУ Гульбис с поручением принять меры для увоза Мясникова. Однако принятые им меры пока ни к чему не привели. Необходимо выработать новый план.
Лордкипанидзе предложил организовать вооруженное нападение на тавризскую полицию и, силой захватив Мясникова, увезти его на автомобиле в СССР. На поставленный мной вопрос, пропустят ли автомобиль через границу персидские войска, он ответил, что для отвлечения внимания войск можно к этому времени завязать перестрелку между советскими и персидскими пограничниками. Берия сначала поддерживал геройский проект Кипанидзе, но время было позднее, его начинало клонить ко сну, и боеспособность его быстро падала. Мы обсудили все возможности, вплоть до подкупа начальника полиции Тавриза, который в то время приехал на лечение в Тифлис. Кауль и я молчали, слушая других. Наконец, когда спросили мое мнение, я ответил, что затрудняюсь что-либо сказать и предпочитаю выехать на место в Тавриз, где будет виднее, что можно предпринять и чего нельзя. Для этого мне нужен какой-нибудь паспорт, с которым я мог бы незаметно пробраться в Персию. Заседание продолжалось до 4 часов утра и тянулось бы дальше, если бы Кауля не вызвали к прямому проводу из Москвы. Кауль отлучился и, вернувшись с провода, сообщил, что Москва приказывает оставить Мясникова в покое. Все предыдущие распоряжения отменялись.
Мне ничего не оставалось, как выспаться и на следующий день выехать обратно в Москву. Впоследствии Мясников, выпущенный персидской полицией, несколько раз сам обращался в советское консульство в Тавризе с просьбой разрешить ему вернуться в СССР. Однако Москва учла, что своим бегством Мясников существенно подорвал тот авторитет, какой имел среди небольшой группы приверженцев, и отказала ему в разрешении. Пусть продолжает сидеть за границей. Мясников из Персии пробрался в Париж, где, кажется, сейчас и находится.
К моему возвращению в Москву вопрос об отъезде Триандофилова в Персию решился окончательно. Я принял дела всего восточного сектора и начал руководить работой ГПУ на Ближнем и Среднем Востоке.
В дальнейшем я буду вести рассказ по странам, где мы работали непосредственно, но коснусь также и стран, с работой в которых нам приходилось сталкиваться по ходу нашей собственной работы.
Прежде чем приступить к этой части рассказа, я должен отметить, что, находясь в Афганистане и Персии, я часто получал из Москвы подробные сведения о той стране, где работал. Так, будучи в Кабуле, я получал из московского ГПУ подробную информацию о состоянии нашего воздушного флота в Афганистане (с такими, например, подробностями, как число и время полетов наших аэропланов над Кабулом), о передвижении иностранцев в Афганистане, о настроении племен Южного Афганистана и т. д. и т. д.
В Персию мне Москва присылала сведения о ходе переговоров англичан с персами и т. д.
Получая эти материалы, я в то время не знал, насколько они достоверны и откуда исходят. По приезде же в Москву и принятии руководства восточным сектором, я узнал, что эти сведения черпались из докладов английских послов и военных атташе в Персии и Афганистане, причем доклады получались ГПУ в фотографированном виде из европейского источника. В дальнейшем рассказе я буду приводить приблизительные тексты этих докладов английских послов. Приблизительные потому, что, к сожалению, копий у меня нет сейчас под рукой.
Глава 17 Советская военная интервенция в Афганистане
После моего отъезда из Афганистана в 1926 году моим преемником был назначен Скижали-Вейс, работавший до того в Ташкенте. Он поехал в Афганистан на должность атташе полпредства под фамилией Шмидт. Помощником к нему был придан некто Очаковский, работавший до того в восточном отделе ОГПУ в Москве. Шмидт был моим преемником во всех отношениях: он не только принял всю агентуру, организованную мной, но так же, как я, продолжал борьбу с полпредом Старком. Борьба приняла при нем еще более резкий характер. Полпред Старк, не довольствуясь двумя женами, завел третью — жену шифровальщика полпредства Матвеева. На этой почве произошел скандал, закончившийся самоубийством первой жены Старка и выездом в Москву второй жены, Булановой, которая должна была к тому времени родить ребенка от Старка. Старк остался в Кабуле благополучно проживать с третьей женой, Матвеевой. Склока дошла до того, что Москва послала в Кабул члена ЦКК Филлера для расследования дела. Филлер, разобрав склоку, постановил снять с работы
Старка и Шмидта. Но Шмидт выехал в Москву, оставив своим заместителем Очаковского, а Старк продолжал сидеть в Кабуле.
Отъезд Шмидта произошел как раз в то время, когда в Кабуле ожидались грозные события. На юге Афганистана восставшие племена упорно стремились к Кабулу. Афганский эмир вынужден был бросить все войска в бой, чтобы задержать наступление. На севере Афганистана свирепствовал повстанческий вождь Бачаи Сакао, отряды которого численно разрастались. Положение Аманулла-хана становилось крайне затруднительным.
Москва тем временем обсуждала принципиальные вопросы и не знала, что делать. Необходимо было выяснить, какова позиция Амануллы по отношению к СССР после его поездки по Европе, что собой представляет восстание южных племен, кем оно поддерживается, наконец, каковы планы Бачаи Сакао, какова его политическая программа и настроения каких слоев афганского населения она отражает. Всех этих вопросов кабульская резидентура не могла осветить, так как сама сошла на нет после отъезда Шмидта и разрыва связи. Приходилось разрешать эти важные вопросы по имевшимся в ГПУ иностранным материалам, в частности по докладам английского посольства в Кабуле Форин Офису… ГПУ искало во всех афганских событиях прежде всего руку англичан. Было приказано изучить все служебные доклады английского посольства в Кабуле и выяснить по ним, предвидели ли англичане эти события и что заставляет их поддерживать повстанческое движение.
Весной 1928 года Аманулла выехал из Кабула в путешествие по Европе. Одновременно с ним выехал в Индию и дальше в Англию английский посланник в Кабуле Хемфрис. Летом 1928 года поверенный в делах Англии в Кабуле писал Форин Офису, что экономическое положение Афганистана сильно ухудшается. С увеличением таможенных пошлин и с введением новой денежной системы началось обнищание населения. Цены на предметы потребления поднимаются, в населении растет недовольство правительством. Если Аманулла-хан продлит еще на несколько месяцев свое путешествие, указывал британский поверенный в делах, то в стране может появиться претендент на престол, который постарается взять в свои руки правление до приезда Амануллы. Британский поверенный в делах перечислял всех возможных претендентов на престол и их шансы. Говоря о родовитых фамилиях, Надир-хане, Мамад-Умар-хане и других, он не исключал предположения, что может появиться и какой-нибудь никому не известный претендент, ибо Афганистан всегда был страной неожиданностей (с его точки зрения). Естественно, заключал он, советская власть поддержит такого неизвестного пролетария для внедрения советской власти в Афганистане.
Из этого доклада мы сделали вывод, что англичане предвидели восстание в Афганистане. В нашем распоряжении, кроме того, имелся отчет о приезде Аманулла-хана в Лондон, о беседах, которые он имел с тогдашним министром иностранных дел Чемберленом, и о переговорах афганского посланника в Лондоне с министерством иностранных дел. Этот отчет был послан Форин Офисом в Кабул для того, чтобы ввести в курс дела тамошнее посольство на случай дальнейших переговоров по этим вопросам. В отчете текстуально приводились беседы Аманулла-хана с Чемберленом. Касаясь вопроса о племенах на независимой территории Северо-Западной Индии, Аманулла говорил, что, по его сведениям, англичане усиленно укрепляют этот район и постепенно подчиняют проживающие там племена. Он, по-видимому, намекал, что эта территория до сих пор является спорной и Афганистан в ней так же заинтересован, как и Англия. Чемберлен резко отвел вопрос, заявив, что говорить на эту тему надо не с ним, но с индийским правительством, и дав понять Аманулле, что с точки зрения Лондона вопрос о независимых племенах является не внешним, а внутренним делом Индии. Аманулла вынужден был согласиться и, таким образом, в первой же беседе сдал свои позиции, забыв о том, что независимые племена всегда являлись надежной охраной независимости Афганистана. Дальше переговоры затрагивали технические темы, вроде посылки афганской молодежи в английские военные школы и пр. Наконец, афганцы подняли вопрос о снабжении Афганистана оружием, причем указывали, что Англии выгодно вооружение и усиление Афганистана, так как Афганистан является естественным буфером между советской Россией и Индией. Вопрос об оружии был передан на рассмотрение министерства иностранных дел.
Аманулла-хан, осмотрев Европу, поехал в СССР. Советское правительство из кожи лезло, чтобы его обработать. Оказывавшиеся ему почести создавали невыгодное впечатление среди коммунистов-рабочих, считавших неуместным чествование самодержавного монарха в советской социалистической стране. ГПУ пристроило к свите Аманулла-хана своих агентов, следивших за каждым шагом эмира и его свиты. В числе агентов был сын генерала Самойлова, устроенный лакеем при Аманулла-хане и доносивший в ГПУ обо всем слышанном. Афганцы не стеснялись вести при нем разговоры, так как считали, что он не знает персидского языка. По их разговорам было видно, что пребывание в СССР их не очаровало.
Все эти сведения давали опасение полагать, что Аманулла во время пребывания в Европе изменил отношение к Советам и склоняется в сторону западной ориентации.
Из СССР Аманулла поехал в Турцию, сопровождаемый представителем Разведупра, бывшим военным атташе в Кабуле Ринком, а из Турции, прямо через Кавказ, выехал в Афганистан. Проезд свиты Амануллы через Туркестан обошелся не без казусов. Два чемодана личного багажа Амануллы, в которых, по предположениям ГПУ, должна была находиться его канцелярия, исчезли. Однако при вскрытии чемоданов там оказались личные вещи Амануллы…
Вернувшись в Кабул, Аманулла немедленно созвал Большую джиргу (национальное собрание), которое должно было провести в жизнь все те «европейские» реформы, о которых в свое время писали газеты. При въезде в Кабул
Аманулла был встречен депутацией от независимых племен, которая после приветствия немедленно спросила, как он разрешил вопрос об их территории в Лондоне. Аманулла не дал никакого ответа и отпустил делегацию ни с чем. Это был первый поворот в настроениях против Амануллы. Созвав Джиргу, Аманулла насильно заставил делегатов одеться в европейское платье и предложил им санкционировать привезенные из Европы реформы. Результаты Джирги окончательно восстановили против Амануллы афганские племена, понявшие, что эмир не только не защищал в Европе их территориальные права, но намерен переменить коренным образом весь их быт и веру. Эти настроения вызвали восстание племен шинвари и хугияни на юге Афганистана, и этими же настроениями объяснялось вялое сопротивление, которое оказывали повстанцам войска Амануллы.
В разгаре борьбы афганского правительства с повстанцами на юге к северу от Кабула, в Кухистане, появился Бачаи Сакао, сын кабульского водовоза, дезертир афганской армии. Отряды его быстро начали обрастать приверженцами. Пользуясь отсутствием войск в Кабуле, он произвел удачный налет на столицу и после трехдневного боя овладел городом. Аманулла успел бежать в Кандагар, ища поддержки у племени дурани, из которого сам происходит. Бачаи Сакао, заняв Кабул и кабульскую крепость-дворец, где находился брат эмира Инаятула-хан, провозгласил себя королем Афганистана.
В Москву доходили сведения, что Бачаи Сакао в борьбе с Амануллой пользовался поддержкой англичан, снабжавших его оружием. Сообщали, что когда он занял Кабул, то по его приказу была учреждена специальная охрана английской миссии, что английская миссия относилась к нему с расположением и, наконец, что капитуляция Инаятулы-хана произошла при посредничестве и помощи английского посланника в Кабуле Хемфриса. Эти сведения заставляли думать, что Бачаи Сакао был ставленником англичан.
После долгих споров между ГПУ и Наркоминделом восторжествовала точка зрения Наркоминдела. Представители ГПУ, опираясь на факты, доказывали, что Бачаи Сакао, будучи сам выходцем из низов, опирается на крестьянство, интересы которого он защищает, и убеждали, что, поддержав его, можно постепенно «советизировать» Афганистан. Например, что могло быть красноречивее того факта, что почти весь кабинет министров Бачаи Сакао состоял из крестьян, в большинстве неграмотных и малограмотных, но зато знавших нужды населения. Бачаи Сакао немедленно после захвата власти снял все недоимки с крестьян за прошлые годы, начал отбирать земли у крупных помещиков и передавать их земледельцам, наконец, заменил весь аппарат старых чиновников новыми, выходцами из народа. Этим и объяснялось, что Бачаи Сакао до последнего дня своей власти пользовался популярностью и поддержкой афганского крестьянства.
Наркоминдел не возражал. Он утверждал, что Бачаи Сакао опирается исключительно на население Северного Афганистана и потому неизбежно будет вести агрессивную политику против Советов, стараясь распространить влияние на советский Туркестан. Аманулла же, опирающийся на южные племена Афганистана, естественно, должен вести агрессивную политику против Индии. А самое главное, в Наркоминделе никто не верил, что Бачаи Сакао долго удержится у власти.
Политбюро признало доводы Наркоминдела правильными и решило поддерживать эмира Амануллу, представителя помещиков и ханов, против «сына водовоза», пролетария Бачаи Сакао.
Для того чтобы выяснить положение и силы Амануллы, уполномоченный Наркоминдела в Ташкенте Соловьев вылетел на аэроплане в Кандагар.
ГПУ, ознакомившись с постановлением политбюро о поддержке Амануллы, решило также послать к нему в Кандагар своего представителя с поручением выяснить положение, настроения племен, отношения с англичанами и, наконец, одновременно начать из Кандагара разведывательную работу в Индии. Для поездки в Кандагар был намечен я. Однако вскоре пришло известие, что Гератская провинция также занята войсками Бачаи Сакао. Кандагар оказался отрезанным от нас.
Афганским посланником в Москве был в то время Гулам-Наби-хан, брат министра иностранных дел Гулам-Джелани-хана. Он усиленно убеждал советское правительство активно поддержать Амануллу. Однако осязательных результатов добился только сам Гулам-Джелани-хан, приехавший из Кандагара в Москву. После предварительных переговоров с Наркоминделом вопрос о вооруженной поддержке Амануллы был передан в политбюро, и однажды ночью состоялось личное свидание между Сталиным, Гулам-Джелани-ханом и бывшим советским военным атташе в Кабуле Примаковым, находившимся в то время в Москве. На этом совещании было решено организовать ударную группу из Красной армии, переодеть красноармейцев афганцами и перебросить их под руководством советского военного атташе (ныне военный атташе в Японии) в Афганистан для похода на Кабул. Экспедицию политически должен был возглавлять московский посол Гулам-Наби-хан, пользовавшийся некоторым влиянием в Северном Афганистане.
Спустя несколько недель план был приведен в исполнение. Как передавали очевидцы, из пограничного города Термеза рано утром поднялись советские аэропланы и, перелетев через Амударью, начали кружиться над афганским пограничным пунктом Патта-Гиссар. Афганский пограничный пост выбежал, чтобы поглазеть на аэропланы, но пулеметным огнем с аэропланов все солдаты поста были перестреляны. Немедленно вслед за этим пехота, набранная из лучших команд Ташкента, начала спокойно переправляться через Амударью. Перейдя границу, эта группа войск, в числе 800 человек, вооруженная многочисленными пулеметами и несколькими орудиями, направилась на Мазари-Шариф. Высланные против нее правительственные войска были мгновенно рассеяны пулеметным и артиллерийским огнем. Последнее сопротивление было оказано в самом Мазари-Шарифе, но переодетые красноармейцы его также сломили, и город оказался в руках Гулам-Наби-хана, вернее, в руках Примакова, выступавшего в этом походе под видом турецкого офицера.
По приблизительным подсчетам, на пути от границы до Мазари-Шарифа было перебито около двух тысяч афганцев. Появление Гулам-Наби-хана в Афганистане и взятие Мазари-Шарифа было настолько неожиданно и внезапно, что афганское правительство в Кабуле узнало о событиях только неделю спустя. Сторонники Бачаи Сакао, в большинстве бухарские и туркменские эмигранты, начали стягиваться с юга к Мазари-Шарифу, чтобы не дать Гулам-Наби-хану идти дальше на Кабул. Гулам-Наби-хан объявил мобилизацию местного населения и двинул мобилизованных афганцев под руководством красноармейцев на Таш-Курган. Под Таш-Курганом враждебные силы встретились и вступили в бой. После шестичасового сражения армия Бачаи Сакао разбежалась, потеряв около трех тысяч убитых. Советская экспедиция заняла Таш-Курган, собираясь двинуться одновременно на Ханабад и Гейбак.
Тем временем в Москве получили известие, что Аманулла-хан, ради которого была предпринята советская экспедиция и чьим именем Гулам-Наби-хан занимал афганские города, бежал из Кандагара в Индию, отказавшись, таким образом, от борьбы с Бачаи Сакао. Гулам-Наби-хан, потеряв возможность действовать именем Амануллы, должен был вернуться назад. По распоряжению из Москвы советские войска спешно отступили и через три дня вступили обратно на советскую территорию.
Отозвание советских войск вызвано было также тем, что об их проникновении в Афганистан уже начали говорить не только в иностранных миссиях Кабула, но и в европейской печати. Благодаря спецотделу ГПУ, расшифровывавшему перехваченные телеграммы иностранных дипломатов, мы видели, что о советском вооруженном походе на Кабул знали все и не одобряли его не только европейские державы, но даже такие добрые союзники СССР, как Турция и Перси я. Вооруженная авантюра, предпринятая социалистическим правительством для восстановления афганской монархии, бесславно закончилась. После бегства Амануллы и ухода Гулам-Наби-хана из Афганистана вся страна фактически перешла в руки Бачаи Сакао. Из перехваченных телеграмм мы видели, что турецкое и персидское правительства склоняются к признанию Бачаи Сакао королем Афганистана. Однако советское правительство решило выждать и ничего больше не предпринимать, не выяснив предварительно мнения остальных держав.
В это время из берлинской резидентуры ГПУ пришло сообщение, что Надир-хан, бывший афганский посол в Париже, собирается ехать в Афганистан для руководства борьбой против Бачаи Сакао. Надир-хан пользовался большим влиянием в Афганистане и поэтому мог быть сильным противником Бачаи Сакао.
В Париже Надир-хан обратился в советское посольство за разрешением проехать через СССР. Ему ответили, что визы дать не могут, не запросив предварительно Москву. Надир-хан больше в посольство не обращался, но через месяц оказался на границе Афганистана с Индией.
Загорелась борьба между Надир-ханом и Бачаи Сакао. Афганские представители в Москве просили поддержать Надир-хана. Наркоминдел обещал морально поддержать, исходя из прежней теории, что Надир-хан, имеющий своей базой Южный Афганистан, неизбежно вступит в дальнейшем в конфликт с англичанами.
Надир-хан занял Кабул. Бачаи Сакао со своими сторонниками был расстрелян. Дальнейшая история Афганистана всем известна, но хочу резюмировать роль советского правительства в афганских делах за этот последний год.
Наркоминдел в вопросах афганской политики не имел никакой твердой линии и следовал в хвосте событий. Сталин со своей обычной «прямотой» решил разрубить узел внутренних афганских отношений ударом красноармейского кулака. Этим он окончательно скомпрометировал русское имя в Афганистане и социалистическую идею в СССР, красноречиво подтвердив обвинения СССР в красном империализме.
Работа ГПУ в Афганистане за этот период ни в чем не выявилась. Зато обнаружилось, что организация разведки через легальные резидентуры ГПУ при посольствах и торгпредствах в случае военных столкновений является нереальной, так как курьерская связь с Москвой прекратилась, а с занятием Кабула Бачаи Сакао прервалась и телеграфная связь. Вследствие отсутствия информации политбюро перестало считаться в афганском вопросе с мнением ГПУ и всецело приняло точку зрения Наркоминдела, который, как я говорил выше, в конце концов, никакой точки зрения не имел.
Глава 18 Нелегальная резидентура ОГПУ в Персии
Осенью 1928 года, в то время, когда Триандофилов готовился к нелегальному въезду в Персию, было решено послать предварительно одного из его помощников в Тегеран с поручением организовать прикрытие для остальных членов группы. Решено было отправить Эйнгорна, благо документы для него были готовы. Приготовлены же они были крайне просто. Из Латвии приехал член латышской коммунистической партии Эдельштейн, оставшийся работать в Москве в Наркомторге. Эдельштейн подходил по приметам к Эйнгорну. Мы взяли паспорт Эдельштейна, заменили в лаборатории иностранного отдела ГПУ фотографическую карточку Эдельштейна карточкой Эйнгорна и поставили соответствующие транзитные визы. Паспорт для нового Эдельштейна-Эйнгорна был готов.
Эйнгорн выехал через Пехлеви в Тегеран в качестве латвийского подданного, взяв с собой десять тысяч долларов. Через месяц мы получили известие, что он открыл автомобильный гараж на главной улице Тегерана Лалезар. Тем временем секретарь советского консульства в Керманшахе Алхазов получил распоряжение приехать в Тегеран и занять должность атташе советского посольства. Алхазов должен был служить связью между нелегальной резидентурой ГПУ и Москвой и слегка вести разведывательную работу, чтобы отвлечь подозрения от нелегальной резидентуры. Полпредство, в том числе и сам Давтьян, не знало и не должно было знать о существовании нелегальной резидентуры ГПУ.
Подготовка Триандофилова к выезду в Персию несколько затянулась, так как он не знал ни одного иностранного языка, кроме греческого, и документы для него подыскать было трудно. Наконец нашли греческий паспорт, отобранный у некоего гражданина Челикиди, проживавшего в Москве. Произведя с этим паспортом такую же операцию, как и с паспортом Эйнгорна, новоиспеченный двойник Челикиди выехал в Тегеран.
В Тегеране Триандофилов-Челикиди вступил компаньоном в гараж Эдельштейна. «Предприятие» начало работать. Впоследствии к этим двум был послан третий сотрудник Биренцвейг, поляк, лет тридцати, приехавший в Персию с женой и ребенком по австрийскому паспорту. До своей поездки Биренцвейг работал в иностранном отделе ГПУ в прибалтийском секторе. Вслед за Биренцвейгом мы отправили в Тегеран шофера для связи, болгарина с болгарским паспортом, и, наконец, к этой же группе присоединился служивший в тегеранском автотранспорте советский гражданин Шатов, работавший до того агентом при легальной резидентуре ГПУ. Чтобы уйти от подозрений, Шатов учинил скандал своему начальству, а потом и полпреду. В скандал вмешалась персидская полиция. В ее присутствии Шатов разорвал свой советский паспорт и отказался от гражданства СССР. Блестяще разыграв эту комедию, он поступил шофером в гараж Эдельштейна.
Нелегальная организация ГПУ была готова. В распоряжении гаража имелось несколько машин. На них агенты ГПУ разъезжали по всей Персии, знакомясь с обстановкой и собирая сведения, необходимые для ГПУ.
Эта секретная работа продолжалась до июля 1929 года. Члены организации настолько укрепили свое положение в Тегеране, что к этому времени Эйнгорн-Эдельштейн мог уже выехать в Багдад. Основная задача была выполнена. Работа стала на рельсы, и теперь предстояло перебросить деятельность в Индию и в Ирак, куда Триандофилов должен был послать своих помощников. Центр организации оставался в Персии. Связь с Москвой, поддерживаемая через атташе Алхазова, не считалась удовлетворительной. Предполагалось организовать две новые, независимые друг от друга, линии связи. Первая заключалась в передаче сведений через советские пароходы, курсирующие между Баку и Пехлеви, на которых должен был находиться специальный агент ГПУ для связи, а вторая связь мыслилась в виде установки радиостанции-коротковолновки, посредством которой можно было бы сноситься с Москвой по серьезным и срочным вопросам. Надо добавить, что в Москве, при иностранном Отделе О ГПУ имеются специальные курсы радиопередачи и каждый уполномоченный иностранного отдела должен пройти этот курс.
Весной 1929 года Эйнгорн встретился случайно в Тегеране с русским шофером, которого он арестовал в 1920 году в бытность свою сотрудником одесской ЧК. Чтобы шофер не выдал его, Эйнгорн подкупил его и принял на работу в гараж. Спустя некоторое время Эйнгорн выехал в Керманшах, где благодаря связям с английским консульством сумел получить визу в Багдад. Когда Эйнгорн в Багдаде присматривался к обстановке и изучал возможности для работы ГПУ, из Тегерана нам сообщили, что одесский знакомый Эйнгорна в пьяном виде рассказывает о прошлой и настоящей деятельности Эйнгорна. Боясь провала Эйнгорна на иракской территории, мы немедленно послали ему телеграмму с требованием выехать обратно в Тегеран, а по возвращении в Тегеран вызвали в Москву.
Всю оставленную мной тайную агентуру ГПУ в Персии приняла легальная резидентура, т. е. Алхазов. Он продолжал руководить ею и получать те документы, которые получались при мне. Макарьян был отозван и поставлен на работу в иностранном отделе ГПУ по руководству Персией.
Весной 1929 года резидент ГПУ в Пехлеви сообщил, что из Парижа приехал какой-то русский, кажется, по фамилии Веселовский, с большими деньгами и рекомендациями от Братства русской правды к Джавахову и к хану Нахичеванскому, одному из активных руководителей мусаватистской партии. Парижане просили оказать ему всяческое содействие в работе против советской власти. Полковник Джавахов прилагал к донесению фотографии писем, которые этот русский отправлял в Европу. Из писем явствовало, что этого русского поддерживает какая-то богатая европейская группа. Он ставил себе задачей пробраться на советский Кавказ, организовать повстанческую группу и в первую очередь взорвать бакинский нефтепровод.
Бакинское ГПУ немедленно приняло меры. Сейчас же была организована из агентов ГПУ бандитская группа на персидской границе, куда Джавахов и препроводил приезжего, рекомендуя этих чекистов как героев, восставших против советской власти. Этот русский был беспрепятственно пропущен через границу и соединился с отрядом ГПУ. Вместе с ними он разъезжал по всему Азербайджану, вербовал рекомендуемых ему чекистами людей и подготовлял взрыв бакинского нефтепровода.
До сентября 1929 года этот антисоветский деятель не был арестован, потому что ГПУ желало использовать его для завлечения более крупных лиц, которые могут вслед за ним явиться на Кавказ, и для выяснения, кто финансирует его, какие задачи ему ставят и какие связи на Кавказе имеют стоящие за ним люди.
* * *
В персидском Азербайджане все более укреплялась позиция армянской партии Дашнакцутюн, несмотря на усиленную антидашнакскую деятельность ГПУ и советского консульства в Тавризе. Особую ненависть советское правительство и ГПУ питали к армянскому архиепископу Нерсесу в Тавризе, активно помогавшему дашнакам. Архиепископ был опасен еще тем, что, пользуясь большим авторитетом среди армянского населения и духовенства, мог быть выбран после смерти католикоса всех армян на его место. Резиденция католикоса в таком случае перешла бы из советской Армении в другую страну, и советское правительство лишилось бы возможности влиять на армянскую церковь, а через нее и на армянский народ. Вследствие этих причин было решено во что бы то ни стало убрать архиепископа Нерсеса и заменить его лояльным к советской власти человеком.
Обдумывая этот план, ГПУ имело и другие цели. Армянский епископ в Исфагани являлся главой персидско-индийской епархии. Пост этот занимал архиепископ Месроп, человек очень старый, чрезвычайно культурный и образованный и ярый националист. Не вдаваясь в политику, он неустанно заботился о нуждах армянского народа. В 1928 году он объехал свою паству в Индии и собрал большие пожертвования в пользу советской Армении. Так как он собирал деньги длясоветскойАрмении, то его многие считали и считают советским агентом. Однако, повторяю, человек этот был абсолютно чужд всякой политики. Единственной его заботой было сохранение армянской нации как таковой. Несмотря на его лояльное отношение к советской власти, ГПУ намеревалось заменить его другим лицом, которое могло бы продолжать его работу, но которого можно было бы использовать как прикрытие для организации разведывательной работы в Индии.
В иностранном отделе ГПУ очень долго думали над разрешением таврийской и индийской проблемы, и, наконец, выход был найден. Во Франции проживал архиерей Клтчян, в продолжение двух лет состоявший агентом ГПУ под номером Г/58. Снабженный деньгами на дорогу, Клтчян в конце 1928 года приехал в Москву и был принят мной. Я разъяснил ему, в чем дело. Клтчян предложил в ответ следующий план: он поедет в Эривань к католикосу, а католикос, под давлением ГПУ, посвятит его в сан епископа и затем назначит своим легатом в Персию, где он раньше проживал и где у него сохранилось много связей. Но у Клтчяна осталась во Франции сожительница. В качестве секретаря ГПУ даст ему одного из своих уполномоченных, который одновременно будет считаться женихом его сожительницы и тем прикрывать ее связь с епископом. Клтчян ручался, что, получив назначение в Персию, он сумеет добиться увольнения епископа Нерсеса из Тавриза. На место Нерсеса можно будет перебросить из Исфагани епископа Месропа, а он, Клтчян, займет пост главы индо-персидской епархии, и тогда организацию агентуры ГПУ в Индии можно считать обеспеченной.
Во время переговоров с ним и после, когда мы перешли к вопросу о вознаграждении, я вынес впечатление о Клтчяне как о хорошем негодяе. От обыкновенных негодяев он отличался только тем, что был духовного звания и ценил свои труды дороже, чем другие. Клтчян получал от ГПУ 200 долларов в месяц. По последним сведениям, Клтчян выполнил первую часть программы: он добился архиепископского сана и сейчас состоит легатом католикоса всех армян в Тегеране. Посмотрим, что он будет делать дальше.
Организация нелегальной резидентуры ГПУ в Персии параллельно с легальной, на случай военных действий в Персии и разрыва официальной связи, осуществлена полностью. Персия является центром, откуда должна вестись работа на Индию и на Ирак, то есть, иначе говоря, — Тегеран по своим функциям стал походить на Берлин, являющийся, как известно, центром для работы ГПУ во всей Европе.
Заканчивая главу о Персии, я хотел прибавить несколько слов о Мешеде. Резидент ГПУ Лагорский отозван за бездеятельность. На его место назначен некто Чернобыльский, которого Москва также сняла, заподозрив его в сочувствии к троцкизму. Теперь резидентом ГПУ в Мешеде состоит Куцен, бывший сотрудник дальневосточного сектора ГПУ в Москве, работающий под фамилией Нейбур и занимающий должность секретаря совконсульства.
Глава 19 Китай. Ирак
Работой на Дальнем Востоке руководил соседний с нами дальневосточный сектор. Начальником его был доктор Фортунатов. В ведении сектора находились Китай, Япония, Корея, Монголия и Западный Китай.
Фортунатов, старый революционер, бежал из России при царизме, проживал на берегах Тихого океана и потому считался знатоком Дальнего Востока. По профессии он был врачом, однако практики, видимо, не имел. Под его начальством в ГПУ работал его сын, прекрасно владевший китайским и английским языками.
Одним из главных помощников доктора Фортунатова был Илья Герт. Герт работал до 1925 года в Мешеде в качестве представителя военной разведки и был отозван за склоку с секретарем ячейки партии (Герт хотел его убить, подговорив на убийство одного из своих секретных агентов). После этой истории он некоторое время слонялся без дела, затем в 1927 году был принят в ГПУ и потом назначен резидентом в Ангору. В Ангоре он пробыл девять месяцев и в середине 1929 года был отозван вследствие сокращения финансовой сметы иностранного отдела ОГПУ. Между прочим, благодаря тому же сокращению расходов пришлось отозвать резидентов ГПУ в Греции, Западном Китае и отказаться от услуг многих второстепенных секретных агентов. Очень важно помнить, что работа иностранного отдела ГПУ зависит главным образом от количества валюты, которая ему отпускается советской казной.
Приехавшего из Ангоры Герта перевели в дальневосточный сектор ОГПУ и поручили вести разведку в Монголии. Помня о старой связи с нашим сектором, Герт часто заходил к нам и рассказывал о дальневосточных делах.
Весной 1929 года пришла телеграмма из Харбина от резидента ГПУ Этингона с извещением, что китайская полиция совершила внезапный налет на советское генеральное консульство в Харбине, захватила важные документы у военного атташе и арестовала представителей подпольной коммунистической партии в Харбине, собравшихся в советском консульстве для обсуждения вопросов о китайской революции. Телеграмма страшно взволновала ГПУ. О захваченных у военного атташе документах особенно не беспокоились, так как после знаменитого письма Зиновьева вообще всякий документ можно было объявить фальшивым, но негодовали на военного представителя, не успевшего своевременно уничтожить бумаги. Главную же тревогу вызывала судьба арестованных крупных деятелей подпольной коммунистической организации в Китае.
Вслед за тем мукденские власти захватили Восточно-Китайскую железную дорогу. Образовалось нечто вроде военного фронта без объявления войны.
Прежде чем начались военные действия, начала действовать агентура ГПУ в Китае. Почти ежедневно эшелоны, направляемые с китайскими войсками на границу, сходили с рельс и рушились под откосы, взрывались склады с оружием и снарядами. По рассказам Герта, особенно много секретных сотрудников ГПУ было среди харбинских эмигрантов. Ловкие агенты заводили порученные им воинские части в засаду, где их уничтожала Красная армия. Насколько велики и многообразны были возможности ГПУ в Китае, можно судить по разговору, который начальник иностранного отдела Трилиссер имел с заведующим дальневосточным сектором. Разговор происходил при мне в конце августа 1929 года. Доктор Фортунатов просил разрешения послать резиденту ГПУ в Китае 5 тысяч долларов на приобретение радиостанции и взрывчатых веществ. Трилиссер спросил, сколько места могут занять нужные материалы. Оказалось, не больше трех-четырех чемоданов. Тогда Трилиссер заявил, что ввиду необходимости экономить валюту нужные материалы (радиостанция и взрывчатые вещества) будут переброшены в Китай из СССР в готовом виде. Благодаря наличной связи тайная доставка четырех чемоданов через границу в зону военных действий была сущим пустяком.
Когда вспыхнул восточнокитайский конфликт, дальневосточный сектор нелегально отправил в Китай сына Фортунатова. Затем и Герт начал готовиться к отъезду в Харбин. Его снабдили персидским паспортом на фамилию Исхаков. Паспорт же достало контрразведывательное отделение ГПУ в Москве очень просто. Один из секретарей персидского консульства в Москве состоял секретным агентом ГПУ. На основании подложной справки одного из городских управлений о том, что такой-то гражданин является персидским подданным (справка составлялась специальным отделом ГПУ), секретарь персидского посольства выдал паспорт. В лаборатории иностранного отдела ГПУ заменили карточку на паспорте фотографией лица, для которого предназначался паспорт. Персидский секретарь в конце концов сам не знал, кому выдал паспорт. С паспортом, состряпанным таким образом, Герт должен был ехать в Америку и оттуда через Японию в Китай. Ему поручено было принять руководство над имевшейся в Харбине нелегальной агентурой ГПУ и приступить к систематическому разрушению в тылу у китайцев железных дорог, мостов и арсеналов. В июне Герт выехал из Москвы в Берлин и, обменяв свой паспорт в берлинском персидском консульстве на новый, замел следы пребывания в Москве. Получив на этом паспорте визу на проезд через СССР в Японию, он оттуда пробрался в Китай. Вслед за Тертом предполагалась отправка в Китай других лиц, но не знаю, чем она кончилась, так как к тому времени я выехал из Москвы и только за границей узнал о восстановлении прав советского правительства на Восточно-Китайской железной дороге.
В 1917 году, объявив советскую власть в России, большевики провозгласили лозунг освобождения угнетенных народностей Востока, ликвидации неравноправных договоров, заключенных царским правительством, и возвращения восточным государствам всего, что награбила у них царская Россия. Капитуляционные права России на Востоке были аннулированы, долги Персии и Китая царской России были списаны со счетов. Революционная политика проводилась на деле.
Но с 1925 года начался поворот в этой политике бескорыстия. В 1925 году советская власть силой захватила часть афганской территории (остров Урта-Тугай). В 1927-м — советское правительство отказалось уступить персам Пехлевийский порт, несмотря на их бесспорные права. Спор окончился тем, что, признав юридические права персов на порт, советское правительство фактически сохранило его за собой. В начале 1928 года советское правительство пыталось посредством переодетых красноармейцев оккупировать Северный Афганистан. Наконец, в 1929 году для сохранения своих привилегий в Китае, от которых оно само торжественно отказалось, советское правительство бросило против Китая Красную армию и дотла разорило оккупированные области.
По вопросу о событиях в Китае среди сотрудников ГПУ шла горячая дискуссия. Часть сотрудников стояла за немедленное объявление войны Китаю и занятие Харбина красными войсками, но другая часть, не забывшая социалистической программы партии, резко осуждала политику правительства, доказывая, что китайцы поступили правильно, так как по справедливости советское правительство должно было еще в 1924 году уступить китайцам права на дорогу. Спор зашел в теоретические дебри и дошел до начальства. Партийные верхи немедленно осудили обе точки зрения. Империалистические вожделения первых были подведены под категорию правого уклона, а социалистическая критика вторых — под категорию левого уклона. Держаться же надо было линии, которую проводил Сталин и которая якобы была «настоящей ленинской». Всякое отступление осуждалось и строго каралось.
* * *
Еще осенью 1925 года из Москвы в Багдад был послан от ГПУ некто Султанов. До этого он работал в Турции, где проживала его семья. При выезде его снабдили 3 тысячами долларов, явкой и паролями, по которым в дальнейшем должны были встречаться с ним агенты ГПУ. Через Персию он выехал в Ирак. Но с того момента, как он перешел иракскую границу у Ханакина, след его вдруг пропал. Попытки найти его и установить с ним связь ни к чему не приводили. Султанов как в воду канул. Весной 1929 года он внезапно очутился в Константинополе и явился к Минскому, легальному резиденту ГПУ. Оказалось, что после перехода границы он был арестован англичанами и просидел в тюрьме около полутора лет, затем был освобожден, но уже никак не мог установить связь с ГПУ. Только в начале 1929 года ему удалось нелегально перейти иракскую границу вблизи Мосула и попасть в Турцию. За время своего пребывания в Ираке он ничего не сделал и никаких связей не имел. 3 тысячи долларов он давно израсходовал и, прося у Минского денег, предлагал переехать вместе с семьей в Сирию и «продолжать» там работу ГПУ. На запрос Минского, как с ним быть, иностранный отдел ГПУ велел прекратить всякие разговоры с Султановым, так как подозревал, что Султанова подослали англичане. Минский приказ выполнил, и дальнейшей судьбой Султанова ГПУ не интересовалось.
Приблизительно в августе 1928 года иностранный отдел ГПУ получил из Тегерана доклад Логановского, в котором советник посольства сообщал, что в Персию приехал секретарь министра общественных работ Ирака и через советское консульство в Керманшахе связался с полпредством в Тегеране. К докладу прилагалась стенографическая запись беседы первого секретаря полпреда Заславского с секретарем иракского министра. Секретарь сообщал, что в Ираке имеется арабская народно-революционная партия, пользующаяся большими симпатиями среди иракской интеллигенции. Организация существует несколько лет и успела пустить прочные корни среди городского населения и среди племен. В организацию входят несколько иракских министров, и, по словам секретаря, сам король Файсал знает о ее существовании и сочувствует ей. Партия ставит перед собой задачу добиться полной независимости Ирака и образования самостоятельного национального правительства. Для осуществления этой цели нужно прежде всего изгнать из Ирака английских представителей. К советскому правительству партия обращается за моральной поддержкой, полагая, что Советы, естественно, должны сочувствовать всякому освободительному движению. Представитель партии просил разрешения послать десяток молодых людей, членов партии, в СССР для обучения военному делу и хотел заручиться обещанием, что в случае надобности партии разрешат закупить в СССР оружие для организации восстания в Ираке.
Логановский, пересылая эти сведения, сообщил, что представитель партии не просил никакой материальной поддержки и что у него лично создалось впечатление о партии как о серьезной организации. Указывая в своем докладе о революционных и разведывательных возможностях в Ираке, Логановский просил инструкций. Он хотел возможно скорее договориться с секретарем министра, ожидавшим ответа.
ГПУ, тщательно обсудив доклад иракского представителя, обратило внимание на то, что он, говоря о влиятельных лицах Ирака, не назвал ни одной фамилии. Опасаясь провокации, мы решили предварительно выяснить в Ираке состав партии, ее влияние и программу. Задача эта была поручена нелегальной резидентуре ГПУ в Персии и советскому консулу в Керманшахе. Эйнгорн-Эдельштейн выехал в Ирак именно с целью непосредственно ознакомиться с этой революционной партией, но задача его не удалась вследствие спешного отозвания в Тегеран. Керманшахское же консульство передало поручение своей агентуре, но до моего отъезда из Москвы, то есть до ноября 1929 года, подробных донесений из Ирака не поступало.
После занятия Турцией в 1918 году Урмийского района населяющие этот район айсоры вынуждены были с боем отступить на территорию Ирака и отдаться под покровительство англичан. Первые годы положение их было сносное, так как англичане организовали из айсоров полки и, опираясь на них, поддерживали порядок среди иракских племен. С восстановлением в Ираке спокойствия айсоров разоружили и перевели на положение крестьян, но бездомных и безземельных, так как дома и земли их остались на границах Турции и Персии. Естественно, айсоров потянуло на родину. Много раз айсорские делегации обращались к персидскому и турецкому правительствам с просьбой разрешить вернуться в родные села. Правительства отказывали. Часть айсоров перешла в СССР, и в Москве при Центральном комитете партии организовалось даже особое Бюро по ассирийским делам. Из Ирака в СССР приезжали ходоки, ведшие переговоры о переселении всего ассирийского народа в советскую Россию. Многие из айсоров заражались в Москве революционными идеями, возвращаясь в Ирак, пропагандировали их. Главари партии поддерживали отношения с советским правительством через Лозоватского, советского консула в Керманшахе. Ежемесячно ЦК партии Азбархуни посылал Лозоватскому пакет для ЦК ВКП, а Лозоватский переотправлял его с дипломатической почтой в Москву. Работой среди айсоров руководила ассирийская секция при 3-м Интернационале, и ГПУ не вмешивалось в эту работу.
Цели партии Азбархуни заключались в организации военных ячеек из айсоров, состоящих на военной службе у англичан, и в использовании этих ячеек, когда наступит благоприятная обстановка для вооруженного выступления.
* * *
В середине 1929 года в Армению приехал из Харбина армянский епископ. В Харбине он скомпрометировал себя тем, что был обнаружен в одной из гостиниц в обществе женщин и в нетрезвом виде. Во избежание скандала его попросили выехать из Китая. Приехав в Эривань, он получил назначение на пост начальника армянской епархии в Ираке. Перед отъездом в Ирак с ним имел подробную беседу председатель армянского ГПУ Маркарьян, окончательно завербовавший его и отобравший у него подписку о том, что он будет вести разведку в Ираке по заданиям ГПУ. Прислав подписку епископа в Москву, Маркарьян просил иностранный отдел ГПУ формулировать наши задачи в Ираке. Инструкции немедленно были мной посланы. Епископ, снабженный из кассы ГПУ несколькими тысячами долларов на организационные расходы, выехал в Ирак для управления своей паствой.
Из всего сказанного видно, что работа ГПУ в Ираке до конца 1929 года не была организована систематически, но велась от случая к случаю. Основной недостаток ее заключался в том, что Москва никак не могла устроить поездку в Багдад специального резидента ГПУ, который бы на месте начал систематическую деятельность.
Глава 20 Германия. Франция. Америка
Прежде чем перейти к деятельности ГПУ в арабских странах, я хотел бы сказать немного о работе ГПУ в Берлине, откуда по инициативе резидента ГПУ доктора Гольденштейна велась самостоятельная работа в восточных странах.
Гольденштейн, по кличке Александр или Доктор, по национальности еврей, является одним из самых старых и заслуженных сотрудников ИНО ГПУ. До 1924 года он работал на Балканах и был очень близок с македонскими революционными деятелями, среди которых и сейчас пользуется большим авторитетом. Свою связь с Балканами он не порвал даже после взрыва Софийского собора, что, по слухам, ходившим в ГПУ, было делом его рук. В Константинополе он поддерживал связь с Балканами через болгарина Николаева, работавшего до 1929 года в Константинополе. Гольденштейн, видимо, и из Берлина продолжал руководить работой на Балканах: в 1929 году по его просьбе Николаев был переведен из Константинополя в Берлин.
Гольденштейн, достигнув сорока пяти лет, женился на молодой женщине, и в последнее время было заметно, что работать он устал и хочет уйти на покой. Несколько раз он ставил вопрос о своем отозвании, но только осенью 1929 года получил разрешение выехать в Москву. Трилиссер собирался назначить его своим помощником. Однако приезд Гольденштейна в Москву совпал с уходом Трилиссера из ГПУ, и дальнейшая его судьба мне неизвестна.
В Берлине его заменил Самсонов, бывший секретарь партийной ячейки ИНО. Это тупой, малограмотный человек, которого командировали на ответственную должность временно, чтобы убрать с партийной работы в ГПУ.
Гольденштейн до перевода в Берлин был резидентом ГПУ в Константинополе и руководил работой ГПУ на всем Ближнем Востоке. Переехав в Берлин, Доктор не мог расстаться со своим прошлым и при всяком удобном случае пытался распространить работу ГПУ из Берлина на Восток.
Берлинская резидентура ГПУ является крупнейшей резидентурой в Европе. Из Берлина осуществляется руководство работой ГПУ не только в Германии, но также во Франции и в Англии. Резидент ГПУ во Франции подчиняется берлинскому резиденту, а в Англии во время перерыва дипломатических отношений не было официального резидента ГПУ, и оставшаяся агентурная сеть поддерживала связь непосредственно с Берлином.
Бюджет ГПУ в Берлине составлял в 1928 году 25 тысяч долларов в месяц, но в 1929 году был сокращен до 17 тысяч. Помню, когда я спросил приехавшего в Москву Гольденштейна — куда вы тратите так много денег, — он мне ответил, что, помимо содержания агентурной сети ГПУ, ему приходится снабжать деньгами некоторые партийные организации. Из этого я заключил, что ГПУ в Берлине имело тесную связь с германской коммунистической партией и поддерживало ее материально. Вследствие того, что берлинская резидентура ГПУ вела свою работу на Востоке, нам приходилось часто сноситься с ней по восточным вопросам.
О собственной деятельности берлинского ГПУ я сведений не имею (они от нас держались в секрете), но о работе на Востоке берлинское ГПУ осведомляло меня по должности начальника восточного сектора.
В Берлине ГПУ обрабатывало местную мусульманскую колонию, большинство которой состоит из индусов. Особенное значение придавалось ахмедийской секции, подпавшей, по предположениям ГПУ, под полное влияние английской Интеллидженс сервис.
Помощником Гольденштейна по восточной работе был индус Фаруки, носивший номер А/18 и работавший раньше в Константинополе, откуда, по настоянию Доктора, был переброшен в Берлин. Через Фаруки вербовались агенты ГПУ для посылки в страны Востока. Так, например, зимой 1929 года Фаруки отправил из Берлина двух агентов в Бенгалию (Индия) и одного в провинцию Пенджаб (Индия). Он же вел переговоры с одним из братьев Али (руководителями мусульманского движения в Индии), приехавшим в Берлин, и уговаривал его посетить Москву. Али в конце концов от этой поездки отказался.
Фаруки вел также деятельную работу среди афганских кругов в Берлине. Во время междоусобной войны в Афганистане Гольденштейн сообщил, что Фаруки может установить связь с Надир-ханом, проживавшим в Париже. Иностранный отдел ОГПУ интересовался отношением Надир-хана к событиям в Афганистане и его связями с английским правительством. Москва поручила Доктору выяснить подробно действия и намерения Надир-хана.
Сведения о положении в Геджасе и Сирии получал тот же Фаруки, пользуясь для этой цели связями с арабскими деятелями.
Несмотря на крупную роль, которую играл Фаруки в берлинской резидентуре, Москва относилась к нему с подозрением. Подозрения вызывались противоречивыми сведениями, содержавшимися в его обширных и частых докладах. Иностранный отдел ОГПУ решил снять его из Берлина и перебросить на работу в Афганистан. Этому воспротивился Гольденштейн, и ГПУ, считаясь с его мнением, временно решение отменило. Перед моим отъездом из Москвы, осенью 1929 года, Фаруки продолжал работать в Берлине.
Фаруки в своих докладах всегда подробно характеризовал восточных деятелей, приезжавших в Берлин или поселявшихся в Берлине. Почти все, по его словам, были английскими агентами, но спустя два-три месяца он об этом забывал и сам… вербовал некоторых из этих лиц для работы ГПУ.
Первые сведения о неблагонадежности вождя индийских коммунистов Роя были получены от Фаруки. Сперва он высказал предположение, что жена Роя, англичанка, может быть связана с английской разведкой. Подозрение постепенно перешло в уверенность. В Москве начали относиться к Рою с недоверием и наконец совершенно отстранили его от политической деятельности.
Конечно, «восточная работа» берлинского ГПУ является лишь маленькой частью той обширной деятельности, которой Доктор руководил вообще в Германии. Резидентура ГПУ в Берлине, повторяю, является руководящим центром для всей Европы.
* * *
Агенты ГПУ, работавшие внутри партии дашнаков, мусаватистов и грузинских меньшевиков, и перехватываемые ГПУ документы все чаще указывали, что центром этих организаций является Париж. Необходимо было перенести часть работы по Востоку в Париж. Особенно настаивало на этом кавказское ГПУ, требовавшее от Москвы усиления работы в этом направлении.
В 1925 году Москва вызвала из Тифлиса чекиста Лордкипанидзе и направила его в Париж с поручением проникнуть в центр кавказских антисоветских организаций. Кипанидзе пробыл в Париже около девяти месяцев, успел за это время установить кое-какие связи, однако затем провалился при вербовке одного из агентов и вынужден был, законсервировав агентурную сеть, срочно уехать в Москву. Москва никем его не заменяла, так как не могла подыскать другого подходящего человека, да и вопрос о национальных кавказских партиях стоял уже не так остро, как это было после грузинского восстания в 1924 году.
В 1929 году в связи с оживлением деятельности дашнаков в Турции, частыми наездами лидера грузинских меньшевиков Сосико Мдивани в Константинополь и возрастающим интересом польской дипломатии к мусаватистам и грузинским меньшевикам в ГПУ вновь был поставлен вопрос о посылке специального эмиссара в Париж для освещения деятельности этих партий. Кандидатом был выдвинут сотрудник иностранного отдела ГПУ Кеворкьян, руководивший в Москве разведкой в кавказских партиях в течение нескольких лет. Однако его кандидатура скоро отпала, так как нашли более целесообразным сунуть его секретарем к епископу Клтчяну и отправить в Персию.
Другого кандидата Москва не могла найти и предложила тифлисскому ГПУ командировать своего собственного сотрудника для проникновения в руководящий центр кавказской эмиграции, образовавшийся в Париже. Такой сотрудник подыскивался Тифлисом и должен был выехать в Париж в конце 1929 года.
Весной 1929 года начальник англо-американского сектора иностранного отдела Мельцер был командирован из Москвы в Ташкент для организации иностранного отделения при полномочном представительстве ГПУ в Средней Азии. Вследствие его отъезда мне пришлось на несколько месяцев принять дела этого сектора. В числе материалов, поступавших из-за границы, мое внимание обратила переписка председателя Совета русских послов Гирса с бывшими представителями царской России в других государствах. Агенты ГПУ перехватывали и направляли в Москву доклады бывшего русского поверенного в делах в Лондоне Саблина и бывшего русского финансового агента в Северной Америке Угета. Как раз в это время Саблин в своих докладах подробно описывал предвыборную кампанию, которая велась в Англии, и анализировал шансы английских партий. Он уже предвидел победу рабочей партии, выступившей на выборах с лозунгами прекращения безработицы в Англии и восстановления дипломатических сношений с советской Россией. Доклады Саблина представляли чрезвычайный интерес для советского правительства. Мы имели распоряжение посылать копии их непосредственно Сталину, Рыкову, Чичерину, Ворошилову и Молотову. На победу рабочей партии советское правительство возлагало большие надежды. В Москве были уверены, что с приходом к власти Макдональда не только возобновятся прерванные дипломатические сношения, но будут получены и большие кредиты в Англии.
Резидент ГПУ во Франции находится в подчинении берлинского резидента ГПУ. Вся почта ГПУ из Парижа отправляется через дипкурьеров в Берлин. Там же концентрируются донесения агентов ГПУ из Англии и из всех концов Германии, а затем направляются в Москву.
У полуофициального представителя ГПУ при советском полпредстве в Париже имелся помощник по экономической части, присланный в Париж в конце 1928 года на официальную должность сотрудника парижского отделения Нефтесиндиката.
После бегства Беседовского иностранный отдел ГПУ, опасаясь разоблачений бывшего советника посольства, приказал всем ответственным сотрудникам ГПУ в Париже выехать в Москву, а агентурную сеть «законсервировать» с таким расчетом, чтобы вновь назначенный резидент ГПУ, неизвестный Беседовскому, мог с ней связаться.
В Москве работой ГПУ во Франции руководит центральноевропейский сектор, во главе которого стоит помощник начальника иностранного отдела Горб. Это человек лет тридцати пяти, состоявший до 1919 года в партии левых эсеров, а затем перешедший в коммунистическую партию. До 1927 года Горб был резидентом ГПУ в Берлине под кличкой Михаил и считался поэтому знатоком европейских дел. Тщедушный физически и морально, он никакой ценности собой не представляет и держится на своем посту лишь потому, что беспрекословно выполняет распоряжения начальства.
Непосредственно работой во Франции руководит некая Зархи, разведенная жена Сокольникова, советского посла в Лондоне. По его рекомендации ее приняли в ГПУ и назначили на работу во Франции, так как она знает французский язык и мечтает попасть в Париж. Нужно сказать, что за редкими исключениями для руководства работой ГПУ в какой-нибудь стране всегда назначают сотрудника того сектора, который заведует в Москве этой страной. Зархи поэтому очередная кандидатка для назначения в Париж.
Политической разведке во Франции не придается большого значения, но ГПУ внимательно следит за ее отношениями с Прибалтийскими странами. Зато очень интересуется Францией Разведывательное управление штаба Красной армии, уверенное, что Франция систематически снабжает Прибалтийские и Балканские государства оружием и военным снаряжением. Советские шпионы заняты выяснением новейших технических изобретений, в частности авиационных, так как, по мнению военных кругов СССР, авиационная техника наиболее развита во Франции. Кроме официального представителя, в лице военного атташе при посольстве, Разведупр имеет во Франции широкую тайную агентуру, руководимую людьми, специально присланными из Москвы для добычи нужных советскому штабу сведений.
* * *
С точки зрения политической разведки Соединенные Штаты Америки до 1926 года большого интереса для советской России не представляли. Но в 1926 году, в связи с развитием торговых отношений с Америкой и надеждой, что Вашингтон наконец признает советское правительство, ГПУ решило послать в Америку представителя для изучения американского общественного мнения и для наблюдения за торговыми сделками, заключаемыми Амторгом.
Первым резидентом ГПУ в Америке был некто Чацкий, пробывший там до 1929 года. В 1929 году он вернулся в Москву и в настоящее время заведует англо-американским сектором в иностранном отделе ГПУ.
Так как советского дипломатического представительства в Америке нет, Чацкий поехал в качестве сотрудника Амторга. Его задачей в Америке было ознакомиться с отношением правительства Соединенных Штатов к СССР и попытаться воздействовать на американских общественных деятелей, а если возможно, и на членов правительства, в смысле склонения их к официальному признанию советского правительства.
Успел ли Чацкий в своих заданиях, мне трудно сказать, но по его приезде в Москву он заслужил похвалу начальства, и я слышал, что он сделал в Америке огромную работу.
Постоянным источником сведений ГПУ о деятельности американского правительства были доклады английского посла в Вашингтоне. Нужно сказать, что в распоряжении иностранного отдела ГПУ имелись доклады почти всех английских представителей за границей (послов, аккредитованных при иностранных правительствах, и верховных комиссаров в странах британского протектората). В этом мне пришлось убеждаться неоднократно. Английские дипломаты, сами того не зная, оказывали не раз советскому правительству ценные услуги своими подробными докладами в Форин Офис. В связи с событиями в Афганистане и Персии я часто получал задания составить сводку по тому или другому вопросу «по английским данным». Я заходил в архив иностранного отдела ГПУ и брал донесения источника В/3, систематически передававшего нам донесения английских послов в Форин Офис. Накопившиеся к 1929 году донесения британских дипломатов занимали в ГПУ целый большой шкаф. Среди них я находил донесения послов почти во всех странах света и отбирал из них те, которые касались интересовавшей меня страны.
Полезным источником, служившим нам для ознакомления с внутренним положением в Соединенных Штатах, являлся также представитель старого русского Министерства финансов Угет, систематически и подробно докладывавший об экономическом и политическом положении страны в письмах к бывшему царскому дипломату Гирсу в Париж. Копия этих докладов регулярно поступали в ГПУ.
Если ГПУ сравнительно мало обращало внимания на Америку, зато в работе Коминтерна Америка занимала исключительно важное место. Почти все представители 3-го Интернационала путешествуют за границей с американскими паспортами, открывающими им доступ во все страны и позволяющими вести коммунистическую работу, не навлекая на себя подозрений. Я упоминал о том, что заведующий международной связью 3-го Интернационала Пятницкий считал наиболее легким и удобным путем секретно отправить коммуниста Роя в Индию через Америку с американским паспортом. С таким же уважением к американским паспортам относился и сам Бухарин, бывший в то время председателем Коминтерна. В 1927 году в кабинете начальника ИНО Трилиссера собрались как-то резидент ГПУ в Германии Гольденштейн, помощник Трилиссера Вележев и я. Обсуждался вопрос о посылке в Ирак работников ГПУ. В это время к Трилиссеру приехал Бухарин и вошел в кабинет. На вопрос Бухарина, не помешал ли он нам, Трилиссер ответил, что, наоборот, мы обсуждаем вопрос о нелегальной посылке работников ГПУ в восточные страны и с удовольствием выслушали бы мнение Бухарина о способах отправки. Бухарин ответил, что с техникой секретных отправок он мало знаком, — это дело Пятницкого, но в Коминтерне считают, что наилучшая гарантия при поездках коммунистов за границу — это американские паспорта.
В начале 1929 года я начал испытывать разочарование в работе и поделился своими настроениями с некоторыми из товарищей, в том числе с моим бывшим секретным агентом в Тегеране Маем, занимавшим в то время должность директора отдела Ближнего Востока в Наркомторге.
Когда я высказал ему, что хотел бы перейти из ГПУ на другую работу, он сообщил мне, что в скором времени Наркомторг отправляет торговых представителей в Северную и Южную Америку. В аппарате торговых представительств оставлено по одному месту в распоряжение Коминтерна. Сам Май собирается ехать в Северную Америку. Если я хочу перейти на работу в Коминтерн, то он поможет мне сговориться с Коминтерном через представителя персидской коммунистической партии Султан-заде, а затем мне уже будет нетрудно ехать представителем Коминтерна в Южную Америку. Я поблагодарил за предложение, но просил дать время подумать.
На место Чацкого ГПУ подыскивало кандидата для назначения тайным резидентом в Америку, но до моего отъезда из Москвы, то есть до октября 1929 года, такой кандидат не был намечен.
Глава 21 Палестина. Геджас и Йемен
Иностранный отдел ОГПУ давно интересовался Палестиной. Эта страна представлялась нам пунктом, откуда можно вести разведывательную и революционную работу во всех арабских странах, для чего, по всем данным, можно было с успехом использовать еврейскую коммунистическую партию. Однако поступившие в распоряжение ГПУ документы свидетельствовали, что англичане чрезвычайно осторожно относятся к палестинским гражданам. Почти с каждой почтой в Москву приходили копии циркуляров английского паспортного бюро, рассылаемых консульским представителям за границей со списками палестинских граждан, которые хотя и имеют английские паспорта, но не могут быть допущены на территорию английских доминионов. По отношению некоторых лиц прямо требовалось в случае их появления в английских консульствах отбирать у них паспорта и сообщать в паспортное бюро.
Эти сведения заставили ГПУ воздержаться от широкого использования палестинских коммунистов.
Но если Москва вела себя в этом вопросе осторожно, то на местах агенты ГПУ действовали с большей смелостью. Первым резидентом ГПУ, связанным с Палестиной, был Доктор — Гольденштейн. Собственно, на связях с Палестиной и с Балканскими странами, куда он тайно перебрасывал оружие, он и составил себе карьеру. Македонские революционные группы все время снабжались оружием через Гольденштейна, который закупал военные припасы в Германии и тайно переправлял в Македонию.
Будучи резидентом ГПУ в Константинополе, он укрепил связь с Палестиной и продолжал затем поддерживать ее из Берлина.
Фамилии секретных агентов ГПУ в Палестине мне неизвестны. Все они проходили у нас под номерами и условными кличками. Но в своем последнем докладе Гольденштейн сообщал, что в Палестине (главным образом в Яффе) у него имеется четыре агента. Им ежемесячно посылается тысяча долларов в виде жалованья и на расходы по собиранию информационного материала.
Палестинская агентура поддерживала связь с Берлином, но ОГПУ считало руководство Палестиной из Берлина нецелесообразным и заставило Гольденштейна передать все связи нелегальному резиденту ГПУ в Константинополе Блюмкину. Одновременно велено было проверить агентуру с точки зрения ее преданности и целесообразности ее сохранения.
Была попытка организовать работу в Палестине и по другой линии. В 1926 году приехали из Палестины в Москву три члена партии сионистов и установили связь с ГПУ.
В беседах с иностранным отделом ОГПУ сионисты указывали на разногласия палестинского еврейства с англичанами и просили ГПУ помочь им добиться государственной независимости Палестины. Они просили снабдить их оружием и денежными средствами для ведения пропаганды. Советское правительство очень заинтересовалось предложением, однако, пока шли переговоры, ГПУ получило сведения о том, что привезшие предложение три сиониста являются английскими агентами и подосланы с целью спровоцировать и скомпрометировать советское правительство. Так как фактических улик против этих лиц не имелось, то иностранный отдел ГПУ просто прекратил с ними сношения и предложил им выехать из СССР.
Подобная провокация однажды уже имела место. В 1928 году в Москве состоялся 6-й конгресс Коминтерна. От индийской коммунистической партии на конгресс приехали три индуса, причем двое из них проехали нелегально через Персию. Проездом через Тегеран они обратились за помощью к полпредству и резиденту ОГПУ, которые помогли им пробраться дальше в Москву. Перед окончанием конгресса из контрразведывательного отдела сообщили, что все трое индусов подозреваются в тайной связи с англичанами и подосланы со специальной миссией информирования англичан о решениях 6-го конгресса. Индусам дали возможность досидеть до конца конгресса, а затем арестовали и поместили во внутреннюю тюрьму ОГПУ. На допросе двое из них признались в связях с англичанами.
* * *
В 1928 году Москва командировала в Константинополь Якова Блюмкина на должность нелегального резидента ГПУ на всем Ближнем Востоке. Одной из основных его задач была организация агентуры ГПУ в Палестине и выяснение создавшегося в Палестине положения. Особенно интересовал Москву вопрос об отношении палестинских евреев к англичанам и внутренние арабо-еврейские отношения. Блюмкин побывал в Палестине, завербовал там для работы в ГПУ бухарского еврея Исхакова и еще одного еврея, содержавшего в Яффе пекарню и ею прикрывавшего свою работу, но воздержался от установления связи с местными коммунистами до более близкого с ними ознакомления.
Агенты Блюмкина направляли свои донесения в Бейрут, к тамошнему агенту ГПУ, а тот уже от себя пересылал их Блюмкину в Константинополь.
Вспыхнувшее в 1929 году кровавое столкновение между евреями и арабами застигло врасплох советское правительство. Коминтерн немедленно занялся обсуждением событий. Непосредственно вслед за тем политбюро вынесло решение ни в коем случае не поддерживать борющиеся стороны и, пользуясь их столкновением, попытаться объединить арабскую и еврейскую коммунистические партии в Палестине, до того времени существовавшие отдельно. Объединенные партии должны были национальную проблему заменить классовой и совместно объявить войну еврейской и арабской буржуазии, главным же образом английскому империализму.
Агентура Блюмкина донесла о волнениях тогда, когда они приняли широкий характер, и не успела предупредить о них своевременно. Присланный агентом из Яффы доклад о столкновениях давал общие места. Это отчасти поколебало положение Блюмкина, находившегося в Москве и пользовавшегося в то время влиянием на решения ближневосточных вопросов. В октябре 1929 года, когда я занял место Блюмкина в Константинополе, мне было поручено тщательно изучить все классовые и национальные взаимоотношения в Палестине и выяснить, на кого — на евреев или на арабов — Советы могут сделать ставку в Палестине в случае возникновения войны с Англией. Это было крайне важно потому, что Палестине, расположенной на берегу Красного моря, Москва придавала большое военно-стратегическое значение.
В период волнений в Палестине Коминтерн энергично развил свою деятельность. Срочно были отправлены агенты-пропагандисты для руководства местными коммунистическими партиями и для проведения в жизнь решений Коминтерна по палестинскому вопросу. Агенты 3-го Интернационала отправлялись из СССР преимущественно под видом членов враждебных советскому режиму еврейских партий, высылаемых в административном порядке из СССР. Между прочим, один из таких агентов ехал со мной на пароходе «Чичерин» из Одессы в Константинополь, куда мы прибыли 27 октября 1929 года, и благополучно проследовал через Константинополь в Яффу. Вместе с ним ехала под видом его жены работница Коминтерна. Я знал этого агента еще по Туркестану, и поэтому нам незачем было скрываться друг от друга. Но все-таки он не хотел сказать мне, под какой фамилией он путешествует на этот раз. По его рассказам, из Москвы выехали вместе с ним в Палестину еще 4 человека, но те поехали через Берлин.
* * *
В Геджасе и Йемене ГПУ не вело никакой работы до приезда туда советского посла Хакимова. В 1925 году, будучи связан с ГПУ по работе в Мешеде, Хакимов начал вести в Геджасе информационную работу. Одновременно с ним в Геджас прибыли секретарь Хакимова Моисей Аксельрод и представитель Наркомторга Белкин. Аксельрод и Белкин добровольно, на свой риск и страх, начали сперва в Геджасе, а затем в Йемене агентурную работу. Видя их рвение, ГПУ назначило Аксельрода, переехавшего вскоре из Геджаса в Йемен, своим специальным представителем.
Аксельрод, говоривший на всех европейских языках и хорошо знавший арабский, сумел связаться с видными сотрудниками имама Яхьи, но ввиду отсутствия разведывательного опыта не мог в достаточной степени использовать эти связи. Из Йемена Аксельрод вел работу в Эритрее и даже посылал иногда своих агентов в Египет.
В 1927 году Аксельрод возвратился в Москву. Агентуру ГПУ принял Белкин, не имевший такой научной подготовки, как Аксельрод, зато обладавший большим практическим опытом. Работа при нем начала принимать чисто разведывательный характер. Помимо освещения деятельности правительства имама Яхьи, он в последнее время окружил сетью своих агентов неофициального представителя англичан, проживающего в Сане под видом купца.
Получаемые сведения Белкин отправляет непосредственно в Москву, пользуясь для связи с ГПУ советскими пароходами, заходящими в Йемен. Особенно часто служит этим целям пароход «Коммунист».
В конце 1928 года приехал в Йемен искать помощи один из шейхов южного побережья Персидского залива, владения которого занял его соперник, поддерживаемый англичанами. Белкин вошел с ним в связь и получил от него письмо к советскому правительству. Шейх просил оказать материальную поддержку для возвращения отнятых у него владений, взамен чего предлагал распространить советские товары на своей территории, закупить оружие в СССР и пригласить советских военных инструкторов для своей армии. Предложение было обсуждено в Наркоминделе, и Белкин получил приказ пригласить шейха для переговоров в СССР.
Работа в Геджасе и Йемене не носила систематического характера. Отправляясь резидентом ГПУ на Ближний Восток, я получил поручение организовать ее по типу резидентур ГПУ в других странах.
Глава 22 Турция
До 1929 года в Турции была только легальная резидентура ГПУ при советском генеральном консульстве в Константинополе. Резидентом ГПУ был Минский, официально числившийся атташе консульства. До назначения в Константинополь он работал в Китае (вице-консулом и резидентом ГПУ в Шанхае), но провалил свою агентурную сеть. Китайская полиция, уличив его в шпионаже, произвела обыск в советском консульстве, и Минский вынужден был уехать из Китая.
Помощником Минского в Константинополе для работы среди кавказских антисоветских партий, то есть среди грузинских меньшевиков, дашнаков, мусаватистов, горцев и прочих, был некто Гришин. Кроме того, в аппарате ГПУ работали жена Минского (шифровальщица) и две женщины, Эльза и Лидия, выполнявшие работу переводчиц и служившие связью между резидентом и секретными агентами-осведомителями.
В начале 1929 года Минского отозвали в Москву по болезни. Его заменил Этингон, приехавший в Константинополь на должность атташе консульства под фамилией Наумов. До назначения в Константинополь Этингон был резидентом ГПУ в Харбине, но был скомпрометирован после налета китайской полиции на харбинское консульство и вынужден выехать в Москву.
Вместе с Этингоном приехал в качестве помощника по экономической линии некто Бржезовский, работавший до того в иностранном отделе ГПУ. Бржезовский устроился в константинопольском торгпредстве на должность заведующего плановым отделом. К этому времени выяснилась необходимость заменить также и Гришина, так как из доклада Минского было видно, что он чересчур неосторожно вел себя в Константинополе. На его место тифлисское ГПУ назначило некоего Кикодзе, бывшего начальника уголовного розыска в Батуме, доказавшего свою преданность советской власти активной борьбой с повстанцами в Грузии в 1924 году. Гришин же был переведен резидентом ГПУ в Тавриз на официальную должность делопроизводителя в совконсульстве на место Минасьяна.
Связь с Москвой константинопольская резидентура держала иначе, чем другие резидентуры. На пароходе «Ильич», курсирующем между Одессой и Константинополем, разъезжал специальный агент ГПУ для связи. Все материалы фотографировались в Константинополе при помощи аппаратов Лейтца, и пленки в непроявленном виде отправлялись через агента связи в Москву. Такой способ гарантировал почту от провала, так как в случае нападения или обыска агенту связи достаточно было открыть коробку, чтобы на испорченных светом пленках исчезли все следы.
Агентурная сеть в Константинополе была опытна и хорошо поставлена. Ее организовал еще в 1925 году резидент ГПУ Гольденштейн, переведенный затем на ту же должность в Берлин. Благодаря широко поставленной агентуре, к нам попадала вся переписка украинской организации, представитель которой находился в Константинополе, протоколы заседаний и вся переписка партий мусаватистов, горцев и других национальных антисоветских групп, организовавших заграничное бюро. Из этой переписки мы видели, что эти группы объединяются только для того, чтобы на следующий день вновь разделиться и вести свою собственную политику. Опасности для СССР они, конечно, не представляли, но любопытно было следить за их внутренними распрями. Особенно большие трения, судя по перехваченным документам, происходили в среде азербайджанцев, объявлявших даже таких лидеров, как Топчибашев, изменниками делу пантюркизма. Из перехваченной переписки мы знали, что дашнакская партия была против объединения кавказских партий в одну конфедерацию, боясь быть съеденной тюркскими группировками. Агент, доставлявший нам эти документы, числился под номером 87 и являлся одним из активных деятелей Заграничного бюро военных антибольшевистских партий.
Из японского посольства в Константинополе мы получали расшифрованные телеграммы благодаря агенту в охране посольства. Мы требовали, чтобы он достал для нас шифр посольства, но он боялся сам вскрыть несгораемый шкаф и предлагал нам прислать специалиста-взломщика, которого он ночью, в часы своего дежурства, пропустит в комнату, где стоит несгораемый шкаф, и даст ему возможность сделать все, что тот найдет нужным. Таких специалистов в ГПУ при специальном отделе имелось два человека. Это были профессиональные воры-взломщики, состоявшие на службе ГПУ для выполнения «деликатных» поручений. На требование прислать одного из них в Константинополь специальный отдел ответил, что оба взломщика сейчас заняты в Прибалтийском крае; по возвращении одного из них командируют в Константинополь.
За французскими делами мы следили по копиям докладов французского военного атташе в Константинополе, аккуратно доставлявшимся нам раз в две недели. В своих докладах военный атташе подробно описывал состояние турецкой армии, положение на турецко-сирийской границе, а также касался стран сопредельных с Турцией, ставя нас, таким образом, в курс всех событий военного характера в Аравии и отчасти на Балканах.
Особенно ценили в Москве перехватывавшиеся нами доклады австрийского посланника в Константинополе. Они содержали точные и подробные описания всех событий в Турции. По ним было видно, что их писал человек, хорошо знающий Восток и понимающий свои задачи. Так как Австрия дипломатического представителя в Персии и Афганистане не имела, то ее посланник в Турции одновременно наблюдал за событиями и в этих странах и сообщал о своих наблюдениях в Вену. Его доклады поэтому ставили нас в курс дел не только Турции, но также Персии и Афганистана. В 1929 году мы узнали из его доклада, что австрийское правительство намерено назначить особого представителя в Персию. Посланник рекомендовал на эту должность проживающего в Тегеране австрийского подданного Графа, женатого на персидской армянке и имевшего в Персии большие связи. Мы немедленно навели справки о Графе и, узнав, что, по сведениям резидентуры ГПУ в Персии, он является агентом англичан, приняли меры к недопущению его на пост представителя Австрии.
Резидентура ГПУ в Константинополе имела всю переписку патриарха армянской церкви в Турции Нарояна. Это давало нам возможность узнавать настроения армянских епископов и армянского населения во всех странах. Замечая в письмах сочувственные к Советам настроения, мы затем приступали к вербовке намеченных лиц.
Вообще, должен сказать, с начала 1929 года иностранный отдел ГПУ принял прямые меры к использованию армянского духовенства в разведывательных целях за границей. Председателю ГПУ Армении Макарьяну было поручено выяснить пригодных к работе епископов в Эривани и, вербуя их на службу ГПУ, стараться устраивать их назначение за границу. Именно таким образом, как я уже писал, было произведено назначение начальника Армянской епархии в Багдаде. За границей применялись другие способы. Архиерей Басмачьян в Константинополе был, например, завербован следующим образом. Католикос армян в Эчмиадзине захотел посвятить Басмачьяна в 1929 году в епископы и вызвал его в Эривань. Резидент ОГПУ в Константинополе Этингон, учтя полезность Басмачьяна для работы ГПУ, предложил советскому консулу отказать ему в визе. Одновременно агентура ГПУ начала зондировать почву, обещая Басмачьяну визу, если он согласится, вернувшись в Константинополь после посвящения в епископский сан, давать сведения для ГПУ. Басмачьян, страстно мечтавший о епископской мантии, согласился. У него взяли подписку в том, что он обязуется добровольно быть агентом ГПУ, а затем мгновенно выдали визу в СССР. По приезде в Эривань Басмачьяна детально обработал председатель армянского ГПУ Макарьян. Свежеиспеченный епископ вернулся в Константинополь и теперь работает в качестве секретного сотрудника ГПУ.
Этим в настоящее время исчерпываются главные силы легальной резидентуры ГПУ в Константинополе. Конечно, имеется еще десяток мелких агентов, осведомляющих ГПУ о всевозможных происшествиях в Турции, но их трудно учесть, да большого интереса они и не представляют.
До 1930 года резиденты ГПУ в Турции имели распоряжение не вести работы против турецкого правительства. Распоряжение было вызвано двумя причинами. Во-первых, советское правительство считало Турцию дружественной державой, с которой, пожалуй, даже можно обмениваться информацией. Действительно, представители турецкой разведки и полиции неоднократно предлагали советским представителям вести совместную работу. В последний раз такое предложение было сделано в начале 1929 года. О нем было доложено самому Менжинскому, но он отклонил предложение, мотивировав отказ тем, что турки едва ли обладают ценными сведениями, а если и обладают, то ценные оставят для себя, а нам сообщат чепуху. Ради этого бессмысленно раскрывать перед ними методы работы ГПУ. Но, передавая отказ, советское правительство выразило готовность в случае получения сведений о чьей-либо деятельности во вред турецким государственным интересам передавать сведения в распоряжение турецкого правительства.
Случаи такой «дружеской информации» имели место, впрочем, и в других восточных странах. Так, например, в Персии, во время курдского восстания в 1927 году, из копий писем партии дашнаков в Тавризе и их представителя Мурадьяна в Курдистане мы узнали, что партия дашнаков поддерживает тесную связь с восставшими, помогая им оружием и людьми. В письмах, кроме того, имелись сведения, компрометировавшие армянского архиепископа в Тавризе Нерсеса, под которого ГПУ давно вело подкоп. Полпред в Тегеране Давтьян, желая ухудшить отношение персидского правительства к дашнакам и, в частности, с целью добиться высылки архиепископа Нерсеса, передал эти материалы министру двора Теймурташу и одновременно сообщил их турецкому посольству. Турки энергично поддержали Давтьяна, прекрасно понимая, что без помощи дашнаков курды едва ли могут серьезно сопротивляться турецким регулярным войскам.
В результате этих представлений персидское правительство распорядилось произвести в Тавризе обыски и аресты среди дашнаков, установило за ними наблюдение и в конце концов свело деятельность дашнаков почти на нет. Об этом мы узнали из писем Ишханьяна, представителя дашнаков в Азербайджане, адресованных Центральному комитету партии в Париже.
Второй причиной, почему ОГПУ воздерживалось от работы против турок, было желание создать в Константинополе базу для работы на всем Ближнем Востоке. Трилиссер считал, что если не трогать турок, а вести работу на территории других держав, то турки будут смотреть на эту работу сквозь пальцы. Такую жертву следовало принести, чтобы иметь возможность беспрепятственно вести работу в Сирии, Палестине, Египте и т. д.
Дружеское отношение к Турции, однако, не мешало специальному отделу ГПУ в Москве перехватывать и расшифровывать турецкие телеграммы. Так, например, во время войны между афганским эмиром Амануллой и Бачаи Сакао ГПУ имело все телеграммы, посылавшиеся турецким и персидским посольствами в Кабуле своим министрам и ответы министров. Следует, кстати, отметить, что именно этим способом советское правительство узнало о намерении турок и персов начать переговоры с Бачаи Сакао о признании и затем само начало вести двусмысленную политику по отношению к Аманулле.
Вследствие указанных соображений ГПУ до 1928 года не имело своего представителя в Ангоре. В 1928 году пришлось его назначить, потому что часть иностранных миссий переехала из Константинополя в Ангору. Первым легальным представителем ГПУ в Турции был Илья Герт, проработавший в Ангоре до конца 1928 года, а затем нелегально отправленный в Китай.
С 1928 года в Турции, как и в других странах, ГПУ решило перейти на методы нелегальной работы. Для начала послали человека в Константинополь с поручением организовать прикрытие и облегчить приезд дальнейших работников ГПУ. В начале 1928 года в Константинополь выехал сотрудник иностранного отдела, родственник по жене Логинова, помощника Трилиссера. С Москвой он переписывался под кличкой Рид через легального резидента ГПУ при советском консульстве.
Приехав в Турцию, Рид открыл сперва самостоятельное комиссионное бюро в Константинополе, а затем присоединился в качестве компаньона к одной немецкой конторе. Так как Рид хорошо говорит по-английски, то его снабдили американским паспортом, взятым из «лаборатории» Коминтерна. В одном из своих донесений, осенью 1929 года, Рид писал, что прекрасно устроился и настолько американизировался, что считается своим человеком в американской колонии Стамбула и еженедельно участвует в устраиваемых американцами обедах. Тут же он сообщал, что по американским законам каждый американский гражданин должен в течение пяти лет хоть один раз возвратиться в Америку, а так как по его паспорту значится, что он уже четыре года пребывает за границей, то Рид для возобновления паспорта просит разрешения выехать в Америку. Этой поездкой он, кстати, надеется добиться представительства некоторых американских фирм и окончательно закрепить свое положение в Турции. Поездка Риду была разрешена. Он благополучно съездил в Америку и вернулся в Турцию в ноябре 1929 года, привезя с собой представительство некоторых военных и авиационных заводов Америки. С этими рекомендациями Рид до сих пор путешествует по Балканским странам, якобы для получения заказов, на самом же деле вербуя агентов для ГПУ и собирая сведения.
* * *
В середине 1928 года в Турцию был командирован Яков Блюмкин. Бывший левый эсер, прославившийся в 1918 году убийством германского посла в Москве графа Мирбаха, Блюмкин был в своем роде знаменитостью. Среди членов коллегии ГПУ он пользовался большим влиянием благодаря своей успешной деятельности в Монголии. В Константинополь его отправили с колоссальными полномочиями и поручением организовать нелегальную агентуру ГПУ в Сирии, Палестине, Геджасе и Египте. В виде аванса ему было выдано на руки 25 тысяч долларов. Поехал он в Турцию по фальшивому персидскому паспорту, под фамилией Султан-заде.
Блюмкин путешествовал по восточным странам до июня 1929 года и вернулся в Москву. Что он делал на Ближнем Востоке, никто из сотрудников иностранного отдела не знал, так как он переписывался непосредственно с Трилиссером (каждый резидент имеет право особо серьезные и важные донесения адресовать непосредственно начальнику иностранного отдела, и эти донесения не всегда попадают в аппарат отдела)… Блюмкина встретили с большим почетом. В его распоряжение предоставили автомобиль, и беседы он вел только с начальниками отделов ГПУ. Сам Менжинский пожелал выслушать его и пригласил на обед. Блюмкин в то же время сделал доклад о положении на Ближнем Востоке некоторым членам Центрального комитета, причем особенно интересовался его работой секретарь Коминтерна Молотов.
Наконец, после торжественных и лестных приемов, Блюмкину было предложено вернуться на Ближний Восток и провести в жизнь все намеченные им планы. Планы же эти заключались в следующем: в каждой из стран Ближнего Востока посадить резидента ГПУ, а в Константинополе и Египте — старших резидентов ГПУ, которые в то же время были бы его заместителями. Сам же Блюмкин будет разъезжать по всем этим странам, контролировать и направлять работу резидентов и выискивать новые возможности.
Блюмкин так размечтался, что предлагал включить в сферу своей деятельности и Ирак, и Персию, и Индию. Трилиссер соглашался. Блюмкину тогда вообще ни в чем не отказывали и возлагали на него громадные надежды.
Однако угар триумфа прошел. Блюмкин начал подбирать сотрудников для стран, в которых должен был работать. И тут, естественно, ему пришлось связаться с аппаратом иностранного отдела.
Среди рядовых сотрудников иностранного отдела Блюмкин пользовался неважной репутацией. Правда, все признавали его ум и энергию, но зато все знали его как большого хвастуна, краснобая и любителя приврать.
Явившись в восточный сектор, Блюмкин рассказал, что он побывал в Бейруте, Дамаске, Яффе, Александрии и Каире и показал фотографии, изображавшие его в Яффе с известными евреями и в Египте у пирамид. Однако на требования рассказать подробно о сделанной работе, он от ответов уклонялся, ссылаясь на то, что уже сделал подробный доклад Трилиссеру.
Заметив, что я не особенно доверяю его рассказам, Блюмкин решил, что называется, подкупить меня. Он сказал, что Трилнесер поручил ему выбрать лучших сотрудников ГПУ; если я согласен работать с ним, то он с удовольствием возьмет меня в Константинополь на должность своего заместителя. Я ответил, что никогда никуда не прошусь и что мое назначение зависит от Трилиссера. Через несколько дней Трилиссер сам повторил предложение в присутствии Блюмкина. Я заметил, что мне, как армянину, вряд ли удобно ехать в Турцию, и напомнил, что мне уже однажды было отказано в такой поездке. Трилиссер сказал, что подумает, но на следующий день опять вызвал меня и уже наедине сказал, что, детально ознакомившись с докладами Блюмкина и не особенно им доверяя, он просит меня поехать, чтобы прибрать к рукам всю работу, сделанную Блюмкиным на Востоке, а затем он Блюмкина отзовет и руководителем работы останусь я. Я дал согласие.
Совместно с Блюмкиным мы начали подбирать сотрудников. Прежде всего приняли некую Ирину Петровну, бывшую жену какого-то министра дальневосточного правительства, которая должна была ехать в Константинополь в качестве жены Блюмкина. По профессии она была художницей, и Блюмкин предполагал ее использовать для связи между Константинополем и арабскими странами. Затем с нами должен был ехать еврей-инженер, намеченный для работы в Палестине. Он собирался организовать автомобильный гараж и, пользуясь автомашинами, разъезжать по всей стране и организовывать агентуру. Наконец, из аппарата ГПУ нам назначили для работы в Египте сотрудника Аксельрода.
В течение этого времени я часто бывал у Блюмкина, жившего в Денежном переулке на квартире у народного комиссара просвещения Луначарского. Заводя со мной беседы на политические темы, он старался выявить мое отношение к троцкизму. На этой почве мы однажды рассорились. Я в резкой форме осуждал троцкистов. На следующий день после ссоры Блюмкин пошел к Трилиссеру и заявил, что отказывается от моего сотрудничества, так как полагает, что я к нему приставлен в качестве политического комиссара. Разговор происходил при мне. Так как я со своей стороны тоже отказался сотрудничать с Блюмкиным, отставка моя была принята, и Трилиссер предложил мне ехать самостоятельно в Индию для организации резидентуры ГПУ.
Это было в конце августа 1929 года. Блюмкин продолжал без меня вести приготовления к отъезду. Тем временем началась чистка и проверка коммунистической партии. В первую очередь подлежали проверке коммунисты О ГПУ и, в частности, уезжавшие в заграничную командировку. Многие из сотрудников иностранного отдела поговаривали о необходимости выступить против Блюмкина и требовать его исключения из партии, как человека чуждого рабочей психологии. Блюмкин, конечно, слышал об этом и старался уклониться от чистки. Однако, два-три раза пропустив собрания, он все же был вынужден явиться. Очень хорошо помню этот день. В клуб ОГПУ явились на чистку почти все сотрудники иностранного отдела и многие сотрудники других отделов.
В президиуме сидят члены Центральной контрольной комиссии Сольц, Караваев и Филлер. К ним подсаживается Трилиссер. Вызывают Блюмкина. Блюмкин выходит на трибуну и рассказывает свою биографию. Несмотря на всегдашнюю самоуверенность, он явно смущен и часто запинается в речи. После него немедленно выступает Трилиссер и характеризует Блюмкина как одного из преданнейших партии и революции работников. Слушатели, растерянные выступлением Трилиссера, молчат. Комиссия выносит постановление: считать Блюмкина «проверенным».
Спустя несколько дней после чистки я ждал очереди в приемной Трилиссера, когда вдруг вошла сотрудница иностранного отдела Лиза Горская и обратилась с просьбой пропустить ее вне очереди. У нее небольшое, но важное и срочное дело. У Трилиссера она задержалась около часа. На следующий день сотрудник восточного отдела Минский, отозвав меня в сторону, сообщил, что Блюмкин арестован. Арест произвели ночью сотрудники оперативного отдела во главе с казначеем иностранного отдела Ключаревым. Причина ареста неизвестна.
За разъяснением я обратился к Горбу, помощнику Трилиссера, и тот рассказал следующее:
Блюмкин в Константинополе связался с Троцким. Троцкий пользовался этой связью для посылки писем своим приверженцам в СССР через секретную почту ГПУ. Когда Блюмкин выехал в СССР, он поручил ему переговоры с Карлом Радеком и с другими троцкистами. Блюмкин это выполнил. Сожительствуя с сотрудницей иностранного отдела Горской, он рассказал ей о своих связях с Троцким, пытаясь завербовать и ее для работы на Троцкого. Горская сделала вид, что согласилась, но на следующий день донесла обо всем Трилиссеру. Ключарев затем мне рассказал, что он вместе с комиссарами из оперативного отдела в час ночи подъехал к квартире Блюмкина, который как раз в это время отъезжал на автомобиле вместе с Горской. Поняв, что приехали за ним, Блюмкин приказал шоферу гнать полным ходом. Из автомобиля ГПУ было сделано несколько выстрелов вдогонку. Блюмкин велел шоферу остановиться, обернулся к Горской и сказал: «Лиза, это ты меня предала». Сойдя с автомобиля, он обратился к подоспевшим агентам ГПУ: «Не стреляйте, товарищи, я сдаюсь».
Блюмкина препроводили во внутреннюю тюрьму ГПУ, а дело его передали в секретный отдел. Дело Блюмкина вел помощник начальника секретного отдела Агранов.
На следующий день после ареста Трилиссер передал мне дневник Блюмкина, найденный при обыске. Дневник начинался с 25-й страницы и содержал подробный отчет о финансовом и деловом положении резидентуры ГПУ на Ближнем Востоке. По оставшимся нескольким строчкам можно было судить, что первая часть дневника была посвящена отношениям с Троцким. Дневник был адресован Трилиссеру. Видимо, Блюмкин успел раскаяться в измене Центральному комитету партии и незадолго до ареста написал покаянный доклад.
Минский потом признался, что еще из Турции он доносил в Москву о деятельности Блюмкина, жившего совершенно неподобающим образом. До него регулярно доходили сведения, что Блюмкин, разъезжая на советских пароходах, ведет пропаганду среди команд в пользу Троцкого. Все эти доклады Минский посылал непосредственно на имя Трилиссера. Этим и объяснялись сомнения Трилиссера в самый расцвет славы Блюмкина. В Константинополе я получил сообщение, что Блюмкин расстрелян. Блюмкин был известен под кличкой Живой. Весть пришла в таком виде: «Живой — помер», а вслед за тем пришли и подробности. Как сотрудник ГПУ, Блюмкин был расстрелян без суда, по постановлению коллегии ГПУ. На коллегии Ягода стоял за расстрел, Трилиссер — против, Менжинский колебался. Однако под давлением политбюро, то есть Сталина, ЦК утвердил приговор, и Блюмкина ликвидировали.
Что представлял собой Блюмкин? В сущности молодой человек лет тридцати, он с восемнадцатилетнего возраста был захвачен революционной волной. Убийство Мирбаха возвело его в чин вождя левых эсеров. Чрезвычайно начитанный и образованный, он был авантюристом по натуре и, собственно говоря, не был предан идейно ни одной партии, членом которых он попеременно состоял. К политической работе относился как к тотализатору.
Последняя ставка — на Троцкого — его погубила.
Глава 23 Высылка Троцкого
Троцкий жил в Алма-Ате в Семиреченской области, под тщательным надзором местного ГПУ, в еженедельных сводках сообщавшего в Москву о его деятельности. В начале 1929 года в Москве распространились слухи, будто
Троцкий сильно болен и находится при смерти, а Центральный комитет не дает ему возможности лечиться. Многие говорили, что Сталин нарочно держит Троцкого в Семиречье, где нет врачей, чтобы скорее уморить его и избавиться таким образом от опаснейшего конкурента на власть. Вместе с тем сводки ГПУ указывали, что сторонников Троцкого становится все больше и больше. Посещение ими Алма-Аты приняло характер паломничества в Мекку. Вопрос был поставлен на обсуждение в политбюро, и оно решило выслать Троцкого за границу. После долгих переговоров турецкое правительство согласилось принять Троцкого. Проведение постановления в жизнь было поручено агентам ГПУ. Охранявшие Троцкого чекисты стали за это время ярыми сторонниками Троцкого и вместе с сыном Троцкого пытались оказать сопротивление ГПУ и не дать возможности увезти «опального вождя». Сын Троцкого даже начал драться. Однако это не остановило сотрудников ГПУ, и Троцкого почти на руках вынесли из дома и доставили на пароход, шедший в Константинополь.
Приехавшему в Константинополь Троцкому с семьей отвели на первое время помещение в советском консульстве. Одновременно резидент ГПУ в Константинополе Минский получил распоряжение тщательно наблюдать за Троцким, но быть с ним любезным и помочь ему устроиться в Турции по его личному желанию.
Во исполнение инструкции Минский хотел представиться Троцкому, но Троцкий не принял его и поручил сыну вести все переговоры. Этот сын, довольно наглый молодой человек, забыл, что он сам не Троцкий, а всего только его сын, и пытался говорить с Минским в повелительном тоне. Минский его осаживал, но ежедневно получал десятки требований, исходивших якобы от Троцкого.
Консульство предложило Троцкому подыскать себе другое помещение. Троцкий долго не соглашался, но наконец уступил при условии, что ему будет найдено помещение удобное и безопасное от возможных покушений со стороны белой эмиграции. Минский пустил на розыски помещения почти всю свою агентуру. В течение месяца Троцкому было предложено около двадцати квартир, но от всех он отказывался под разными предлогами. Наконец стало ясно, что Троцкий не желает покидать консульство и хочет выиграть время. Минский начинал терять терпение. Между ним и сыном Троцкого происходили жестокие схватки. В конце концов Минский настоял на своем. Троцкий выехал из советского консульства. Теперь он живет на острове Принкипо под охраной и наблюдением турецкой полиции и тайных агентов ГПУ.
Кроме задачи устроить Троцкого на жительство, перед ГПУ стоял вопрос о наблюдении за деятельностью Троцкого. Для этой цели Минский использовал агента, работающего официально в одном из советских хозяйственных учреждений в Турции. Этот агент, бывший офицер, знакомый с семьей Троцкого по Москве, якобы возобновил свое знакомство с Троцким и, посещая его, передавал резиденту ГПУ разные сведения. В конце 1929 года этот агент женился на сотруднице связи при ГПУ некоей Эльзе.
Константинопольская резидентура ГПУ организовала также пересмотр писем, прибывающих по турецкой почте на имя Троцкого. Несколько таких писем при мне получено было в Москве. Они носили официальный характер. Некоторые издатели и журналисты обращались к Троцкому с вопросами или предложениями. Впоследствии было решено таких писем не задерживать, а пропускать их Троцкому.
После ареста Блюмкина Минский рассказывал, что при встречах с сыном Троцкого он часто удивлялся его осведомленности о делах в советском консульстве. Так, например, Троцкий всегда знал, когда резидент ГПУ отправляет почту в Москву и когда почта прибывает из Москвы. В то время Минский не мог догадаться, откуда это могло быть известно Троцкому, но теперь вспоминает, что Блюмкин всегда старался узнать за несколько дней об отправке курьеров в Москву и, по-видимому, сообщал Троцкому. Из допроса Блюмкина, между прочим, выяснилось, что он должен был вести в Москве переговоры с Радеком. Первое время после ареста Блюмкина все думали, что его выдал Радек. Это недоразумение рассеял секретарь ЦКК Ярославский, выступивший на одном из собраний ГПУ с обвинением Радека в двуличности.
Оказывается, Радек, отказавшись от троцкистских взглядов, все же ничего не сообщил ни в Центральный комитет партии, ни в ГПУ о посещении Блюмкина. После ареста Блюмкина Радек был вызван в Центральный комитет и подтвердил показания Блюмкина, сообщив при этом, что на предложения Троцкого, переданные через Блюмкина, он ответил отказом.
Весной 1929 года в ГПУ поступила просьба сына Троцкого разрешить ему приехать в СССР за женой. Мы передали просьбу в Центральный комитет партии, откуда получили отрицательный ответ. Отказ мотивировался тем, что сын Троцкого может приехать под предлогом личных дел, а в действительности начнет, вероятно, устанавливать связь с троцкистами. Поэтому было благоразумно предложено невестке Троцкого, без помощи мужа, самой выехать в Константинополь.
После высылки Троцкого в Константинополь число сочувствующих ему в России значительно увеличилось. Особенно много сторонников он приобрел среди беспартийных рабочих и крестьянских масс. Центральный комитет партии, учитывая растущую популярность Троцкого, широко использовал опубликованные Троцким в английских и американских газетах статьи и объявил его уже не оппозиционером, а контрреволюционером. На всех собраниях и митингах выступали правоверные коммунисты и по заказу Центрального комитета партии порочили Троцкого на все лады, вспоминая все его политические ошибки с 1903 года.
Пока Центральный комитет партии боролся с троцкизмом (вернее, лично с Троцким, так как, в сущности, Сталин украл программу Троцкого и сам проводит ее в жизнь), начала выявляться новая оппозиция справа. На смену Троцкому выступили против Сталина новые борцы, бывшие соратники Сталина в борьбе с Троцким. Разгоревшаяся борьба с правыми уклонистами отвлекла внимание партии от троцкизма. К осени 1929 года можно было видеть, что Троцкого постепенно забывают в советской России.
Сейчас можно с уверенностью сказать, что пройдет еще один год такой пассивности, какую проявляет Троцкий в изгнании, и вождь Красной армии до конца своих дней останется на берегах Босфора, превратясь из страстного политика просто… в рыболова.
* * *
Появившиеся колебания в рядах коммунистической партии заставили Центральный комитет и руководителей ГПУ усиленно следить за настроениями сотрудников ГПУ. ГПУ должно быть идейно абсолютно чистым и кристальным, то есть вполне преданным Центральному комитету партии, орудием которого оно является.
Каждый сотрудник вечно «проверялся» и «прорабатывался» для выяснения, не заражен ли он теми или иными уклонами. Помню, когда я приехал в Москву в 1928 году, я в течение первых двух-трех месяцев был абсолютно загружен всяческими докладами, в которых должен был доказать правоверность своих точек зрения. При малейших подозрениях сотрудников ГПУ откомандировывали. Тому примеров множество.
По поводу статьи Оссовского в журнале «Большевик» о допустимости существования других партий в СССР начались усиленные разговоры среди сотрудников ГПУ. В одной из бесед сотрудник Риольф, выдвиженец из рабочих, высказал мысль, что существование в СССР другой партии, кроме коммунистической, дало бы возможность иметь легальную оппозицию, выступления которой могли бы «выпрямлять линию коммунистической партии». За эти слова Риольф через два дня был откомандирован из ГПУ.
Сотрудники ГПУ вообще очень интересовались внутрипартийной жизнью и иногда, бросая свою основную работу, горячо обсуждали между собой тот или другой принципиальный вопрос. Но на партийных собраниях, за исключением казенного докладчика, почти никто не выступал. Руководители жаловались на равнодушие членов партии, не понимая или не желая понимать, что люди не выступают потому, что все равно нельзя сказать, что чувствуешь и что думаешь. В товарищеской среде эти «равнодушные» сотрудники чрезвычайно бурно обсуждали каждое мероприятие партийной верхушки.
В середине 1929 года, когда мы еще ничего не знали о борьбе между Бухариным и Сталиным, Эйнгорн сообщил нам, что между членами политбюро происходит сильная склока по вопросу о темпе социалистического строительства. Еще не поступило в ГПУ стенографического отчета о заседаниях политбюро, но сотрудники ГПУ уже частным образом обсуждали все спорные вопросы. Начал обнаруживаться так называемый правый уклон. То же явление наблюдалось и во всех других партийных организациях.
Центральный комитет решил устроить чистку и проверку членов партии, чтобы освободиться от «уклонистов».
В первую очередь началась чистка ячеек ГПУ. Комиссия по чистке состояла из вождей Центральной контрольной комиссии — Сольца, Караваева и Филлера. Чистка началась в августе. Предварительно комиссия просмотрела все «личные дела» сотрудников (документы вроде послужных списков, но гораздо более подробные), охотно принимала анонимные доносы. Все сотрудники впали в панику. Никто не знал, как будет проводиться чистка, каковы будут ее результаты. Люди, не испытывавшие страха в боях, рисковавшие жизнью в подпольной работе за границей, ныне дрожали. Их партийная честь находилась в руках этих трех человек.
Началась чистка иностранного отдела. Она заключалась в том, что на собрании члены партии выступали по очереди, рассказывали свою биографию и отвечали на вопросы, поставленные комиссией или собранием. Часто люди, проработавшие десять лет друг с другом, только тут узнавали о прошлой жизни своего товарища. На чистке иностранного отдела выяснилось, что в отделе нет ни одного сотрудника с пролетарским происхождением. Среди сотрудников ГПУ оказались люди из дворянских семей, а один даже оказался сыном чиновника царской охранки. Много также сотрудников было с подозрительным прошлым, которые, по всей вероятности, работали в иностранных и белогвардейских разведках. Так, например, помощник начальника иностранного отдела Логинов, член партии с 1905 года, как оказалось, с 1917 по 1920 год жил в Архангельске при белых, остался жив и даже редактировал там газету. Почему он остался в белом стане и почему его не тронули, он так и не мог объяснить на собрании. Другой близкий друг Трилиссера, Альфред, член партии с 1903 года, пробывший на каторге десять лет, прожил в Ростове-на-Дону весь деникинский период, занимаясь, по его объяснению, личными делами. Видная сотрудница иностранного отдела ГПУ Красная, жена члена исполкома Крестьянского интернационала, по ее словам, чуть ли не с десятилетнего возраста состояла членом ЦК польской компартии, хотя одновременно была связана с Пилсудским. Собрание заинтересовалось ее биографией и забросало ее вопросами, отвечая на которые она окончательно спуталась и заплакала. Лиза Горская, предавшая Блюмкина, оказалась дочерью польского помещика. Вероятно, для того, чтобы загладить неблагоприятное впечатление от своей биографии, она и выдала Блюмкина.
Комиссия обратила внимание на отсутствие пролетарского сословия в иностранном отделе ГПУ, но решила оставить аппарат неприкосновенным, так как, в конце концов, все это были испытанные чекисты. Исключены были только два сотрудника, занимавшие технические должности.
Я готовился к поездке в Индию. По плану я должен был ехать в Берлин, затем в Египет и оттуда уже в Бомбей. В начале сентября 1929 года была получена телеграмма от резидента ГПУ в Париже с сообщением, что советник парижского полпредства Беседовский, отказавшись ехать в СССР, бежал из полпредства. Это был первый случай «измены» крупного работника советского правительства. Сотрудники ГПУ радовались, что это случилось с чиновником Наркоминдела. Теперь можно открыто выступать против Наркоминдела и отказывать в визах, указывая на пример Беседовского. Но многие возмущались и предлагали немедленно расправиться с Беседовским, чтобы его пример не мог соблазнить других.
Несколько дней спустя меня вызвал Трилиссер. Справившись, в каком положении находятся мои приготовления к поездке в Индию, он сказал: «Вот что! Прежде чем ехать в Египет, вам надо заехать в Париж и во что бы то ни стало прикончить Беседовского. Его пример может заразить других. После ликвидации вы выедете в Египет. Это заметет следы, так как все вас будут искать у границы СССР».
Я переменил план поездки и начал приготовления. Но прошел день, и меня опять вызвал Трилиссер. С удрученным видом он сказал, что политбюро не разрешает ликвидировать Беседовского. Вследствие опубликованных Беседовским разоблачений убийство теряло смысл, могло поднять большой шум и вызвать дипломатические осложнения с Францией. Таким образом Беседовский спасся. ГПУ оставило его в покое.
Глава 24 Что делает ОГПУ в настоящее время на Ближнем Востоке
После ареста Блюмкина меня вызвал Трилиссер и сказал, что мне придется отложить поездку в Индию, а поехать пока в Константинополь для приема дел и продолжения работы, начатой Блюмкиным. В сферу моей деятельности отныне входили Сирия, Палестина, Геджас и Египет. В самом Константинополе, где находилась моя резиденция, я не должен был вести работу, предоставив ее исключительно заботам легальной резидентуры ГПУ в Турции.
В Константинополе находились помощник Блюмкина, оставшийся на время его отсутствия заместителем, а также Ирина Петровна, которую он успел отправить до своего ареста в Турцию в качестве своей жены с персидским паспортом на фамилию Султан-заде.
Помощник Блюмкина был беспартийным и совершенно неизвестным ГПУ человеком. Блюмкин завербовал его в Париже и привез в Константинополь. Родители помощника проживали в Одессе. Подозревая, что и он, подобно Блюмкину, связан с Троцким, мы решили откомандировать его в СССР. Для этой цели Блюмкин был вызван из тюрьмы и написал под диктовку письмо помощнику с вызовом в Москву. Письмо было отправлено легальному резиденту ГПУ в Константинополе, с поручением доставить помощника Блюмкина в СССР. Такое же письмо Блюмкин написал и Ирине Петровне.
* * *
В Сирии находились два агента ГПУ, мужчина и женщина, проживавшие в Бейруте под видом мужа и жены. Они открыли комиссионную контору на улице Алембо, служившую им прикрытием. Мужчина работал под кличкой Прыгун, а женщина — Двойка. Двойка служила связью с Константинополем и ежемесячно привозила почту для константинопольской резидентуры ГПУ. Мне было предложено присмотреться к ним и, если я найду, что они полезны и не находятся в связи с Троцким, продолжать работать с ними, в противном случае — командировать их в СССР.
В Сирии находился также работник Коминтерна Обей-дулла, работавший в свое время в ГПУ. Мне было предложено разыскать его и, установив с ним связь, использовать его услуги для освещения социальных вопросов в Сирии. Кроме агентуры в Бейруте, я должен был организовать агентуру в Дамаске.
В Сирии нам предстояло выяснить отношения сирийцев к французскому правительству, взаимоотношения между арабами и армянами и сирийско-турецкие отношения. Конечно, главная задача заключалась в добыче документальных данных, для чего необходимо было произвести вербовку осведомителей в правительственных учреждениях Сирии. Одновременно следовало прощупать почву для выяснения возможностей объединения сирийцев с арабами других стран. Советское правительство мечтает об образовании единого арабского независимого государства, которое можно было бы противопоставить на Востоке Англии и Франции.
В Палестине, как я уже упоминал, у Блюмкина имелся всего один агент, укрывшийся под видом хозяина пекарни в Яффе. Кроме того, несколько местных коммунистов поддерживали связь с резидентурой ГПУ в Берлине. Мне было предложено списаться с Берлином и присоединить его агентов к своей сети. В это время в Палестине происходили арабо-еврейские столкновения, и Москва очень интересовалась развитием событий. Мне предлагалось по прибытии в Константинополь возможно скорее выяснить причины столкновений. Палестинская агентура держала связь с Бейрутом и посылала свои донесения Прыгуну, который затем переправлял их в Константинополь.
Прыгун и Двойка — оба евреи и коммунисты. Приехали они в Бейрут через Париж, где заручились торговыми представительствами французских фирм в Сирии. Оба были завербованы Блюмкиным в Москве. После его ареста я, ради осторожности, откомандировал их обратно в Москву.
* * *
В Египте работу ГПУ вели местные коммунисты. В числе их имелся редактор одной из местных газет. Работой руководила берлинская резидентура ГПУ, ежемесячно посылавшая на оплату агентов в Египте тысячу долларов.
В Египет должен был ехать Моисей Аксельрод с целью непосредственно ознакомиться с местными партийными группировками, в частности с партией Вафда, левое крыло которой мы надеялись отколоть для совместной работы с египетской коммунистической партией. Вместе с тем Аксельрод должен был изучить фелахский (египетское крестьянство) и нубийский вопрос. Поручения добывать переписку верховного комиссара в Египте он не получил, потому что документы эти уже поступали в ГПУ из других источников (к нам систематически поступали доклады лорда Ллойда, а затем сэра Перси Лорейна, содержавшие подробные сведения об общественных настроениях и отчеты о переговорах, ведшихся в Египте). Зато Аксельрод должен был обратить внимание на египетское купечество, в частности на местных армян, которых насчитывалось в Египте до 1,5 тысячи человек, и попытаться связаться через них с Индией.
Между прочим, ему было поручено выяснить отношение к англичанам главы ювелирной фирмы в Каире Гюльбекяна, который за несколько месяцев перед тем обратился к нам через торгпредство в Греции с предложением распространять советские товары в Египте и с просьбой разрешить ему приехать в Москву для закупки бриллиантов и драгоценных камней на полмиллиона фунтов стерлингов. В своем письме Гюльбекян многозначительно указывал, что имеет в Египте колоссальные связи. По тону письма можно было догадаться, что он готов предложить нам свои услуги и по политическим вопросам. Связал его с нами армянский епископ в Греции Мазлумян. Мы решили использовать фирму Гюльбекяна, имеющую отделения во всех городах Египта, для разведки и пропаганды, но предварительно хотели к ней присмотреться, чтобы не оказаться спровоцированными и не попасть в ловушку.
До моего отъезда из Константинополя эта работа не была закончена.
С египетскими коммунистами, которые были связаны с ГПУ в Берлине, Аксельрод должен был вступить в непосредственную связь только после тщательного ознакомления с ними на месте.
* * *
Мы с Аксельродом начали готовиться к отъезду. Я должен был ехать прямо в Турцию, а Аксельроду предстояло проехать в Европу, найти себе там прикрытие и затем следовать через Константинополь в Египет.
Я попросил контрразведывательный отдел ГПУ заготовить мне персидский паспорт. Его добыли для меня в течение двух дней через секретаря персидского консульства в Москве. С паспортом на имя персидского купца Нерсеса Овсениана я затем лично обратился в турецкое консульство за визой. Внимательно осмотрев паспорт и рекомендации персидского купечества в Москве, консульство благополучно выдало мне визу. Выехал я из Москвы 23 октября 1929 года через Одессу в Константинополь на советском пароходе «Чичерин». Со мной ехал помощник легального резидента ГПУ в Константинополе Минцдорф, назначенный на официальную должность секретаря Нефтесиндиката в Константинополе. Он должен был сообщить легальному резиденту ГПУ Наумову о моем приезде и условиться о моей встрече с ним. Кроме нас, на том же пароходе ехали два работника Коминтерна; один направлялся в Палестину под видом ссыльного сиониста, а другой должен был нелегально сойти в Константинополе.
27 октября пароход пришел в Константинополь. После проверки документов турецкие власти разрешили мне сойти на берег. Остановился я в отеле «Лондон» и на следующий день после приезда начал заводить знакомства с местными армянами. Они принимали меня с распростертыми объятиями, так как я не скупился на обеды и ужины. Через два дня произошла встреча с легальным резидентом ГПУ, которому я передал инструкции Москвы о ликвидации наследства Блюмкина. Я же ему сообщил и об аресте Блюмкина. Мы решили, что отправку помощника Блюмкина и его «жены» в СССР Наумов возьмет на себя, чтобы в случае неудачи не провалить меня.
Наумов при первой встрече рассказал, что представитель Коминтерна, прибывший со мной на «Чичерине», неудачно сошел на берег и был арестован турецкой полицией. Принимаются меры к его освобождению. Еще через несколько дней Наумов сообщил, что представитель Коминтерна благополучно освобожден.
Между тем турецкая полиция, отобравшая мой паспорт, медлила с выдачей разрешения на жительство. Пришлось пустить в ход своих армян, имевших большие связи в полиции. Выяснилось, что мои бумаги переданы в 1-е отделение, занимающееся политическими делами. Сейчас же был найден помощник начальника этого отделения и приглашен на обед. За обедом мои армянские друзья уверяли его, что знают меня чуть ли не со дня рождения. Удостоверили, что я действительно очень солидный персидский купец. В тот же вечер нужные документы были присланы через полицейского мне в гостиницу. Эта спешка стоила всего 50 долларов, переданных через армянских друзей полицейскому чиновнику. Выправив документы, я немедленно приступил к организации комиссионной конторы и одновременно начал хлопотать о регистрации меня в Константинопольской торговой палате. К 1 декабря все было сделано. Я мог спокойно сидеть у себя в конторе и «торговать». Тем временем Наумов успел без всяких осложнений отправить в СССР «жену» Блюмкина и его помощника.
К концу ноября 1929 года пришло из Москвы распоряжение принять руководство агентурной сетью ГПУ в Греции, для сдачи которой приедет в Константинополь бывший резидент ГПУ в Афинах Молотковский. Едущего в Египет Аксельрода предлагалось задержать и временно использовать в Константинополе. Москва сообщала, что в последнее время во внешней политике Турции наблюдается поворот на Запад, и потому мне необходимо начать разведывательную работу против турецкого правительства, для чего, в случае надобности, я могу направить Аксельрода в Ангору.
В первых числах декабря приехал в Константинополь Аксельрод с австрийским паспортом, на фамилию Фридрих Кейль. Он выехал из Москвы через Ленинград в Латвию с двумя паспортами в кармане. По приезде в Ригу он уничтожил паспорт, по которому выехал из СССР и на котором значилась советская виза, и начал проживать по другому, на котором никаких советских пометок не было. В Риге у Аксельрода оказался дядя, некто Тейтельбаум, владелец лесной торговой конторы. Дядя принял его с распростертыми объятиями, хотя знал, с какой миссией приехал Аксельрод. В Риге дорогой племянник провел несколько дней, в течение которых дядя перезнакомил его с местной публикой. Аксельрод особенно подружился со шведским консулом в Риге. Сидя однажды в кабинете консула, он заметил пачку чистых шведских паспортов и на всякий случай незаметно сунул два паспорта в карман. Он передал их мне в Константинополе для отправки в Москву.
Дядя Аксельрода снабдил его доверенностью и удостоверением в том, что племянник его является представителем его торговой фирмы в Сирии, Палестине и Египте, причем зарегистрировал это удостоверение в местном английском консульстве. Снабженный вполне безопасными документами, Аксельрод выехал в Берлин, получил там визу в Египет и транзитные визы через Сирию и Палестину.
В Берлине Аксельрод также не терял времени. Он связался с вновь прибывшим резидентом ГПУ Самсоновым, который, между прочим, сообщил ему о расстреле Блюмкина. Из Берлина через Балканы Аксельрод приехал в Константинополь.
Я передал Аксельроду распоряжение Москвы и предложил остаться работать в Константинополе.
За это время я успел завести знакомства среди местного купечества и считал свое положение прочным. Аксельрод вступил в мою «контору» компаньоном, чтобы не тратить зря денег на организацию собственной «конторы». Вдвоем мы почувствовали себя более уверенно и начали вместе присматриваться, с кого и с чего начать нашу работу.
Среди знакомых нам купцов имелся армянин Элмаян, старик лет шестидесяти, занимавшийся всевозможными торговыми делами в Константинополе в течение тридцати лет. Связи его во всех турецких правительственных учреждениях были колоссальны. Он знал подноготную всех влиятельных лиц в Константинополе. Очень подвижный, несмотря на изрядную толщину, Элмаян был хитер, беспринципен и готов за деньги на что угодно. С нами он очень дружил, чувствуя, что в торговых делах мы неопытны, и надеясь на нас нажиться. Посоветовавшись с Аксельродом, я решил начать с Элмаяна.
Как-то в одной беседе я ему сказал, что мой компаньон по конторе немец Фридрих Кейль является одновременно корреспондентом большой берлинской газеты и ищет человека, который мог бы снабжать его интересными сведениями о константинопольской жизни. Элмаян легко пошел на удочку. Я свел его с «корреспондентом». Еще несколько бесед, и мы поняли друг друга. Элмаян согласился работать агентом Кейля за 150 турецких лир в месяц, полагая, что будет работать для германской разведки. Я же считался в этом деле просто маклером, устроившим хорошее дело Элмаяну, родному мне армянину.
Начал Элмаян, получивший кличку Малоян, работу с турецкой полиции. В первую очередь он завербовал начальника 2-го отделения турецкой полиции Изед-бея, ведавшего делами национальных меньшинств в Турции. Мы получали от него через Элмаяна все доклады турецкой полиции о дашнаках и других группах армянского населения в Константинополе. Элмаян затем достал нам схему организации почтового управления в Константинополе. Мы были намерены, изучив почтовые операции, повторить в Турции персидский опыт.
У Элмаяна в качестве компаньона работал армянин Гюмишьян, очень интересовавшийся политическими делами. Мы завербовали его вслед за Элмаяном. Платили мы ему всего 50 лир.
К концу декабря из Москвы приехал бывший греческий резидент ГПУ Молотковский. По его рассказам, греческая сеть была организована неплохо: под номером 3/23 числился армянский архиепископ в Греции Мазлумян; другим крупным агентом был редактор армянской газеты, издававший ее на деньги ГПУ. Но Молотковский советовал не связываться с ними, так как они до некоторой степени уже скомпрометировали себя советофильскими выступлениями. Кроме архиепископа и редактора, резидентура ГПУ в Греции имела сеть агентов в военном министерстве и в министерстве иностранных дел, объединенных под руководством одного групповика. Через эту сеть ГПУ получало все секретные военные сведения в Греции.
Групповик-грек вступил в коммунистическую партию в России и три года тому назад был переброшен для работы ГПУ в Грецию. Однажды при какой то облаве его арестовали по подозрению в коммунизме, но затем освободили. Молотковский предлагал выехать вместе с ним в Грецию и принять руководство над агентурой. После долгого обсуждения мы, однако, решили послать принимать греческую сеть легального резидента ГПУ в Константинополе Наумова. Наладив связь, Наумов затем должен был передать эту сеть мне.
Наумов, беспрепятственно получив визу, выехал в Грецию. Связь с греческой сетью должна была поддерживаться советскими пароходами, заходящими в Пирей и Константинополь.
После отъезда Наумова в Грецию Молотковский уехал в Москву. Наша работа продолжалась до середины января 1930 года. К этому времени мы ликвидировали бейрутскую группу агентов, так как предполагали, что Блюмкин тайно связал их с Троцким.
Связь нашей нелегальной организации поддерживал с Москвой легальный резидент ГПУ в Константинополе Наумов, занимавший в советском консульстве официальную должность атташе. Ему мы передавали пакеты для отправки в Москву и от него получали почту, прибывавшую из Москвы. Встречались мы с ним или с его представителями на улицах Стамбула или в моей квартире («Шишли», улица Ахмед-бей, 51), хорошо изолированной и приспособленной для конспиративных встреч.
В начале января 1930 года я послал в Москву доклад с предложением перенести наш центр в Бейрут. Там мы были бы ближе к тем странам, где должны были вести работу, и имели бы то преимущество перед Константинополем, что выходили из сферы действия международной разведки, направленной против нас и свившей прочное гнездо в Стамбуле. Москва в ответ предложила командировать Аксельрода для личного доклада. В середине февраля Аксельрод, получивший транзитную визу через СССР в Латвию, выехал в Москву.
* * *
Уже в Москве, на работе в иностранном отделе в 1928 году, во мне возникали сомнения в правильности той политики, которая проводилась в то время советским правительством. Особенно меня поражало, что даже наиболее ответственные работники не могли открыто выражать свои мысли. Я вскоре лично убедился, что каждое неосторожное слово, не соответствующее политике Центрального комитета, влечет за собой немедленные репрессии. Открыли мне глаза два случая. Риольф, сотрудник ИНО, вздумавший защищать троцкиста Оссовского, немедленно был уволен из ГПУ. Но особенное впечатление произвела на меня история сотрудника Наркоминдела Шохина.
Шохин, по происхождению крестьянин, до 1921 года служил в Красной армии. Состоя в коммунистической партии с 1918 года, он самоотверженно боролся на фронте за советскую власть. Затем его перевели на работу в Наркоминдел. Он служил со мной два года в Тегеране на должности шифровальщика. Это был честный человек, работавший круглые сутки и глубоко преданный советской власти. Из Тегерана его откомандировали в СССР по болезни. Получив отпуск, он поехал в деревню к старикам-родителям. Это было в середине 1928 года, когда началась пятилетка. Приехав из деревни в Москву, Шохин пришел ко мне и рассказал ужасные вещи о положении крестьян. Борьба с кулачеством довела деревню до полного разорения. Даже крестьянские хозяйства, имевшие одну лошадь и две коровы, считались кулаческими и реквизировались…
Спустя некоторое время после приезда Шохин выступил на собрании Наркоминдела с докладом о деревне и требовал назначения суда и следствия над переусердствовавшими местными властями. Не прошло недели после этого выступления, как Шохина исключили из партии, а затем вообще сняли с работы. Тут я понял, почему мои товарищи в частных беседах говорят одно, а на партийных собраниях другое. И чем меньше они верили, тем больше и длиннее говорили, может быть стараясь самих себя убедить собственным словесным потоком. Мои сомнения, видимо, были замечены ячейкой ГПУ. Меня начали загружать докладами на всевозможные темы, чтобы по моим выступлениям выявить, нет ли у меня уклонов. Я, видимо, выдержал экзамен. Вскоре меня зачислили в так называемый партийный актив.
Однако, читая в Стамбуле информационные сводки ГПУ, я все более убеждался в том, что народное хозяйство разрушается и гибнет, пока наверху идет драка за власть. В частных письмах мне сообщали, что положение все более ухудшается, что приближается новый, 1921-й голодный год. Постепенно становилось ясно, что в создавшемся положении виноваты не отдельные личности, но вся система управления. Зрела мысль борьбы с руководителями преступной политики. Ехать обратно в СССР и начать там открытую борьбу, это значило в лучшем случае сесть куда-нибудь в концентрационный лагерь.
Я решил ехать на Запад. Работать при таких условиях я уже не мог и после отъезда Аксельрода почти прекратил разведывательную работу.
Москва, не подозревая о произошедших во мне переменах, продолжала присылать задание за заданием. Надо было что-то предпринимать. В Турции я оставаться не мог: с одной стороны я подвергал себя преследованиям советской власти, а с другой — мог попасть под удары турецкого правительства (на территории которого я вел разведку). В апреле месяце я обратился в одну из иностранных миссий в Константинополе с просьбой разрешить мне въезд в ее страну и сообщил, кто я такой. Мне предложили подождать ответа из столицы. Приблизительно в то же время я получил сведения от моего агента Гюмишьяна, что за мной следит турецкая полиция. Я не обратил на это внимания и продолжал ждать…
Наконец в июне мне передали из персидского консульства, что турецкая полиция усиленно интересуется мной и даже будто бы собирается меня арестовать. К этому времени начатые мной записки были готовы. Ждать больше было нельзя. По рекомендации персидского консульства я, как честный купец, получил визу во Францию.
19 июня 1930 года я покинул Константинополь и 27 июня приехал в Париж. Свои записки я не повез с собой, а отправил другим, надежным путем, боясь обыска турецкой таможни. Эти записки, украдкой составлявшиеся мной в Турции, ныне составили эту книгу.
Я начал их за несколько месяцев до бегства для того, чтобы они были опубликованы в том случае, если мне не удастся вырваться из рук ГПУ.
Я не литератор и избегал лишних слов в моей книге. Я предназначал ее не для развлечения широкой публики, а для того, чтобы в точном и бесстрастном изложении фактов познакомить Европу с природой и деятельностью ГПУ — учреждения, фактически руководящего властью в России.
* * *
Какие выводы хотел бы я сделать из всего рассказанного? Первый и основной вывод тот, что ГПУ, созданное в 1918 году как классовый орган для защиты завоеваний пролетариата, ныне обратилось в охранное отделение худшего типа, защищающее исключительно интересы Сталина и его клики.
В борьбе за власть внутри ГПУ вполне усвоен лозунг «социалистического соревнования» между отделами. Это соревнование ведет к тому, что количество тюрем и концентрационных лагерей в СССР увеличивается в геометрической пропорции по отношению к росту населения. На иностранных территориях ГПУ старается раскинуть такую же широкую сеть шпионажа, как и внутри России. Читатель видит из моей книги, что в этом отношении работа на Востоке поставлена неплохо. Думаю, что на Западе дело обстоит не хуже.
Ежегодно советское правительство отпускает для шпионажа в иностранных государствах только в руки ГПУ около трех миллионов долларов, которые добываются от продажи на заграничных рынках продуктов питания, вырванных изо рта голодного рабочего и крестьянина.
Но доллары, жесточайшим образом выколачиваемые из народа, текут не только в руки ГПУ.
Несмотря на официальные заверения советского правительства о полной его непричастности к делам 3-го Интернационала, читатель видит, что фактически Наркоминдел и Разведупр работают вместе для общей цели и на одного хозяина — имя которому политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии, или Сталин.
Разница между ними та, что Наркоминдел разговаривает и отвлекает внимание, а остальные молча ведут подрывную работу под теми, с кем Наркоминдел говорит. На языке сотрудников ГПУ, Разведупра и Коминтерна такое «разделение труда» облекается в следующую формулу по адресу Наркоминдела:
— Ваше дело болтать и отписываться, а наше дело вести реальную работу.
Опыт предыдущих лет показал, что легальные резидентуры ГПУ при дипломатических и торговых представительствах не достигают целей в военное время. По мнению же ЦК ВКП, война неизбежна, и вот уже год с лишним, как
ГПУ повсеместно за границей организует наряду с легальной работой нелегальную.
ГПУ за двенадцать лет существования сумело раскинуть сеть шпионства не только в каждом уголке Советского Союза, но почти во всех странах мира. В особенности сетью ГПУ охвачены соседние с СССР страны: на Востоке — Персия, Афганистан, Турция, Китай, а на Западе — Прибалтийские страны и Германия.
Для достижения своих задач ГПУ не стесняется средствами; читатель мог видеть это из моей книги.
Все крупные задачи ГПУ предварительно обсуждаются в политбюро. Поэтому за всю деятельность агентов ГПУ полностью ответственно советское правительство в лице ЦК ВКП.
Идейным руководителем ГПУ в настоящее время является генеральный секретарь партии Сталин. Он лично дает направление внешней и внутренней работе органов ГПУ.
Из органа, являвшегося мечом в руках пролетариата, ГПУ превратилось в орган личной диктатуры Сталина. Примером служит расправа с Троцким, Мясниковым, Мдивани и с правой оппозицией.
Сотрудники ГПУ, считавшие работу в ГПУ революционной обязанностью, ныне превратились в ретивых чиновников, работающих в целях личного благополучия и карьеры. Они теперь настолько обезличены и «дисциплинированы», что творят по указке Сталина все что угодно, не задумываясь о революционной целесообразности. ГПУ, поставленное над всеми другими учреждениями соввласти, пользующееся особыми материальными и правовыми привилегиями, стало «царской опричниной». Из органа диктатуры пролетариата оно обратилось в орган душителей пролетариата.
Июль — август 1930 года
Париж
На службе в ЧК и Коминтерне. Личные воспоминания
Предисловие редактора
На меня выпала честь редактировать предлагаемую вниманию читателя книгу Е.В. Думбадзе «На службе в ЧК и Коминтерне». В.Л. Бурцев пишет к ней вступительную статью, в которой он выясняет общественное значение его книги.
Мне же, как редактору ее, хочется лишь сделать кое-какие необходимые пояснения.
Е.В. Думбадзе пишет с полной откровенностью о себе, как о чекисте. Мемуары эти представляют собой нечто ужасное, ибо написаны они человеком, лично все изображенное пережившим, и не выдержавшим этого ужаса, и, хотя с большим трудом и опасностями, ушедшим с этой проклятой службы.
Но не одно только чувство гадливости владело им при его отходе от советской службы. Нет, им руководило и горячее стремление выступить на борьбу с режимом, поправшим свободу Родины и обратившим ее в страну рабов. После долгих и тяжелых перипетий Е.В. Думбадзе очутился в Париже. Недружелюбно встретила его русская эмиграция. Охраняя чистоту своих риз, русские сторонились его, не верили искренности его разрыва с ГПУ и подозревали в нем ловко и умело притаившегося агента. Напомню, например, ту жестокую травлю, которую подняло против него «Возрождение»…
Я считаю полезным остановиться на том, как он стал чекистом.
Большевистский переворот застал Е.В. Думбадзе восемнадцатилетним гимназистом, пылким по натуре и революционно настроенным, но по молодости еще плохо разбиравшимся в политических и партийных течениях. Голова его и его душа были полны свободолюбивых идей, и он жаждал, жертвенно жаждал принести свою молодую жизнь во имя свободы человека.
Его душа, его ум представляли собой открытую страницу, на которой было написано одно только слово, и слово это было «Свобода». Но слово это было совершенной абстракцией, в нем не было практически-реального содержания. Он был не один. Такие же юные товарищи окружали его, также горевшие жаждой вступить в жестокий бой за свободу и благо народа. Конечно, вся эта зеленая и желторотая молодежь идейно питалась только тем дешевеньким материалом, который ей представляла агитационная работа всякого рода большевистских «вождей»: брошюры, митинговые речи и пр.
И эта молодежь впитывала в себя, как сухая губка, готовые и все и вся универсально разрешающие лозунги. Она прониклась ими насквозь и шла во имя их в жестокий бой с жизнью, с рутиной.
И вот мы видим молодого Е.В. Думбадзе записавшимся в Красную армию добровольцем. Кое-как вооруженный, он принимает уже участие в Гражданской войне. Походы, сражения, взятые города, разоренные жители, пылающие деревни, расстрелы проходят перед ним, сменяясь, как в ужасном фильме. Он видит все эти жестокости, все это варварство и с горячностью проходит через все это: ведь это война… война за свободу!..
Но вот наступает желанный момент, и его демобилизуют. Он ждал этого момента с нетерпением. Он уже ясно видел, что в его жизни имеется серьезный дефект: отсутствие систематического образования, которое помогло бы ему разобраться в сложных жизненных сплетениях. И юноша, состоявший членом коммунистической партии, которой он верил, как сын матери, обращается к ней с просьбой командировать его в университет для продолжения образования.
И партия исполнила его просьбу… и он был командирован в распоряжение ЧК! Я не буду описывать того, что он мне лично говорил о своем разочаровании… Но рассуждать было нельзя: ведь большевики не шутят и требуют слепого повиновения своим приказам. Да, кроме того, юноша еще верил, что ЧК является тем оплотом, который стоит на страже интересов свободы человека, народа и всего будущего родины.
И он очутился в этом «университете»… Он ярко и с исчерпывающей искренностью описывает те «науки», которые ему пришлось пройти в этой «школе».
Он прошел эти науки и в результате вынес горячую ненависть к этому человеконенавистничеству и стремление уйти из «стаи славных». Но всякий, хоть сколько-нибудь знакомый с современной российской действительностью, знает, что уйти так просто, как уходят свободные люди, из цепких лап коммунистической партии нельзя.
И прошло еще несколько лет. Тяжелых лет приспособления, притворства, обмана, чтобы получить возможность усыпить бдительность коммунистической партии и уехать за границу.
Автор, описывая все шаги своего освобождения от ига коммунистов, дает читателю ряд реальных, подчас захватывающих душу, как роман, приключений.
На этом и оканчиваются воспоминания Е.В. Думбадзе.
Наконец он свободен… И 21 июня 1928 года он в Париже.
И начался новый период его жизни, о котором я выше говорил. Фарисеи эмиграции стали забрасывать его камнями. «Вот, смотрите на него, — это чекист!..» — вопили они, колотя себя в пустые груди… И прошло немало времени, прежде чем автор настоящих воспоминаний встретил хорошего душевного человека, В.Л. Бурцева, который тепло и дружески согрел его и стал на его защиту…
Г. А. Соломон
Предисловие
Воспоминания Евгения Васильевича Думбадзе должны прочитать все, кто заинтересован в борьбе с большевиками вообще и в частности с русскими большевиками. Это — не просто исторический рассказ об интересных событиях. Для автора это — борьба с тем, что составляет сущность большевизма.
Автор по личным воспоминаниям описывает то из советской жизни, с чем он сам хочет бороться и бороться с чем призывает других. Никто, кроме людей, бывших в положении Е.В. Думбадзе, не сможет с такой силой и с таким знанием передать читателям сущность того, с чем он призывает бороться.
В воспоминаниях Е.В. Думбадзе говорит о ЧК, как человек, бывший в ЧК и хорошо знающий ее.
С воспоминаниями Е.В. Думбадзе я познакомился тогда, когда они еще не были написаны. Они еще тогда глубоко запали мне в душу.
С Е.В. Думбадзе я встретился впервые в конце 1928 года в Париже.
Я беседовал с ним, как старый, убежденный враг большевиков. Он сразу мне стал говорить о большевиках, как их враг. Мне не пришлось его ни в чем убеждать. То, что я говорил ему о большевиках, было только комментариями к тому, что о них говорил он сам.
Мне, редактору «Общего дела», сообщили, что не так давно приехавший из России активный большевик хочет встретиться с кем-либо из антибольшевиков. О нем мне сказали, что он колеблется в своем большевизме и что он не прочь даже откровенно поговорить с антибольшевиками.
Я согласился встретиться с этим большевиком.
Предстояло необычное свидание при конспиративных условиях.
Представители двух различных миров, кто до последнего времени не находил для себя никакого общего языка, должны были сойтись и говорить на самые щекотливые темы.
Идя на это свидание, я принял все меры, чтобы прийти туда «чистым», то есть чтобы за мной не было никакой слежки.
В кафе я пришел за несколько минут до назначенного срока. Мне не пришлось долго ждать.
Вскоре в заднюю комнату, где я сидел в стороне, в углу кафе, за стеклянной дверью, вошел сначала мой знакомый. Затем вслед за ним шел какой-то молодой человек лет тридцати, ярко выраженного грузинского типа. Я сразу понял, что это пришел тот, с кем у меня назначено свидание.
Мой знакомый представил нас. Несколько минут мы втроем стали обмениваться незначительными фразами. Все трое ждали того, чтобы кто-нибудь начал разговоры на темы, беседовать на которые мы пришли.
Я воспользовался минутой неожиданно воцарившегося молчания и прямо перешел к делу.
— Вы большевик? — спросил я и, не дожидаясь ответа, добавил: — А я — антибольшевик, последовательный, убежденный враг большевиков. Я с ними стал бороться до революции. Они арестовали меня в первый день своего переворота. В тюрьме я продолжал борьбу с ними и с тех пор никогда ее не прекращал.
Все, что я говорил о своем отношении к большевикам, я старался пересыпать какими-нибудь характерными рассказами как из дореволюционного времени, так и позднейшего.
Я сразу понял, что передо мной сидит человек, который скорее расположен слушать, чем сам говорить.
Я этим воспользовался, чтобы познакомить его возможно полнее с моими взглядами на большевиков и сообщить ему все те факты, на основании которых он мог бы сам делать выводы о моем отношении к большевикам.
Мы сидели довольно долго. Говорил главным образом только я один.
Когда мне казалось, что я сказал все главное, что надо сказать, я стал прощаться. Мы назначили новое свидание. Моему новому знакомому, кроме адреса моего отеля, я дал номер моего телефона и с особенным подчеркиванием просил его мне телефонировать на следующий день. Я рассчитывал по телефону назначить с ним новое свидание так, чтобы мы могли разговаривать только вдвоем.
Через несколько дней свидание было назначено. Мы разговаривали вдвоем и могли поэтому говорить более откровенно. Я дал моему собеседнику возможность высказать все, что он считал нужным.
К моему изумлению, свой рассказ он почти что начал словами: «Я — чекист»…
Он назвал свою фамилию. Она меня особенно заинтересовала, так как она очень известна в России.
Это придавало для меня особое значение его разоблачениям.
На этом свидании я уже не только говорил сам, но и слушал.
Наше знакомство продолжалось. Мы виделись часто — почти всегда в кафе, — но Е.В. Думбадзе, приняв особые меры, приходил иногда и ко мне в отель.
Мы все ближе и ближе постепенно сходились.
Я все больше и больше узнавал и начинал понимать Е.В. Думбадзе.
Так длились наши свидания довольно долго.
За время своих свиданий с Е.В. Думбадзе я смог выслушать от него почти все, что читатели найдут в этой книге.
Между нашими свиданиями я виделся с теми, кто мог мне сообщить о нем какие-нибудь сведения.
Но никто, с кем я говорил лично, не подозревал, что я его знаю и даже встречаюсь с ним.
Я наводил, где мог, справки и о том, что он мне рассказывал.
За эти наши свидания я так сошелся с Е.В. Думбадзе и почувствовал к нему такое доверие, что решил открыто идти к нему навстречу и, приняв его предложение, выступить открыто против большевиков за своим именем.
Я понимал, что для нас обоих предстоит трудная и ответственная борьба — особенно тяжелая в условиях нашей эмигрантской жизни.
Я написал статью о Е.В. Думбадзе, а он написал вводную статью к своим воспоминаниям, и мы то и другое напечатали в очередном номере «Общего дела».
Е.В. Думбадзе был, таким образом, почти первым боевым невозвращенцем. Его рассказы в «Иллюстрированной России» читались не только за границей, но и в России. Они волновали антибольшевиков, а может быть, еще больше — большевиков, особенно чекистов.
Со стороны Е.В. Думбадзе его воспоминания были прежде всего протестом против большевиков.
Это была борьба против них.
Своим примером он заставил и многих чекистов задуматься над своей деятельностью.
Почти год Е.В. Думбадзе работал в Париже. Затем он побывал в других странах. Принимал участие в ответственных политических выступлениях невозвращенцев.
Его работой как невозвращенца и была настоящая его книга о ЧК.
Враги ЧК, кто понимает ее значение в общей борьбе с большевиками, должны со вниманием прочесть воспоминания Е.В. Думбадзе.
Вл. Бурцев
3 сентября 1930 г.
Париж
От автора
Мне всего тридцать лет. В этом возрасте люди обыкновенно далеки еще от того, чтобы подводить итоги своей жизни. И если я тем не менее приступаю к моим воспоминаниям, то делаю это с единственной целью посильно изобразить то средостение, в котором прошла моя ранняя молодость, почти целиком отданная моей службе большевизму.
Я имею в виду в настоящих моих воспоминаниях указать на мою основную ошибку — мою веру в высокие идеалы, провозглашенные большевизмом. Второй целью, поставленной мной в этих воспоминаниях, является настоятельная, на мой взгляд, необходимость показать обществу, что представляет собой советская система в той части, которая была доступна моему наблюдению. Возможно, что многое из того, что мной приводится в моих воспоминаниях, уже известно обществу. В таком случае в этих частях мои воспоминания представляют собой лишь новое свидетельское показание, новое подтверждение того, о чем часто люди говорят и кричат и вкось и вкривь.
Я хочу показать в моих воспоминаниях, как шаг за шагом разбивалась моя юная вера в провозглашенные большевиками идеи. Как во мне зародились сперва неясные сомнения, которые, все увеличиваясь и вширь и вглубь, в конце концов привели меня к сознанию, что вместо вестников свободы, за счет которой оперировали и оперируют вожди большевизма, они являются в действительности апостолами тиранической олигархии, несущими Родине мрак и ужас человеконенавистничества и стремящимися разлить этот яд по всему миру. Я понял, что не любовь к человеку, «каков он ни есть», а узкое себялюбие представляет собой их основные принципы.
Я увидел и убедился, что наряду с великой ненавистью, ставшей истинным лозунгом вождей большевизма, в них нет ни чести, ни истины и что вокруг них сплошной обман, шпионаж и провокация. Когда власть окончательно и целиком попала к большевикам, они в силу закона обратного действия, естественно, не могли не проявить своей глубокой реакционности.
На моих глазах беспощадно подавлялись протесты рабочих, засаживали в тюрьмы абсолютно невинных людей, их избивали и расстреливали. Я видел всюду кровь и слезы. Мы, то есть я и многие мои товарищи, поняли, что все делалось согласно воле руководителей политбюро. Что втаптывались в грязь и ужас и демократия, и свобода!..
Я описываю, как, осознав все это и решив уйти от них, я должен был проделать целый ряд махинаций и хитростей, чтобы почувствовать себя свободным.
Мне чуждо стремление этими воспоминаниями сводить мои мелкие личные счеты с теми или иными деятелями большевизма. Я ставлю себе лишь задачу написать правду, поэтому читатель не найдет в моих воспоминаниях кричащих газетных сенсаций.
Мне остается сказать в настоящем предисловии, что я расстался с большевиками не только потому, что мне стало лично невтерпеж, но главным образом для того, чтобы получить возможность бороться против них, как источника великого социального зла.
Часть первая Работа в Красной Армии
Глава 1
Мартовская революция 1917 года застала меня в Ялте, в Крыму. Вся Россия того времени была уже насквозь пропитана революционными идеями, особенно интенсивно распространявшимися благодаря несчастной войне. Мне было всего восемнадцать лет, и я, весь охваченный напиравшими на меня извне революционными идеями, встретил революцию восторженно…
В 1918 году Ялта была взята большевиками. Началась обычная картина расправы, с расстрелами, арестами, реквизициями…
Я, конечно, разделял все ультрабольшевистские взгляды, без критики, без анализа, на веру принимая все положения большевизма в учении Ленина. Следуя его заветам, что в борьбе «с классовым врагом все средства хороши и честны», я принимал и те зверства, которыми ознаменовался захват большевиками власти, как нечто должное, неизбежное и необходимое для революции, поставившей себе основную задачу — освобождение угнетенного народа, пролетариата и вообще демократии от гнета царизма и капитализма… И поэтому-то я по первому же зову вступил в Красную гвардию вместе с такими же, как и я, восторженными восемнадцатилетними гимназистами…
Я вступил в качестве добровольца в Н-й батальон Красной гвардии. И вскоре, кое-как вооруженные и обмундированные, мы стали уже принимать участие в боях, то есть в Гражданской войне… Боевая жизнь уже столько раз была описана, что я, чтобы не повторять этой избитой уже темы, не буду говорить о тех сражениях, в которых я принимал участие. Скажу лишь, что мы, молодежь, верили, до экзальтации верили в дело революции и восторженно окружали ореолом величия и поклонения наших тогдашних вождей: Ленина, Троцкого и других, видя в них истинных и бескорыстных вождей народа и пролетариата. И мы шли, жертвенно шли, не щадя себя, в огонь и умирали с этой верой и с высоким сознанием выполненного нами гражданского долга. И мы не замечали или почти не замечали стонов и слез близких, павших в этих боях…
Что нам были эти слезы и стоны — ведь перед нами открывались умопомрачительные горизонты великой свободы человека!
Мы верили и умирали… Много лет прошло с той поры, и ушли, безвозвратно ушли те молодые силы, кровью которых Ленин, Троцкий и другие велисвоедело. Часть этой молодежи погибла в братоубийственной Гражданской войне. Часть надорвала свои силы и погибла от болезней. Часть освоилась с новым режимом и срослась с ним. И часть верных заветам революции «все для народа», поняв истинные побуждения своих вождей и разочаровавшись в них, поняв, что торжество большевизма повергло нашу Родину в ужас и мрак отчаяния, насыщенного человеконенавистничеством, порвала с ним и ушла в подполье, чтобы оттуда бороться против своих вчерашних товарищей…
Но возвращаясь к моей военной службе, которая вскоре была прервана наступлением немцев и белых. Мы должны были отступить. Лично я должен был бежать, так как среди шедших с немцами белых офицеров были мои родственники и мне пришлось бы плохо. Я бежал в Грузию, в Озургети, где занялся подпольной большевистской работой.
1919 год застает меня уже в России, в Астрахани, в качестве политического комиссара Н-го полка Н-й армии.
Я не буду здесь подробно говорить об институте политических комиссаров в Красной армии; в дальнейшем при описании одного характерного случая я буду иметь возможность подробнее остановиться на этом важном вопросе и отметить, какое невероятное с военной точки зрения двоевластие исключительно из-за политических целей было введено в армию. Скажу лишь, что в задачи политических комиссаров (политком) входило представлять в армии революционные идеи, воспитывать в них солдат и поддерживать в них классовый дух. Надо сказать правду, что хорошо распропагандированные красноармейцы мужественно дрались в наших рядах, что не мешало им, попав к белым, с таким же успехом драться против нас.
Наряду с институтом политкомов при каждой воинской единице находится еще и особый карательный орган — военная ЧК, носящая название — «особый отдел». Орган этот имеет право производить аресты, а иногда и приводить приговоры в исполнение. Как пример работы этого органа приведу следующий факт.
Однажды по телефону меня вызвали в штаб армии в особый отдел. Явившись к начальнику особого отдела Макарову, я по его требованию рассказал ему свою биографию. Вслед за этим он объявил меня арестованным. Не понимая, в чем дело, в чем меня обвиняют, я через моих друзей рапортом сообщил о моем аресте члену Реввоенсовета товарищу X., который сейчас же приказал меня освободить. Как потом выяснилось, у меня контрреволюционная фамилия[3]и «что яблоко от яблони далеко не падает».
В мою задачу, как политкома, входило, как я говорил, пробуждение революционного сознания у красноармейцев. Надо сказать правду, задача была нелегкая, так как в их умах царил полнейший хаос. Вот маленькая сценка, которая может служить некоторой иллюстрацией этому.
После одного боя мы вошли в местечко А., улицы были исковерканы и частично разрушены артиллерийским огнем. По обыкновению, красноармейцы бросились грабить. В добычу им досталась между прочим бочка самогона, и в результате победители пришли в соответствующее настроение, начались песни и пляски. Я проходил мимо такой сцены, когда один из поющих красноармейцев подошел ко мне.
— Товарищ военком, — блаженно-пьяным голосом обратился он ко мне, — дозвольте спросить… а что ты, часом, не из жидов будешь?
Конечно, вопрос этот не мог меня не удивить, ведь слово «жид» было изгнано из революционного лексикона и считалось контрреволюционным.
— Да что ты, Дурова голова, — обратился я к нему, — ты что, спьяна рехнулся? Разве ты забыл, что слово «жид» у нас упразднено? Ну а по национальности я, если тебе это интересно знать, грузин.
— Ага… так, так, — все тем же блаженным голосом отвечал красноармеец, — а все-таки, значит, ты крещеный?.. А почему ты такой черный?.. — И дальше он продолжал пьяным доверительным тоном: — Ведь мы же бьем буржуев и белобандитов, ну и заодно, значит, и жидов-христопродавцев…
Конечно, мне пришлось много поработать над этим молодым солдатом, выясняя ему сущность его заблуждений и стараясь вразумить его.
После этого боя я распорядился выстроить пленных, чтобы выделить офицеров, которых, согласно положению, я должен был отправить в штаб армии. Там их часто расстреливали, за «злостную контрреволюцию». Но бывали нередки случаи, когда на вызов офицеров таковых не оказывалось. Это объяснялось тем, что пленные «белые солдаты», зная, какая участь угрожает любимым офицерам, не выдавали их.
Прошло почти два года беспрерывной Гражданской войны на разных фронтах, и уже в 1920 году, за несколько месяцев до занятия Баку, я был назначен временно исполняющим должность политкома Н-й дивизии, расположенной на передовых позициях. Мне было тогда всего лишь двадцать лет.
В этот период и произошел тот факт, наглядно иллюстрирующий, для чего был фактически создан кадр политкомов, о котором я упоминал выше.
Читателю уже известно, что при каждой воинской части имеются, помимо командного состава, еще политические комиссары, которые ввиду того, что командиры считаются главным образом специалистами и далеко не всегда пользуются полным доверием советского правительства, являются, в сущности, глазами и ушами партии. Конечно, политкомы всегда назначаются из надежных коммунистов.
Приводимый ниже случай я считаю характерным в том отношении, что на нем читатель может увидеть, какие глубокие конфликты по необходимости имеют место между военным специалистом (командир) и политическим комиссаром. Отмечу, что командиром этой дивизии был полковник А., бывший офицер Генерального штаба царской армии, видный специалист своего дела. Я же был, в сущности говоря, неопытный доброволец, не имеющий никакого военного образования и потому не могущий себе отдать ясного отчета в необходимости принятия тех или иных мер, диктуемых ходом боя.
Между тем имеется немало таких распоряжений, которые получают официальную силу приказа лишь по утверждении их политкомом. Ничего нет удивительного поэтому в том, что с самого начала моего вступления в должность политкома у меня начались с командиром дивизии крупные недоразумения.
Вот как оно произошло. Командир дивизии нашел, что для подкрепления сил, находящихся на передовых позициях, необходимо было послать туда подкрепление в несколько батальонов пехоты, и приказал двинуть те части, которые находились в распоряжении политкома дивизии.
Части эти представляли собой резерв, предназначенный для прикрытия тыла в случае отступления. Эти батальоны комплектовались из латышей и китайцев, в громадном большинстве коммунистов. Но кроме того, эти войска употреблялись также против своих же в случае их бегства. В этих случаях эти части открывали стрельбу по отступающим, заставляя их повернуть и идти вперед. По существующим в Красной армии положениям эти особые части могут быть использованы только с разрешения политкома, командный же состав не имеет права единоличного распоряжения ими.
Дав такое распоряжение, командир дивизии, конечно, натолкнулся на мое сопротивление, и изданный им приказ мною подписан не был. Командир дивизии донес рапортом в штаб армии о том, что временно исполняющий должность комиссара дивизии товарищ Думбадзе вмешивается в оперативные дела командования, не будучи подготовленным к этому и не имея абсолютно никаких военных знаний, почему он и просил соответствующего распоряжения.
Штаб армии назначил комиссию для расследования инцидента, которая дала заключение в мою пользу, найдя, что в своих действиях я руководствовался имеющимися у меня инструкциями ПУРА (политического управления штаба армии), хотя сам лично сознаю, что с военной точки зрения я был не прав.
В 1920 году Н-я армия вступила в Баку. Занятие этого города, а затем оккупация всего Азербайджана прошла почти без выстрела. Вступление Красной армии было совершенно неожиданным не только для населения, но и для некоторых членов правительства Азербайджанской национальной республики.
Тысячи офицеров, всевозможных чиновников, а также представителей зажиточного класса все были застигнуты врасплох. ЧК и особый отдел свирепствовали вовсю. Сотни арестованных без суда и следствия отправлялись на остров Нарген, находящийся недалеко от Баку, и там чекисты расстреливали их пачками. Это была знаменитая «неделя ущемления буржуазии». Целые районы, в которых были расположены дома, принадлежащие бакинским миллионерам Тагиеву, Макташеву, Муса-Алиеву и другим, расхищались и национализировались. Всякий брал что только мог и хотел, и только в конце «недели» большевики спохватились и стали отбирать у жителей и концентрировать в складах награбленное имущество.
В скором времени после занятия Баку в газетах появились тревожные сообщения, что в соседней Грузии происходят народные восстания и что «восставший пролетариат» зовет на помощь «братскую Красную армию» против власти грузинских «социал-фашистов». Надвигалась новая братоубийственная война. И таким образом в январе 1921 года Красная армия (я был в ее рядах) двинулась к Тифлису, якобы на помощь «восставшему пролетариату». Теперь всем известно, что все это предприятие представляло собой не что иное, как гнусную провокационную авантюру, инициатива которой всецело принадлежала группе грузинских большевиков: Орджоникидзе, Элиаве, Махарадзе и др. Всех этих «деятелей» незадолго до этого грузинское правительство объявило «изменниками и предателями Родины». Да оно и понятно. Ведь, как известно, незадолго до этого состоялось торжественное соглашение между советским и грузинским национальным правительствами о взаимном ненападении…
Но что такое договоры! Как и все договоры, и это соглашение было эфемерно и оно не помешало, конечно, Орджоникидзе, Элиаве и другим, злоупотребив своим званием членов Реввоенсовета армии, без объявления войны двинуть красные войска на Тифлис, и большевики настолько были уверены в своей победе, что на полдороге, а именно в Шулаверах было сформировано даже советское грузинское правительство под председательством Филиппа Махарадзе.
Грузинский народ не был подготовлен к войне, он ее не ждал, на него напали предательски… А потому немудрено, что хорошо снабженной Красной армии в несколько десятков тысяч человек было нетрудно овладеть маленькой незащищенной страной. В первых же боях с грузинами мы, участники этого «славного похода», могли воочию убедиться, «с каким восторгом угнетенный национальным правительством грузинский пролетариат ожидал нашего прихода… прихода освободителей». Маленькая скромная армия Грузии оказала геройское сопротивление… Мне вспоминается мужество и храбрость воспитанников грузинского военного училища, которые в количестве нескольких сот человек разбили два передних полка Красной армии. Но ничто не могло спасти маленькую Грузию, и 25 февраля 1921 года я уже в качестве «победителя» маршировал по улицам Тифлиса и был объектом не радостного и восторженного приветствия «угнетенного народа», а лишь глубокой ненависти и затаенной неукротимой вражды со стороны грузинского населения…
Я нарочно, по высказанным выше соображениям, не останавливался подробно на моей военной деятельности. Отмечу только, что таким образом мне пришлось пробыть в рядах Красной армии до июня 1921 года, когда политическое управление штаба армии демобилизовало несколько сот коммунистов и откомандировало их в распоряжение тифлисского комитета коммунистической партии (большевиков). В числе этих демобилизованных находился и я.
Чувствуя большие пробелы в моем образовании (напомню, что я окончил только среднюю школу), я был рад этой демобилизации, мечтая, что таким образом я смогу окончить свое образование. И поэтому, явившись в комитет партии, я просил командировать меня в высшее учебное заведение для продолжения образования.
— Да, учиться — это, конечно, хорошее дело, — подумав, ответил мне некто товарищ Рубен, которому я представился, — но подождите минуточку, — сказал он и вызвал своего помощника.
Вошел помощник, известный в свое время организатор большевистских отрядов во время независимой Грузии некто Амирбеков, с которым Рубен очень долго совещался и, обратившись ко мне, сказал:
— Товарищ, командировать тебя учиться я не могу, ибо нам нужны работники, мы решили послать тебя в ЧК. У тебя есть опыт, стаж нелегальной работы в партии, а ведь там такие товарищи и нужны… Ну вот, иди к товарищу Амирбекову, бери путевку и валяй…
Часть вторая На работе в ЧК
Глава 2
Я перехожу в моих воспоминаниях к моей работе в качестве чекиста. Я открываю мрачную, тяжелую страницу пережитого. Но я не намерен ничего скрывать и с полной откровенностью отдаю себя на суд общества.
Скажу правду. Молодой и неопытный, среднеобразованный, но проникнутый самой горячей верой в великие освободительные идеалы революции, которая, я верил, вынесет нашу Родину на путь яркого счастья на земле, я принял это назначение как нечто почетное. Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и спекуляцией, о которой наши вожди в унисон пели, как об учреждении высокоидейном, как о том авангарде революции, который мужественно, самоотверженно, стойко и идейно-честно призван стоять на страже великих завоеваний революции, представлялась мне, тогда еще совершенно юному рядовому великой освободительной армии, чем-то хотя и неуклонно суровым, но прекрасным и великим. То жестокое, что она призвана была делать, в моем тогда юном представлении уходило в какую-то туманную даль, и мне рисовались лишь тяжелые, полные опасности обязанности во имя счастья человечества. Обратная, жестокая сторона медали не доходила до моего сознания. Я смотрел на предстоящую мне суровую работу, как смотрит гимназист-мечтатель на войну, рисующий себе предстоящие с его стороны акты высочайшего самопожертвования, в которых он призван принять участие и которые отныне должны стать его священным долгом. И в этом священном долге, я верил, должно было раствориться все до отказа и мое маленькое «я».
И в моих размышлениях, в моем предварительном анализе моей будущей деятельности передо мной ярко и заманчиво выступала моя чисто «жертвенная» роль.
Я привожу эти черты из моей тогдашней психологии не в жалких попытках самооправдания. Нет! Я делаю это вот почему. Большинство, огромное большинство сотрудников ЧК комплектовалось и сейчас комплектуется главным образом из представителей зеленой революционной молодежи. И насколько я успел приглядеться за время моей работы в этом учреждении, большинство этой зеленой молодежи шло туда с такими же представлениями, что и я… И подобно мне, действительность, с которой этой молодежи приходится сталкиваться, в конце концов внушает ей полный отврат. Но немногие могут вырваться из засасывающей их тины, и трудно даже при самом искреннем разочаровании уйти из этого учреждения, ибо все чекисты, пожалуй, даже еще больше, чем «буржуи», окружены паутиной сыска, шпионажа и самой ужасной провокации…
Но возвращаюсь к моим воспоминаниям.
Итак, получив назначение в ЧК Грузии, весь преисполненный гордостью по поводу такого ответственного командирования, я шел к месту новой службы. Я шел со страхом и сомнениями, сумею ли, смогу ли я с честью нести, как мне казалось тогда, «высокое» звание чекиста… Десять лет прошло с той поры, и сейчас так ясно представляется мне картина, как я с трепетом вхожу в кабинет начальника секретно-оперативного управления ЧК Грузии товарища Будницкого (псевдоним). Прочтя внимательно мое командировочное удостоверение, он приветливо обратился ко мне:
— Добро пожаловать к нам, товарищ… Я очень рад вашему назначению ко мне… у вас хорошие партийные отзывы, я уверен, что вы будете нам очень полезны, особенно ввиду того, что вы грузин… Ведь у нас, знаете, несмотря на то, что мы находимся в Грузии, имеется всего околотрех процентовгрузин, остальные все разных национальностей: армяне, евреи и пр. Ну, еще раз добро пожаловать…
Он дал мне тут же заполнить несколько анкет и объявил, что я назначен в агентурный отдел, и направил меня к начальнику его товарищу Домбровскому (псевдоним).
Об общем характере деятельности ЧК, переименованной ныне в Главное политическое управление (ГПУ), уже много писалось. Но, насколько я знаю, точного описания этого учреждения со всеми его разветвлениями до сих пор не было дано. Я и попытаюсь дать читателям такое описание и приведу возможно краткую схему этого аппарата. Я буду говорить только о ЧК Грузии. Но все остальные органы ЧК советской России сконструированы по одному и тому же плану. И таким образом, познакомившись с ЧК Грузии, читатель будет иметь представление и об остальных учреждениях ее, разбросанных по всей России. Я прилагаю краткую графическую схему всех отделов, входящих в состав ЧК, из которой читатель увидит, какая между ними существует взаимоподчиненность.
Итак, во главе всего учреждения ЧК стоит коллегия, состоящая из шести-семи членов во главе с председателем, который, помимо чисто председательских обязанностей, является душой всего учреждения и в значительной степени часто пользуется дискреционной властью, диктуя коллегии свои решения. В члены коллегии входят: представитель Центрального комитета партии, прокуратуры и рабоче-крестьянской инспекции с правами решающего голоса, остальные же члены коллегии, чекисты, заведуют разными отделами ЧК. Общее руководство всеми подчиненными отделами возложено на начальника секретнооперативного управления (он же непременный член коллегии).
Я опишу подробно, какие именно функции лежат на каждом отделе.
Секретариат и отдел личного состава — находится главным образом в непосредственном распоряжении председателя. Ведает всеми делами о служащих ЧК. Ведет заседание коллегии, составляет протоколы их и т. и.
Транспортный отдел — ведает транспортным отделом ЧК, то есть автомобилями и другими перевозочными средствами.
Финансовый отдел и счетоводство— ведает финансовыми операциями (получение кредитов, выдача жалованья, при нем находится так называемая секретная бухгалтерия).
Хозяйственный отдел— ведает зданиями, квартирами, больницами, санаториями, ремонтом и оборудованием их, выдачей пайков и пр.
Отдел контрразведки — КРО — ведает всеми делами так называемых контрреволюционеров, шпионажем и т. д., организация и руководство шпионской работой в приграничных полосах республики.
Экономический отдел — ЭКО — ведает борьбой с экономическими преступлениями: вредительством, спекуляцией на бирже, борьбой с частными торговцами и т. д. Все это является объектом деятельности этого отдела.
Иностранный отдел — ИНО — ведает шпионажем во всей шкале деятельности ЧК за границей и борется с иностранным шпионажем в СССР. Этот отдел имеет своих резидентов за границей.
Отдел по политпартиям — ПО— ведает делом борьбы с разными политическими группировками, нелегально работающими в пределах СССР, как, например, меньшевиками, эсерами, дашнаками и пр.
Отдел по борьбе с духовенством— как это видно из самого названия отдела, в задачу его входит то, что сейчас называется антирелигиозной борьбой.
Отдел по борьбе с бандитизмом — под словом «бандитизм» в СССР подразумеваются всякого рода групповые вооруженные нападения, имеющие характер как уголовный, так и политический (повстанческий).
Оперативный отдел и комендатура — орган, исполняющий все постановления коллегии и осуществляющий приговоры, аресты, заключения в тюрьму, высылки ирасстрелы.
Информационный отдел (внутреннее наблюдение) — Инфо— это один из весьма ответственных и один из самых многочисленных отделов ЧК. В этот отдел поступают через уполномоченных донесения от тысяч секретных информаторов, разбросанных по всей стране и находящихся не только в каждом советском казенном учреждении, но даже иво многих семьях. По наблюдению самих чекистов, количество секретных информаторов настолько велико, что в городах приблизительно на каждых четырех граждан имеется в среднем один информатор. Не говоря о том, что все члены коммунистической партии должны быть осведомителями ЧК («каждый коммунист должен бытьчекистом», по словам Дзержинского). Это и есть тот самый отдел, который в лице своих многочисленных сотрудников разъедает, как ржавчина, права российских подневольных граждан. Для вербовки информаторов ЧК прибегает ко всевозможным средствам, чтобы заставить интересующее лицо работать для нее, угрозой, подкупом, всякого рода соблазном, прямым насилием; и вообще все средства считаются хорошими для залучения сотрудника в этот отдел. Завербованный информатор может заниматься своими делами, не думая ни о чем. Но горе ему, если он случайно услышит что-либо могущее заинтересовать ЧК и вовремя не донесет об этом. Горе ему, если он у своего отца, матери, сестры, жены, лучшего друга увидит кончик документа, газеты, письма, способных заинтересовать ЧК, и вовремя ее об этом не осведомит!.. От информатора отбирается на официальном бланке подписка в том, что если он нарушит принципы чекистской конспирации, то он без всякого суда будет расстрелян.
Агентурный отдел (наружное наблюдение) — АГО.Это тоже один из самых важных и существенных отделов. На обязанности его лежит разработка получаемых заданий от информационного отдела для установления так называемого наружного наблюдения, наблюдения на улице за указанными в заданиях лицами. Фактическое наблюдение осуществляется секретными сотрудниками, сексотами, вербуемыми из всех слоев населения. Кадры сексотов пополняются добровольцами, причем преимущество отдается комсомольцам. Эти сотрудники выдают такие же точно обязательства, как и все сотрудники ЧК. Надо отметить, что все сотрудники «секретные» как информационного, так и агентурного отделов называются на жаргоне чекистов «пассивными» сотрудниками, в противоположность более высококвалифицированным, которые называются «активными» и внешним отличительным признаком которых служит специальное удостоверение личности.
Глава 3
Начальник агентурного отдела Домбровский тоже тепло приветствовал меня и, познакомившись с моим досье, назначил меня уполномоченным секретной группой номер 1.
Что такое уполномоченный группой?
Заинтересовавшись каким-нибудь сведением, полученным от информационного отдела, начальник секретно-оперативного управления передает его для разработки начальнику агентурного отдела, последний же передает задание уполномоченному группы. Я был именно уполномоченным группы, и в моем распоряжении для разработки полученных заданий находились секретные сотрудники. Они комплектовались главным образом из комсомольских организаций, но иногда вербовались и со стороны, так, например, у меня были, кроме комсомольцев, один бывший офицер и бывший жандармский чиновник. Задания получались мной непосредственно от начальника отдела, а я уже по своему усмотрению назначал для исполнения их того или другого из секретных сотрудников. Они значились у меня по номерам и кличкам. Сам я работал под псевдонимом
Рокуа. Вообще все чекисты работают под псевдонимами. Группа моя, где я был уполномоченным, находилась довольно далеко от отдела, в другой части города, и помещалась на особой конспиративной квартире. Каждый вечер я получал там донесения от каждого из моих секретных сотрудников, составлял ежедневные сводки и представлял их начальнику отдела или его помощнику. Работа секретного сотрудника агентурного отдела заключалась в том, что, получив задание вести наблюдение за определенным лицом, он должен был, во-первых, установить наблюдаемое лицо, то есть найти его по данным ему сведениям, и, во-вторых, с момента установки его следить за ним негласно, запоминая все, что делает наблюдаемое лицо и что делается вокруг него, не выпуская его из виду. После окончания наблюдения секретный сотрудник рапортом доносит о результатах наблюдения уполномоченному группы. Велась же эта работа главным образом среди грузинских меньшевиков, активно работавших против советской власти, среди офицерства, духовенства, иностранцев, нэпманов и пр. Благодаря работе секретных сотрудников в распоряжении уполномоченных всегда имелись сведения не только об антибольшевистских деятелях, но даже о самих сотрудниках ЧК.
Агентурный отдел, помимо своих задач по наружному наблюдению и по осведомлению о деятельности каждого чекиста, выполняет и задания совершенно секретного характера, как, например, секретные аресты, допросы и расстрелы.
При этом же отделе находится секретный подвал, где и были случаи расстрелов обвиняемых. Застенки ЧК, насколько мне известно, уже не раз описывались в эмигрантской и иностранной печати. В представлении большинства это мрачные подвалы, оборудованные чуть не усовершенствованными аппаратами для пыток… Я не берусь говорить о всех ЧК России, но что касается ЧК Грузии, которую я описываю, то там действительность была одновременно и проще и ужаснее всех самых фантастических представлений. Проще потому, что, конечно, там не было никаких современных усовершенствований. Ужаснее потому, что трудно вообразить себе нечто более мрачное, потрясающее, чем секретный подвал ЧК Грузии. Как я писал уже выше, агентурный отдел помимо своих прямых задач выполнял еще задания совершенно секретного характера, и именно при нем находился секретный подвал. Однако при царящей в ЧК конспирации лишь очень ограниченный круг сотрудников ее имел к нему доступ.
Здесь кстати будет сказать несколько слов об этой конспирации. Агентурный отдел находился не в самом здании ЧК, а в особом помещении в некотором отдалении от нее. Вход к нам в отдел был строжайше воспрещен всем сотрудникам ЧК, кроме председателя, его заместителя и начальника секретно-оперативного управления. В свою очередь, сотрудники агентурного отдела должны были избегать частого посещения здания ЧК, и, таким образом, только после того, как я был повышен и назначен на должность сотрудника для поручений агентурного отдела, для меня открылась вся картина работы ЧК.
Мой переход на другую должность совпал с назначением нового начальника агентурного отдела, известного чекиста Михаила Мудрого (псевдоним).
Человек с высшим образованием, беспринципный, жестокий до мелочей, пьяница и развратник, он был как бы создан для своей роли. Я знал его еще по Баку, где он работал в особом отделе Н-й армии, отличившись в неделю «экспроприации ценностей у буржуев» тем, что присвоил себе кое-что из того, что должен был сдать. Делал это он, по его словам, потому, что не мог явиться к своей возлюбленной, не принеся ей чего-нибудь в подарок. В настоящее время он исключен из партии за целый ряд злоупотреблений в хозяйственных учреждениях, где он последнее время работал.
Мои функции сотрудника для поручений заключались в том, что я контролировал работу уполномоченных групп и был связью между агентурным отделом и коллегией ЧК, и, таким образом, я имел доступ повсюду. Расскажу о нескольких характерных случаях, которые мне пришлось наблюдать. Начну с «работы» агентурного отдела. Как-то Мудрый, начальник отдела, проходя по проспекту Руставели (главная улица в Тифлисе, бывший Головинский проспект), обратил внимание на шедшего впереди него гражданина. Мудрый насторожился, подошел к нему, всмотрелся и сейчас же узнал в нем одного из разыскиваемых ЧК меньшевиков. Ни слова не говоря, Мудрый показал ему удостоверение ЧК, предложил ему подняться с ним «наверх», то есть в ЧК. Меньшевик до такой степени растерялся, что, не сказав ни слова, пошел с ним к нам в отдел и сейчас же был посажен в секретный подвал.
Нужно сказать, что порядок препровождения арестованных в агентурный отдел резко разнится от арестов в общем порядке, производимых ЧК. В этом последнем случае привод арестанта соответствует более или менее общему приводу арестованных. Обыкновенных арестованных приводят, обыскивают, регистрируют, иногда вскользь допрашивают и сажают в камеру. Если арестованный, по мнению следователя, «важный», то его сажают в одиночную камеру, короче говоря, из арестованного не делают секрета. Имя его заносится в регистрационные книги ЧК, его выдают чекисты и т. д. Но совсем другое дело, когда приводят арестованного прямо в агентурный отдел. Здесь все облечено в строжайший секрет. Арестованного приводят непосредственно в агентурный отдел, на входных дверях которого витает надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий…»
Отсюда нормально — переход в секретный подвал, преддверие могилы. Исключение бывает лишь в том случае, когда арестованный нужен ЧК как секретный агент. В этом случае ему делается тут же предложение сотрудничества, лишь путем принятия которого он может купить себе жизнь и свободу. Арестованный отпущен, и опять-таки в этом случае процедура секретного ареста дает неисчислимые выгоды ЧК. Не осталось никаких записей, никаких следов. Лишь в делах агентурного отдела прибавился небольшой лоскуток бумаги, на котором вновь завербованный агент дал свою сакраментальную подписку. Этой подпиской он связал себя с ЧК навсегда. Эта подписка создала из российских жителей неслыханный по своей многочисленности кадр секретных информаторов ЧК. Я знаю многих, очень многих лиц, вынужденных под пытками в секретном подвале стать информаторами ЧК.
О секретных подвалах ЧК я и сам не имел представления, пока не произошел следующий случай: секретный сотрудник агентурного отдела под кличкой Пацан провинился в дисциплинарном порядке. Он был арестован начальником отдела на трое суток, и чтобы показать пример другим, Мудрый посадил его в подвал. Прошло два дня. Мудрый вспомнил об арестованном. Дал мне ключи от подвала с предложением освободить Пацана. Подвал находился под зданием агентурного отдела. Спустившись туда, я увидел Пацана, лежавшего на куче угля, умиравшего от жажды и голода. Подвал произвел сильное впечатление даже на меня. В сущности, это был маленький погреб аршина четыре в длину, три в ширину и столько же в вышину, служивший прежде для склада угля. Свет не проникал туда. Вела в него лишь одна дверь. Стены были покрыты многолетней плесенью. В нем не было ни нар, как в обыкновенных камерах, ни какого-либо стока для нечистот, причем арестованных, разумеется, не выводили. Ключи от этого подвала хранились неотъемлемо у самого начальника отдела, который этим подвалом сам и заведовал. Сюда помещали наиболее важных «преступников», о которых никто не должен был знать и которых благодаря этому было удобнее «вывести в расход».
Что касается Мудрого, то, как мы увидим, он не стеснялся заключать в это ужасное место даже женщин. В этот подвал и был посажен опознанный Мудрым меньшевик. Под влиянием подвала, а также допросов и пыток со стороны Мудрого, производимых в строго секретном порядке, он не выдержал, сознался, выдал всех своих товарищей и впоследствии сделался агентом ЧК.
Дисциплина среди секретных сотрудников была жестокая. Одному секретному агенту под кличкой Потапенко было поручено принять конспиративную комнату, находящуюся в центре города, в доме, где раньше жили состоятельные жильцы. Потапенко, явившись на квартиру, принес с собой и водку. Напившись, он пригласил к себе в гости хозяйку этой квартиры, которая думала, что жилец ее обыкновенный советский служащий. Каков же был ее ужас, когда она узнала со слов пьяного Потапенко, что он секретный агент ЧК. Насмерть перепуганная женщина бросилась в домком[4], где рассказала о пьяном дебоширящем секретном агенте ЧК. Домком позвонил по телефону в ЧК, оттуда были присланы комиссары оперативной части, и пьяного Потапенко доставили в ЧК. Протрезвившись на другой день, Потапенко понял, что он нарушил данную им подписку, и знал, какая участь ожидает его. Суд был очень короток. Мудрый взял его из камеры ЧК, привел в отдел, посадил в подвал и ночью лично расстрелял его. Лишь на другой день секретным приказом по группам было еще раз подтверждено о той ответственности, которую берет на себя каждый секретный агент, давая подписку.
Так был убит человек, без суда и следствия, по единоличному распоряжению какого-то Мудрого!..
Опишу еще один из «подвигов» того же Мудрого.
Как-то вечером, зайдя в отдел для составления очередной сводки, я вошел в кабинет Мудрого с докладом и увидел следующую картину: Мудрый сидел за своим письменным столом и что-то писал, а напротив него на стуле сидела, впившись в него взглядом, какая-то женщина. Я подошел и присмотрелся к ней. Это была старая женщина. С непокрытой головы ее спадали седые волосы на ее худые плечи. Все лицо ее, руки и какие-то лохмотья вместо платья были покрыты черной грязью. Я понял, что она побывала в нашем подвале…
— Итак, скажите, вы не знаете, где ваш сын? — спросил Мудрый.
— Нет! — с трудом, еле слышным старческим голосом, но с необыкновенной твердостью и внутренней силой ответила она.
— Мы знаем, что он был у вас вчера, в пятницу, в девять часов вечера, — резко возразил ей Мудрый.
— Неправда, он у меня не был, — так же упорно отвечала старушка.
— Вы знаете, что ожидает вас, если вы будете скрывать вашего сына? — грозно, стукнув кулаком о стол, спросил ее Мудрый. — Мы ему плохого ничего не собираемся сделать. Он нужен нам для справки, по одному маленькому делу.
— Я ничего не знаю! — крикнула старушка.
И в течение получаса, пока длился этот допрос, я находился в кабинете Мудрого. Вся эта обстановка, вид несчастной старой женщины, допрос и издевательства повлияли на меня так, что я не выдержал и поторопился уйти домой. Возмутился я и ушел не потому, что этим хотел показать свой протест против всей большевистской чекистской системы. Нет, ушел я потому, что не мог быть свидетелем этого допросаматери, которуюзаставляли выдать своего сына…Какая мать способна на это?!..
Дома у себя я долго не мог успокоиться: по какой-то невольной ассоциации мне все время вспоминалась моя собственная мать, и мысли и представления одно другого тяжелее преследовали меня, как тяжелый кошмар наяву. Невольно я задавал себе вопрос: а что было бы, если бы в лице этой старушки, которую на моих глазах так нравственно пытал какой-то Мудрый, была бы моя мать?.. Порою, лежа уже в постели, я доходил до галлюцинаций, в которых доминирующую роль играл образ моей матери… Я видел ее скорбную и бледную, и на добром лице ее было написано выражение глубокого страдания и точно стыда за меня… Это выражение стыда за меня грызло и мучило меня несказанно. По временам я читал на воображаемом лице моей матери горькие упреки. Мне чудилось, что я слышу, как она говорит мне: «Милый мой мальчик, что ты делаешь?..»
И всю ночь я был во власти этих кошмарных видений. И какая-то неосознанная и неоформленная мысль о какой-то роковой ошибке, которую я сделал, неясно еще, но уже витала в моем сознании.
Наутро я бросился первым делом в ЧК, и первым моим вопросом дежурному было: что стало со вчерашней старушкой? Равнодушно, привычно служебным тоном он сообщил мне:
— Он допрашивал ее целую ночь, ничего не добился. Тогда он лично свел ее в подвал и там пристрелил…
Мать не выдала своего сына!..
Глава 4
На новой должности сотрудника для поручений при агентурном отделе мне приходилось выполнять функции «активного чекиста». И, таким образом, в качестве такового мне приходилось присутствовать при приведении приговоров в исполнение, то есть присутствовать при расстрелах. Правда, это было всего два раза, но эти экзекуции врезались в мою память неизгладимо…
Я помню одну ночь… Обычно, если коллегия приговаривает обвиняемого к расстрелу, дело его прекращается и сдается в архив. Приговоренного или приговоренных передают в распоряжение оперативной части ЧК, то есть комендатуры, которая, таким образом, и является фактически исполнителем приговоров ЧК или ГПУ. Обыкновенно приговоренных собирают в одну группу и в глухую ночь их вывозят в определенное место за город (в Тифлисе это место называется Ваке). Я опишу подробно, как это происходило в упомянутую ночь, чтобы читатель имел возможно ясное представление о том, как вообще это производится.
В самую глухую полночь в каменном коридоре подвальной тюрьмы, бряцая оружием и шумно разговаривая, появился комендант ЧК Шульман с нарядом красноармейцев. Они стали выводить из одной за другой камер обреченных. Жалкие, полуодетые несчастные автоматически исполняли распоряжение палачей. Точно нарочно взвинчивая себя, Шульман и его свора подчеркнуто грубо обращались с осужденными. Мне, присутствовавшему при этом, казалось, что целая вечность прошла, пока из камер были выведены все 118 человек, подлежавших расстрелу в эту ночь… Что же должны были чувствовать они… Всех их вывели во внутренний двор ЧК, где их ждали несколько грузовиков. Палачи привычно и быстро сдирали остатки одежды жертв, связывали им руки и вбрасывали в грузовики. В каждый грузовик садилось несколько вооруженных красноармейцев. Наполненные грузовики тронулись в путь. Жуткое впечатление производила эта посадка, происходящая в полном молчании обреченных…
Наконец вся процессия двинулась к месту казни. Прибыли. Осужденных заставили спрыгивать с грузовиков. Некоторые были не в силах. Их грубо стаскивали и вбрасывали в толпу других. Я присутствовал при всей этой сцене и заключении ее в качестве «ассистента» по назначению коллегии. Обыкновенно приговоры приводит в исполнение комендант или его помощник, который перед расстрелом либо выпивает большую порцию водки, либо нюхает кокаин и, уезжая для операции, теряет человеческий облик, — так было и на этот раз.
На месте казни, уже оцепленном войсками особого назначения, заранее были заготовлены огромные ямы. Приговоренных выстроили по группам шеренгами, окруженными чекистами. Шульман и его помощник Нагапетов с наганами в руках пошли вдоль шеренги, стреляя в лоб приговоренных, время от времени останавливаясь, чтобы набить патронами револьверы… Не все, конечно, покорно подставляли голову под выстрелы. Многие бились, пытались отступить, плакали, кричали, просили пощады… Иногда пуля коменданта только ранила их… Раненого сейчас же добивали другие чекисты и добровольцы из красноармейцев выстрелами и штыками винтовок, а тем временем убитых сбрасывали в яму…
Второй, и последний случай, когда я присутствовал при расстрелах, была казнь восьми человек политических арестованных. Экзекуцией руководил второй комендант ЧК Грузии Нагапетов.
Однажды меня вызывают по телефону, оказалось, что со мной говорит Нагапетов.
— Алло, это ты, товарищ Думбадзе? — спросил он и, получив мой ответ, сказал мне: — Сегодня ты состоишь в наряде на «ночную операцию»… Приготовься!
Как ни тяжело было мне смотреть на убийства людей, отказаться я не имел права, и в час ночи я был уже в комендатуре, ожидая выезда из здания ЧК грузовика с приговоренными.
Я сел рядом с шофером, рядом со мной сидел комендант Нагапетов, а на бортах грузовика устроились несколько человек красноармейцев. Мы выехали из ворот ЧК около двух часов ночи и через час уже были в Баке. Та же картина, те же вырытые заранее ямы, цепь красноармейцев, окружившая место расстрела.
Нагапетов выстроил всех восемь человек в один ряд, отошел на несколько шагов и для большей верности стал стрелять в них из винтовки. Ему понадобилось три раза заряжать винтовку, чтобы расстрелять этих восемь человек. И все убитые были сброшены красноармейцами в яму, которую при мне же забросали, сровняли с землей, и я расписался в протоколе расстрела…
Вся эта ужасная сцена человеческой бойни с окриками палачей, стонами и рыданиями осужденных продолжалась не менее трех часов. Я понял, почему исполнители наркотизировали себя кокаином и алкоголем. Нервы нормального человека не могли бы выдержать!
После расстрела комендант возвращается в ЧК и докладывает о «результатах операции» начальнику секретно-оперативного управления. Через некоторое время о произведенных расстрелах опубликовывают в прессе, однако надо заметить, что делается это в том случае, если на то имеются какие-либо политические причины. Обычно же ЧК не считает нужным публиковать о своем «правосудии». Так, за время моей службы в ЧК не менее чем о восьмидесяти процентах казненных по приговору ЧК до всеобщего сведения не было доведено.
Но надо заметить, что теперь расстрелы производятся немного иначе и, может быть, потому многие думают, что красный террор окончен.
Сейчас, правда, уже нет такого дикого произвола и сцен варварского избиения беззащитных людей. «Высшая мера наказания» применяется теперь не менее, чем раньше, и принципы физического уничтожения политического преступника в СССР приняли тот внешний облик «законности», о котором усиленно трубят большевики. Теперь расстрел производится взводом красноармейцев, и этому массовому убийству придается внешний вид законности благодаря присутствию представителя прокуратуры. Эта «эволюция» объясняется, конечно, не тем, что большевики стали культурнее. Гражданская война кончилась, людей нет… Шульманы частью посходили с ума, частью истреблены, а к тому же кто знает, не были бы они сами теперь опасны для власти…
На меня самого, на решение мое порвать с большевиками имели решающее влияние именно эти сцены. Я вспоминаю одну из них, которая была основным толчком моего отхода от большевиков, почему и посвящу ей несколько строк.
В 1924 году, в августе месяце, во время восстания грузинского народа против большевистской оккупации казни грузинских повстанцев производились массами… Тогда я не работал уже в ЧК, но как член коммунистической партии был мобилизован и нес гарнизонную службу, так как город Тифлис во время восстания был объявлен на военном положении и все члены партии обязаны были быть в прикрепленных комитетом партии воинских частях.
Однажды в пять часов утра я проходил по Ольгинской улице, где обычно провозили приговоренных на расстрел…
Их вывозили в место Ваке за Грузинским университетом, где находилось специальное огороженное так называемое лобное место. Навстречу мне шли знакомые по ЧК пять грузовиков. Впереди на маленьком «форде» ехал помощник коменданта ЧК Грузии товарищ Анцышкин, за ним двигались грузовики, наполненные до самых краев полуголыми, в одном белье, связанными между собой людьми… На бортах автомобиля, придавливая спины живых людей, сидели, свесив ноги, красноармейцы с винтовками в руках…
Везли на убой лучших представителей грузинского народа. Картина была потрясающая… Гул моторов, гробовое молчание приговоренных, на улице могильная тишина… Но что всего больше потрясло меня и нанесло самый сокрушительный удар моей вере в большевиков — это было то, что позади этой мрачной процессии, как бы торжествуя победу и санкционируя убийство этих патриотов, в большинстве случаев социалистов-демократов, — ехал маленький шикарный автомобиль, в котором сидели не судьи, приговорившие людей к казни, не представители власти, прокуратуры… Нет! Это были членыЦентрального комитета коммунистической партииМихаил Кахиани, Иван Масхулия вместе с председателем ГПУ Лаврентием Берией. Этим они вскрыли мне всю сущность этой «рабоче-крестьянской власти».
Я так подробно описываю эти ужасные сцены потому, что никогда не будет излишним еще и еще раз показать миру ту настоящую силу, на которой до сих пор только держится советская власть. Сила эта была и есть только беспощадный, кровавый террор…
Глава 5
Выше я как бы вскользь, но как о действующем лице в тех трагических эпизодах из деятельности ЧК приводил имя коменданта Шульмана. Личность эта, несмотря на свою индивидуально полную ничтожность, была страшилищем не только для простых смертных, но даже и для нас, сотрудников ЧК. «Комендант смерти» — так прозвали его в ЧК, и ужасное прозвище это стало глубоко омерзительным, непопулярным среди населения. Во всяком случае, личность эта такова, что читатель, надеюсь, не посетует на меня за то, что я более подробно остановлюсь на ней. Я выскажу свой личный взгляд на трагическую фигуру «коменданта смерти». Если читатель думает, что Шульман представляет собой какого-то кровавого вампира, то, по моим наблюдениям, такое представление не соответствует истине. Ибо, в сущности, Шульман был только исполнительным чиновником. В частной жизни, как я знаю, Шульман был примерным семьянином. Но для того, чтобы создать в себе, как согласится, конечно, читатель, необходимое поистине кровожадное настроение «коменданта смерти», он наркотизировал себя всеми возможными средствами. И доведя ими себя до полного умопомрачения, он с прямолинейной жестокостью собственноручно убивал обреченных. Я видел его в эти моменты при исполнении его обязанностей, и мне сейчас жутко становится при воспоминании о выражении его лица.
Низкого роста, полный, с толстыми короткими ногами и особенно толстыми икрами, на которые сапоги с трудом налезали, — таков был на первый взгляд Шульман. Всегда в папахе. Красное одутловатое лицо с длинными спускающимися вниз рыжими усами и с такими же рыжими свисающими бровями, Шульман обладал голубыми глазами. В обыкновенное время, например у себя в комендатуре, так сказать, в спокойном состоянии, глаза его поражали всякого своей безжизненностью и бесцветностью. Но во время экзекуций эти глаза становились ужасными, и ужасными тем, что в них не было ничего человеческого. Это были глаза бешеного зверя, для которого не было никаких преград, ни моральных, ни физических.
Таким образом, за короткое время моего пребывания в составе ЧК Шульман собственноручно расстрелял не менее трехсот человек.
Кроме Шульмана, расстрелами занимались и его помощники Анцышкин и Нагапетов.
Не могу не привести описания одного характерного случая как для Шульмана, так и вообще для всей деятельности ЧК.
В Грузии все знают дело офицера Андроникашвили. Существуют две версии изображения этого дела. По первой Андроникашвили выступил перед ЧК в качестве добровольного доносчика на своих товарищей офицеров, которые состояли в организации, составившей политический заговор. По его доносу до двухсот человек офицеров было арестовано. Но расследование довольно быстро выяснило это дело, причем было установлено совершенно точно, что донос Андроникашвили был облыжный, и все арестованные офицеры были освобождены. Коллегия ЧК, рассматривая поступок Андроникашвили, признала его злостной провокацией и приговорила его к расстрелу.
По другой же версии никаких облыжных доносов Андроникашвили не делал, но он был искренний патриот-антибольшевик, почему и был приговорен к расстрелу.
Какая из этих версий справедлива, судить не буду, но факт тот, что Андроникашвили был казнен. Однако обстоятельства, сопровождавшие его расстрел, выходили из ряда вон. Шульман ночью вошел в камеру Андроникашвили и приказал красноармейцам взять его, чтобы вывезти в числе других приговоренных в Баке. При виде Шульмана Андроникашвили, решивший, по-видимому, дорого продать свою жизнь, с нечеловеческой силой вырвал доску из нары и одним концом ее, на котором были гвозди, ударил Шульмана по голове, нанеся ему тяжелую рану. Разъярившийся сразу Шульман выхватил револьвер и тут же в камере пристрелил Андроникашвили. Поехав затем в Баке, он расстрелял остальных приговоренных и только утром, вернувшись в ЧК, пошел для перевязки в околоток.
Но чтобы закончить вопрос о «коменданте смерти», сообщу в заключение, что в конце концов еще на моей памяти Шульман, согласно установившемуся обычаю, был в числе других сотрудников демобилизован для обновления личного состава ЧК и назначен комитетом партии, как бы это ни показалось невероятным, в банк в качестве рядового служащего!!
Считаю нелишним познакомить читателя более или менее обстоятельно с одним деятелем ЧК Атарбековым, одним из крупных работников ее. Атарбеков, полномочный представитель Всероссийской чрезвычайной комиссии Закавказья, погиб при катастрофе аэроплана «юнкере» в Тифлисе одновременно с председателем Закавказского ГПУ Могилевским и членом Центрального комитета российской коммунистической партии (большевиков) Мясниковым. Атарбеков был тот самый знаменитый «рыжий чекист», который прославился своими массовыми беспощадными расстрелами в период Гражданской войны.
Я знал его еще по Северному Кавказу (Армавир). Во время отступления Красной армии из Армавира он расстрелялнесколько тысяч заложников, находившихся в этот момент в подвалах армавирской ЧК и особого отдела армии. В том же Армавире произошел и другой случай: на вокзале был задержан эшелон с ехавшими в нем грузинами-врачами, офицерами, сестрами милосердия и прочими, направлявшимися к себе на родину. Несмотря на то что все ехавшие имели пропуска советского правительства в Москве, Атарбеков приказал их вывести на площадь перед вокзалом и из пулеметов расстрелять поголовно всех. Наконец, незадолго до своей гибели, уже в Тифлисе, он, будучи народным комиссаром почт и телеграфа Закавказской республики, расстрелял своего личного секретаря собственноручно у себя в кабинете. Несмотря на неоднократные предупреждения Центральным комитетом партии, он не хотел угомониться. Это был человек совершенно исключительной, холодной жестокости, выделяясь даже среди чекистов.
Моя встреча с ним произошла при следующих обстоятельствах. Мне было поручено расследование дела командира одного из авиационных отрядов Н-й армии, товарища Жука (псевдоним), обвиняемого в том, что он, получив квартиру в городе по ордеру жилищного отдела, случайно в вещах, покинутых бежавшими, нашел бриллианты и таковые присвоил себе. ЧК узнала об этом из донесения владельца этой квартиры, эмигранта, вернувшегося из-за границы.
Сейчас же завели дело против Жука не потому, конечно, что ЧК хотела вернуть бриллианты возвращенцу (он их, само собой, так и не получил), а потому, что он не передал своей находки властям. После целого ряда наблюдений за Жуком выяснилось, что он вдруг начал вести широкий, не соответствующий средствам образ жизни, кутил в ресторанах и, как было доказано потом, преподнес несколько бриллиантов известной оперной артистке Старостиной, знаменитой тем, что в 1920 году в Баку она выдала большевикам своего мужа (?!), известного банкира М., который и был расстрелян. После того, как были установлены факты хищения Жуком этих бриллиантов, он был арестован и дело его, как я выше сказал, было передано мне для расследования. Атарбеков почему-то лично заинтересовался этим делом, приказал мне собрать все материалы и закончить следствие к определенному дню. Распоряжение это он лично передал мне, и вот тут-то я имел случай непосредственно столкнуться с ним.
Эта единственная встреча оставила во мне самые тяжелые воспоминания. Вот как она произошла: однажды по внутреннему телефону ЧК меня вызывает секретарь коллегии и передает, что товарищ Атарбеков приказал мне лично явиться к нему, и притом на квартиру. Я был поражен и, признаться, даже встревожен этим «приглашением», ибо по занимаемой должности в ЧК я не был прямо подчинен Атарбекову и никаких непосредственных личных сношений у меня с ним не было.
Я пошел. Он жил на той же улице, где помещалась ЧК (бывшая улица Петра Великого, теперь переименованная в улицу Троцкого). Мне открыл дверь один из его телохранителей-маузеристов — так называют на Кавказе головорезов-телохранителей, хорошо владеющих маузером и готовых по первому знаку расправиться с кем угодно. Это был огромный армянин свирепого вида. Я назвал ему свою фамилию. Мрачно, исподлобья всмотревшись в меня, ни слова не произнеся, он повел меня за собой и через анфиладу комнат привел в кабинет Атарбекова. По пути мне попались какие-то женщины и дети. Замечу кстати, что свирепый чекист Атарбеков был примерным семьянином, — он очень любил свою жену и детей, и кроме того с ним вместе жило очень много его родственников.
Кабинет Атарбекова представлял собой маленькую комнату, сплошь затянутую коврами. В ней не было ничего, кроме маленького письменного столика, на котором стояла лампочка с низким красным абажуром. Атарбеков в кожаной тужурке (обычная форма чекистов) сидел у письменного столика.
Угрюмо, жестом, не просил, а приказал он мне сесть и рассказать подробно о деле Жука. Здесь будет уместным сказать, что Жук был моим приятелем: мы сошлись с ним в армии. По-видимому, Атарбеков знал это, потому что, выразительно и мрачно глядя мне в глаза и потребовав доклада об этом деле, он угрожающе постучал костяшкой пальца по столу и многозначительно предупредил меня:
— Смотри, душа моя, ты меня знаешь?!..
Да, действительно, я его знал. Я понял, что все мои старания помочь чем-нибудь Жуку ни к чему бы не привели, — Жука бы я не спас. Я познакомил Атарбекова с материалами, стараясь быть объективным.
Согласно приказу Атарбекова я быстро закончил следствие и передал дело в управление Атарбекова. И вскоре после этого Жук был, разумеется, расстрелян. Причиной этого, я думаю, было не хищение бриллиантов, а другое дело, по-видимому политическое, ибо уголовными делами сам Атарбеков не интересовался бы так, как он заинтересовался этим делом.
Глава 6
Выше я описал несколько фактов из деятельности ЧК Грузии. Но помимо чисто местных дел и местных заданий, наши учреждения выполняли задания центра, то есть Москвы. Чтобы дать читателю понятие о характере таких «поручений», я приведу описание нескольких таких московских заданий.
Всероссийской чрезвычайной комиссии, находящейся в Москве и являющейся центром всех учреждений ЧК в СССР, понадобились или просто показались ей почему-то интересными какие-то документы у американцев, входящих в личный состав «Ара». Американцы эти ехали поездом из Москвы через Закавказье в Батум и оттуда за границу. В Москве решено было их похитить. Необходимо было сделать тонко. И вот для замаскирования этого дела, чтобы отклонить всякие подозрения, по предписанию из Москвы надо было инсценировать бандитское нападение на этот поезд, во время которого и овладеть документами, которые находились в числе прочего имущества американцев. В поезд, в котором ехали американцы, на станции Тифлис села одна группа чекистов под командой Черного (псевдоним), другая же часть их выехала заранее под командой другого чекиста, матроса Владимира Морозова. Намеченное «нападение» было произведено перед станцией Михайлово в горах. Злоумышленники остановили поезд и ворвались в него с Морозовым во главе. Начался повальный грабеж, причем, разумеется, были изъяты и нужные Москве документы, находящиеся в маленьком чемоданчике у одного американца в купе вагона. Забрав их, Морозов передал документы чекисту Черному, и последний с ними скрылся. Поезд пошел дальше. По прибытии его на станцию Михайлово, по заявлению пассажиров о нападении, станционная ЧК[5]арестовала в поезде «бандитов», нарочно оставшихся.
Часть вещей была у них отобрана и тут же с извинениями возвращена по принадлежности. Арестованных «бандитов» били, по-настоящему били в присутствии пассажиров и после составления протокола под сильным конвоем отправили всех их в Тифлис. Там они сидели некоторое время в тюрьме, потом, по сообщению казенной печати, их расстреляли. В действительности же, хорошо вознаградив их, коллегия ЧК скрыла их, разослав по разным городам советской России. Из этого видно, какими предосторожностями окружает себя ЧК или ГПУ и до чего доводятся необходимые ей инсценировки.
К числу таких кричащих эпизодов следует отнести и убийство Джемаль-паши.
В 1922 году Джемаль-паша, турецкий министр, ехал со своими двумя адъютантами из Афганистана в Турцию. Проездом он остановился в Тифлисе, где однажды, проходя вечером по улице Петра Великого, был убит вместе с двумя сопровождающими его адъютантами. Случайно при этом была ранена проходившая мимо женщина и, кажется, один пожарный, бросившийся на выстрелы. Конечно, стрелявший пойман не был…
Убийство это произвело потрясающее впечатление на тифлисских жителей. На другой же день Чрезвычайная комиссия начала арестовывать всех дашнаков (армянская партия националистов Дашнакцютюн). Был пущен слух, что дашнаки убили турецкого министра, мстя ему за резню армян во время Европейской войны. Этим слухам верили, ибо допускали месть армян, а жители восхищались убийцей, который, убив троих турок на улице почти у дверей ЧК, легко сумел скрыться! Спустя некоторое время ЧК освободила часть арестованных дашнаков, а остальных, придравшись к случаю, сослала в Соловки. Такая легкая мера наказания показалась нам странной и подозрительной. Интересоваться и разузнавать о подробностях этого убийства, которое формально нас не касалось, было небезопасно даже для сотрудников ЧК, и постепенно мы стали забывать об этом, и только уже совсем недавно я узнал истинную суть этого таинственного дела.
В Тифлисе, перед отъездом за границу, я виделся с товарищем Эджибия, видным чекистом, председателем Батумского ГПУ.
Разговаривая с ним и вспоминая прошлую нашу работу, мы коснулись и этого таинственного дела. И вот Эджибия сообщил мне, что Джемаль-паша был убит известным бандитом Лобадзе, стрелявшим по поручению ЧК Грузии, по предписанию из Москвы, произведшей этот террористический акт. Зачем нужно было убивать турецкого министра, я не знаю, так же точно, как не знает этого и Эджибия. Но в чекистских сферах были две версии об этом.
Одни говорили, что Джемаль-паша был противником советской власти и что поэтому его убили. Другие же утверждали, что он был противником союза советской России с Турцией и был неугоден самому Кемаль-паше и что убит он по настоянию самих турок-кемалистов. Но самое замечательное в этой истории то, что убийца его, бандит Лобадзе, который «удачно» провел операцию, как это выяснилось впоследствии, был расстрелян в здании ЧК. А это произошло так: Лобадзе, которого я знал лично, был старый политический безразличный бандит, знаменитый своими террористическими актами еще при царском режиме.
При советской власти он попал в фавор, жил на свободе и считался у большевиков «заслуженным каторжником». ЧК очень часто обращалась к его услугам. Он был храбр, смел, замечательный стрелок, что видно из того, как метко он застрелил троих людей, убив их из маузера.
Лобадзе было обещано, кроме денежного вознаграждения, еще и устройство его на командную должность. Когда же он выполнил возложенное на него поручение убить Джемаль-пашу, ему хорошо было заплачено, но должности он не получил. Он неоднократно напоминал председателю ГПУ о себе и как-то имел неосторожность намекнуть на то, что «кое-что знает». Однажды его пригласили прийти в ЧК на заседание коллегии, где будто бы будет разрешаться вопрос о его назначении на ответственную работу. Лобадзе, старый террорист, подпольщик, гордившийся своим прошлым, знающий людей, не доверявший, как он сам выражался, даже своей правой руке, на этот раз поверил и пошел на заседание коллегии… больше он оттуда не выходил. Его расстреляли, когда он входил в здание ЧК Грузии. Кто бы он ни был по своему прошлому, он оказал ЧК много услуг, часто исполняя ее кровавые поручения. Правда, он, не занимая никакой определенной должности в ЧК, был со всеми чекистами в лучших отношениях. Так, он был дружен с самим председателем ЧК. И все-таки, когда он перестал быть им нужен и стал опасным свидетелем, его расстреляли.
Глава 7
Я думаю, читателю будет небезынтересным познакомиться с тем, как ликвидируются в советской России разного рода антибольшевистские организации. Опишу один такой случай, который произошел на моей памяти. Я сознательно, по понятным причинам, не буду называть пункт, в котором имел место этот случай.
В одном из городов, расположенных по Кавказскому побережью Черного моря, создалась, конечно, нелегальная боевая офицерская организация, во главе которой стоял один полковник, которого я назову лишь одной буквой N. У него была дочь замужем за одним офицером. Это была энергичная, властная женщина, типа «мать-командирша», обладавшая колоссальной памятью и хорошо ориентировавшаяся в наименованиях воинских частей и их командного состава. Местная ЧК по донесениям информаторов узнала о возникновении этой организации, но, имея в виду накрыть всю организацию целиком, предварительно установила негласное наблюдение за членами ее. Таким образом, наблюдение было установлено чисто наружное, о характере какового выше я уже говорил. Но для того, чтобы выяснить всю сущность этой организации, необходимо было установить как ее внутренние, так равно и заграничные связи. Конечно, одно только наружное наблюдение не могло осуществить всецело задач ЧК, и для этого необходимо было завербовать кого-либо из членов этой организации, но это им не удалось, и тогда начальник местного отдела ЧК, некто Борых, решил ввести в эту организацию своего человека. За неимением в своем распоряжении ни одного бывшего офицера, который мог бы сыграть роль такого шпиона-провокатора, Борых потребовал из штаба армии (из особого отдела его), находившегося в другом городе, специального агента, подходящего для этой роли. Таковым оказался некто Владимир Больцман, которому и была поставлена эта задача. Но Больцман совершенно не имел представления о нравах, обычаях офицерской среды, и поэтому он должен был в течение одного месяца готовиться к роли кадрового офицера, прежде чем приступить к делу. Ему необходимо было приобрести с внешней стороны офицерский лоск и манеры, чтобы как-нибудь не выдать своего «пролетарского происхождения».
Больцман повел игру тонко. Прибыв в данное место и явившись к Борыху, он нелегально остановился на весьма законспирированной квартире местного ЧК. Там он совместно с Борыхом разработал весьма сложный план дальнейших действий. Затем началась наука приспособления себя под офицерскую среду. Он получил от Борыха целую серию разных подложных документов, устанавливавших, что он в качестве офицера одного из гвардейских полков командирован с тайной миссией в центр организации, возглавляемой полковником Н., для установления деловой связи этой же организации с таковыми же за границей.
И вот «отшлифованный» Больцман явился к полковнику Н. и, предъявив ему упомянутые выше удостоверения, сообщил ему о своей тайной миссии и просил укрыть его от агентов ЧК, так как он-де нелегальный… Нечего и говорить, что сфабрикованные в канцелярии ЧК документы были подделаны артистически и что поэтому полковник Н. принял его, что называется, с распростертыми объятиями, и Больцман был проведен в самый центр организации и сразу начал входить в курс самых конспиративных дел, связей, сношений и задач… И он начал «работать». Уже через несколько дней он в секретном донесении информировал Борыха о всех сделанных им шагах и достигнутых успехах. Само собой, что Больцман находился все время в самых оживленных сношениях с Борыхом, от которого и получал все необходимые инструкции и задания. Так продолжалось в течение некоторого времени. Но разочарование!.. По данному сигналу были произведены аресты и вместо ожидаемого «полного улова» в сетях оказалось только два члена комитета, все остальные успели скрыться…
В чем же дело?
Нечего и говорить, что разъяренный неудачей Борых сместил Больцмана, который был переведен в армию в качестве рядового красноармейца за «неумелое проведение боевой задачи».
В чем же провинился Больцман?
Оказывается, что вскрыла истинную роль Больцмана дочь полковника Н., жена одного из членов организации, о которой я выше упомянул. Принятый полковником Н. с распростертыми объятиями Больцман нашел у него приют, где его и «спрятали». Полковник Н. познакомил Больцмана, как представителя офицерской организации, командированного для установления связей с заграницей, почти со всеми членами нелегальной организации. И вот, как-то вечером, когда Больцман пил за семейным столом чай, к полковнику пришла его замужняя дочь. Во время разговора, расспрашивая Больцмана о его прошлом, она спросила его между прочим, где находится офицер X., бывший адъютант командира полка в то время, когда, согласно удостоверению, Больцман находился в его составе. Вот на этом-то, таком невинном и простом вопросе, шпион и был пойман. Он не знал фамилии адъютанта и смущенно сослался на то, что забыл ее. Нечего и говорить, что такая «забывчивость» показалась офицерам, а также и жене офицера подозрительной. Раз полное доверие было поколеблено, за Больцманом стали следить. Вскоре все заметили, что он путает и врет, и отсюда нетрудно было установить, что это подосланный провокатор… Не подавая виду Гольцману, что он «расшифрован», полковник, в тот же вечер предупредив своих друзей, распустил организацию. Члены ее успели скрыться, и, таким образом, чекисты, явившиеся арестовать всю организацию, нашли только двух человек.
Не могу не познакомить читателя с неким Фронькой Поляевым, но предварительно извиняюсь в том, что в описании его я коснусь несколько интимных сторон, которые, надеюсь, будут небезынтересными для читателя, интересующегося психологией нашего преступного мира. Не моему слабому перу подвергнуть этот случай психологическому анализу — для этого нужен талант и перо Достоевского… Итак, вот этот случай.
Я был в то время уполномоченным агентурного отдела. Как-то распоряжением партийного комитета, через все полагающиеся в данном случае чекистские инстанции, ко мне был командирован для службы, с назначением по моему усмотрению, коммунист Фронька Поляев. Это был типичный русский мужичок. Совершенно неграмотный, но смышленый и не чуждый известных черт интеллигентности, которые мы часто встречаем среди русского народа. Я его назначил агентом для посылок, то есть вестовым. Расторопный, умный и ловкий, он в совершенстве исполнял свои обязанности, легко ориентируясь в подчас довольно сложных поручениях, требовавших часто высокой сообразительности, особенно принимая во внимание его полную безграмотность. Меня особенно трогало, лично, душевно трогало то, что Фронька быстро стал питать ко мне какие-то нежные чувства. Это было видно по его преданным глазам, по всей той манере и готовности, с которой он исполнял всякие мои поручения. Но и помимо этих поручений, он частенько выказывал в отношении меня какую-то заботливость, доходящую порой до баловства. Нередко он приносил мне какие-то лакомства, например халву…
— Василия, — радостно, с улыбкой старой благодушной няни говорил он мне, — ну вот поедим сегодня лухуму-то.
Он выкладывал на стол этот «лухум» или другое лакомство, и мы с ним дружески усаживались за чаепитие.
Как-то раз я вместе с Фронькой отправился в народные бани. И вот, когда Фронька скинул с себя белье, я с удивлением заметил, что все тело его было татуировано.
— Фронька, кто тебя так изукрасил? — спросил я его. — Ты не был ли моряком?
— А как же… я с «Авроры», — ответил он мне не сморгнув.
Между тем в городе частенько происходили случаи то мелких, то крупных грабежей и воровства. Как-то была ограблена лютеранская церковь, причем случай этот сопровождался загадочным убийством какого-то мальчика. Убийство было совершено зверски. На теле убитого мальчика было обнаружено одиннадцать ножевых ран…
Однажды я работал у себя в кабинете, когда ко мне явился уполномоченный отдела по борьбе с бандитизмом ЧК Грузии и предъявил мне ордер на арест Фроньки Поляева. Конечно, я был глубоко изумлен, и на мой вопрос, в чем дело, уполномоченный сообщил мне, что Фронька настоящий бандит, что по расследованию он оказался бывшим каторжником, приговоренным к каторге за многие убийства еще в царские времена. И что все грабежи, происходящие в городе, а также убийство мальчика… дело рук Фроньки Поляева…
Через несколько дней Фронька был расстрелян как бандит.
Разведывательному управлению штаба армии (Разведупр), находящемуся в городе Баку, необходимо было переслать секретные инструкции своему резиденту в Персии, где он жил и работал нелегально в районе оккупации английскими войсками. За неимением легального способа переслать документы (Персия еще не признала Советы) Разведупр перебросил через фронт своего секретного агента. Выбор пал на шестнадцатилетнего секретного сотрудника Разведупра под кличкой Максим. Последний был уроженец города Баку, великолепно знал нравы и быт Персии и в совершенстве владел персидским языком.
Когда я вспоминаю этого Максима, которого я хорошо знал, мне невольно приходит на память воспетый Виктором Гюго знаменитый Гаврош — Максим был один из тех бакинских гимназистов, который в двенадцатилетнем возрасте бежал из родного дома на фронт Европейской войны, где совершил лично много подвигов, за что имел знаки отличия. Конечно, после революции 1918 года он сделался ярым большевиком. Едва ли это было вполне сознательно — ведь это был, в сущности, ребенок…
Максим, будучи вызван начальником Разведупра армии Берковичем, был инструктирован им. Затем Беркович раздел его донага и воткнул ему в задний проход капсулу с вложенной в нее написанной на шелковой бумаге инструкцией тайному резиденту Разведупра в Персии, оккупированной в то время англичанами.
В ту же ночь Максим был переброшен через фронт в Персию. Он блестяще исполнил поручение, после чего довольно длинным путем, все время скрываясь и преодолевая всевозможные препятствия, возвратился в Баку, где я его и встретил. Он мне рассказал о перипетиях своего путешествия через оккупационную зону англичан. Когда Максим очутился в расположении английских войск, он был задержан английской полевой жандармерией, которая после тщательного обыска и тщательного допроса его отпустила, не найдя у него ничего подозрительного. По прибытии в Тегеран он был задержан персидской стражей. Новые допросы, новые обыски…
Блондин, с привлекательным, чисто русским лицом, мальчик вызвал в персидской страже определенное влечение… Но его спасло великолепное знание персидского языка и местных нравов.
Он уверил стражников, что он сирота из Энзели и пробирается в Тегеран, чтобы устроиться на работу… Ему удалось освободиться от стражников и, явившись к Берковичу, он подал полный рапорт о выполненном им поручении.
Глава 8
В своем месте я с необходимой подробностью обрисовал функции «активного чекиста». Считаю необходимым выяснить ту функцию чекистских организаций и учреждений, которая называется в этом учреждении «мобилизацией». Это действительно мобилизация, но с некоторыми своеобразными, специфическими подробностями, — мобилизация, как подготовка к выполнению ряда оперативных заданий или же, как выражаются на чекистском жаргоне, «операций». Обыкновенно она происходит внезапно. По распоряжению коллегии ЧК все сотрудники ее, находящиеся в помещении ЧК, из него не выпускаются и ждут дальнейших распоряжений. В большинстве случаев мобилизации имеют место в особо острые политические моменты, когда ожидаются какие-нибудь массовые противоправительственные выступления или когда ощущается в населении напряженное состояние. Для усиления наличных сил чекистов обычно привлекаются все сотрудники ЧК, независимо от принадлежности их к тому или другому отделу и их должностей. Обыкновенно это задержание на месте всех сотрудников происходит за несколько часов до начала той операции, для которой мобилизуются силы, и, таким образом, обычно лишь в полночь к каждому сотруднику прикомандировывается пять-шесть красноармейцев, выдаются ордера на обыски и аресты. По характеру своему аресты, вообще говоря, распадаются на три группы:
1) аресты единоличные — то есть когда сотрудник ЧК на основании своего личного мандата арестовывает кого-либо, в большинстве случаев на улице, кто покажется ему подозрительным, или кого он разыскивает;
2) аресты, которые производятся в самом помещении ЧК, по отношению к лицам, вызванным повесткой для дачи показаний в качестве свидетелей, и, наконец,
3) аресты повальные, которые происходят во время каких-либо возникших волнений или предполагаемых и для которых происходит описываемая мной мобилизация.
О секретных же арестах я писал выше.
Во время повальных обысков и арестов намечают район в тех частях города, где происходит «операция».
Я вспоминаю один обыск, участником которого я был в качестве уполномоченного ЧК. В 12 часов ночи через оперативную часть ЧК я получил ордер за подписью председателя коллегии на право обыска у доктора Махвеладзе, который жил на одной из улиц в конце Мцхетского района. Я отправился туда в автомобиле со своими красноармейцами. Все было тихо, и на пустынных улицах мы встретили только двух-трех прохожих, испуганно шарахнувшихся в сторону при нашем появлении. Подъехав к этой улице, я остановил машину и пешком с красноармейцами подошел к нужному нам дому, позвонил, вызвал председателя домового комитета. Предъявив ему свой ордер, я потребовал, чтобы он проводил нас в квартиру доктора и присутствовал бы в качестве понятого при обыске, что полагается по инструкциям ЧК.
У дверей квартиры председатель домкома постучал и на обычные вопросы из квартиры «кто там», он ответил такой же трафаретной для подобных случаев фразой: «Вам телеграмма». Дверь приоткрылась, и я, быстро с силой распахнув ее, вошел. Нас встретил сам доктор, уже догадавшийся, по-видимому, о том, кто стучал, и потому более или менее спокойный, но лишь немного бледный.
— Я уполномоченный ЧК Грузии, — заявил я, предъявляя ордер, — мне поручено произвести у вас обыск. Прошу всех жильцов квартиры собраться вместе.
Он сделал неопределенный жест рукой, как бы приглашая меня войти. В это время красноармейцы, которые, согласно инструкции, немедленно же по входе нашем в квартиру вошли во внутренние комнаты, чтобы удостовериться, нет ли в квартире другого выхода, а помощник мой, комиссар оперативной части, собрал всех жильцов — доктора, его жену и двух дочерей — в столовой и, поставив около них охрану из красноармейцев, приступил к обыску. Обыск продолжался четыре часа. Обыскана была вся квартира, рылись в вещах, ломали мебель, вскрывали полы и стены, и ничего найдено не было. К концу обыска, когда я уже собирался составить протокол его, жена доктора попросила разрешения выйти в спальню. Я разрешил. Через несколько минут мы услыхали шум закрываемой дверцы от кафельной печи. В один момент в спальню вбежал комиссар и заметил, как жена доктора сжигает какие-то бумаги в печке. Он оттолкнул ее от печки и вытащил пачку уже частью обгоревших бумаг и передал их мне. По обгоревшим местам я увидел, что это протокол заседания существовавшего нелегально в Тифлисе грузинского меньшевистского комитета партии. Это было именно то, что мы искали. Закончив обыск, я составил протокол его и на основании имеющихся материалов, объявил жену доктора арестованной! Должен сказать, что ЧК интересовалась именно женой доктора, так как она была в прошлом членом Учредительного собрания национальной Грузии, а в описываемое время ярой антибольшевичкой. Под утро я, вместе с арестованной, на автомобиле возвратился в ЧК и сдал ее коменданту вместе с документами.
Порядка ради напомню, что дальнейшая судьба арестованных выясняется в продолжение некоторого весьма неопределенного времени и тут уже царствует полный произвол ЧК.
Чаще всего большинство арестованных, схваченных ночью, так сказать «сгоряча», отпускается после тщательной регистрации. Другая часть остается за следователем. Следствие может тянуться несколько месяцев или несколько дней — все зависит от следователя, как он допрашивает и ведет следствие, и, конечно, от арестованного, как он «переносит» допрос.
Когда я однажды допрашивал одного арестованного, то он в течение нескольких дней не хотел отвечать мне на вопросы, а от предъявляемых ему обвинений категорически отказывался. Тогда я прибег к методу запугивания, часто практикующемуся в органах ЧК. Я посадил арестованного лицом к себе, вынул револьвер, и, целясь ему в глаз, я выстрелил, умышленно сделав промах. Как только рассеялся дым, как бы с удивлением заметив, что арестованный «жив», я позвал красноармейца и закричал на него:
— Что же ты дал мне неисправный револьвер, дай сюда маузер!
Под впечатлением этого «допроса» арестованный сознался[6].
Но бывали, и притом нередко, случаи, когда арестованный бывал до такой степени напуган застращиваниями и допросами, что сознавался в преступлениях, в которых он не был виновен. Кроме этого, бывают допросы еще «психологические», со всевозможными сюрпризами: тут и изысканная вежливость, обращение на «вы», забота об арестованном, чтобы он не устал, предложение папиросы и т. д. и т. д.
По окончании следствия, а иногда и в процессе производства его, смотря по серьезности дела, арестованный переводится в изолятор специального назначения. Так называется хорошо знакомая всем тифлисцам тюрьма — Метехский замок. Чтобы дать некоторое представление об обстановке советской тюрьмы, скажу, что условия, в которых содержатся арестованные в Метехском замке, считаются по сравнению с условиями камеры ЧК исключительно хорошими и попасть туда для арестованных является настоящей мечтой. Между тем в тюрьме этой, рассчитанной по царскому времени на 360 человек, сидят обыкновенно 1200 арестованных, а во времена каких-нибудь массовых арестов количество их превышает даже 3000 человек. Среди этой массы арестованных находятся обыкновенно и так называемые «наседки», то есть осведомители ЧК, которые «сидят» там для того, чтобы обо всем доносить в ЧК. Но очень часто заключенные их расшифровывают и расправляются своими очень жестокими способами.
Об одном таком случае я сейчас расскажу: в Тифлисе ЧК был арестован в связи с делом итальянской фирмы «Сосифрос», обвиняемой в экономическом шпионаже, некто Макс Лившиц. Посаженный в Метехский замок, он быстро стал осведомителем ЧК. Очень скоро его расшифровали, и чтобы отомстить ему, политические арестованные натравили на него уголовных, и эти во время прогулки, воспользовавшись отсутствием надзирателей, бросились на Лившица и стали его избивать, и во время этой свалки кто-то всадил ему нож меж ребер.
Тяжело раненный, истекая кровью, он был переведен в тюремный госпиталь, где через некоторое время стал поправляться. Но несмотря на такой урок, который мог бы кончиться его смертью, он все-таки продолжал выдавать арестованных ЧК, даже лежа на койке госпиталя. На него было организовано второе покушение, и чтобы его не убили окончательно, ЧК должна была перевести его в городской госпиталь.
Прошло некоторое время. Он поправился и в настоящее время ходит по советским учреждениям в поисках работы, как пострадавший за политические убеждения от «контрреволюционеров»…
Я говорю о том самом Метехском замке, который постоянно показывается советской властью всевозможным иностранным делегациям, приезжающим в СССР для личного ознакомления с «советским раем». То же повторилось и с английской делегацией, посланной тред-юнионистами, во главе которой стоял известный Персель. Все члены делегации — ведь за ними ухаживают большевики, подкупая их и всячески ублажая, — были помещены в первоклассных отелях, проводя все свободное от «усиленных занятий» время в кутежах и банкетах, на организацию которых представители пролетарской власти большие мастера. Находясь в Тифлисе, знакомясь с историческими музеями, дворцами, а в окрестностях с постройкой знаменитой Земо-авчальской гидростанции, Персель между прочим заинтересовался судьбой политических арестованных и попросил отвезти его в Метехский замок. Конечно, он был встречен, как полагается встречать «знатных иностранцев» в советских тюрьмах. Показали ему арестованных, которые до его приезда были уже обучены тому, как нужно отвечать на вопросы господина Перселя и его товарищей, и даже в некоторых камерах, в которые они заходили и осматривали, сидели «махровые контрреволюционеры», роль которых играли переодетые чекисты. Господин Персель остался очень доволен как арестованными, так и обстановкой, в которой они сидели: камеры увешаны были коврами, в камерах были столы, на них книги, журналы, газеты… и арестованные содержались даже без кандалов! Как же господину Перселю было не восхищаться советскими достижениями, гуманностью и пр.
Но он не слышал, когда выезжал из тюрьмы, как ему вдогонку раздавались крики арестованных, действительно сидящих в подвалах замка. Они просили, они молили его о том, чтобы он рассказал в Европе о произволе в ЧК. Эту сцену господин Персель «забыл». И по приезде домой, в своих докладах о советских «достижениях» и советском «рае», английская «рабочая делегация» забыла рассказать про будничную работу ЧК, она забыла передать миру просьбу голодных, истерзанных большевиками, просьбу грузинского народа…
Я выше довольно обстоятельно говорил о том, как осуществляется «пассивными сотрудниками» (сексотами) наблюдение за отдельными гражданами. Но я не упомянул о том, что и сами жрецы, служащие кровавому молоху ЧК, не избегают этого наблюдения. Так мне вспоминается, как (пассивными) сотрудниками ЧК было осуществлено наблюдение за высокопоставленными чекистами, которые упоминаются у меня выше, Будницким и Домбровским. Последние в конце концов были арестованы по обвинению в шпионаже в пользу Польши. Их продержали около шести месяцев в специальном изоляторе, а затем освободили по недоказанности обвинения. За шестимесячное сидение в тюрьме они были согласно приказу по ЧК награждены материально, а в дальнейшем получили повышение по службе.
Не раз я получал донесения секретных сотрудников на видных чекистов, членов правительства и даже членов Центрального комитета партии. Донесения бывали разные. Так, относительно одного видного чекиста мне сообщали, что неоднократно видели его вдребезги пьяного, скандалившего и даже стрелявшего в прохожих на улице и тем терроризовавшего их… Другой, по сообщению наблюдателей, сидел в ресторане вместе с приятелями, пил, ел и скандалил, а когда ему предъявлен был счет, он, вместо платы, закричал:
— Забыл, что ли, кто я?!
Конечно, этого окрика было достаточно для того, чтобы владелец ресторана с поклоном отошел от него и, когда он уходил, с поклонами же провожал его, боясь, как бы он «нечаянно» не выстрелил.
Член Центрального комитета партии и народный комиссар земледелия Грузии Саша Гегечкори был замечен секретным сотрудником, как он однажды в гостинице «Ориант» в Тифлисе, заняв несколько номеров, устроил пьяную оргию с голыми женщинами, а затем по доброму кавказскому обычаю открыл стрельбу… Я хотел было возбудить дело против него, но по приказанию председателя ГПУ я должен был следствие по этому делу прекратить, а материалы передать в ЦК партии. Этот знаменитый Саша Гегечкори умер трагично, — он покончил жизнь самоубийством, когда дошел до того, что, растратив миллионные народные средства, не смог в них отчитаться и должен был бы предстать перед судом. Говорят, перед тем, как застрелиться, Гегечкори позвонил по телефону председателю Закавказского совнаркома Шалве Элиаве и сказал: «Шалва, я ухожу, алла верды к тебе!»
Конечно, эти прощальные слова он сказал по-грузински, и в них заключалось не только последнее прости, но и ясный для грузина намек на то, что Элиава должен последовать за ним.
Да для этого и были серьезные основания. Прежде чем привести основание для этого утверждения, сообщаю для характеристики Элиавы об одном инциденте, произошедшем с ним в Грузии, куда он приехал делать доклад «о международном положении и о достижениях социализма». После доклада начались прения, во время которых один старик-крестьянин сказал ему буквально следующее:
— Дорогой Шалва (таково христианское имя Элиавы), мы слушали тебя с большим вниманием, и разреши мне сказать тебе наше крестьянское мнение о твоем социализме. Мы думаем, дорогой Шалва, что пока придет этот ваш социализм в Грузию, то ни одного грузина уже не будет в живых!..
А теперь приведу описание того, как развлекается этот Шалва Элиава.
В Тифлисе существует кинопромышленная организация под названием Госкинпром Грузии. Работа этого учреждения в общем почетна и заслуживает похвалы. Но наряду с этой полезной стороной имеется и обратная сторона, а именно та, что деятели этой организации являются рассадником так называемого «кинематографического разврата».
Председателем правления этой организации является некто Амирогов, человек беспринципный, грязный и корыстолюбивый. Амирогов способен на все, лишь бы угодить начальству. В то время когда вся коммунистическая партия переживала период оппозиции, когда каждый коммунист высказывал свое мнение в ту или иную сторону, когда за всевозможные уклоны виновных наказывали и ссылали, этот Амирогов тоже занимался «оппозиционными делами»: он поставлял председателю Совнаркома Элиаве женщин, выбирая их среди статисток синема. При нем вошел в моду лозунг «через диван на экран», это значит, что каждая мало-мальски красивая женщина, которая хотела бы попасть на экран (а таких, мнящих себя Мэри Пикфорд, было много), вызывалась обыкновенно в кабинет Амирогова, где он отбирал самых красивых для себя, а главным образом для своего патрона Элиавы.
Отобранным девушкам обещались золотые горы, «а для первого раза, — говорилось им, — вы приходите туда-то и тогда-то, где будет «сам». «Ведь вы же знаете, каконинтересуется и любит наше дело» — говорил Амирогов отобранным женщинам. И по вечерам на квартире у «самого» Элиавы собирались эти девицы в обществе таких же «любителей синема», каким были сами Элиава и Амирогов. Сюда же приглашались и другие члены Совнаркома. Их ожидал богато сервированный стол со всевозможными напитками, вплоть до шампанского, и после «первого знакомства», когда люди теряли под влиянием вина всякий человеческий облик, начиналась афинская ночь…
Подходя к концу своих воспоминаний моей работы в ЧК Грузии, я считаю, что читателям было бы небезынтересно познакомиться с некоторыми чертами, характеризующими нравы одного из виднейших деятелей советского правительства и… рядового чекиста.
В 1924 году летом я ехал по делам службы в Москву. Садясь в поезд, в вагон «международного общества» (по занимаемой должности я имел право пользоваться спальными вагонами), в соседнем купе я увидел С. Орджоникидзе — председателя Контрольной комиссии партии — вместе с Сутыриным — заведующим отделом печати Закавказского краевого комитета партии, которые ехали тоже в Москву.
После отхода поезда со станции Минеральные Воды в вагон вошел дежурный агент железнодорожной ЧК для проверки документов и разрешений на право ношения оружия у едущих пассажиров.
Завелся этот «обычай» после того, как на перегоне Минеральные Воды — Ростов были случаи нападения бандитов на поезд. Войдя в наш вагон, агент ЧК начал осмотр с нашего первого купе и затем направился к следующему. Через некоторое время я слышу крик и слова: «Сволочь, не видишь, кто едет?» Невольно вышел я из купе вагона и увидел, как разъяренный Орджоникидзе выталкивает из купе агента ЧК со словами: «Я член ЦК партии, как ты смеешь требовать у меня документы? Я сейчас телеграфирую Дзержинскому». Растерявшись, агент ЧК ответил:
— Позвольте, гражданин, раз вы член правительства, то вы тем более должны подчиниться распоряжениям, издаваемым вами же, к тому же у вас в купе я вижу целый арсенал.
— Как, сволочь! Ты мне?!.. — крикнул Орджоникидзе, схватил агента ЧК за воротник и головой стукнул его в оконное стекло. Послышался звон разбитого стекла, крик, стоны и шум задвигаемой Орджоникидзе двери в его купе. Когда мы приехали в Ростов, на станции стояли выстроенные во фронт все агенты железнодорожного ЧК во главе с начальником отделения. В наш вагон вошел начальник и зашел в купе Орджоникидзе, как полагается в таких случаях, представиться члену правительства.
При этом представлении Орджоникидзе стал кричать, ругаться и что-то возмущенно говорить начальнику отделения. Я не мог разобрать всего, что он говорил, но видел, как вслед за этим несчастный агент, осмелившийся просить у члена правительства удостоверение личности, был арестован по распоряжению Орджоникидзе…
В печати нередко указывались случаи того, что в советской России часто исчезают люди совершенно бесследно. Вот именно о таком случае, хорошо мне известном, я и хочу рассказать.
В Тифлисе, как и в других городах России, чекистами часто организуются целые облавы для вылавливания биржевиков-спекулянтов, нелегально занимающихся своими операциями на черной бирже.
Цель официальная этих облав — бороться со спекуляцией и у пойманных злостных спекулянтов конфисковывать «награбленные ими у народа» деньги, которые по закону поступают в пользу государства. Но вот случай, который показывает, как обычно или часто осуществляется эта борьба.
Во время одной из таких облав в Тифлисе был арестован биржевой деятель, которого я обозначу буквой X. Но вместо того, чтобы, как это полагается по инструкции, арестованного доставить прямо в ЧК, сотрудник ее, арестовавший X., некто Асатиев, неизвестно почему свел его в ближайший милицейский участок и приказал дежурному старшему сотруднику милиции Иваницкому продержать арестованного в его кабинете до его возвращения. Арестованный X. в ожидании Асатиева разговорился с Иваницким и на его вопрос, за что его арестовали, ответил, что был пойман во время облавы с поличным и что у него при себе имеется крупная сумма денег. При этом он даже спросил у Иваницкого совета, как поступить с деньгами… Часа через два пришел Асатиев, забрал арестованного вместе с его деньгами и повел его в ЧК. Прошло порядочно времени. Иваницкий, собственно, и забыл об этом случае, когда, встретившись случайно с одним из своих приятелей, чекистом, он рассказал ему об арестованном X., так как ему особенно запомнилось, что у того были большие деньги в виде пачек долларов, которых до этого раза Иваницкий никогда не видел. Чекист, приятель Иваницкого, сказал ему, что доллары, наверное, конфискованы, а арестованного, должно быть, освободили «до следующего раза», как это часто бывает.
Между тем семья этого X., обеспокоенная его непонятным долгим отсутствием, обратилась в ЧК, не там ли он.
Надо отметить, что это было не первый раз, что X. был арестован во время облав. Да кроме того, во всех городах СССР, где имеются учреждения ЧК или ГПУ (а где его нет?), если какой-либо гражданин неожиданно исчезает и несколько дней не возвращается домой, встревоженные родственники ищут его не в больницах, не в моргах, а прямо идут за справками в ЧК… Так было и на этот раз, и явившейся в комендатуру ЧК жене исчезнувшего X. предложили подать соответствующее заявление с запросом. На этом заявлении стояла резолюция, что арестованный тогда-то X. во время сопровождения его в помещение ЧК сделал попытку бежать, почему конвоирующий его (имярек) застрелил. Несчастная женщина потеряла сознание…
При этой сцене как раз и присутствовал чекист, приятель Иваницкого. Узнав от него, что у застреленного «при попытке бежать» X. была большая сумма в американской валюте, этот чекист невольно заинтересовался вопросом: куда же девались эти деньги? На его запрос, обращенный к заведующему камерой хранилища вещей расстрелянных, последний заявил, что от Асатиева в указанное время никаких денег не поступало. Тогда приятель Иваницкого доложил начальнику секретного оперативного управления, который и назначил сперва негласное дознание. Потом выяснилось, что Асатиев просто присвоил себе эти деньги, нарочно убив X.
Уличенный в бандитизме Асатиев был коллегией ЧК приговорен к расстрелу.
Глава 9
В 1922 году я по распоряжению начальника секретно-оперативного управления ЧК Грузии Цивцивадзе был откомандирован в город Поти — в потийское политбюро (так называлась тогда губернская ЧК) на должность уполномоченного агентурного отдела. По приезде в Поти, явившись к начальнику политбюро товарищу Деняге, я принял должность и получил от него недельный отпуск для знакомства как с обстановкой губернской ЧК, так и с городом Поти, где мне предстояло работать.
Город Поти по своему населению особенной важности с политической точки зрения не представлял, за исключением потийского порта, где насчитывалось несколько сот рабочих. По своему политическому убеждению большинство их было социал-демократами (меньшевики) и противниками существующего строя в Грузии.
Потийское политбюро ЧК Грузии — маленькая провинциальная чрезвычайная комиссия — ничем тогда от центра не отличалось, за исключением того, что само оно не имело права приводить приговоры в исполнение. Несмотря на это, благодаря произволу, царившему тогда в потийском политбюро еще до моего приезда, было расстреляно 11 человек бандитов, среди которых было и два политических. Расстрел этот санкционирован был центром уже постфактум.
Работа моя и моего отдела сводилась к тому же, что и в центре, но только в маленьком масштабе. Штат секретных сотрудников у меня был до пятидесяти человек, при одном помощнике. Жалованье в советских дензнаках я получал до 150 рублей, а жалованье сексотов колебалось от 50 до 60 рублей плюс полный красноармейский паек.
Первое «боевое крещение» сотрудники политбюро получили в мае месяце, в день независимости Грузии, празднуемый народом и запрещенный советской властью. Большинство населения Поти и, как я уже отметил, портовые рабочие были настроены антибольшевистски. Накануне майских событий я получил донесение от секретных сотрудников, что этой ночью рабочие социал-демократы собираются расклеить прокламации по городу, а утром 26 мая будет устроена демонстрация рабочих в городе и в порту. Сейчас же были мобилизованы все сотрудники политбюро, а также в помощь нам по постановлению потийского комитета партии были мобилизованы все коммунисты города. Всю ночь накануне 26 мая отряды политбюро срывали и собирали уже расклеенные прокламации, всевозможные воззвания к народу, требовавшие борьбы с большевиками и «красными жандармами-чекистами». Арестовывались все подозрительные, как на улице, так и по ордерам в домах, согласно имеющемуся у политбюро списку «контрреволюционеров», и к утру 26 мая мы имели до пятисот человек арестованных. Ими были полны все подвалы, внутренний двор и свободные комнаты, ибо арестные помещения уездного политбюро не были рассчитаны на такое количество арестованных. Следственный аппарат работал без отдыха, «нагрузка» была на все сто процентов. Утром же 26 мая часть чекистов с чоновцами (части особого назначения, состоящие из коммунистов) бросились разгонять рабочие демонстрации в порту, уже организовавшиеся и направлявшиеся с плакатами, с флагами, с антисоветскими лозунгами к городу.
При разгоне рабочих, а также ученических демонстраций чекисты и чоновцы пускали в употребление нагайки, приклады винтовок, рукоятки револьверов и для устрашения толпы кое-где были произведены холостые выстрелы.
Майские события в Поти были подавлены. Часть арестованных вместе с материалом этапным порядком были отправлены в Тифлис. Другая же часть за неимением серьезных улик была выпущена на свободу до следующего «сезонного ареста», как часто говорится в подобных случаях в ЧК.
Из моей работы в потийском политбюро мне вспоминается несколько характерных эпизодов: как это часто бывает в жизни, трагическое здесь переплетается с комическим. В июле месяце однажды я получил донесение сексота о том, что на островке озера Палеостомистпа «скрываются видные меньшевики, в числе которых был известный антибольшевик, социал-демократ Степан Махарадзе, все вооруженные с ног до головы, и даже при пулеметах». Донесение это, естественно, взволновало сотрудников политбюро, была поднята тревога, тотчас же снеслись с комитетом партии и исполнительным комитетом Поти (исполком). Последние решили в помощь нам мобилизовать ЧОН и вместе с ними мы должны были выступить в поход, чтобы ликвидировать «шайку» Степана Махарадзе.
В полночь вооруженный отряд чекистов в 60–70 человек с четырьмя пулеметами выступил в поход под командой начальника политбюро товарища Деняги. Предисполком города Поти товарищ Гогия, решив, что у нас будет «жаркое дело», приказал здравотделу горисполкома заготовить несколько санитарных тележек и вместе с медицинским персоналом отправить нам вдогонку. Через три часа мы были уже у берега озера. Отряд, уместившись в шести больших баркасах, направился к острову, соблюдая строжайшую тишину. Все были наготове, зарядив винтовки, и на носу баркасов стояли пулеметы, наведенные дулом к острову. Мы тихо пристали к месту, высадились и, окружив остров кольцом, бросились со штыками наперевес к шалашам, расположенным посреди острова. Добежав до них, мы нашли… несколько мирно спавших крестьян… и это было все, что мы нашли. Мне неизвестно, было ли это ложное донесение или кто-нибудь успел предупредить Махарадзе. Так или иначе, возвращение наше после «жаркого дела» было не из веселых, население, узнав об этом, долго после этого тихонько смеялось и издевалось над нами. Секретный сотрудник же, сообщивший эти сведения, был откомандирован в центр… Читатель уже знает, чем обычно кончаются эти «дисциплинарные взыскания».
Второй случай был такого же характера. Секретный сотрудник сообщил, что на квартире у некоего Глонти состоится в определенный день нелегальное собрание меньшевиков, на котором будут присутствовать все разыскиваемые нами лица. В 11 часов ночи с отрядом красноармейцев мы подошли к дому Глонти, расположенному в глухой части города. Снаружи казалось, что там действительно что-то происходит. Мы подошли. Нам сразу открыли. Это была прислуга. Грубо отбросив ее в сторону, мы с криком «руки вверх!» и с револьверами, направленными на сидящих, ворвались в комнату. В большой комнате, ярко и празднично освещенной, за большим столом сидело около сорока человек. Все присутствующие были, по советским понятиям, нарядно одеты… Оказалось, что мы попали на свадьбу. Тем не менее мы произвели тщательный обыск, во время которого нашли только один «запрещенный» портрет Ноя Николаевича Жордании, бывшего премьера Республики Грузия, который хранился хозяином дома в ящике письменного стола.
Ясно было, что мы были введены в заблуждение. Это не помешало Деняге, стоявшему во главе «операции», арестовать двух присутствующих просто, очевидно, для того, чтобы показать, что мы не зря ворвались, а имели для этого серьезное основание… Правда, арестованные наутро были выпущены, и, как выяснилось, все это «дело» было основано на облыжном доносе одного секретного агента ЧК, у которого были свои личные счеты с Глонти…
Говоря о Деняге, не могу не упомянуть, что ко мне очень часто поступали от секретных сотрудников донесения о его преступной деятельности.
Сведений этих было много. Все они тщательно проверялись, и в результате было установлено, что Деняга в своем кабинете в здании политбюро изнасиловал жену одного заключенного, пришедшую за справкой, и одну проститутку, которая была арестована им же на улице «за приставание». Много было сообщений, подтверждающих негласное расследование о многочисленных дебошах Деняги, и на все эти «невинные развлечения» шли народные деньги. Выяснив с несомненной точностью преступную деятельность Деняги, я, воспользовавшись его отсутствием, шифрованной телеграммой сообщил о его «подвигах» коллегии ЧК Грузии. Прошло более месяца, а со стороны коллегии не только ничего не было предпринято, но даже я не получил никакого ответа. Все стало ясным, когда я позже узнал, что у него в коллегии был свой человек. Ввиду этого я обратился с жалобой в потийскую партийную организацию, и только через ЦК партии спустя несколько месяцев ЧК Грузии командировала своих инспекторов Егорова и Батайтиса, которые оказались людьми смелыми и на второй же день ознакомления с материалами арестовали Денягу и увезли с собой в Тифлис. Вскоре Деняга был приговорен к расстрелу. Но свой человек в коллегии… Это сделало свое дело, и расстрел был заменен Деняге пятью годами тюрьмы. Но уже через несколько месяцев он был на свободе, а еще через некоторое время он уже служил в милиции начальником одного из районов города Тифлиса, где и служит по сие время.
Проработав в городе Поти год с лишним, я, по моей просьбе, был откомандирован в тифлисскую ЧК Грузии, где меня очень скоро демобилизовали.
Расставшись таким образом с ЧК — это было в 1923 году, — я после этого работал в целом ряде хозяйственных кооперативных и государственных учреждений республики. Здесь мне приходилось сталкиваться как с деятельностью ЧК, так и с работой отдельных чекистов. Но уже со стороны. Одно время я работал в Батуме. Тогда там стоял особый отдел (военная ЧК) Батумского укрепленного района под начальством Иосилевича, который теперь, как троцкист, живет в ссылке в Соловках. Начальником военно-контрольного пункта батумского порта был Мюллер, долгое время проработавший за границей в качестве резидента ГПУ.
Однажды в числе пассажиров, которые должны были сесть на пароход, отходящий за границу, был один перс — крупный коммерсант. В ожидании посадки на пароход он вступил в соглашение с контролером особого отдела, проверявшим паспорта и багаж пассажиров. Перс пообещал контролеру соответствующую взятку, если он разрешит пронести на пароход имеющееся у него золото в слитках. Контролер, соблазнившись крупным заработком, согласился пропустить перса на пароход и сделать вид, что не видит ничего.
Как полагается, об этом сейчас же узнал особый отдел через информатора, находящегося в порту. Перед посадкой на пароход перс был арестован, найденное при нем золото конфисковано и его самого расстреляли, несмотря на то что он был персидским подданным…
В том же Батуме стоял Н-й пограничный отряд, помощником начальника которого был некто Эрман, прославившийся в Батуме «успешной борьбой с контрабандистами». Дело было в следующем: Эрман раз в месяц устраивал массовые аресты всех сапожников и портных и городским властям сообщал, что благодаря этим мерам ему скоро удастся в корне прекратить контрабанду в Батуме. По его словам, все сапожники и портные только тем и живут, что работают из контрабандных материалов. На неоднократные запросы батумских властей, каким же образом доходит контрабанда до кустарей, Эрман отвечал: «Это сволочи аджарцы снабжают их, их необходимо всех перестрелять, тогда уничтожится и контрабанда». Конечно, Эрман всех аджарцев не мог перестрелять, и контрабанда не только не уничтожилась, но стала импортным товаром в СССР и тем самым легализировалась. Так продолжалось бы долго, если бы не перевод Эрмана в ленинградское ГПУ, куда он был назначен начальником экономического отдела. После его отъезда в Батум наконец приехала ревизия из штаба пограничных войск. Ревизия вскрыла такую кошмарную картину преступлений, хищений, растрат и даже провокаций, не одним Эрманом, а целым сонмом ответственных работников таможенного управления, что по решению ревизии все дело было передано в ЧК, которая и вынесла несколько смертных приговоров. Начальник таможни Жордания и его несколько сотрудников (все коммунисты) были расстреляны в Батуме. Эрман же был арестован в Ленинграде, и дальнейшая его судьба мне неизвестна, но, как потом мне впоследствии передавали, он будто бы бежал за границу.
Но в сущности эта эпопея борьбы с контрабандистами была гораздо сложнее и многограннее. Арестовывая контрабандистов с поличным, Эрман угрозами и другими средствами обращал их в своих осведомителей, а товар, согласно закону, конфисковывал. Но этим дело не кончалось: через особое подставное лицо Эрман передавал контрабанду тем же своим «клиентам», сапожникам и портным. Но вслед за тем эти клиенты, в свою очередь, позже арестовывались, проданный им товар Эрманом вновь конфисковывался… Деньги же, вырученные путем этого круговорота, шли в карман Эрмана. Это была, в сущности, целая панама сравнительно в небольшом масштабе, ибо одновременно с Эрманом с контрабандой боролась батумская таможня. Она тоже конфисковывала товары, а ее шеф, начальник таможни Жордания, в свою очередь, путем всевозможных комбинаций ухитрялся продавать часть конфискованного товара на сторону, в свою пользу… В конце концов, как я упомянул, эти махинации были раскрыты и виновные расстреляны.
Я надеюсь, что из краткого описания этой «коммерции» читателю ясно, что такие эксперименты возможны лишь при той системе провокации, взяточничества и воровства, которые являются характерными для большевистской системы и только с уничтожением ее, с уничтожением большевистской диктатуры, когда исчезнет и ГПУ, будет парализована и возможность ведения «эрмановской коммерции».
Глава 10
Мое описание службы в ЧК приближается к концу, но оно было бы неполно, если бы я не закончил его приведением еще трех, на мой взгляд, весьма характерных эпизодов и картин.
Я хочу, насколько это в моих силах, описать, что представляет собой прославленная, неоднократно упоминаемая в литературе так называемая камера смертников. Оговорюсь, что такой камеры, с таким названием и с таким назначением в действительности не существует. Это просто анахронизм, оставшийся от 1918–1920 годов. Но надо отметить, что в этом понятии есть доля истины, так как нередко лица, арестованные по какому-нибудь известному кричащему делу, часто все являются кандидатами на расстрел, хотя эти кандидаты обыкновенно сидят в общих камерах… Надо сказать, что в отношении «смертников» нет никаких особых правил, и нередко человек, привлекаемый по делу, которое может повлечь за собой смертную казнь, к таковой не приговаривается, и наоборот — часто люди, привлекаемые, по-видимому, по самому пустому делу, в конце концов бывают расстреляны.
Понятия «смертник», скажем, в английском смысле слова или французском в практике ЧК не существует. В то время как в Англии, например, суд приговаривает человека к смертной казни, устанавливает день и час ее, в практике ЧК в этом отношении нет никакой регламентации: так, очень часто приговоренный бывает «смертником» только несколько минут, иногда часов, день, два… Так что если я употребляю термин «камера смертников», то лишь со всеми вытекающими из вышеизложенного оговорками. Таким образом, я буду говорить вообще о камерах, в которых сидят узники ЧК, причем лишь субъективно, психологически они сами себя считают смертниками, зная, какая участь для них возможна… Поэтому я посвящу несколько слов описанию камер в потийском политбюро, в которых, между прочим, находились и «смертники».
Я помню одну ночь, — она резко и неизгладимо врезалась в мою память. Это было на второй день после массовых арестов. Камеры были переполнены до отказа, заключенные уже были распределены по следователям, в числе которых был и я. У меня в производстве находилось дело Тодрии, члена ЦК грузинской социал-демократической партии, обвиняемого в злостной контрреволюции. Не знаю, почему я сам спустился в камеру, чтобы вызвать его. Для этого я должен был пройти через двор в приспособленное для заключения людей полуподвальное помещение, которое раньше представляло собой склады разного рода материалов. Я вызвал коменданта и разводящего караула и вместе с ними вошел в камеру, в которой сидел мой подследственный. Это была довольно обширная конюшня. Обитая железом дверь была открыта разводящим караул. Я вошел в камеру. Она была рассчитана примерно на 16 лошадей. Бетонные грязные стены, такой же потолок и пол. Посредине потолка чуть маячил свет от маленькой электрической лампочки, едва-едва пробивавшийся сквозь дым и испарения. Царила полумгла, напомню, что была ночь, часов около двенадцати.
Когда я вошел, мне в нос ударил отравленный густой воздух, напоминающий собой клетку зверинца. Заключенные — их было не менее двухсот человек — частью сидели, спали на нарах, частью лежали, задрав ноги к потолку, некоторые, сбившись в маленькие группы, играли в карты, шахматы или просто беседовали… Шум открытой двери взбудоражил заключенных. Все насторожились и вперили в меня полные вопроса и тревоги взоры. Я вызвал старосту камеры и попросил его указать мне, где находится гражданин Тодрия. Он проводил меня куда-то в угол, где на нарах лежал и, кажется, спал прикрытый стареньким пальто человек.
— Гражданин Тодрия, — обратился я к нему, — пойдемте ко мне, мне нужно с вами побеседовать.
Молча, стараясь оправить смятую лежанием одежду и хорошо скрывая естественное в таких случаях волнение, узник поднялся и пошел за мной.
Мы пришли в мой кабинет. Я предложил узнику сесть. При свете яркой лампы я увидел, что мой подследственный был человек среднего роста, широкоплечий, с благородной и красивой осанкой, совершенно седой, с окладистой седой же бородой, на вид ему было лет около шестидесяти. Я внимательно и не без любопытства оглядел эту стильную фигуру. Ведь передо мной сидел один из выдающихся деятелей Грузии, видный член грузинской демократической партии, один из наиболее резких противников советской власти… А я, его следователь, едва-едва достиг двадцати трех лет. Усевшись за стол и раскрыв дело, я обратился к нему:
— Вы, гражданин Тодрия, обвиняетесь в том, что, будучи раньше официально, а в настоящее время нелегально членом ЦК социал-демократической партии Грузии, вели и ведете злостную контрреволюционную деятельность, в интересах каковой вы призывали население, то есть рабочих и крестьян Грузии, к свержению советской власти. Вы руководили пропагандой и агитацией среди рабочих и в последних выступлениях 26 мая принимали руководящее участие. Напомню вам, что инкриминируемые деяния представляют собой в сумме тяжелые преступления перед пролетариатом Грузии… Вы знаете, конечно, что вас ожидает, если вы не дадите исчерпывающих показаний и не поймете наконец, ряд каких тяжелых преступлений вы совершили.
Старик спокойно выслушал меня, лишь по временам на бледных губах его появлялась снисходительная улыбка. Когда я кончил, он, помедлив несколько мгновений, сказал:
— Эх, молодой человек, — и покачал сокрушенно головой, — я очень внимательно слушал вас. Имейте в виду, что ваши угрозы меня нисколько не трогают. Я думаю, что из моей анкеты вы в общем знакомы с моим прошлым… Я прошел длинный курс всевозможных воздействий со стороны царского правительства, жандармов, охранников, тюрем, ссылок, эмиграции. И вы поймете, что мне, всю свою жизнь рисковавшему головой, не страшны ваши угрозы… Об этом я не буду с вами говорить… А вот кто из нас совершает преступление перед народом, об этом мы давайте поговорим. Вы сказали, что я совершил преступление перед рабоче-крестьянской властью, то есть против народа, но, по-моему, это вы совершили, совершаете и продолжаете совершать самые тяжелые преступления. Посмотрите, кто сидит там внизу, — и он указал пальцем вниз, — в этих чудовищных подвалах? Все это рабочие, которых вы будете расстреливать… Но ведь они вас не звали, вы им не нужны, и для того, чтобы им чувствовать себя свободными, нужно, чтобы вы ушли и оставили бы их в покое, чтобы они могли свободно жить и дышать. Зачем вы пришли сюда, в Грузию? Ваша власть трубит и кричит, что «грузинский пролетариат» позвал вас и что вы явились его спасти…
— Да, да, — перебив его, сказал я, — мы шли для того сюда, чтобы спасти замученный вами пролетариат…
— Ах, бросьте, молодой человек, — спокойным жестом отмахнулся он от меня, — какое тут спасение! Ведь вы же хорошо знаете и видите, как относится к вам этот «замученный нами пролетариат»… Вас бьют, устраивают восстания, люди задыхаются от вашей власти, задыхаются от ненависти к вам, уйдите, оставьте нас в покое… Грузинский народ органически и исторически не переваривает никакой диктатуры!..
— Но вы забываете, — перебил я его, — что диктатура пролетариата, предсказанная еще Карлом Марксом, нашим общим учителем…
— Диктатура? И даже по Марксу? — перебив меня, иронически переспросил он.
И в спокойном, обстоятельном изложении он, точно профессор ученику, стал приводить мне истинные положения учения Маркса, его учение о естественной эволюции, о его отрицательном отношении ко всякого рода утопическим экспериментам… Наша беседа продолжалась до утра. Не могу скрыть, что мой подследственный окончательно забил меня. И по совести говоря, не я его допрашивал, не я его обвинял, а он меня допрашивал и он предъявлял мне те обвинения, которые предъявляет советскому правительству весь цивилизованный мир!
Так закончился, и, скажу прямо, полным моим поражением, этот допрос. Больше мне не приходилось допрашивать его, так как я начал следствие лишь ввиду того, что официальные следователи политбюро были перегружены. Когда они немного освободились, дело перешло к следователю. Я знаю лишь то, что Тодрия понес небольшое наказание: отсидев несколько месяцев в ЧК, он был освобожден и сейчас проживает в Грузии…
В заключение описания моей работы в ЧК приведу рассказ одного моего товарища, который, подобно мне, был командирован партией на работу в ЧК и который теперь находится за пределами досягаемости для советской власти.
Упомянутый мной товарищ состоял на ответственном посту в одном из губернских ЧК во внутренней России. Случайная встреча с ним. Разговорились. Поделились нашими впечатлениями и, как мы ни молоды, также и воспоминаниями. Оба мы были взволнованы нашей встречей. Наш разговор в конце концов принял старый интимный дружеский характер.
— Да, вот, — задумчиво сказал мой друг, — мы оба расстались с нашими юношескими светлыми иллюзиями… И как беспощадно грубо разбивались эти иллюзии, эта вера в глашатаев и пророков нового для нас учения, которое должно было дать человечеству свободу и счастье!
Вот слушай. Для меня лично таким отрезвляющим меня жестоким ударом явился один случай, когда я лично должен был убить человека. Это было так.
Я был в Н-ской ЧК, где я довольно близко сошелся с одним чекистом же, нашим комендантом. Конечно, в качестве такового он неоднократно приводил в исполнение приговоры ЧК. Как-то раз я в разговоре с ним сказал, что у меня никогда не поднялась бы рука стрелять в беззащитного человека. Не помню точно, нашел ли он в моих словах что-нибудь вызывающее, какое-либо невыгодное для себя сопоставление, но только он стал всячески подтрунивать надо мной и в заключение сказал: «Ну, да что там! Ведь ты не баба, — едем сегодня со мной на «операцию»…»
Конечно, я мог не ехать, но он был видным членом нашей комячейки, он мог вынести невыгодное обо мне мнение… Донести на меня… Словом, целая сеть подобного рода подлых аргументов заговорила во мне…
И я принял вызов. Ночью мы на автомобиле выехали за город, туда, к тому месту, где обычно происходили расстрелы… Мы подошли к группе, окруженной чекистами… Расстрелу подлежало четыре человека. Яркие дуговые мощные фонари освещали эту группу, сообщая лицам какой-то синеватый оттенок… Комендант указал мне на одного из них, стоявшего неподалеку… «Ну, на винтовку, — сказал он, протягивая мне оружие, — бей в того».
Как автомат, я взял в руки винтовку и взглянул в лицо осужденного… Это был маленького роста человек. Мне ярко и резко бросились в глаза и запечатлелись до сих пор его босые ноги и длинная, ниже колен рубаха. Но особенно памятны мне его плотно сжатые оскаленные зубы и клок волос, свисавший над глазом. Я взвел курок. Мне показалось благодаря его оскаленным зубам, что он смеется надо мной и точно бросает мне какой-то вызов… В это время я почувствовал, как стоящий рядом комендант толкнул меня и крикнул: «Стреляй, чего ждешь!» Непонятная и необъяснимая до сих пор злоба охватила меня… Злоба не против коменданта, а против того, осужденного, в которого я целил и который, казалось мне, смеется надо мной…
Я спустил курок.
В каком-то полусне я увидел и понял, что я застрелил человека.
Часть третья На службе в Коминтерне
Глава 11
Я перехожу к самой существенной части моих воспоминаний, посвященной описанию моей службы пресловутому Коминтерну. Но прежде чем говорить о ней, я в интересах соблюдения хронологической перспективы скажу несколько слов о том, что было со мной до того, как началась моя коминтерновская «деятельность».
Как я уже выше упомянул, в 1923 году партия откомандировала меня со службы ЧК, согласно моей просьбе, для продолжения образования. Таким образом, в ЧК в общей сложности я прослужил всего два года. Но прошло еще немало времени, прежде чем мне удалось поступить в высшее учебное заведение. По распоряжению партии я был командирован на работу в Центросоюз Грузии, сперва в качестве инструктора кооперации, а затем секретарем правления Центросоюза. Я не буду описывать не представляющей собой общественного интереса моей работы в Центросоюзе. Отмечу, что к этому времени мое разочарование в большевизме стало говорить во мне все сильнее и сильнее. Конечно, это не могло не отразиться на моем внешнем поведении, выходившем, таким образом, нередко за пределы установившихся в советской практике обычаев и нравов. Я не буду перечислять все такие случаи, и лишь для того, чтобы дать читателю некоторое общее представление о той «ереси», в которую я впал, приведу один эпизод.
Дело в том, что в описываемое время в среде грузинской коммунистической партии возникло и стало выражаться все ярче и ярче определенное течение в сторону национального движения. На советском жаргоне всякое самостоятельное, сколько-нибудь выходящее из сферы откристаллизовавшейся советской мысли движение, как известно, называется уклоном… Читатель, конечно, знает, что таких уклонов имеется п+1. Мое сочувствие этому «уклону» было зафиксировано на одном из заседаний комячейки Центросоюза, в котором я голосовал вместе с друзьями против одного из решений ЦК партии по поводу национального вопроса.
Увы, в свободной России проявление сколько-нибудь самостоятельной, не продиктованной свыше мысли является уже «преступным», а потому и наказуемым. Таким образом, факт моего голосования в неугодном ЦК партии направлении сразу же поставил меня и моих друзей в ряды оппозиции. Немудрено поэтому, что над всеми такими неугодно мыслящими начался ряд экспериментов или педагогических воздействий. Меня, так же как и других «уклонистов», стали перебрасывать с места на место, конечно, в интересах нашего «вразумления»… Но этот уклон не только не исчез, но все более расширялся, часто внешне выражаясь определенной подпольной работой.
Эта борьба с оппозицией, параллельно росту ее, все увеличивалась и принимала все более грозный характер и, начавшись с выговоров, перемещений, исключения из партии, закончилась по «сталинскому обычаю» арестами, высылками и расстрелами. Так, я в конце концов был «вынужден выехать» из родного города и жить в Мурманске[7]— на поселении. Благодаря старым связям мне удалось спустя некоторое время полулегально выбраться из Мурманска и попасть в Ленинград.
Здесь мне пришлось уже вплотную принять участие в нелегальной работе в оппозиционных большевизму организациях. Мы имели свои явки, конспиративные квартиры и даже нелегальную типографию, где печатались, а потом распространялись по заводам и фабрикам наши листовки в тысячах экземпляров. Мы были не чужды также и известных активных выступлений. Так, однажды в канун праздника Октябрьской революции в Ленинград приехали нелегально Троцкий, Евдокимов, Радек и др. Было назначено собрание оппозиционеров, на котором Троцкий прочел доклад, после чего была выработана тактика нашего выступления на октябрьских торжествах, направленная против сталинской бюрократии.
Утром в день торжеств на Красной площади была устроена правительственная трибуна, где находились все ленинградское губернское правительство, а также приехавшие из Москвы гости: Ворошилов и др. Рядом с этой трибуной стояла и наша, то есть трибуна оппозиции. На ней находились Троцкий, Радек, Евдокимов и др. После парада войск стали дефилировать рабочие организации. И проходя мимо нашей трибуны, рабочие приветствовали Троцкого и других оппозиционеров криками:
— Да здравствует оппозиция!
Долой диктатуру Сталина!
Эта явно сочувственная оппозиции демонстрация вызвала на первой, «сталинской» трибуне заметное замешательство. Находившиеся на ней заволновались, стали переговариваться, жестикулировать…
Но вот подошла многочисленная демонстрация рабочих Путиловского завода. Она шла стройно, неся свои знамена… Приблизившись к нашей трибуне, многие из рабочих, расстраивая ряды, бросились к нам с криком «Да здравствует Троцкий, вождь оппозиции!». Это внепрограммное выступление части рабочих произвело беспорядок. И тотчас же в толпу рабочих врезался отряд конной милиции с шашками наголо. Но не пуская в ход оружия, он стал приводить процессии в порядок. Рабочие же с криками «Долой красных городовых!» набросились на милиционеров и голыми руками стали вырывать у них сабли, а самих стаскивать и сбрасывать с лошадей. Тогда на нас пустили роту войск ОГПУ, которая и разогнала нас… Это было в «пролетарской свободной России»!..
Попутно с упомянутой оппозиционной работой я все не терял надежды попасть в высшее учебное заведение. Но теперь это было мне гораздо труднее, потому что я был «исключенный» и некому было меня командировать[8]. Однако благодаря моим старым дооппозиционным связям мне удалось получить официальную командировку от Аджарского Центрального исполнительного комитета в Ленинградский Восточный институт. Давалась эта командировка мне, как выразился один мой друг, «лишь принимая во внимание мое революционное прошлое и молодость и в надежде, что со временем я опять войду в лоно Сталина!».
Ленинградский Восточный институт, куда я получил командировку, состоит при Центральном исполнительном комитете СССР на основании постановления президиума ЦИК СССР. «Он является специальным высшим учебным заведением, которое имеет своей задачей подготовку работников для практической деятельности на Востоке и научных работников для востоковедных вузов».
Подразделяется институт на разряды: японский, китайский, монголо-тибетский, туркестанский (с отделением узбекским, казахско-киргизским и таджикским), анатолийско-турецкий, персидский, индийский (с отделениями урду), бенгальский (с дравическим наречием), армянский, грузинский, арабский и семинарий: яфетический, монгольский и туркологический. Ректором института состоит коммунист Павел Николаевич Воробьев.
Я остановил свой выбор на анатолийско-турецком разряде (то же, что и факультет), куда и был зачислен студентом[9].
По окончании института я должен был сразу же выехать за границу. Но это для меня, как оппозиционера, было не так легко, ибо я был под подозрением. Но опять благодаря связям и некоторым шагам, предпринятым мной в сторону «примирения», мне была дана «научная командировка» в Турцию, с назначением в торгпредство и с неофициальным, но многозначительным напоминанием: «Помните, что вы все-таки коммунист».
Уладив все дела и получив необходимые документы, я в марте 1918 года выехал в Стамбул…
И вот все формальности окончены, в моих руках заграничный паспорт. Я был в крайнем волнении, не покидавшем меня до момента, когда я в Батуме сел на пароход. Но неужели же что-нибудь задержит меня!.. Предстояли еще сложные и опасные процедуры: освидетельствование багажа, моих документов… чекистами.
Мне казалось, что время тянется мучительно долго… Вот чекист взял мой паспорт и мои документы. Я весь в ожидании, весь в напряжении, и притом я должен был внешне держать себя совершенно спокойно, ничем не выдавать моего волнения… Он смотрит еще и еще мои документы… да уж не нашел ли он в них чего-нибудь, не скажет ли он мне сейчас, что не может меня выпустить…
— Ну, товарищ Думбадзе, — говорит он, пожимая мне руку, и я едва-едва сдерживаю вздох облегчения, который готов вырваться из моей груди, — счастливой дороги!
Опускаю подробности путешествия. Мне вспоминается приближение к Стамбулу и моя высадка. Наконец я за границей… У цели?.. Все прошедшее уже позади! Началась новая жизнь. В тот же вечер я, сидя в гостинице, с жадностью набросился на эмигрантскую антибольшевистскую литературу. Все поражало меня, казалось, новый широкий мир открывается передо мной… Казалось…
Глава 12
На второй день утром я был уже в кабинете секретаря торгового представительства в Турции товарища Степанова. Последний сейчас же доложил обо мне лично торговому представителю товарищу Суховию, который, выслушав меня, немедленно же сделал распоряжение о зачислении меня в штат сотрудников торгпредства. Надо отметить, что Суховий вообще отнесся ко мне с исключительной внимательностью, не останавливаясь даже перед тем, чтобы выдать мне крупный аванс, что запрещено законом. Такое отношение объясняется теми рекомендательными письмами, которые были у меня за подписями Кирова (члена политбюро) и Платонова (члена коллегии Наркомторга).
За неимением соответствующей для меня вакантной должности я был назначен сперва хранителем ценностей (кассиром) торгпредства с тем, что после двух-трехмесячной работы в Стамбуле я буду переведен в Анкару в качестве секретаря местного отделения торгпредства. Но, как читатель увидит ниже, этому не суждено было сбыться…
Прежде чем приступить к описанию моей работы в торгпредстве и моей предполагаемой работы в качестве агента Коминтерна на Ближнем Востоке, я постараюсь посильно осветить работу Коминтерна на Востоке во всем ее объеме.
Для осуществления поставленной большевиками задачи «организация мировой революции», то есть мировой разрухи путем пропаганды, шпионажа и провокации, большевиками создан в Москве ряд таких организаций, как
Коминтерн (коммунистический интернационал), Профинтерн (Профессиональный интернационал), Крестинтерн (Крестьянский интернационал), Межрабком (Международная рабочая помощь), МОПР (Международное общество помощи революционерам), и все это при обязательном участии ОГПУ. Все эти организации в своей работе как внутри СССР, так и за границей строго централизованы и объединены под единым руководством политбюро Центрального комитета Всесоюзной коммунистической партии (большевиков).
Всем известно, что советское правительство во всех странах, перед всеми правительствами (например, французским и т. д.) выступает с категорическими заявлениями и утверждениями, что оно не имеет никакого официального и «по существу» отношения к Коминтерну и всем перечисленным выше его разветвлениям. По уверениям советских заправил, Коминтерн в целом представляет собой «лишь частную свободно составленную организацию», которой советское правительство, стоя на страже «свободы мнения», в партии предоставляет лишь приют…
Это наглая ложь, в чем, впрочем, никто уже и не сомневается. И действительно, ни одно постановление Коминтерна или его частей, равно как и высшего советского государственного учреждения (Центральный исполнительный комитет и Совет народных комиссаров) не имеет ни силы, ни значения без утвердительного грифа политбюро. Наивность уверений советского правительства видна уже из одного того, что председателем Совнаркома является Рыков, состоящий в то же время членом политбюро, генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Сталин, являясь членом политбюро, представляет в то же время коммунистическую партию в исполкоме Коминтерна. Все вопросы пропагандного характера и сколько-нибудь ответственное назначение по линии Коминтерна утверждаются и вообще исходят через политбюро, этот высший партийно-государственный аппарат…
Как известно, большевики потерпели ряд жестоких поражений в своей многогранной деятельности во имя «мировой революции» в Европе, в частности в Германии и Англии и других частях света.
Это побудило их броситься по линии наименьшего сопротивления на Восток. Всей своей деятельностью на Востоке они стараются дезорганизовать его рынки и промышленность, стремясь, таким образом, вызвать застой в торговле и как следствие ее безработицу в Европе. В этих разрушительных моментах вся политика большевиков: ведь безработица в Европе обуславливает собой недовольство рабочего класса, а недовольство является первым этапом на путях революции и гражданских войн. А для бациллы большевизма восстановление брата на брата, то есть гражданская война, является исключительно благоприятной, чтобы не сказать единственной средой… Голод же, разруха и прочие ужасы всей жизни человеческих обществ для них:
Пустые громкие слова,
Обширный храм без божества!
Сеть этих большевистских организаций раскинута, как известно, буквально по всему миру, но, конечно, центры их находятся в странах «наибольшего благоприятствования», с которыми большевики состоят в дипломатических сношениях и ведут торговлю.
И мы видим, что во всех дипломатических, торговых и других учреждениях СССР за границей имеются, как нечто неизбежное, представители Коминтерна — его эмиссары, резиденты, агенты, пропагандисты, которые, официально занимая часто второстепенные и даже совершенно ничтожные должности в этих учреждениях, но (в большинстве случаев места средних служащих) ведут ту разрушительную работу, которая именуется «организация мировой революции».
Вся большевистская деятельность за границей, во всем своем объеме, в общем распределяется между двумя основными мировыми центрами, между Берлином и Стамбулом.
В первом представителем Коминтерна является особый уполномоченный, держащий в своих руках всю работу Коминтерна в европейских странах, а также в странах Дальнего Востока, впрочем, в его район входит также вся Африка и колонии Голландии, равно как и те европейские государства, которые до сих пор имели мужество и государственный смысл не признать советское правительство: Бельгия, Голландия и т. д. Ясно, что все эмиссары стран, входящих в его район, организационно подчинены этому уполномоченному в Берлине, который сносится непосредственно с Коминтерном в Москве.
Вторым центром является Стамбул. Но уполномоченный Коминтерна, находящийся в нем, организационно зависит до известной степени от Берлина, получая основные директивы Коминтерна через него. Стамбульский уполномоченный со сделанными только что оговорками руководит работой в странах Ближнего Востока и в европейских колониях. Конспирации ради эти оба уполномоченные, руководя всем делом подготовки «мировой революции» в своих районах, всегда остаются в тени, открыто же выступают в качестве их заместителей и представителей во всех странах особые эмиссары Коминтерна. Их роль чисто служебноподчиненная: на основании инструкций, получаемых ими от уполномоченных, они уже ведут непосредственно работу по выступлениям[10]и подготовкам восстаний, дирижируя местными коммунистическими партиями. В ведении этих эмиссаров состоит целый ряд сотрудников в качестве организаторов, агитаторов, пропагандистов и пр. Все эти деятели Коминтерна, конечно, живут под вымышленными именами и по подложным паспортам.
Многие из этих работников Коминтерна в зависимости от возложенных на них обязанностей обыкновенно являются лицами с высшим или специальным образованием, с большим коммунистическим стажем и по большей части с весьма солидным чекистским опытом. Упомяну еще раз, что все эти деятели Коминтерна законспирированы и что их официальная служба в полпредстве и торгпредстве является лишь маской, под защитой которой они пользуются институцией столь презираемого большевиками «буржуазного» международного права — дипломатической неприкосновенностью. Конспирация этих лиц имеет целью скрывать сущность их работы не только от правительств тех стран, в которых они находятся, но также и от своих сослуживцев, сотрудников тех учреждений (часто даже от самого полпреда и торгпреда), к которым они для видимости официально прикомандированы.
Меня лично предназначали для работы при одном из эмиссаров в расчете на то, что я, зная ряд восточных языков, смогу легко и быстро ориентироваться в обстановке, в которой мне предстояло бы работать. По плану я должен был войти в институт организаторов пропагандистов, в обязанности которых входит: развитие революционного движения в данном районе, набор и расширение местной агентуры, создание боевых ячеек, организация баз для оружия, транспортирование их и т. д.
Всю работу за границей агенты Коминтерна осуществляют при ближайшем участии местных коммунистических организаций, если таковые имеются, и ряда смешанных организаций вроде МОПР, Межрапром и т. и. Там, где нет местных коммунистических организаций, агенты Коминтерна для осуществления этих задач[11]вербуют нужных людей из туземцев, которые являются главным образом живым материалом в организации гражданской войны.
Во всей этой деятельности агенты Коминтерна тщательно выясняют местную обстановку, местные нравы, обычаи, религии культов, национальные симпатии или антипатии и, стараясь возможно лучше использовать эти особенности, энергично натравливают одну национальность против другой, сторонников одного религиозного культа против таковых же другого… Но все эти дороги должны вести в Рим, то есть к «мировой революции»…
Глава 13
Помимо представителей Коминтерна, во всех странах существует институт резидентов Объединенного государственного политического управления (ОГПУ). Такой резидент подчинен Москве и сносится со своим управлением через посредство его иностранного отдела.
Для того чтобы у читателя было ясное и верное представление о том, что представляет собой институт резидентов ОГПУ за границей, я считаю нелишним отметить, что, в общем, по существу своих полномочий, резидент той или иной страны является как бы послом ОГПУ или же его полномочным, для данной страны, представителем.
Но не надо забывать, что этот посланник тайный, часто занимающий в полпредстве или торгпредстве не только что второстепенную, но нередко даже совершенно ничтожную должность. И тем не менее, осуществляя свои задачи представителя ГПУ за границей, он по существу держит в своих руках даже самих полпредов, являясь для них часто настоящей грозой, в чем я и убедился во время моей службы в Стамбуле.
В задачу резидента ОГПУ входит секретное наблюдение за эмиграцией и за советскими гражданами, ибо, помимо всего, советскому гражданину, работающему в советских учреждениях за границей, строго воспрещаются всякие сношения с российскими эмигрантами, и виновные подвергаются строгому наказанию.
Резидент ОГПУ также выполняет через свой аппарат задания, получаемые им из Разведупра (разведывательное управление штаба Рабоче-крестьянской Красной армии), то есть занимается и военным шпионажем.
Резидент ОГПУ, помимо своего аппарата, пользуется аппаратом уполномоченного Коминтерна и вербует информаторов для своих шпионских целей среди местной коммунистической партии. Часто такие завербованные иностранные коммунисты даже не подозревают, что, состоя членами коммунистической партии у себя дома, они в то же время становятся предателями своей родины, выдавая возможным врагам тайны государственной обороны своего отечества…
Резидент О ГПУ вербует секретную агентуру также среди российской эмиграции. Секретные сотрудники из эмигрантов вербуются в среде сменовеховцев, нуждающихся, недовольных и просто явных негодяев, готовых продать за деньги что угодно и кого угодно.
Чекистские деятели за границей неисчерпаемы в применяемых ими способах вербовки людей к себе на службу, по принципу «не мытьем, так катаньем»!.. Если не удастся, так сказать, прямое вербование соблазном денег и разных благ, тогда прибегают к самым разнообразным способам. Не перечисляя всех практикующихся приемов, укажу на один из них, так сказать, моральный или, точнее и вернее, совершенно аморального свойства — путем определенного шантажа. Наметив какого-нибудь человека как желательного, чекисты в случае, если он отвергает прямые предложения, стараются всячески его запугать — и материально, и морально. Когда такой человек-жертва попадает в совершенно безвыходное положение, чекисты, как оно понятно, уже сравнительно легко овладевают им. Довольно общим приемом является следующий: допустим, что чекисты узнали, что семья, жена, дети и вообще близкие намеченного «полезного» человека находятся в СССР, его угрозами, вплоть до расстрела его близких, заставляют служить себе, при этом обещая, что если он исполнит их желание, то близким дадут возможность выехать к нему за границу.
Немудрено поэтому, что, не стесняясь средствами, чекисты имеют возможность обильно пополнять штат своих секретных сотрудников из эмигрантов.
Связь с этими секретными сотрудниками, получение от них сведений, инструктирование их и т. д. происходит в чрезвычайно конспиративной обстановке. Секретные сотрудники ГПУ в эмиграции разбросаны повсюду: они имеются в организациях, в партиях, в учреждениях и на предприятиях.
Сеть агентуры ОГПУ так велика, что положительно невозможно хотя бы приблизительно установить ее размеры или границы. Однако при некотором знакомстве с методами и приемами ГПУ их можно выявить — для этого лишь надо хорошо изучить систему ГПУ.
Все эти заграничные организации Коминтерна, ОГПУ и прочие для своих сношений с Москвой пользуются услугами обычных дипломатических курьеров Народного комиссариата по иностранным делам (Наркоминдел). Институт дипломатических курьеров комплектуется из лиц, имеющих большой партийный стаж, работавших или работающих в органах ОГПУ или же занимавших ответственные партийные должности в армии, не ниже политического комиссара дивизии.
Таким образом, мало-мальски секретные документы получаются и отправляются через все границы не в кармане какого-нибудь агента, а в неприкосновенной вализе дипломатического курьера. Помимо этой связи и других, существует еще другой способ, чрезвычайно распространенный и удобный для большевиков. А именно: использование командного состава советских пароходов (советского торгового флота), делающих заграничные рейсы, а также секретарей или членов бюро комячеек (судовых), которые в большинстве случаев являются секретными агентами ГПУ.
Конечно, осуществление поставленных большевиками задач требует колоссальных расходов. Если провести параллель между царским правительством и советской властью, то можно установить, что царское правительство на содержание армии, полиции и заграничного шпионажа расходовало едва одну треть того, что расходуют большевики. Суммы этих расходов не поддаются даже никакому учету, так как в большинстве являются «секретными», а потому не подлежат государственному контролю[12].
Главным и постоянным фондом для расходов Коминтерна, ОГПУ и Разведупра является забронированная в Госбанке иностранная валюта, которая реализуется преимущественно за границей. Сметы эти выражаются во многих миллионах долларов. Смета заграничной работы составляется на каждые шесть месяцев в мировом масштабе, включая в себя содержание и установление новых резидентур, содержание секретных сотрудников, которые в зависимости от степени значения получают от 800 долларов до 30[13].
Деньги по утверждению сметы коллегией ГПУ для иностранного отдела пересылаются отдельными суммами в секретных пакетах через дипкурьеров в адрес, например, «Париж. Полпредство. Довгалевскому». Получив такой пакет, посол вскрывает его, возвращает конверт с распиской на нем обратно курьеру для доставки в центр, а второй конверт с ценностями или же документами и с надписью, например: «уполномоченному ГПУ товарищу Яновичу», передается лично послом или его первым секретарем истинному адресату. Процедура вскрытия и передачи пакетов обыкновенно производится первыми секретарями полпредства. Деньги, полученные таким образом уполномоченным ОГПУ, записываются им на приход секретной кассы и сдаются им на личный текущий счет в один из банков и по мере надобности выписываются чеки для текущих секретных оперативных расходов. На этот же текущий счет вносятся также деньги, полученные от реализации ценностей. Отчетность в израсходованных суммах представляется резидентом в секретную бухгалтерию иностранного отдела ОГПУ, где после проверки отчета начальником иностранного отдела (ИНО) она передается на заседание коллегии для окончательного утверждения. Помимо получения денежных средств из Москвы, Коминтерн и ОГПУ пользуются еще определенным отчислением от всех торговых операций торгпредств и разных коммерческих организаций, находящихся за границей. Это дело проводится весьма конспиративно, о нем знает только торгпред и уполномоченный ГПУ, и по бухгалтерским книгам эти трансакции проводятся по условленным номерам.
Деньги от этих «операций» расходуются главным образом в колониях и идут на содержание и расходы агентов-пропагандистов!
Глава 14
Возвращаясь к моменту моего назначения товарищем Суховием на должность хранителя ценностей торгпредства.
Приняв должность от моего предшественника, я приступил к работе и одновременно знакомился с окружающими меня сотрудниками.
Моим непосредственным начальником был известный в свое время чекист Пинис[14].
Пинис, присутствуя при приемке мной ценностей торгпредства выражавшихся в миллионах турецких лир, напомнил мне о возложенной на меня ответственности за эти ценности и многозначительно добавил, что нам не помешало бы ближе познакомиться…
Заведуя финансовым отделом торгпредства, и в то же время будучи заместителем торгпреда, Пинис был совершенно незнаком со своими обязанностями, и, когда главный бухгалтер торгпредства Гольдштейн убежал из торгпредства, Пинис, не зная бухгалтерии, на требование торгпреда дать ему справку о состоянии счетов и не имея ни малейшего представления, что от него требуют, представил какую-то неразбериху. Да и откуда ему было это знать, — ведь роль его сводилась к тому, что он был оком местного уполномоченного ГПУ, а в этом отношении он был вне конкуренции.
В самом начале моей работы в торгпредстве произошел следующий характерный для заграничных большевистских учреждений случай.
Константинопольское отделение «Аркоса» было оштрафовано турецкими властями на 200 тысяч лир за нарушение закона о гербовых сборах.
Торгпредство, являясь ответчиком ввиду закрытия отделения «Аркоса» в Константинополе, должно было внести этот штраф в срок, предложенный турецкими властями. Торговый представитель Суховий обратился с письмом в министерство финансов с просьбой о вторичной проверке архивных книг «Аркоса», чтобы окончательно установить размер штрафа. Комиссия была назначена, и в течение двух месяцев она рылась в архивах «Аркоса» и наконец свела размеры штрафа с 200 тысяч лир до 8 тысяч. Устроил это Пинис путем взятки чиновникам турецкого министерства финансов, делавшим ревизию.
Взятка выражалась в сумме 10 тысяч лир, я лично выдал эту сумму из кассы торгпредства в двух конвертах одному нашему сотруднику для передачи вышеназванным агентам.
Останавливаться подробно на «торговой» работе торгпредства я не буду, ибо торговая роль большевиков за границей уже известна и подноготная таковой исчерпывающе выявлена в книге бывшего замнаркомвнешторга Советской Республики и директора «Аркоса», одного из виднейших коммунистических деятелей «в прошлом» и организатора советской торговли за границей, — Г.А. Соломона, каковую книгу я горячо рекомендую моим читателям[15].
Резиденцией официальной дипломатической большевистской миссии в Турции, возглавляемой полпредом Сурицом, является Анкора. Но, помимо чисто официальной миссии, имеется еще более важная, тщательно законспирированная миссия, находящаяся в Стамбуле. Эта-то последняя миссия руководит всей заграничной деятельностью Коминтерна и ГПУ по директивам Москвы. Во главе ее, занимая официальную должность атташе генерального консульства, стоит лицо, скрывающееся под псевдонимом Минский.
Через своих агентов он руководит из Константинополя всей большевистской работой на Ближнем Востоке и особенно среди российских эмигрантов. Его ближайшим помощником является сотрудник закавказского ГПУ Гришин (псевдоним), работающий исключительно среди закавказской эмиграции. Официально же он исполняет скромную должность «коменданта советских домов в Стамбуле».
Вице-консулом константинопольского генерального консульства состоит Андерсон (псевдоним), по существу уполномоченный Разведупра на Ближнем Востоке. Его ближайшим помощником являлся Соболев Александр, занимавший официальный пост морского агента СССР в Турции, но в силу своего сотрудничества по линии товарища Андерсона он проживал в Стамбуле. Не раз я его встречал в помещении генерального консульства на заседаниях комячейки, и особенно он мне памятен, когда он присутствовал на банкете в честь моряков Красного флота, прибывших в Турцию с визитом турецким властям. Соболев и его «жена» — последняя ответственная сотрудница ОГПУ — были очень дружны с самим Минским и Гришиным, о которых я выше уже упоминал. Не раз Минский упоминал мне о Соболеве и в особенности о его «жене», как сотрудниках «высшей марки».
Бывают случаи, что некоторые деятели тайной советской организации за границей, не довольствуясь получаемыми ими содержаниями или же по другим каким-либо соображениям, продают представителям иностранных государств имеющиеся у них секретные сведения, а иногда и совсем переходят к ним на работу.
Так, мне вспоминается случай, имевший место в одном из лимитрофов. В качестве представителя Разведупра в нем находился некто Галицкий. Он предложил политической полиции этого государства за большую плату, конечно, давать ей всю свою агентуру (то есть назвать всех своих секретных агентов) и продать все имеющиеся у него секретные документы. Сделка состоялась, Галицкий ушел с советской службы и остался жить у них. На большевиков эта измена Галицкого произвела впечатление. Он им нанес серьезный удар. Спустя довольно продолжительное время Галицкий израсходовал деньги, полученные им от полиции, и вновь обратился к ней с просьбой о денежной помощи. Полиция предложила ему официально поступить к ней на службу. Галицкому ничего не оставалось делать, как согласиться на это предложение.
После известного времени работы, убедившись, что от него нового ничего нельзя получить, политическая полиция предложила Галицкому нелегально отправиться в СССР для секретной работы в пользу ее. Конечно, это совсем не входило в планы Галицкого, и он совершенно основательно отказывался от этого поручения, доказывая своему новому начальству, что эта командировка равносильна смертному приговору, ибо его знают отлично в ГПУ и никакой грим не спасет его от расстрела. Но политическая полиция, несмотря ни на что, настаивала и пригрозила ему в случае его упорства просто выдать его большевикам.
Он поехал и, конечно, вскоре был раскрыт ГПУ и расстрелян. Все дело о Галицком хранится в архивах ГПУ…
Да, много хранится в архивах, и, когда власть большевиков будет свергнута, будущий историк найдет в нем много захватывающего материала, который прольет исторический свет на многие и многие обстоятельства, сейчас загадочные и непонятные…
В торговом представительстве СССР, в отделе Закавказской государственной торговли (Закгосторг) служит также некто Нахимян, официально занимающий должность уполномоченного по реализации советских Табаков, а на самом деле ответственный сотрудник закавказского
ГПУ, имеющий задания работать среди эмигрантов, главным образом армян и армянского духовенства. Поле его деятельности обнимает Турцию и Грецию, куда он имел специальное назначение, которого не мог выполнить за неполучением визы. Его непосредственным начальником и в то же время уполномоченным восточной секции Коминтерна на Ближнем Востоке является Шавердов. Помимо коминтерновской работы, Шавердов распропагандировал армян и с их помощью вел свою разрушительную работу в Сирии и Египте.
При мне его перевели в Париж, но он не мог выехать туда, так как на его неоднократные просьбы во французском консульстве ему в визе отказывали.
Начав знакомиться с эмигрантской литературой, я по возможности старался встречаться с эмигрантами, ибо все это меня очень интересовало. Познакомившись с ними, я таким образом убедился в превратности наших взглядов в СССР на некоторые части ее. Вскоре среди них я нашел себе близких друзей, которые приняли большое участие во мне и помогли впоследствии мне бежать из Стамбула.
Нечего и говорить, что мои встречи с эмигрантами при круговой слежке не прошли незамеченными для ГПУ. На них обратили внимание чекисты из генконсульства, и однажды я был вызван Минским, который «напомнил» мне об обязанностях советского гражданина за границей и рекомендовал учесть, что в прошлом я был его коллегой по работе в ЧК, а поэтому заведенные мной знакомства среди эмигрантов в Стамбуле я должен «использовать» в интересах ГПУ.
Короче говоря, Минский потребовал, чтобы я информировал его обо всем, что творится в эмигрантских сферах.
Мне ничего не оставалось делать, как хотя бы для вида согласиться. Да ведь я и не мог не согласиться…
В качестве бывшего сотрудника ЧК я после демобилизации из ее органов состоял на особом учете в ленинградском ГПУ, как «военнообязанный чекист». Кроме того, хотя я и был исключен из коммунистической партии, я, как оно и понятно, был на учете большевиков, ибо предполагалось, что я разочаруюсь в «троцкизме» и перейду обратно в лоно «сталинизма». Поэтому понятно, что мой отказ Минскому повлек бы за собой насильственный увоз меня в СССР со всеми отсюда вытекающими последствиями. Я же твердо решил воспользоваться моей командировкой за границу в Турцию для побега с советской службы, о чем ниже…
Насильственный увоз в СССР — это не пустая фраза. Нет. Этот способ практиковался (и, наверное, практикуется и сейчас) как обычный прием для расправы с неугодными или подозрительными сотрудниками советских организаций в Турции. Делается это при благосклонном содействии турецкой полиции моряками с советских пароходов, среди которых, как я упомянул выше, имеется много секретных сотрудников ГПУ.
Обыкновенно чекисты стараются всеми способами заманить такого «неугодного» сотрудника на советский пароход, где, понятно, он всецело находится в руках чекистов. Но, конечно, подозрительные или неугодные сотрудники обыкновенно и сами догадываются, что против них куются ковы, и стараются не поддаваться ни на какие заманивания. В таких случаях агенты ГПУ стараются заманить намеченную жертву хотя бы на пристань. А там при известной ловкости, быстроте и натиске можно было сравнительно легко схватить намеченного к увозу и посадить его в каик или прямо на пароход. Надо сказать, что увозят не только сотрудников советских организаций и интересующих их эмигрантов, но чекисты не останавливаются даже перед насильственным увозом неудобных почему-либо официальных чиновников турецкого правительства. Так мне лично известен случай, когда агентами ГПУ был завлечен на советский пароход секретный агент турецкой полиции.
Один из агентов ГПУ, «усиленно нарушавший турецкое гостеприимство» своей работой среди эмиграции, однажды, проходя по главной улице Стамбула, заметил за собой слежку. Агент ГПУ, не подавая виду, заставил турецкого сыщика пойти за ним до самого порта, где у пристани стоял советский пароход «Красный Профинтерн». Спустившиеся на берег матросы по сигналу агента ГПУ схватили турецкого сыщика и силой затащили его на пароход. Был вечер, на пристани не было ни души, а подкупленная турецкая пограничная стража была удалена. Операция прошла благополучно, и по дороге в Одессу турецкий сыщик был убит и брошен в море. Турецкие власти об этом инциденте, конечно, знают, но, как хорошие союзники, — молчат.
Я выше упомянул, что решил бежать из Стамбула. Я имел в виду перейти на положение политического эмигранта, чтобы вести активную борьбу против большевиков. Ясно, что, поставив себе такую цель, я должен был притворяться и хитрить, и не только хитрить, но стараться перехитрить Минского и его компанию и даже воспользоваться ими для моих целей.
Встречаясь с эмигрантами, которые помогли мне организовать все бегство, я точно знал, что о моих свиданиях с ними местное ГПУ знает из донесений своих провокаторов из среды тех же эмигрантов. А поэтому при встрече с Минским, когда мне приходилось «информировать» и его о состоянии эмиграции в Турции, я ему говорил абсолютную истину и как-то однажды рассказал Минскому даже и о том, что с помощью таких-то и таких-то лиц я получил французскую визу на въезд во Францию и что мой отъезд назначен на такой-то день. Я вел опасную игру. Минский был в восхищении от моих столь быстрых успехов внедрения в эмигрантскую среду и сам предложил мне план, как я должен вести игру здесь и после «бегства» там, в Париже. По этому плану я в качестве «разложившегося» коммуниста должен войти в доверие эмигрантам и с их помощью «бежать» в Париж, где и развернуть чекистскую работу среди эмиграции. Я делал все по плану Минского и в то же время имел свою цель — какими угодно средствами и путями бежать из Стамбула в ту же Францию.
Однако в последние дни моего пребывания в Стамбуле я стал замечать, что ко мне переменилось отношение со стороны Минского и его помощника Гришина. Лишь впоследствии я узнал, что, прежде чем окончательно решиться на командировку меня в Париж, Минский запросил обо мне О ГПУ в Москве, и оттуда получилась «не совсем благоприятная для меня аттестация»: что я, как бывший оппозиционер, исключен из партии и т. д. и т. д. и что Москва вообще удивляется, каким образом я очутился за границей в Стамбуле.
Но было уже поздно. День отъезда был назначен. Документы были заготовлены. Оставалось только получить пароль от Минского к парижскому уполномоченному представителю ГПУ. За несколько дней до моего отъезда я сдал по акту все имеющиеся у меня ценности назначенному заместителю и согласно правилам с этого момента считался в полагающемся мне пятнадцатидневном отпуске.
Утром 14 июня 1928 года я зашел к Минскому и показал ему свой паспорт с французской визой и просил дать мне окончательные инструкции, так как я на следующий день уезжаю. Минский ответил мне, что он ждет из Москвы новых инструкций относительно меня, и с поездкой просил некоторое время повременить. Я ничего ему не ответил, но твердо решил на следующий день бежать. Днем друзья-эмигранты, с которыми я последний раз встретился, принесли мне проездной билет и еще раз напомнили быть особенно осторожным, так как я выезжаю под своей фамилией, и, беря выходную турецкую визу, я рискую, что турки могут сообщить консульству, и тогда большевики со мной расправятся с помощью турок «по-своему».
В тот же день вечером я зашел еще раз к Минскому, показал ему билет и сказал, что мне необходимо выехать на другой день, так как мое замедление может навести эмигрантов на подозрения…
Однако он категорически отказался разрешить мне выехать, и, прощаясь, он мне сказал:
— Вы, конечно, можете ехать, но дисциплина требует, чтобы вы подождали ответа из Москвы на наш вторичный запрос. А эмигрантам вы можете сказать… ну, что вы больны, что ли… Вот товарищ Гришин купит вам английскую соль, примите хорошую дозу и ложитесь, а утром скажите X., что вы больны, и таким образом отъезд можно будет отложить.
Не вызывая подозрений, я согласился, конечно для вида, остаться и «заболеть» и попросил, уходя, Минского зайти ко мне домой на следующий день часов в 12 дня, чтобы проведать меня и узнать о результатах моих дальнейших переговоров с эмигрантами.
Поздно вечером я вышел от Минского. Гришин пошел меня провожать. Мы купили в первой попавшейся аптеке английскую соль и у парадного моего дома распрощались.
— Ну, значит, до завтра, — сказал Гришин, пожимая мне руку. — Итак, мы будем у тебя в 12 часов…
Я провел тревожную ночь. Пароход должен был отойти в 7 часов утра. Всю ночь я провел, изобретая один за другим планы, думая, как мне выбраться из дому и сесть на пароход незаметно для чекистов и турецкой полиции… Я останавливался на разных планах, отбрасывая их один за другим… Но я твердо решил во что бы то ни стало уехать на другой же день… и я пошел ва-банк!..
Рано утром — было не более пяти часов — я с вещами в руках спустился из своей комнаты к выходу на улицу. Я оставил свой багаж в вестибюле и пошел взять такси. Открыв выходную на улицу дверь, я заметил, что напротив — на другой стороне улицы — стоял какой-то человек, пристально следивший взором за домом, где я жил. Увидев меня, он быстро повернулся и почти бегом спустился вниз по улице… «Шпик…» — пронеслось в моей голове… Но я шел ва-банк… «Черт с ним, пусть следит», — пронеслось в голове как-то механически, не задевая моего сознания… И я двинулся в противоположную сторону улицы, и, пройдя до ресторана «Черная роза», взял такси, сел, подъехал к дому. Вышедшая хозяйка помогла мне внести в автомобиль мой багаж. Я сказал ей, что уезжаю в отпуск на острова, скоро вернусь, распрощался, приказал шоферу ехать на пристань… Я внимательно смотрел в окно автомобиля, никакой слежки за мной не было. Я благополучно доехал до пристани.
Благодаря хорошему бакшишу полицейскому и таможенному чиновнику я через десять минут уже находился с моим багажом в каюте парохода.
Было только шесть часов, таким образом, до отхода по расписанию оставался еще час… Целый час!.. Я предоставляю читателям судить о том, что переживал я в ожидании, особенно ввиду того, что пароход вместо семи часов отчалил только в одиннадцать…
Я с облегчением вздохнул лишь после того, как пароход отошел от пристани…
Я был свободен.
Но тревоги еще не улеглись. Особенно тревожила меня одна встреча. На том же пароходе в числе пассажиров находился епископ Александр в обществе какого-то русского грека, с которым я впоследствии и познакомился. Это был пожилой уже человек, внушающий доверие. Я чувствовал себя настолько одиноким, что, разговорившись с ним, сообщил ему, кто я и что я бегу от большевиков…
Он меня «успокоил»:
— Ну, батюшка, в Пирее-то вас, будьте уверены, задержат, — сказал он — и выдадут, ведь «они» все могут… и уже по радио, наверное, сообщили кому надо….
Но пароход шел под английским флагом!
И 21 июня я благополучно прибыл в Марсель и в тот же день вечером выехал в Париж.
Примечания
1
Когда уже была закончена эта книга, я узнал, что Гольденштейна убрали на покой в СССР.
(обратно)2
Конец страницы и следующие страницы 146–148, касающиеся деятельности господина Хоштарии, выпущены по требованию господина Хоштарии, наложившего в порядке предварительного судебного производства временный арест (einstweilige Verfügung) на эти страницы.
(обратно)3
Генерал Думбадзе мой дядя, бывший ялтинский градоначальник, любимец Николая II, был известный реакционер и славился своим юдофобством. (Здесь и далее примеч. авт.)
(обратно)4
Домовой комитет.
(обратно)5
В СССР на каждой железнодорожной станции имеются представители станционной железнодорожной ЧК.
(обратно)6
Мне приходилось часто читать о всякого рода выпытываниях у подследственных показаний. Говорилось часто о разных истязаниях. Но кроме указанного способа застращивания, способа действительно морально жестокого, я лично никаких других не знаю.
(обратно)7
За Северным полярным кругом, недалеко от Соловков.
(обратно)8
В СССР, не имея командировки какого-нибудь советского учреждения, попасть в вуз почти невозможно.
(обратно)9
Упомяну, что кроме этого высшего специального учебного заведения в СССР имеются еще следующие такого же рода. А именно: в Москве — Восточный институт имени Наримана Нариманова, Коммунистический институт трудящихся Востока имени Сталина, затем в Баку, Ташкенте, Самарканде, Владивостоке и других городах, помимо специальных восточных вузов еще имеются восточные факультеты при университетах. Все упомянутые учебные заведения являются рассадниками, из которых выходят специалисты для работы на Востоке, как по линии Коминтерна, так и ГПУ. Прием слушателей в них обставлен известными затруднениями. Так, по правилам туда принимают лиц: или имеющих партийный стаж не менее пяти лет, или же по рекомендации партийного комитета. Независимо от этого для поступления необходимо иметь или стаж армейский, или же стаж работы в ЧК (ГПУ). Таким образом, лица, кончившие эти учебные заведения, непосредственно затем командируются в Коминтерн (восточная секция) и в ГПУ (иностранный отдел), которые затем откомандировывают их уже в качестве своих сотрудников за границу.
(обратно)10
Например: организации Первого мая, Первого августа и пр. и пр.
(обратно)11
Таковые сводятся к внутрикурьерской службе, предоставлению конспиративных квартир, хранению литературы, оружия и т. д.
(обратно)12
Этот фонд пополняется драгоценными камнями, изделиями и художественными произведениями, реализуемыми главным образом за границей.
(обратно)13
В смету на заграничную работу не входит содержание резидентов ОГПУ и их помощников (жалованье которых колеблется от 200 до 400 долларов в месяц), которые, занимая официальную должность в полпредстве или торгпредстве, содержатся за счет этих учреждений.
(обратно)14
Его младший брат, Рудольф Пинис, был одно время агентом Коминтерна и ГПУ, занимая скромную должность в Текстиль-импорте, где он прослужил в течение одного года и только недавно был выслан из Египта.
(обратно)15
Среди красных вождей. Париж: Мишень.
(обратно)



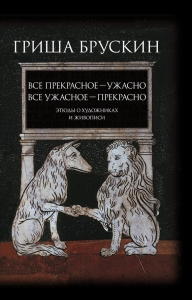
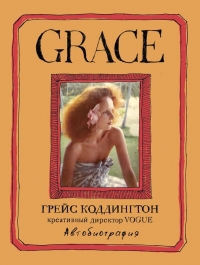

Комментарии к книге «ГПУ. На службе в ЧК и Коминтерне», Евгений Васильевич Думбадзе
Всего 0 комментариев