Эстер Маркиш Столь долгое возвращение… Воспоминания
Памяти расстрелянных 12-го августа 1952 года
Выражаю дружескую благодарность Эте и Мите Мейлехзон, без помощи которых эта книга не увидела бы света.
АвторПредисловие к русскому изданию
С того времени, как эта книжка вышла впервые — по-французски — прошло пятнадцать лет. Немало воды утекло с тех пор — мутной и кровавой, соленой и пресной, — но никак не прозрачной и не сладкой. Многое изменилось в мире — и в Советском Союзе, откуда я уехала, и в Израиле, куда я вернулась. Но вряд ли человек, или, если угодно, Человек, стал за эти годы лучше, совестливей и добрей. Поэтому те страшные времена, которые я описала в этой книге, хоть и ушли в историю, но не окаменели, не омертвели. Они не только напоминают о вчерашнем — они говорят о завтрашнем, потому что сегодня решается судьба одной шестой части мира, на которой расположен Советский Союз. И от этого решения отчасти зависит и судьба остальных пяти шестых.
Возврата к прошлому нет — в этом сходятся мнения советологов и экономистов, футурологов и гадателей по кофейной гуще. Но кто возьмет на себя ответственность сказать, что будущее не может стать еще более страшным, чем прошлое? У властолюбия нет границ, у порока нет дна, и эти две столь человеческие черты, слитые воедино, способны породить новое чудовище, с новыми отменными зубами и стальными когтями. Дай Бог, чтобы этого не произошло!
Сегодня, спустя пятнадцать лет, я ничего не меняю в моей книге, ничего не добавляю и ничего не убавляю. Пусть читатель воспримет ее такой, какою она была написана — и, все же, сделает в своей душе поправку на время.
Автор Май 1989 Тель-АвивПредисловие
Мои воспоминания и моя жизнь — лишь производные от жизни Переца Маркиша, от его оставшихся ненаписанными воспоминаний. Вся моя жизнь, — до того, как его увели в ночь на 27 января 1949 года, и после того. Вплоть до нынешней минуты, когда я пишу эти строки в своем новом доме, на своей древней родине, вплоть до того мига, который станет моим последним.
Дело не в том, что Маркиш «создал» меня, сформировал мои взгляды и убеждения, приобщил к еврейской культуре и еврейскому миру. Это само собой разумеется и не требует объяснений. Но есть, по крайней мере, три обстоятельства, которые надо объяснить с полной ясностью.
Маркиш любил свой народ. В этой любви не было ничего показного, ничего истеричного или аффектированного, как у многих великих и искренних народолюбцев минувших и настоящих времен. Не было в нем и ни крошки пренебрежения к другим народам. (Вспомним, для примера, хоть Достоевского, особенно в «Дневнике писателя» — с его почти шаманскими вещаниями о «новом слове», которое русский народ изречет прогнившей Европе, с неистощимой бранью по адресу «жидов» и «полячишек»).
Маркиш любил свой народ, как любят большую и разномастную родню, радуясь доброму в ней, не прощая худого, но нуждаясь в ней повседневно и повсечасно, потому что она дала ему все — ум, чувства, юмор, честь, сознание собственного достоинства, самое умение отличать добро от зла, наконец. И как невозможно себе представить, чтобы можно было простить убийцу, решившего извести всю твою семью, как не мог забыть Маркиш шести миллионов евреев, убитых германским фашизмом, так никогда не мог бы он простить преемников своих убийц. Пуля, пущенная ему в затылок, отняла жизнь не только у него, но и у той культуры, которая была смыслом всей его жизни. Если бы Маркиш мог подняться из пепла, развеянного палачами по ветру почти четверть века назад, он расстался бы с Россией навсегда, как бы тяжело и горько ни было это расставание. Вот почему я в Израиле — не вместо него, но вместе с ним.
Я сказала, что расставание было бы и горьким и тягостным. Всеми силами, всей нежностью души Маркиш был привязан к еврейской культуре диаспоры, верил в ее жизнеспособность и большое, долгое будущее российского еврейства. Он воспевал советскую власть не из личной выгоды и не из соображений текущей минуты, но по непоколебимому убеждению, что эта власть раскрепостила его народ, разрушила стены гетто ради нового, вольного цветения и вольного полета. (Отсюда, в первую очередь, революционное бунтарство Маркиша и его пафос). Маркиш заблуждался. Он заплатил за свое заблуждение кровью и мозгом, разбрызгавшимся по стенам подвала, где его застрелили. Но и это не искупает заблуждения. Если бы пепел мог ожить, Маркиш был бы сегодня там, где зеленеет и крепчает молодой побег от древнего ствола еврейства, — в Израиле. Вот почему я в Израиле, и я уверена, что он одобряет мое решение: «Правильно, Фирка, молодец!»
И третье. В повести Кацетника «Часы над головой» есть такой эпизод: в гитлеровском лагере смерти, на пороге газовой камеры хасидский цадик говорит своему ученику, что и в их мученичестве есть Божий промысл: из их праха родится новый Израиль. Так и смерть Маркиша и его товарищей: убийцы рассчитывали, что это будет началом физического и духовного истребления российского еврейства, но погром 49–52 годов стал в конце 60-х одним из самых мощных источников нашей решимости (горькой решимости, позволю я себе повторить!) расстаться с прошлым бесповоротно.
Маркиш — его имя, память о нем — самый деятельный и влиятельный участник движения, охватившего российское еврейство, российской «алии», как говорят в Израиле. Вот почему я в Израиле — вместе с Маркишем.
Я в Израиле, и я счастлива не только ощущением свободы, но и сознанием исполненного долга. Тех, кто помог мне исполнить мой долг и без чьей помощи наша мечта о свободе не сбылась бы никогда, я благодарю, жалея лишь о том, что не могу увидеть и обнять каждого из них. Их очень много, они принадлежат ко всем расам и национальностям, это поистине «интернационал добрых людей», о котором мечтал герой рассказа Исаака Бабеля местечковый мудрец Гедалье, размышляя о жестокости революции.
Пятеро из них встретили нас в Вене — Барбара Оберман из Англии, Джоел Спрайрегн с женой из США, Алекс Бюшенжер из Франции, Ицхак Кац из Западной Германии.
Я благодарю умного и обаятельного отца Мишеля Рике — французского католического священника, навестившего нас в Москве. Он пришел к нам в трудные для нас дни, и его мудрые слова и действенная помощь вернули нам почти утраченную было надежду. Я хочу помянуть добрым словом покойного Андре Блюмеля — мужественного человека с добрым сердцем, проявлявшего искреннее сочувствие к «московским израильтянам» и помогавшего им. Я выражаю благодарность госпоже Ванклер, которая, встретившись со мной в Израиле в первые дни моего приезда, предложила мне написать эту книгу и помогла ее опубликовать по-французски. С благодарностью буду я всегда вспоминать Грейвеля Джанера — члена палаты депутатов Великобритании, чьи телефонные звонки из Лондона каждую пятницу раздавались в нашей московской квартире, вселяя в нас бодрость и веру.
Я хочу вспомнить особо удивительную встречу в Бостоне, которая потрясла меня до глубины души в самом прямом смысле этого слова. Перед одним из выступлений, в фойе театра, ко мне вдруг бросился юноша со словами: «О, госпожа Маркиш, неужели это, в самом деле вы? Неужели мы дождались?» И он обнимал меня и плакал навзрыд, и я тоже плакала, конечно. Я так и не узнала его имени, и перед этой безымянной и бескорыстной любовью, воплощением которой он был в ту минуту, я склоняюсь в благоговении до земли.
Да, мы дождались, а Маркиш не дождался. И памяти всех недождавшихся я посвящаю свою книгу.
Автор 1974 Тель-АвивЧасть первая
1. Погром в Екатеринославе
И по сей день Баку разделен на две части: Черный город и просто Город. Нынче нет границы между двумя этими частями, и Черный город так же зелен, как и «Белый». В начале века Черный город был средоточием зарождающейся нефтяной промышленности. Буровые вышки и нефтекачалки торчали там из земли, подобно голым железным кустам и деревьям.
Там, в Черном городе, стоял дом моего отца Ефима Лазебникова — нефтепромышленника, владельца нефтяной земли. Там бы и появилась я на свет, если бы моя мать, Вера Марковна, не решила за несколько месяцев до родов отправиться к своим родителям, в Екатеринослав.
Вера Марковна не случайно отправилась к родителям — Марко и Ольге Кричевским. Родственные связи в семье Кричевских были на редкость крепки и сердечны. Мудрая и деятельная Ольга Львовна Кричевская до конца своих дней оставалась незыблемым авторитетом для детей — пятерых сыновей и дочери Веры, моей матери. К бабушке Оле обращались за советом, приходили в беде и в радости. Такие же отношения сложились впоследствии между мной и моей матерью, между моими детьми и мною. Наши мужчины умирали рано, и женщины занимали места мужчин.
Бабушка Оля работала вместе с дедом Марко — управляющим домами и складами екатеринославского богача банкира Кофмана. В квартире одного из его домов они и жили.
Там я родилась 6 февраля 1912 года.
Через несколько месяцев моя мать вместе со мной вернулась в Баку.
Мы жили богато — нефть приносила отцу большие доходы. Отец любил широкую жизнь, красивые вещи. Получив техническое образование во Франции, он хорошо разбирался в нефтяном деле. Во Франции он и познакомился с моей матерью, изучавшей там медицину. За год до знакомства с моим отцом мама приехала на Юг Франции вместе со своей семьей, спасаясь от российских погромов 1905 года. Родители мои поженились в 1907 году, и мама так и не закончив курс учения, уехала с отцом в Баку. Спустя год родился мой брат Александр.
Многие бакинские евреи относились неодобрительно к образу жизни нашей семьи: мы жили слишком роскошно. В 1914 году мой отец одним из первых в Баку приобрел автомобиль. Толпа зевак глазела на это детище технической революции — особенно, когда лошади вытаскивали из жирной нефтяной грязи вдруг застрявшую нашу машину.
Напрасно Ефим Лазебников купил эту машину, — говорили бакинские евреи. — Напрасно Лазебников так балует жену и во всем ей потакает — ее бриллианты еще больше привлекают внимание к ее красоте. На нее заглядываются и христиане и мусульмане…
Моя мать, действительно, была очень хороша, и когда кто-нибудь называл фамилию моего отца, то немедленно следовал вопрос: Какой это Лазебников? Тот, у которого красавица-жена?
Но отец мой не обращал внимания на эти разговоры и жил по своему собственному усмотрению. Наш дом в Черном городе, а потом квартира на Биржевой всегда были полны гостей, наша кухарка Кондратьевна славилась на весь Баку своим кулинарным мастерством.
Родители мои не отличались религиозностью — хотя отец, естественно, имел постоянное место в синагоге и давал немалые деньги на ее содержание. Единственным праздником, отмечавшимся в доме торжественно и с соблюдением традиции, была Пасха. Отец читал Агаду, я искала спрятанную мацу. Рассказы об исходе из египетского рабства еще много дней после Пасхи занимали детское воображение моего брата и мое…
Брат мой Александр или Шура, как звали его в семье, к удивлению родителей, стал крайне религиозным. В доме восстановили нарушенную было кашерную кухню — к большому одобрению наезжавшего в гости моего деда по отцу, синагогального кантора Мойше. Кухарке Кондратьевне растолковали законы кашрута, и она, поворчав, смирилась. Не вникнув в суть дела, она считала разделение пищи на мясную и молочную барским самодурством.
Русская революция опрокинула наш уклад, вывернула жизнь как перчатку — наизнанку. Отец воспринял революцию как свершившийся факт, к которому следовало приспособиться ради дальнейшей жизни. А приспособиться было сложно: нефтяной промысел отобрали.
Отец шутил горько:
— Я все-таки был прав, а не те евреи, что меня осуждали. У них все отобрали точно так же, как и у нас. Но мы хотя бы успели пожить по-человечески.
В 1918 году, захватив меня и брата, мама отправилась в Екатеринослав навестить своих родителей, от которых давно уже не было вестей. Отец остался в Баку.
Великие события в России — обе революции и последовавшая вслед за ними гражданская война — прибавили хлопот и забот евреям приднепровского города Екатеринослава. Евреи не строили радужных планов по поводу происшедших изменений: многовековая история их существования неопровержимо доказывала, что любые изменения в окружающем обществе приводят к травле евреев, к грабежам, погромам и убийствам. Поэтому, когда на екатеринославские улицы высыпали разгоряченные водкой, потрясенные безнаказанным попранием вчерашних запретов люди, — наученные опытом поколений евреи стали полегоньку готовиться к погрому. Начали с малого: разобрали и растаскали деревянные заборы, отделявшие дом от дома. Это незначительное на первый взгляд действие продиктовано опытом прошлого и имеет немалое практическое значение: бежать и спасаться от погромщиков куда легче по открытой, очищенной от заборов местности. Перелезать с малыми детьми через деревянные частоколы — дело трудное, почти невозможное.
Наша семья — моя мать, мой девятилетний брат и я, младшая — отсиживались в дворницкой дома банкира Кофмана на Широкой улице. То была улица, населенная преимущественно евреями — и толпа погромщиков направилась именно сюда. Зазвенели выбиваемые стекла окон, пух вспарываемых перин поплыл в воздухе. Потянуло запахом гари — где-то что-то подожгли…
Дворник Гаврила, служивший верой и правдой моему дедушке, проявлял нервозность. С тревогой вслушивался он в пронзительный, приближавшийся с каждой минутой крик толпы людей: «Караул!»
— Шибко нынче бьют… — сказал, наконец, Гаврила. — Пойду гляну, — и вышел.
А крик «караул» все приближался, бился где-то за соседними домами.
— Гаврила нас не выдаст, — сказала мама. — Но если они ворвутся сюда… — она надеялась, что бандиты пройдут мимо — ведь не в каждый дом они заглядывали.
Вернулся Гаврила — озабоченный, мрачный.
— Бегите, — сказал Гаврила, — спасайтесь… Рабиновичей уже поубивали.
Рабиновичи были наши соседи, жили в нескольких домах от нас.
Мама поднялась, крепко взяла нас за руки:
— Идемте, дети!
Мы вышли из жарко натопленной дворницкой — в черную сырость ночи. Грязь осени хлюпала под ногами, и мне казалось, что эта грязь замешана на крови старого Рабиновича, бородатого, с большим добрым животом… А может, это мне сейчас кажется так. Может, в ту осеннюю ночь я только дрожала от страха.
…Много лет прошло с тех пор — больше полувека. События давнего времени окаменели в моей душе, приобрели резкие очертания постоянства. Дворник Гаврила кажется мне сейчас порядочным человеком — может, так оно и было…
Мы бежали по чужим дворам, подгоняемые этим жутким, извивающимся как бич стоном: «Караул!» Один из домов был, как будто, покинут хозяевами. Мама втащила меня и брата в распахнутую дверь первого этажа и вбежала в комнату.
В углу комнаты, наполовину закутанный, как в саван, в сорванную гардину, лежал человеческий труп. Погромщик стоял над ним на коленях — обшаривал карманы. Обернувшись на шум наших шагов, он заметил бриллиант, сверкнувший в кольце на маминой руке. Поднявшись с пола, он схватил маму за руку, за палец — стаскивал кольцо.
— Убери руку, — спокойно сказала мама. — Сама отдам.
Тут кто-то окликнул погромщика из другой комнаты:
— Эй, Пашка!
Пашка пьяно повернулся, побежал, топая сапогами, на зов.
А мы выпрыгнули в окно и побежали дальше — в поисках угла, норы, где можно было бы укрыться хотя бы до утра.
Воспоминания об екатеринославском погроме — это, пожалуй, первое, что я запомнила в своей жизни достаточно стойко. Мой отсчет времени начинается с той осенней, хлюпающей грязью и кровью ночи. Первая память — как первый оттиск гравюры: самая отчетливая, самая резкая. Светом памяти озаряются почти все сколько-нибудь значительные события в жизни. И это озарение — не солнечное, не лунное. Это озарение пожара, зажженного руками убийц еврейских стариков.
Кто убивал? Белые? Зеленые? Красные? Петлюровцы? Бандиты всех мастей и цветов?
Люди убивали людей.
Нелюди убивали евреев.
Тогда каждый день менялись власти в Екатеринославе. А бывало и так: в одном квартале монархисты, а в другом — анархисты. Нынче иным молодым людям это кажется даже несколько забавным. Но выстрелы, стучавшие всю ночь то здесь, то там — они были направлены не в небо, а в людей.
Уходили анархисты — приходили красные. Потом красных выбивали белые, а к городу уже подтягивались с подводами банды крестьян, соблазненных перспективой грабежа.
Все передвижения, все перемещения происходили по ночам. Две группы мужчин схватывались, переплетались в яростном передвижении смерти — и одна отходила, оставляя убитых и раненных. Шла гражданская война.
Погромы тоже происходили ночью, И молчаливая, сосредоточенная беготня из дома в дом, по ничейной, не исковерканной более символом собственности — заборами — земле, тоже ночью. Днем отсыпались и победители, и побежденные, и мы, евреи, спасшиеся от радости победителя и ярости побежденных.
В один из таких дней за нами приехал из Баку мой отец. Он намеревался всеми правдами и неправдами втолкнуть нас в поезд, вывезти из обезумевшего Екатеринослава и вернуть домой.
Сделать это, однако было не просто. Целыми днями отец ходил по городу, добывая всевозможные «охранные грамоты». Однажды ранняя осенняя ночь застала отца за этим его занятием.
Ночь была черна — как будто тушь разлили. Выбитые окна зияли чернотой на фоне далекого пожара. На одной из близких улиц слышался цокот конских подков и топот ног. Где-то стреляли. Никто толком не знал, в чьих руках находится город — даже те, кто наступали, и те, кто оборонялись.
Прижимаясь к стенам зданий, отец пробирался домой. До дома оставалось не больше квартала, когда топот копыт за спиной заставил отца врасти в землю и застыть. И в следующий миг удар нагайки упал на его спину, и наехавший конь упруго и сильно толкнул его, чуть не сбив с ног.
Всадник, наклонившись с седла, заглянул в лицо отца. Пахнуло запахом лука и водочного перегара.
— Жид… — словно подтверждая свою догадку, сказал всадник. — Ну, пойдем, жид.
И еще раз несильно ударив нагайкой, он погнал отца перед собой.
Бежать было некуда, и спастись было невозможно. Скользя по глинистой грязи и оступаясь, отец бежал перед конем. В конце улицы завернули влево, в подворотню. За ней открылся проходной двор, и дальше — тупиковый.
В тупиковом дворе горел высокий, яркий костер. Десяток солдат в разномастной одежде — красных галифе, зеленых и синих френчах, тулупах и дорогих дамских манто, смушковых шапках с красными лентами и без лент — сгрудился у костра. Здесь же стоял пулемет на станине. Чуть поодаль кружком сидели на грязном снегу около двадцати евреев. Некоторых из них отец знал: то были уважаемые в городе люди, состоятельные и знатные. Отец кивнул старому бородатому еврею — директору еврейской гимназии. Второй, владелец краскотерной фабрики не ответил на поклон: глаза его были закрыты, лицо залито одним сплошным синяком.
Около пленных топтался, куря папиросу, часовой,
— Кончаем, что ли? — окликнул приятелей всадник, пригнавший моего отца. — Скоро светает… А ну, вставай! — гаркнул он, наезжая на сидящих в грязи евреев.
Те медленно поднялись, гуртясь.
— Одежу-то сымите! — лениво, без нажима приказал часовой, сбивая пленных поплотнее стволом винтовки с примкнутым штыком. — И обувку тоже. И к стеночке становитесь рядком… Ну, ты, Абрашка! — грозно крикнул он на средних лет еврея, замешкавшегося с раздеваньем.
Пригнавший отца всадник, все так же не слезая с седла, содрал с него пальто. Отец скинул туфли с галошами и, увязая по щиколотку в жидкой грязи, пропитанной конской мочой, подошел к стене.
— За что? — еле шевеля губами, сказал отец. А потом крикнул: — За что?
Один из солдат уже ложился, подстелив кожух, за пулемет.
Повернувшись лицом к кирпичной стене забора, несколько евреев молились, раскачиваясь. Один сполз в грязь, и его не подымали.
И вдруг во двор въехал, влетел на коне коренастый всадник с длинными темными волосами. По быстроте и угодливости, с какой солдаты оборотились к нему, можно было заключить, что приехавший — их начальник.
Отец мой отпрыгнул от стены, подбежал к всаднику.
— За что, господин начальник? — спросил отец, вцепившись в конский повод. — За что они нас хотят расстрелять?
— Действительно, за что? А? — шутя, подыгрывая голосом, спросил всадник у солдат.
— Так они ведь жиды, батько! — объяснил тот, что лежал за пулеметом. — Кончаем мы их!
— Отпустите нас, господин… батько, — сказал отец, не отпуская повода. — В чем мы виноваты? Только в том, что мы — евреи?
— Отпустить их, что ли? — словно бы за советом обратился батько к своим людям. Те молчали, не смея говорить.
— Идите, пожалуй, по домам! — сказал батько, заворачивая коня. — Ну, быстро! Побежали!
Отлепившись от стены, евреи побежали прочь. Одежда их черным комом громоздилась посреди двора.
Побежал и отец, отпустив, наконец, повод.
— Эй, еврей! — закричал вслед ему батько. — Стой!
Отец остановился, оледенев. Что мог означать этот окрик?!
— Галоши надень, еврей, а то простудишься! — довольный, засмеялся батько.
Отец добежал до подворотни и исчез в темноте улицы.
Человек, спасший его от казни и смерти, был, Нестор Махно.
Отцовское спасение от смерти было, несомненно, случайностью и фактором временным. Бессмысленная, дурацкая гибель висела над нами, как камень. И отец ломал голову, выискивая щелку спасения.
— Нам бы добраться до Кисловодска, — говорил папа мечтательно. — Оттуда до Баку рукой подать.
— Нас всех убьют в дороге, — говорила мама. — Придумай что-нибудь!
И папа придумал.
— Мы найдем русского генерала, — сказал папа. — Или, на худой конец, полковника…
Генерала не нашли — пришлось удовлетвориться полковником. Поскольку путь на Кисловодск пролетал по областям, контролируемым белыми войсками, то и полковник, естественно, был белым полковником. Папа разъяснил ему его задачу: он, полковник, будет выдавать себя за нашего дедушку или папу — как ему больше нравится — и стоять в дверях купе в полковничьем мундире, когда погромщики появятся в вагоне. Полковник согласился, и папа вручил ему денежный аванс за предстоящий труд.
Через несколько дней мы пустились в дорогу. Полковник приехал за нами в экипаже. Грудь полковничьего мундира украшали многочисленные ордена, усы его с подусниками были приведены в идеальный порядок. То был интеллигентный человек, с чувством собственного достоинства. Ему, видно, было несколько неловко, что он — в его годы и в его положении — зарабатывает деньги столь необычным образом. Поэтому он предпочел — быть может, скрывая смущение — смотреть на нас как на багаж. Когда в вагон, гремя сапогами, ввалились очередные «проверщики», полковник приоткрывал дверь купе, становился на пороге и, покуривая, пускал колечки дыма.
— Я еду с семьей, — безразличным голосом сообщал полковник, когда погромщики подходили к нашему купе. Никому и в голову не могло прийти, что полковник белой русской армии везет в своем купе евреев.
На Кисловодском вокзале полковник получил от отца вторую половину своего гонорара, и мы распрощались с ним.
— Мы поедем в самую лучшую гостиницу! — решил отец. — Так безопаснее.
Войдя в роскошный гостиничный номер в сопровождении администратора и коридорных служащих, отец оглядел стены номера, а потом, переведя негодующий взгляд на прислугу, грозно стукнул тростью об пол.
— Негодяи! — взревел отец. — Русскому человеку жизни нет!.. Иконы где?!
Распорядитель лепетал извинения, коридорные побежали за иконами. По гостинице пополз слух, что в двенадцатом номере поселился «сибирский купец-миллионер, большой самодур».
А отец, укрепляя наши позиции, требовал самовар, бублики, черную икру и водку.
Мы вернулись в Баку, потрясенные пережитым, привыкшие к виду крови, к смертельной опасности, — но не к новой жизни. Да и в Баку многое изменилось за время нашего отсутствия… И отец принял решение уехать из России. Оформление документов требовало множества хлопот и еще больше денег. Следовало решить, куда ехать — и отец долго над этим не раздумывал: не Америка влекла его, а Палестина. Еще в 14 году брат моей мамы Натан уехал в Палестину и примкнул к халуцианскому движению. Он жил в Петах-Тикве, близ приморского городишки Тель-Авива. Отец дал ему знать о своих планах и намеревался встретиться с ним по дороге в Палестину, в Константинополе.
Однажды в дверь нашей квартиры, ранним утром, замолотили кулаками. В Баку правили тогда большевики — 26 бакинских комиссаров, расстрелянных впоследствии англичанами. Мы привыкли к внезапным посещениям, и мать, открыв дверь, впустила в переднюю группу солдат с винтовками.
— Очищайте квартиру! — приказали солдаты. — Наш начальник будет здесь жить!
— У меня дети! — сказала мама. — Куда я с ними денусь? На улицу?
— Ладно, — решили солдаты, посовещавшись. — Вы — буржуи, поэтому надо вам страдать. Переходите в две комнаты, а наш начальник будет жить в четырех!
К вечеру пришел начальник. Им оказался один из 26 комиссаров — правителей города, Алексей Джапаридзе. То был идеалист, наивно веривший, что всем людям на земле может быть одинаково хорошо. О том, что всем людям на земле под властью идеалистов может стать одинаково плохо — над этим комиссары не задумывались. Уничтожить людей, сомневающихся в будущем «всеобщем счастье» или противившихся ему — это был первый, святой долг революционеров-идеалистов. Вначале они делали свое страшное дело — веря. Так же веря — потом они умирали под пулями своих друзей и своих врагов. Джапаридзе расстреляли англичане. Его семью — жену и дочерей — Сталин продержал в лагерях до самой своей смерти.
Алексей Джапаридзе оказался человеком приятным и даже застенчивым. Ему видно, было неловко нас стеснять.
— Оставайтесь в четырех комнатах, — решил Джапаридзе, — а я и в двух умещусь…
2. Из Баку в Москву
Летом 20 года, реализовав остатки имущества и чудом спасенные мамины драгоценности, мы перебрались в Тифлис, столицу независимой тогда Грузинской республики. Отец занимался подготовкой необходимых для дальнейшего путешествия документов, а меня тем временем определили учиться: я поступила в младший приготовительный класс гимназии княгини Долгорукой. Запомнился мне такой эпизод: княгиня вошла как-то в наш класс в сопровождении классной дамы и, потянув носом, сказала:
— Боже, как отвратительно пахнет чесноком! Сколько здесь евреев, в этом классе?
В антисемитском сознании престарелой княгини запах чеснока неразрывно ассоциировался с «вонючими» евреями. Чеснок, кстати сказать, употребляли в пищу в городе Тифлисе и армяне, и грузины, и русские… Я пришла домой, рассказала об этом случае отцу. Отец улыбнулся грустно, вздохнул:
— Это ведь чужая земля, доченька. Может быть, скоро доберемся до своей.
В самом начале 21 года долгожданные документы были оформлены, и мы поехали в Батум, чтобы сесть там на пароход. То был большой пароход под итальянским флагом «Корнара». Отец купил хорошую, просторную каюту, и мы устроились там с удобствами. На борту «Корнары» мне исполнилось девять лет — на борту корабля, везшего нас к берегу новой жизни.
Константинополь был переполнен русскими эмигрантами всех мастей и оттенков. После недолгого постоя в гостинице мы сняли квартиру у бездетных евреев Наума и Лизы, владельцев небольшой гостиницы в портовом районе. Лиза уезжала в свою гостиницу часам к двум дня, а возвращалась перед рассветом. Наум наведывался туда редко — все дела вела энергичная Лиза. Добрые супруги осыпали меня и моего брата ласками и подарками, — особенно мадам Лиза.
Отец сообщил о нашем приезде Натану в Петах-Тикву, и Натан обещал приехать за нами. А мы с братом пока что начали ходить в школу. Я училась в закрытом заведении, у монашенок-француженок, возвращалась домой только на субботу и воскресенье, а Шуру определили в колледж Святого Иосифа.
Наконец, прибыл из Палестины мамин брат — Натан. То был красивый молодой человек, покрытый бронзовым загаром. Любвеобильная мадам Лиза немедленно перенесла свою чувствительность на красивого киббуцника, чем несколько насторожила мою проницательную маму.
В один прекрасный день, гуляя с Натаном по городу, мы потеряли ключ от квартиры и поехали в гостиницу мадам Лизы за запасным. Ни я, ни Натан никогда не бывали там прежде, и нам потребовалось немало времени, чтобы добраться до грязной портовой улочки. На порогах домов этой улочки сидели весьма условно одетые женщины — блондинки, брюнетки, старые и молодые, восточные и европейские. Над входом в «гостиницу» мадам Лизы висел аккуратный красный фонарик.
Назавтра, подыскав предлог, мы съехали с квартиры бездетных супругов. Отец посмеивался, мама была шокирована: почти полгода прожили мы у содержателей публичного дома.
Натан много и подолгу беседовал с отцом, рассказывал ему о палестинских делах, о своей жизни в Палестине. Жизнь эта была трудной, приспособлены к ней были только сильные духом люди. Для занятия же коммерцией требовался начальный капитал, какого не было у моего отца. По эмигрантским константинопольским кругам поползли тем временем слухи о НЭПе — новой экономической политике большевиков, допускающей ограниченную частную собственность и, главное, коммерческую инициативу.
И отец, оставив нас в Константинополе, отправился «на разведку» в Одессу, посмотреть своими глазами на НЭП.
Новая ситуация пришлась ему по вкусу. Возвращаясь к нам в Константинополь, он заехал в Баку и подготовил там все необходимое для открытия собственного производства красок. Множество заказов на краски сулило неплохой доход, большевики, нуждавшиеся в специалистах, пели красивые песни и обещали чуть ли не все блага мира. И отец, поверив, решил вернуться в Россию. Это решение стоило ему свободы, а потом и самой жизни.
Осенью 23 года мы вернулись в Россию и опять поселились в Баку.
Бакинские предприниматели, выжившие в урагане революций и гражданской войны, были настроены оптимистически: НЭП цвел, как клумба. Отец с головой ушел в работу, расширял производство красок, привлекал к работе маминых братьев — толковых и деловых молодых людей. Только одному из них — Натану — не требовалась помощь: он жил в Палестине, в Петах-Тикве, ходил в драных штанах и без обуви, — и был счастлив.
Вновь живя в роскоши бакинской квартиры, мы часто возвращались мысленно к дяде Натану. Не совершили ли мы, все-таки, ошибку, вернувшись в Россию, не уехав в Палестину? Натан говорил тогда резко: кто не хочет или не может работать физически, кто не располагает капиталом для организации собственного дела — тому нечего делать в Палестине. Бедный мой отец, сибарит и барин, не приспособлен был для работы на строительстве или для выращивания апельсинов. Зыбкость собственного положения по возвращении в Россию угнетала его все больше.
Дело его, казалось бы, процветало, но он то и дело повторял моему брату и мне:
— Наследство я вам вряд ли оставлю — поэтому учитесь, пока есть возможность. Учите языки, занимайтесь музыкой.
Я с самого детства занималась балетом — и продолжала эти занятия после возвращения в Баку из Турции. Мне пришлось расстаться с балетом позже, когда мои занятия «баржуазным» искусством помешали моему вступлению в комсомол и грозили мне многими неприятностями.
А покамест мы жили в бакинской Крепости — Старом городе, окруженном древней крепостной стеной, с красивейшей Девичьей башней, стоявшей у моря. Когда-то, по преданию, с этой башни бросилась в море молодая девушка, познавшая отчаяние неразделенной любви…
В школе, куда я пошла учиться, меня приняли довольно прохладно. Причин тому было несколько: и моя модная, «заграничная» одежда, и относительно неплохое знание французского языка, выделявшее меня из среды моих товарок, и увлечение балетом, и «социальное происхождение»: я ведь была дочерью нэпмана.
Метод обучения в советской школе был в то время в высшей степени удивителен. Носил он название «Бригадный метод Дальтон-план» и сводился к тому, что класс был поделен на бригады и каждая бригада выучивала только свою часть урока, даже не заглядывая в соседнюю. Дореволюционный метод обучения был объявлен «реакционным», «контрреволюционным», «регрессивным». Математику я усваивала трудно, гуманитарные же дисциплины давались мне легко. Быть может, я должна быть благодарна за это частным учительницам: отец пригласил для меня француженку, другая учительница преподавала мне историю литературы.
А в школе мы зубрили совсем новую дисциплину: обществоведение. На одном из уроков преподавательница с материалистических позиций подбивала нас «работать с родителями», отучать их от приверженности к религии.
— Религия — опиум для народа! — возглашала учительница. — Бога нет и никогда не было. Все это сказки врагов революции. Не ведя дома разъяснительной атеистической работы вы, тем самым, поддерживаете врагов революции и мировую буржуазию.
Мы, двенадцатилетние дети, думали над словами учительницы. Многие были склонны поверить ей. Вдруг поднялась одна из учениц, сказала;
— Моя бабушка соблюдает все еврейские праздники. Она очень старенькая. Зачем я стану бороться с ней? Разве она приносит кому-нибудь зло?
— Скажи своей бабушке, — выкрикнул с места мальчик по имени Ким (Коммунистический Интернационал Молодежи), — пускай бросает свои жидовские штучки!
Все дети в классе были потрясены: Ким оскорбил евреев. В разноплеменном Баку почти не было антисемитизма — мне, во всяком случае, не приходилось с ним сталкиваться. И вдруг — в собственном классе…
Мы решили устроить над Кимом общественный суд, и я должна была выступать на нем в качестве общественного обвинителя: мои соученики считали, что у меня неплохо подвешен язык.
В самом ответственном месте моей обвинительной речи Ким поднялся с места и сказал:
— Ну, чего вы на меня все набросились? Я просто пошутил. Я ведь и сам еврей.
Негодованию нашему не было предела, и мы долго не разговаривали с Кимом.
…Вторично я столкнулась с проявлением открытого антисемитизма несколькими годами спустя, студенткой московского Университета. Мы изучали политическую экономию по учебнику французского ученого Шарля Жида. Как-то одна из студенток громко сказала в аудитории:
— Ну и растяпа же я! Куда это я дела моего Жида — никак не могу найти!
И русский парень-студент тотчас откликнулся:
— Жида потеряла? А ты обернись вокруг — у нас в Москве жид на каждом углу.
На сей раз мне оставалось возмущаться только «про себя»: университетское начальство не позволило бы устроить общественный суд над антисемитом.
Смерть Ленина не сохранилась отчетливо в моей памяти. Помню только протяжно-тоскливые гудки паровозов, помню смятение отца: что теперь будет, как повернется наша «нэпманская» судьба?
Судьба расправилась с нами довольно круто: в начале 1925 года отца арестовали. Официальный и окончательный разгром НЭПа еще не наступил — поэтому наиболее крупные частные предприятия начали сворачивать «потихоньку». Отца обвинили в том, что он, якобы, взял с заказчика в качестве взятки пять рублей. Обвинение было смехотворным — но отца осудили на три года тюрьмы, а предприятие конфисковали в пользу государства. Начиналось сталинское наступление на НЭП, крупных нэпманов ждала тюрьмы. Лучше было сесть раньше, чем позже, и в этом отношении отцу повезло: он сел одним из первых, а поначалу условия содержания в тюрьмах были вполне сносными. Тюрьма, в которой я сидела в 1953 году, отличалась от отцовского «дома отдыха», как небо от земли.
Суд постановил, что отец должен выплатить рабочим выходное пособие и возместить все убытки, понесенные разными лицами в связи с закрытием предприятия. Мама распродала все наше личное имущество и расплатилась до копейки. И вот, наконец, нам дали свидание с отцом. Мы отправились в пригород Баку — Баилов, где расположена была тюрьма. По дороге я рисовала себе страшные картины: арестанты с железными кандалами на руках, сырые склепы камер.
Свидание состоялось в тюремном саду, разделенном невысокой железной решеткой. Отец выглядел неплохо, ему, правда, досаждали соседи-уголовники и клопы, в обилии расплодившиеся в грязных камерах. Тюремное начальство, однако, приметило отца и собиралось использовать его в конторской работе. Это несколько облегчило бы его бытовые условия.
И, действительно, в скором времени отца перевели в тюремную контору.
После этого дела пошли на лад. Как-то раз к нам домой явился тюремный надзиратель и заявил, что отец желает за свой счет отремонтировать и заново покрасить камеру, а также уморить всех клопов и тараканов. Мама немедленно наняла бригаду рабочих, и те привели отцовскую камеру в порядок. Отцу было разрешено также получить из дома металлическую кровать с матрацем. Вольготно жилось когда-то зекам в баиловской тюрьме, честное слово…
Отец отсидел полтора года и был выпущен досрочно «за примерное поведение». В последние полгода он частенько наведывался — в сопровождении надзирателя, разумеется — домой обедать. Надзиратель сидел с нами, хвалил кухню, а потом уходил на час-другой, оставляя отца с семьей.
После первой отсидки отец устроился на работу в «Азнефть» — «Азербайджанскую нефть». Не прошло и года, как к нам ночью ворвались чекисты, перевернули все вверх дном и снова арестовали отца. Донос, как выяснилось, носил анекдотический характер: будто, работая в тюремной конторе, он умышленно изводил слишком много бумаги и чернил. И отец вернулся домой спустя сутки. Однако теперь он твердо решил уехать из Баку навсегда. Он наивно полагал, что в огромной Москве забудут его «буржуйское, нэпманское прошлое» и оставят его в покое.
На сборы много времени не требовалось: отец мой был окончательно разорен. Родители уехали, а я осталась в Баку заканчивать школу. Брат мой Александр, 18-летний юноша, также незадолго перед тем уехал в Москву «зарабатывать пролетарское происхождение»: с отцом — бывшим нэпманом — нельзя было рассчитывать на какой-либо успех в жизни, а Александра тянуло к газетной, журналистской работе. Работая в Москве на фабрике, он сотрудничал одновременно в газетах. Никому не нужная работа на фабрике была, собственно говоря, «официальным перевоспитанием». Без «пролетарского настоящего» нашего Шуру просто-напросто не стали бы печатать.
Мама надеялась, что Шура поступит в Университет, станет «дипломированно» образованным человеком. Шура — в трех тысячах километров от Баку — мамину надежду не сокрушал, но в Университет поступать не собирался. Его уже печатали, он подписывался псевдонимом «Алазэ» (Александр Лазебников). В нем проявились задатки хорошего журналиста, и он, действительно, спустя несколько лет стал заместителем заведующего отделом газеты «Комсомольская правда». Его ждала судьба многих крупных журналистов: в 37 году он был арестован вместе со всей редакционной коллегией своей газеты, обвинен в шпионаже, отправлен в концентрационный лагерь. Он провел там девятнадцать лет и вышел на свободу, реабилитированный, уже после смерти Сталина. Нашему Шуре повезло: он остался жив.
Итак, родители отправились в Москву, где отец поступил на службу в управление «Главнефть». Я осталась в Баку — доучиваться, заканчивать школу. Бакинская жизнь текла размеренно, скучно, провинциально. Возможно, какие-то страсти — политические, экономические — и были присущи ей, но я находилась далеко от тех сфер, где температура подымалась выше нормы.
Поэтому вдвойне крупным событием для нас — школьниц, школьников — стал приезд в Баку трех известных московских поэтов: Иосифа Уткина, Александра Безыменского и Александра Жарова. Все трое назывались «комсомольскими поэтами», все трое были молоды, пользовались огромной по тем временам популярностью. Все трое, кстати сказать, были евреи. Уткин, автор знаменитой «Поэмы о Рыжем Мотеле», посвященной Троцкому, погиб во время Второй мировой войны в авиационной катастрофе. Он был талантлив — несравненно талантливей, во всяком случае, Жарова и Безыменского. А эта пара уцелела ценой предательства собственных юношеских розовых идеалов. Жаров писал подписи к агитплакатам, Безыменский, который до самой смерти по мере сил стриг купоны с прошлого, заслужил такую эпиграмму, сочиненную его же коллегами-поэтами:
Волосы дыбом, Зубы торчком, Старый дурак С комсомольским значком.Так что судьба Иосифа Уткина сложилась не так уж и плохо: не погибни он на фронте, ему пришлось бы либо сидеть в лагере, либо вести жалкую и подленькую жизнь «вечно юных комсомольских поэтов» Безыменского и Жарова.
В 27 году, естественно, речи об этом не было. Просто приехали московские поэты — и все. О билетах на поэтический вечер нечего было и мечтать: они были проданы, перепроданы, розданы, распределены. Понимая несбыточность надежд по части билетов, я и две мои подружки сидели на скамейке приморского бульвара. На соседней скамейке устроился молодой мужчина с блокнотом для набросков и карандашом в руках. Мне показалось, что он рисует меня, и я, выросшая на мусульманском Востоке, поднялась со скамейки, чтобы уйти,
— Постой, — сказала одна из моих подруг, останавливая меня, — это же Ротов!
Художник Константин Ротов приехал из Москвы вместе с поэтами. Он подошел к нам и попросил меня ему попозировать.
— Посиди, пожалуйста, спокойно, девочка, — сказал Ротов, — и я дам тебе пропуск на сегодняшний вечер.
Видя умоляющий взгляд моих подруг, я сказала ему:
— Ладно. Но мне надо три билета: нас трое.
Вечером, сидя на ступеньках в переполненном зале, мы слушали стихи, рассказы Уткина о его визите к Горькому на Капри.
Несколькими днями позже я уезжала в Москву к моим родителям, навсегда. У меня было мало денег и я купила себе билет в жестком вагоне. Мои бакинские родственники, у которых был большой опыт путешествий по советским железным дорогам, советовали приковать железной цепью к моей полке чемодан со скромным его содержимым: вагоны кишели жуликами и поездными воришками. На одной из остановок я заметила прогуливавшегося по перрону Уткина, сопровождаемого восхищенными взглядами его многочисленных поклонниц. Красивый, заграничного покроя вязаный жилет был накинут на его плечи, на ногах, подобно ярко светящимся уголькам, горели красные сафьяновые домашние туфли. Мне, которая мечтала о кожаной куртке и в тайне от родителей носила кепку, такой наряд комсомольского поэта показался просто святотатством. К тому же он ехал в спальном вагоне, что, как мне думалось, приличествовало лишь «богатеям», а не пролетарскому поэту. Советские лозунги прочно, подобно татуировке, осевшие в моем сознании, с новой силой вспыхнули, когда я глядела на Уткина. На одной из остановок Ротов заметил меня. Он подошел и представил мне Уткина и еще двух своих товарищей. В ответ на мои возмущенные высказывания Уткин сказал мне:
— Если пишут хорошие стихи, за них получают деньги. Так почему же не тратить их на проезд в удобном и комфортабельном вагоне и не покупать красивую одежду! Что ты скажешь?
Этот ответ Уткина не имел ничего общего с лозунгами, укоренившимися в моем представлении, и я задумалась над сказанным Уткиным. Вообще-то, Уткин был прав, но мне, чтобы постичь это, надо было преодолеть серьезные препятствия: годы, проведенные в школе, сделали из меня если и не фанатичную комсомолку, то, по меньшей мере, существо с весьма ограниченным мировоззрением. Но советская жизнь так устроена, что очень скоро с моих глаз спали и розовые очки, и шоры, надетые на них школой.
Весной 1928 года в Москве открылся шестой съезд Коммунистического интернационала молодежи. Я работала на нем переводчицей с французского в отделе Геминдера, казненного в 1952 году в Чехословакии, после процесса Сланского. На съезд приехала большая делегация молодых немецких ротфронтовцев во главе с Куртом Фишером. Немцы выражали резкое недовольство результатами «русской культурной революции». Дореволюционная культура, по их мнению, подверглась недостаточной ломке и дроблению. В стремлении людей наладить кое-как быт, жить лучше — они видели «проявление буржуазных тенденций». В своем догматизме они были левее левых, «святее папы римского». Французские ребята, наоборот, подходили к проблеме более эмоционально. Все вокруг вызывало в них бурный восторг, и на немцев-критиканов они поглядывали неодобрительно. Они были не против ломки старой культуры. Но если немцы хотят проводить этот опасный эксперимент более радикально — что ж, пускай делают это у себя в Германии. Зачем взваливать такую тяжелую работу на плечи этих славных, гостеприимных русских?
Немцы смотрели на вещи более сурово и принципиально. Они были против любого проявления излишеств и, наблюдая российские процессы со стороны, приходили в ярость от произвольного колебания в распределении благ.
Несколько месяцев спустя после съезда КИМа, получив отличные рекомендации в качестве переводчицы, я поступила на филологический факультет Московского университета.
3. Цыганский уголок
После Баку Москва казалась мне огромной, лоскутнопестрой, дикой. Жизнь представлялась чистой страницей, которую только предстояло исписать. И немножко страшно было браться за перо…
Отец снял квартиру на московской окраине, в Цыганском уголке Петровского парка. Там, в большом, дремучем парке стояли дома, сооруженные так называемыми «застройщиками». Застройщики были маленькими нэпманами — с их помощью Советы пытались хоть в какой-то степени справиться с жилищной проблемой. Сооруженные застройщиками на окраинах Москвы одноэтажные деревянные домишки давали приют временным жильцам, толпами хлынувшим в столицу в поисках удачи. Государство, таким образом, было освобождено от хлопот, связанных с жилищным строительством, да еще получало налоги с застройщиков. Застройщиками были, в основном, «прогоревшие» на крупных делах нэпманы и деревенские люди, подкопившие деньжат и подавшиеся в город.
Нашего застройщика звали Сергей Иванов. Он прибыл в Петровский парк из приволжской деревеньки и сколотил домик на четыре квартирки. Одноэтажный этот домик имел два крыльца, выходивших в парковые заросли. Летом по диким парковым тропинкам ездили велосипедисты, зимой — лыжники. Москва лежала к Востоку от парка, за пряничным, красивым дворцом царя Петра Первого, переоборудованным в летное училище. Будущие летчики, таким образом, селились в Петровском парке — вместе с жильцами застройщиков и цыганами, стоявшими большим табором на парковой поляне.
Сергей Иванов занимал одну из четырех квартир собственного дома. То был человек неистребимый, как шарик ртути, и тяжелый, как ртуть. Спасшись от расстрела продразверстки, не истлев от голода в год поволжского мора, уйдя от сибирской кулацкой судьбы, выжив во всех этих вулканических ситуациях — он ненавидел советскую власть грозной ненавистью. Его жизнь — как и жизнь миллионов таких, как он — перестала быть жизнью и превратилась в выживание.
Иванов сильно пил и избивал тихую жену, а в часы трезвости приходил побеседовать с моим отцом. Его поражало отношение моих родителей к нашей домработнице, деревенской девушке Саше. Саша была, в сущности, преданным членом нашей семьи, и это поражало и возмущало Иванова.
— Досыта не корми, долго не держи! — поучал Иванов моего отца. — А то ведь если по-хорошему, вот какой бардак получается! — и Иванов поводил рукой вокруг себя, охватывая свой собственный дом, Петровский парк, Москву за дворцом Петра, все пространство России до самого Тихого океана.
Соседями нашими были супруги Соловьевы с сыном. Обрусевшие евреи Соловьевы приехали в Москву из Казани с самыми благими намерениями: работать на благо победившего народа, учить сына, жить по-человечески. Судьба их сложилась банально: инженер Соловьев был арестован в 37 году по сфабрикованному доносу и погиб (при этом ему вменялось в вину сокрытие истинной национальности), сын погиб на войне. Жена «изменника» Соловьева, врач-педиатр Фаина, не могла рассчитывать на хорошую работу, а потому официально оформив развод с «недостойным» супругом (тайно она носила ему на Лубянку, пока принимали, денежные передачи), устроилась по советским понятиям весьма удачно — заведующей детским садом. С работы она возвращалась нагруженная как вол: на плече сумка, в обеих руках «авоськи» с продуктами, которые не додавали детям…
Соседний с нами дом принадлежал бухарскому еврею Хахамову. В начале НЭПа он приехал в столицу из Бухары с грузом ковров и открыл ковровый магазин. Посидев в тюрьме еще в расцвет НЭПа, он вышел на свободу и на сохраненные в тайнике остатки денег построил дом для жильцов. Хахамов, перенявший черты характера восточных людей, был фаталистом, жил, что называется, «по течению». Этим же «течением» его и «смыло» в 37 году — он был вторично арестован и погиб неведомо где, а семья развалилась, разбрелась по городам и весям необъятной России.
Цыгане, жившие табором, являли наиболее красочную часть населения Петровского парка.
Цыгане были самые настоящие — с лошадьми, повозками, шатрами, гадалками и гадателями, с громадной стаей грязных, голопузых ребятишек. Под разными предлогами и вовсе без предлогов они проникли в соседние с ними кварталы — но на свою таборную поляну не пускали никого. Советская власть решила сделать из них «оседлых граждан», и цыгане до поры, до времени терпели такое неестественное положение. Дети их азартно плясали за медяки на пыльных дорогах перед домами застройщиков, женщины в пестрых платьях предсказывали за умеренную плату прекрасное будущее и избавление от душевных травм. Цыганские мужики сидели целый день на земле, покуривая табачок и лудя медные котлы. Мне казалось, что жизнь табора на этом месте продолжится до тех пор, пока будут перелужены все котлы. А потом, в одно прекрасное утро, цыгане свернут свои шатры, погрузят пожитки в телеги и уйдут невесть куда…
Меня цыгане принимали за «свою», за цыганку. Этому способствовало два обстоятельства: я была по-восточному черна и хрупка и носила арабское вышитое платье, привезенное моей маме в подарок дядей Натаном из Палестины и перешедшее со временем ко мне.
Когда я проходила мимо цыганской поляны, цыганки обступали меня, спрашивая дружелюбно:
— Ты цыганка?
Я отрицательно мотала головой, убегала. Я боялась цыган, их дурной славы воров и мошенников. Теперь я жалею, что не узнала их тогда поближе: они, да еще, пожалуй, вымирающие от болезней и водки обитатели крайнего Русского Севера сохранили под советской властью нравственную свободу.
А цыганки, провожая меня взглядами, недоверчиво покачивали грязными головами: они упрямо считали, что я цыганка, только скрываю почему-то свое происхождение.
Улица, на которой мы жили, и соседние улицы носили какие-то официальные названия — я их не помню. Вся Москва называла наш район просто «Цыганский уголок». Потом когда цыгане, перелудив все котлы, ушли — название района и нашей улицы, на которой мы жили, осталось прежним. И даже теперь, когда ни цыган там нет, ни застройщицких домишек, а в асфальт вокруг метро «Аэропорт» врублены многоэтажные дома писательского кооператива — даже теперь старожилы зовут это место Цыганским уголком.
В 29 году страну сотрясла новая беда — власть приступила к паспортизации. Паспорт — ярлык полноправного гражданства, железный канат, привязывающий намертво к месту жительства и соединяющий с всезнающим отделом кадров и досье охранки — эту самую книжицу могли получить только люди с «незапятнанным прошлым». С паспортом было плохо — но без паспорта было еще хуже. Паспорт напоминал по высокому счету тавро на плече скотины, но отсутствие тавра, беспризорность, «баспачпортность» означала неполноценность, сулила тюрьму и тяжкие лишения.
Люди, оставшиеся без паспортов, получили глупую и омерзительную кличку «лишенцы».
В первую очередь государство расправилось, внеся их в графу «лишенцы», с недавними своими благодетелями — нэпманами. Два лишенца оказались в нашем доме в Цыганском уголке: хозяин дома Сергей Иванов и мой отец.
Зачислив Иванова в лишенцы, государство в самом скором времени сделало следующий шаг: конфисковало у него дом. Узнав об этом, Иванов напился пьян и с глазами, белыми от ненависти, бросился рубить бывшее свое владение топором. Побушевав, Иванов притих и решил выживать дальше. Так как за посягательство на целостность бывшего частного, а ныне государственного имущества — нападение с топором на дом — Иванову неизбежно грозила тюрьма, он принял единственное правильное решение: съехал ночью в неизвестном направлении и исчез.
А дом подвергся немедленной реконструкции: четыре квартиры объединили в две коммунальные и вселили туда еще две семьи. Таким мудрым способом решала в то время советская власть жилищную проблему.
4. Перец Маркиш
Еврейский местечковый парень Моисей Равич-Черкасский, бывший чекист с Украины, не избежавший общей участи — его арестовали в 1934 году, как «носителя преступных троцкистских идей», в 1928 году занял по приказу высших властей ответственную и почетную должность заведующего отделом национальных литератур одного из крупнейших издательств страны — Государственного издательства художественной литературы в Москве. Человек умный и не без образования, он общался с писателями, был в курсе их литературных дел и — по старой привычке — жизненных обстоятельств. Он и в Москве оставался евреем, любил говорить на идиш, любил еврейские песни, вздыхал над воспоминаниями детства. Вспоминал, молчаливо покачивая головой, традиционные субботние трапезы в Черкасске, откуда он был родом. Вспоминал трепещущие, легкие от старости руки своей бабки над субботними свечами…
Одним из домов, где Равич-Черкасский обращался к своему еврейскому прошлому, был дом Иосифа Авратинера — московского еврея с грустными глазами и доброй душой. Иосиф не работал в ЧК и не кончал потом Институт Красной Профессуры, как его частый гость. Он был простым советским служащим, он любил грустные песни галута, он любил и знал горько-соленую, солнечную, взрывоопасную литературу своего народа — Шолом-Алейхема, Менделе, Ицхака-Лейбуша Переца, Переца Маркиша.
Иосиф Авратинер был другом моих родителей, и я часто забегала в их московскую квартиру на Садовом кольце как к себе домой. Там я несколько раз встречала и Равича-Черкасского, ведшего с хозяином ученые споры о еврейской литературе. Мне было тогда шестнадцать лет, я ни слова не знала на идиш и голова моя была полна звоном советских лозунгов о всеобщем счастье и неизбежности мировой революции.
— Есть интересная новость, — сказал как-то Равич-Черкасский — это было весной 1929 года. — Перец Маркиш вернулся из эмиграции. Он, наверно, уже в Москве. Московским девчонкам, — тут Равич-Черкасский шутливо взглянул на меня, — нужно занять осадное положение: Маркиш красив как Бог.
— Он, наверно, ходит в шляпе? — с вызовом спросила я.
По понятиям советской молодежи конца двадцатых годов носить шляпу равносильно было принадлежности к буржуям, нэпманам. Мой отец, нефтяной буржуй и «красный купец» в период НЭПа, в 28 году не мог себе позволить ходить в шляпе. А если б он ее и надел, я первая, наверно, осудила бы его с фанерных, выкрашенных «под металл» комсомольских позиций.
— Наверняка в шляпе, — подтвердил Равич-Черкасский. — И кашне, говорят, перебрасывает через плечо. Он объездил полмира, был даже в Палестине.
— Какой еврей не хочет поехать в Палестину? — спросил Иосиф Авратинер. — Вы видели такого еврея? Я — нет!
Равич-Черкасский промолчал под вопрошающим взглядом хозяина. Он, надо думать, был согласен с Иосифом Авратинером.
Я забыла об этом разговоре, чтобы вспомнить о нем несколькими днями спустя. Проходя по Садовому кольцу, я по привычке заглянула к Авратинерам. Дверь мне открыл мужчина лет тридцати с небольшим. Он был красив необычайной, ослепительной красотой, и я уставилась на него во все глаза. Мягкий, пастельный овал его лица венчала шапка темных волос, небрежными локонами падавших на лоб. В полумраке передней его глаза в глубоких впадинах мерцали, как синие камни. И одет он был красиво — не так, как одевались в ту пору в России, переживавшей очередные «временные трудности».
— Знакомься! — сказал мне Авратинер, появляясь в передней вслед за человеком, открывшим мне дверь. — Перец Маркиш!.. Да проходи ты, наконец, в комнату — в соляной столп ты, что ли, обратилась?
Маркиш говорил с Авратинером на идиш, и я, сидя за столом, горько сожалела, что не знаю ни слова на этом языке. Несколько раз Маркиш, взглянув на меня и вспомнив, что я ничего не понимаю, переходил на русский — но тут же, энергично жестикулируя, словно бы забывая о моем присутствии, снова возвращался к идиш. Мне это было немного обидно, я злилась и на себя, и на папу с мамой, не научивших меня родному языку, и на Маркиша с Авратинером. Вскоре я собралась уходить.
Маркиш вышел проводить меня в переднюю.
— У тебя есть телефон? — спросил Маркиш.
— Найдете, если захотите! — сказала я.
— Я же не спросил номер, — усмехнулся Маркиш. — Я спросил — есть ли телефон.
Я шла домой, чуть не плача от собственной глупости: надо было оставить ему номер моего телефона! Как же, будет он теперь искать телефон какой-то девчонки…
— Я познакомилась с еврейским писателем, — доложила я отцу, вернувшись домой. — С Перецом.
— Тебе здорово повезло, — усмехнулся отец. — Ицхак-Лейбуш Перец умер до твоего появления на свет.
— Как это умер! — возмутилась я. — Он только что вернулся из-за границы.
— Так это, наверно, Перец Маркиш! — предположил отец.
— Да-да, — подхватила я. — Конечно, Перец Маркиш! Он у меня даже телефон взял…
Отец помрачнел несколько — он, видно, слышал о «похождениях» Переца Маркиша, многие из которых, кстати сказать, приписывались ему щедрой на этот счет молвой.
Назавтра я, сказавшись больной, целый день просидела у телефона. Звонили мальчики, девочки, приятели родителей — только не тот, чьего звонка я так ждала. Я была в полном отчаянии, когда, наконец, позвонил он.
— Да будут все боги к тебе благосклонны! — сказал Маркиш.
— Если один из этих богов — вы, то у меня все будет в порядке, — сказала я.
— Авратинер зовет поехать за город, — сказал Маркиш. — Поедешь со мной?
— Поеду, — сказала я.
Моя семья была встревожена не на шутку: о красавце Маркише ходили слухи, что в каждом городе у него есть жена и ребенок. Женщины говорили об этом с замираньем, мужчины — с завистью, Маркиш только усмехался, когда эти слухи доходили до него самого. «Пока тебе завидуют — ты на коне, — говорил Маркиш. — Когда тебя начнут жалеть — тебе конец». Эту поговорку я потом слышала от Маркиша много раз — когда его многочисленные враги говорили о нем, что он вызывающе красив, вызывающе талантлив, вызывающе много пишет, вызывающе богат. Посредственность не терпит чьего-либо превосходства над собой. Посредственность мирится с себе подобными, да и то без охоты. Литературные враги Маркиша были бы счастливы, если бы он реагировал на их возню вокруг его творчества и его жизни — но он не обращал на них никакого внимания, и это бесило их еще больше.
Вскоре после нашего знакомства Маркиш случайно узнал из разговора со мной, что наша семья жила в 18-м году в Екатеринославе, на улице Широкой.
Узнав об этом, Маркиш посмотрел на меня пронзительно и остро, словно бы видел меня в первый раз.
— Ты жила в 18-м на Широкой, около вокзала? — спросил он. — Ты ничего не путаешь?
— Нет, — сказала я. — Это точно… Но что тут удивительного?
Маркиш захохотал, рассмеялся до слез в глазах. Я смотрела на него почти с испугом — ведь только что он был совершенно спокоен. Он был очень динамичен, воспламеняем, взрывчат — это я уже успела заметить к тому времени. Но, сейчас ведь, кажется, не было никакого повода к столь резкой перемене настроения.
— Это чудо, — сказал Маркиш, вдруг посерьезнев. — Можно сказать — совпадение, но совпадение — это и есть чудо. Все зависит от того, какими глазами смотреть… В 18-м году я с Авратинером, Мишей Светловым и Мишей Голодным входил в состав отряда еврейской самообороны на Широкой улице в Екатеринославе. Ну, что ты теперь скажешь? Знал бы я, что ты живешь на Широкой — никогда бы не стал ее оборонять… — пошутил он.
Действительно, чудо, если смотреть глазами поэта, а не архивариуса: мы познакомились в доме Авратинера, а те двое других еврейских ребят-самооборонцев стали известнейшими русскими поэтами — Михаилом Светловым и Михаилом Голодным.
В отряде еврейской самообороны Маркиш занимал значительное место и пользовался уважением товарищей: он успел пройти школу Первой мировой войны, получил боевой опыт, был ранен, а однажды в одной из газет было опубликовано сообщение в черной траурной рамке. Оно гласило, что солдат Перец Маркиш пал смертью героя на поле брани во славу русского оружия. Так что умение владеть оружием помогало Маркишу в борьбе с погромщиками всех мастей и политических оттенков: белых, красных, зеленых. И я, возможно, уцелела в пожаре русской революции оттого, что отряд Маркиша патрулировал ту улицу, на которой я жила. Чудо ли это или совпадение — как кому нравится…
Через год после знакомства Маркиш предложил мне стать его женой, и я согласилась с радостью.
— Так вот, — сказал Маркиш. — Прежде, чем мы станем с тобой мужем и женой, я открою тебе один секрет — а дальше ты решай сама.
— Да… — сказала я, леденея от ужаса — ведь что-то могло помешать нашему счастью.
— Я никогда не был женат ни на ком, — сказал Маркиш, — но у меня есть маленький ребенок, дочка. Ты немного подрастешь, поймешь, как это все происходит в жизни. А пока ты просто должна знать. Ну?
— Хорошо, — сказала я. — Тогда я тоже вам открою один секрет.
— Что за секрет? — в смятении воскликнул Маркиш. — Не может этого быть!
— У меня — другое, — сказала я. — Но я вас обманула, когда мы познакомились. Я сказала вам, что мне семнадцать лет.
Ну? — нетерпеливо сказал Маркиш. — И что же?
— Мне тогда еще не было семнадцати, — призналась я. — Так что семнадцать мне только теперь.
Маркиш рассмеялся.
— Ты меня не на шутку напугала своим секретом, — сказал он. — Я думал, что тебе вообще пятнадцать.
Назавтра он пришел к моим родителям, с которыми уже не раз встречался.
— Вера Марковна, — сказал он моей матери, — найдется у вас какой-нибудь чемоданчик, только поменьше?
— Зачем вам чемоданчик? — спросила моя мать. — Вы, что, уезжаете?
— Мы вместе уезжаем, — сказал Маркиш, кивнув в мою сторону. — Я решил забрать у вас вашу дочку. А маленький чемоданчик — чтоб ей легче было носить.
— Так вы возьмете извозчика! — сказала мама. Она сильно тогда беспокоилась о моей судьбе.
В тот же вечер мы уехали с Маркишем в Харьков.
Знойным, душистым днем наш поезд подошел к харьковскому вокзалу. На приличный номер в гостинице нечего было рассчитывать, и поэтому Маркиш взял извозчика и назвал ему адрес своего приятеля, известного еврейского деятеля Геноха Казакевича.
Генох — крупный, ширококостный, массивный еврей — был видной фигурой в ОЗЕТе[1] и редактором еврейской газеты на Украины — «Дер Штерн». Он одним из первых выдвинул идею создания в России еврейской автономной области — Биробиджана, и отстаивал ее бурно, с присущим ему темпераментом. Маркиш застал Геноха в Харькове случайно — тот переезжал в Биробиджан, куда получил высокое назначение ответственного редактора открывавшейся там газеты на идиш «Биробиджанер Штерн», перевозил туда семью — жену и младшего сына Эму. Эма учился в еврейском техникуме — были тогда такие на Украине — и готовился стать инженером. Судьба судила иначе: Эма стал одним из крупнейших советских русских писателей Эммануилом Казакевичем, а голубая мечта его отца обратилась в серый дым с кровавым оттенком.
Генох был старым партийцем, идеалистом, мечтателем. Он был хорошим евреем, и желал счастья своему народу. Ради этого счастья он готов был сражаться и разбивать кулаки. Полчаса спустя после нашего приезда Маркиш и Генох в высшей степени темпераментно обсуждали что-то на идиш, а я сидела в уголке комнаты, не понимая ни слова. Я вообще впервые в жизни попала в дом, где на идиш говорили не для того, чтобы скрыть смысл сказанного от детей. Говорили на идиш «просто так», и это было в порядке вещей… Со стороны могло показаться, что Маркиш и Генох ругаются на чем свет стоит — но это был спор двух темпераментов, не более того.
Маркиш потом рассказал мне о предмете спора. Генох излагал Маркишу свои биробиджанские проекты — а Маркиш отвергал их и громил. Маркиш считал, что заселение евреями Биробиджана — дело искусственное, что евреи не станут сражаться с чужой тайгой, чужой землей. Он считал, что чужая дальневосточная земля никогда не станет для евреев настоящей родиной, ради которой стоит по-настоящему трудиться и переносить лишения, что опасный этот и дорогостоящий эксперимент закончится крахом. Для того, чтобы пришел успех, руки должны действовать согласно с душой — а еврейская душа разве принадлежит таежной земле Биробиджана?
В 1934 году группа еврейских писателей отправилась в Биробиджан, чтобы ознакомиться с «еврейской республикой». Маркиш входил в состав этой делегации. В Биробиджане в ту пору проживали евреи со всех концов света. Их характеры, обычаи, стиль их жизни резко отличались одни от других. Возможно, они могли бы как-то слиться в одно общее, если бы их объединяло кровное чувство родины, но Биробиджан не был их родиной, не был землей евреев. Беспрецедентный опыт, проведенный Израилем в 1948 году, предпринятый для объединения евреев всего мира и завершившийся победой, не мог бы увенчаться успехом на чужой земле. И Маркиш, написавший в это время свое стихотворение «Дайте мне напиться, камни древней славы…», предугадал это.
Из Биробиджана Маркиш вернулся домой подавленный. То, что он увидал там, глубоко разочаровало его. Единственный из всех еврейских писателей, разделивший точку зрения Маркиша, был Дер Нистер. Но будущее Биробиджана оказалось куда более страшным, чем можно было его себе представить в 1934 году. Большинство евреев приехавших из-заграницы, чтобы построить «новую еврейскую родину», были сосланы в сталинские лагеря и погибли в 1937 году.
А судьба Геноха Казакевича сложилась вполне благополучно: он успел умереть своей смертью. Проживи он еще немного, и его, несомненно, арестовали бы и осудили: это было неминуемо в период репрессий 1937 года.
Из Харькова мы поехали в Киев. На вокзале Маркиша встречал Наум Ойслендер, талантливый еврейский литературовед и критик, которого Маркиш называл «Нюка». Маркиш уважал и ценил Нюку, считался с его мнением и оценками. Они тут же нашли тему для разговора: Маркиш готовил тогда к печати сборник стихов. Нюка из писем Маркиша знал об этом, но он хотел знать еще больше, подробнее. В своих письмах Маркиш касался не только проблем собственного творчества, но также останавливался на творчестве многих писателей, составлявших цвет литературы той эпохи.
Жена Нюки, поэтесса Мира Хенкина, не оставившая значительного следа в еврейской литературе, упивалась буквально каждым словом Маркиша. Всеми силами Мира стремилась получить «добро» Маркиша на ее поэтические упражнения — это «добро» открыло бы ей дорогу в большую литературу. Но Маркиш упорно отказывался — несмотря на свою дружбу с Нюкой Ойслендером. Впоследствии этот отказ стоил Маркишу дружбы с Нюкой: Мира, надо думать, день и ночь грызла мужа, потому что «его» Маркиш не захотел оценить ее таланта. А в страшном 49 году семья Ойслендеров, не задумываясь, принесла в жертву свою совесть: после ареста Маркиша Нюка и Мира заявят публично, что стыдятся того, что в течение многих лет общались с «предателем» Перецом Маркишем.
После так называемой «реабилитации» Переца Маркиша, после моего возвращения из казахстанской ссылки, после, наконец, смерти самой Миры — Нюка разыскал меня в Москве и попросил о встрече, ссылаясь на обстоятельства чрезвычайной важности. Наша встреча была почти безмолвной. Нюка, маленький, жалкий, оборванный, подошел ко мне со связкой бумаг в руках.
— Это письма Маркиша ко мне, — сказал Нюка, протягивая мне связку. — Я их сохранил. Возьмите их — это исключительно интересные письма…
Нюка не решался взглянуть мне в глаза: ему было стыдно своего предательства. Я, однако, благодарна Ойслендеру за то, что он не уничтожил письма Маркиша в то страшное время, когда они могли бы послужить обвинением против их владельца.
Но вернемся в Киев тридцатого года. Когда в Киеве стало известно, что приехал Маркиш, многие пришли к нему — чтобы увидеть его, спросить у него совета, просто поговорить: писатель старшего поколения Hoax Лурье, переводчик с идиш на русский Борис Маршак, еврейский художник Евгений Мандельберг… Маркиш словно бы излучал волны света, к нему шли и шли люди, так или иначе связанные с еврейской культурой. Познакомившись с ним, эти люди покидали его дом либо как его преданнейшие друзья, либо как непримиримые враги.
Лето в Киеве выдалось сухое, пыльное, и друзья советовали нам поехать в Ворзель — пригородный поселок на берегу реки. Маркиш сразу же согласился, ни на минуту не задумавшись об условиях каждодневной жизни в «зеленом Ворзеле». Весь его багаж, как всегда, состоял из портфеля с бумагами и рукописями, и его друзья, подшучивая, говорили: «На сей раз Маркиш приехал не только с портфелем, но и с молодой женой».
Мы приехали в Ворзель вечером, и, поблуждав по темным улочкам, нашли, наконец, дом, в котором друзья загодя сняли для нас большую комнату с террасой. И комната, и терраса были совершенно пустыми. Мы не знали, где нам спать. Но не это беспокоило Маркиша.
— Как это возможно, чтобы в комнате не было стола! — заметил он раздраженно. — Как же я буду работать?!
Мы позвали хозяйку, чтобы задать ей все эти вопросы. Она сказала, сложив руки под передником:
— А как же это возможно, чтоб дачники — и без мебели? Если б вы раньше сказали, я бы вам что-нибудь подобрала. А сейчас ведь ночь на дворе!
Хозяйка дала мне керосиновую лампу — в ту пору на ворзельские дачи еще не было проведено электричество. Разыскав наощупь бидон с керосином в темной прихожей, я пыталась догадаться, как заправляют лампу. Я сняла с лампы стекло, выкручивала и закручивала фитиль. Куда же, все-таки, наливается керосин? С подступившими к горлу рыданьями, в чужом доме, в темноте, я чувствовала себя одинокой и несчастной… Не так представляла я себе медовый месяц со знаменитым поэтом Передом Маркишем. Наконец, не выдержав, я побежала к нему.
— Ты не знаешь, куда наливают керосин? — расхохотавшись, спросил Маркиш. — Но как же это так? Ты ведь из Баку, а в Баку столько керосина! А ну-ка, давай сюда эту лампу!
Спустя минуту наша комната осветилась зыбким пламенем керосиновой лампы, и жизнь уже не казалась мне такой беспросветной.
Хозяйка приволокла с чердака деревянную раму кровати без сетки и без матраца и клубок бельевой веревки. Затем на свет появился большой пустой мешок — и, пожелав нам спокойной ночи, хозяйка оставила нас одних.
До полуночи мы с Маркишем натягивали веревки на раму. Получилось нечто вроде неподвижно укрепленного гамака. Потом мы набили мешок свежим сеном — и кровать была готова.
Наутро, разыскав у соседей маленький садовый столик, Маркиш установил его на террасе и сел за работу. Сказать по правде, в то время я совсем не умела заниматься хозяйством и домом.
Это нисколько не беспокоило Маркиша: он работал, наскоро проглатывая пищу, которую я готовила как умела и которую только с большой натяжкой можно было назвать «еда». После еды он ненадолго выходил прогуляться, а потом снова принимался за работу. Шагая из угла в угол, он бормотал что-то непонятное на идиш, присаживался к столу, снова начинал мерить шагами комнату. Прислушиваясь к этому бормотанью, я горько сожалела о том, что не выучила идиш еще девочкой и давала себе слово выучить этот язык как можно скорее.
Через две недели мы получили телеграмму: отец Маркиша собирался навестить нас, чтобы повидать сына и познакомиться со мной.
5. Праведник Давид
Прежде, чем знакомить меня с родителями, Маркиш решил рассказать мне об их жизни в местечке Полоное, где он родился в 1895 году.
Семья его была бедна — мать Хая торговала селедкой покусочно, отец Давид был мудр и учен, но денег ему за это не платили. Отец Хаи был портным, относительно обеспеченным человеком. Давида взяли в семью за ученость, в качестве «зятя на хлебах». Целый день красивый библейской красотой Давид сидел над Талмудом, предоставив заботу о хлебе насущном для семерых детей оборотистой Хае с ее селедочным бизнесом. Доход, сказать откровенно, был невысок: купив целую селедку, Хая разрезала ее на куски, приправляла луком и подсолнечным маслом и продавала каждый кусочек отдельно. Семья, наверно, пошла бы по миру, если б не помощь портного Шимшон-Бера. Помощь, однако, была не столь существенна, чтобы обеспечить всех детей одеждой и обувью. Когда, трех лет отроду, Маркиша определили в хедер, самостоятельно отправиться он не смог: на дворе стояла зима, а ботинок и пальто у маленького Переца не было. Давид, однако, настаивал, чтобы не по возрасту смышленный мальчик начал учиться. Тогда 7-летний Меир, старший брат Переца и обладатель сапог, завернул младшего в одеяло и понес на спине в хедер, где учился и сам.
Судьба судила так, что все ее дары пришлись на долю одного из семерых детей Давида и Хаи — Переца. Пять его сестер и один брат выросли обыкновенными, средними людьми — в меру умными, в меру удачливыми, в меру красивыми. А маленький Перец стал Перецем Маркишем.
Слава об умном и красивом Давидовом младшем сыне разносилась по окрестным местечкам, и евреи приходили в дом Давида, чтобы поглядеть на удачного мальчика. Годам к семи у него прорезался замечательный голос, и он стал петь в синагоге. Он делал это нехотя — ему было тесно в ветхом отцовском доме, тесно в местечке с его сгорбленными, фантазирующими о лучшей жизни евреями, с его непременными белыми козами, беспрепятственно разгуливающими по кривой Бакуновской улице, мимо разваливающегося дома с подслеповатыми окошками, в котором он рос. В десять лет он убегает из местечка в город Бердичев, где поет в синагоге, ведя вольное полуголодное существование. Как-то в Бердичев заехал «столичный» кантор — Киевская знаменитость, и согласился послушать мальчика, на которого Бердичевский раввин возлагал большие надежды. Перецу выдали несколько грошей для подкрепления сил перед решающим испытанием. На эти деньги он чуть ли не впервые в жизни накупил жирных котлет с жареной в масле картошкой, жадно съел и… потерял голос от обильной и непривычной пищи.
На этом закончилась музыкальная карьера Маркиша — синагогальный певец из него не получился. Он был рожден, чтобы обращаться к Богу иными средствами. Пятнадцать лет спустя он писал в поэме «Сорокалетний»:
Пусть рот в лихорадке. Сквозь боль и сквозь дым К Тебе обращаюсь со словом моим.После конфликта с Бердичевским раввином за Маркишем приехала его старшая сестра Лея и увезла мальчика домой. Вирус независимости, однако уже навсегда, на всю жизнь овладел им. Два года спустя он позволяет себе то, о чем даже подумать боятся его сверстники-полончане и что вызывает их восхищение и зависть: он, местечковый еврейский мальчик, ходит среди бела дня в галошах и в картузе! Давид сквозь пальцы смотрит на своевольные проделки «сбившегося с пути» мезунека. «Ах, если бы он стал счетоводом! — вздыхает Хая. — С его-то головой!»
И его устраивают на службу в «Полонское ссудо-сберегательное сообщество».
Примерно в это же время — в возрасте около пятнадцати лет — он начинает писать стихи. Это религиозно-мистические стихи, он пишет их по-русски.
Он пишет, захлебываясь чувствами, желаниями, впечатлениями о распахнутом перед ним мире. Он пишет много, скорописью, где попало, когда попало, на чем попало. Одно из ранних стихотворений он набрасывает на работе, на банковском чеке. Чек попадает к клиенту, клиент не может использовать его. Клиент возмущен, он жалуется начальнику Маркиша. Тот вначале ничего не может понять, подозревает подлог, злоумышление, готовящееся ограбление. Наконец, расследование приводит к Маркишу. «Виновнику» делают строгое предупреждение, ему грозят увольнением с работы. Давид вздыхает обреченно, Хая плачет: ее Перец занимается совсем не еврейским делом.
Скандал разразился несколькими месяцами позднее. В Полоное в кои-то веки заехала бродячая трупа еврейских эстрадных артистов. Не от хорошей жизни заехала она в такое захолустье, и не ожидала там ни особо теплого, ни, тем более, денежного приема. И, действительно, один только Перец Маркиш явился к артистам на постоялый двор в первый же вечер их приезда.
Постоялый двор, битком набитый храпящими людьми, не был идеальным местом для разговоров об искусстве. Поэтому пятнадцатилетний Маркиш извлек из кармана ключи от Ссудо-сберегательного сообщества и пригласил туда артистических бродяг.
И через десять минут здание Сообщества светилось всеми окнами — словно в день коронации Николая. На темную улицу выплескивался потом шум хохота, пенья. Из окна кабинета директора валил густой дым: туда вывели самоварную трубу и кипятили воду для чая.
Сторож, прибежавший на необычайный шум, долго смотрел на обезумевший дом, но подойти близко не решался. Он прямехонько отправился к директору Сообщества и доложил ему, что на его контору напали бандиты, грабят и бесчинствуют. Вскоре целая толпа «поднятых по тревоге» местечковых евреев обложила светящийся дом. Ворвавшись внутрь с кольями и топорами, они увидели Маркиша, читавшего свои стихи. Артисты, усевшись на полу вокруг пыхтящего самовара, слушали его.
Назавтра Перец Маркиш был уволен из Ссудо-сберегательного сообщества. Не помогли ни слезы Хаи, ни вздохи Давида, ни «подмазки» деда — портного Берко.
Финансист, равно как и кантор, не получился из Переца Маркиша.
Давид, человек мудрый и привыкший к ударам судьбы, не знал, что делать дальше — и смирился: маленький Перец, на которого он возлагал такие надежды, никогда не добьется высокого положения в жизни. Счетовод из него не получится…
И вот теперь старый Давид должен был приехать к нам в Ворзель.
С самого утра Маркиш отправился в Киев встречать отца. Старик плыл на пароходе из Днепропетровска — бывшего Екатеринослава, где вся семья Маркишей осела еще до 1917 года. В ожидании нашего гостя я испытывала такое волнение, что не знала, куда и ткнуться: Маркиш сказал, что его отец не знает ни слова по-русски, и, если я хочу, то могу с ним ни в какие разговоры не вступать — молчать, и все.
— Но как мне с ним хотя бы поздороваться? — спросила я. — Хотя бы несколько слов на идиш…
— Ну, ладно, — сказал Маркиш. — Скажи ему: «Вос, вер, веймен». Старик будет доволен.
Записав слова, я выучила их наизусть.
Поздним вечером приехал Маркиш с отцом. Старик был удивительно красив: статный, с окладистой белой бородой и голубыми глазами. Одет он был в длинный люстриновый лапсердак, а на голове его красовался картуз. Несколько плетеных корзин, тюки и тючки с книгами загромождали телегу, привезшую гостя.
— Вос, вер, веймен! — выпалила я, подойдя к старику,
Тот вздрогнул и уставился на меня с великим изумлением.
— А что, дочка, — сказал старик с сильнейшим еврейско-украинским акцентом, — по-русскому ты не умеешь?
Я оглянулась, поглядела на Маркиша — что все это могло означать? Но Маркиш никак не реагировал на странный диалог между мною и стариком — его рука была перевязана намокшим кровью платком, и я в темноте только сейчас заметила это.
— Что с тобой, Маркуша?
— Идем искать врача! — нетерпеливо сказал Маркиш. — С этими вещами… — Маркиш досадливо кивнул в сторону стариковского багажа. — Я здесь, на вокзале, прищемил палец дверью купе. Кажется, сошел ноготь…
Врача мы подняли с постели. Он снял вывернутый напрочь ноготь и наложил повязку. Операция была болезненной, но после ее окончания нетерпеливо, но молча перенеся сильнейшую боль, Маркиш сразу повеселел.
— Что это такое: «Вос, вер, веймен»? — спросила я по дороге домой. — Старик сильно удивился…
— «Что, кто, кому», — сказал Маркиш. — Ты же просила, чтобы я сказал тебе несколько слов по-еврейски.
Вернувшись, мы застали старика на террасе. Сидя за столом, он читал при свете керосиновой лампы Тору. Маркиш сказал ему что-то по-еврейски, но старик отрицательно покачал головой. Тогда Маркиш темпераментно стал что-то доказывать ему, жестикулируя и бегая по комнате. Старик оставался немногословен, но тверд как камень.
— Это не старик, а одержимый какой-то! — сказал наконец Маркиш по-русски. — Он не хочет ночевать в нашей комнате.
— Почему? — спросила я.
— Тебе в этом трудно разобраться… По законам религии он не может спать в одной комнате вместе с супругами.
— Но на террасе очень холодно! — сказала я. — Он здесь простудится!
Давид сам разрешил эту внезапную проблему. Он решительно вытащил приготовленную для него раскладушку из комнаты в тесный коридор и улегся там.
Наутро Маркиш, как всегда, сел работать, а старик пришел ко мне — поговорить, познакомиться поближе.
— У тебя есть родители, дочка? — спросил старик. — Папа, мама?
— Есть, в Москве. И брат есть.
— Родители — кеменисты? — пристально поинтересовался старик.
— Нет.
— Хорошо! — облегченно молвил Давид, но вдруг озаботился вновь: — А брат — он кеменист?
— Тоже беспартийный, — сообщила я.
— Хорошо! — окончательно успокоился Давид. — А что тебе дали в приданое твои родители?
Не было у меня никакого приданого, поэтому я ответила старику вопросом на вопрос:
— А что вы дали вашему сыну?
Тогда старик поманил меня к окну.
— Смотри! — сказал Давид, широко обводя рукой поле, реку, лес за рекой, небо с солнцем посередине. — Это все я отдаю тебе за моим сыном Перецом!
Вопрос кошерной пищи волновал старика больше всех других. Он ни о чем меня не спрашивал — он видел сам, что кухня наша далеко не кошерная. И он сказал:
— Зачем тебе возиться на кухне, дочка? Я так готовлю! И вкусно, и правильно, и денег уйдет меньше. Иди погуляй, дочка, а я пока сварю такой борщ, какой тебе даже твоя мама никогда не давала.
Гулять я не пошла, а смотрела, учась, за тем, как старик готовит бульон, нарезает помидоры, стрижет свеклу. Все это выглядело очень красиво. Несколько раз Маркиш заглядывал в кухню, ронял:
— Учись, Фирка! Ты только погляди, как он готовит! Имей в виду — это будет не какой-нибудь там борщ, а — кошерный!
Когда сели к столу, старик снял крышку с урчащей, остро благоухающей кастрюли и первую тарелку налил сыну.
— Теперь попробуй, Перец! — с тихим торжеством сказал отец. Он был уверен в своих кулинарных способностях, он знал, что сын оценит по достоинству его стряпню.
Едва поднеся ложку ко рту, Маркиш вскочил из-за стола с громовым криком:
— Сам! Сам!
Старик был испуган, я не понимала, в чем дело. То, что «сам» означает в переводе с еврейского на русский «яд» — этого я тоже тогда не знала.
Минуту спустя выяснилось, что старик, перепутав, заправил борщ не уксусом, а уксусной эссенцией. После этого инцидента Маркиш решительно отстранил отца от приготовления пищи. Старик был подавлен и смущен.
Тогда я отправилась в поселок, в еврейскую кухмистерскую. Старик, сокрушенно покачивая головой, пошел со мной. Убедившись, что кухмистерская отвечает всем правилам кашрута, он немного успокоился. Мы купили молочный — по выбору старика — обед и вернулись домой с судками.
Назавтра я отправилась за обедом сама. Мясной суп был налит в тот же судок, в котором вчера я принесла молочное. Понюхав суп, старик решительно поставил судок на стол.
— Зачем ты носишь в одной посуде мясное и молочное? — спросил старик печально. — Ты хочешь поссорить меня с Богом, дочка?!
С тех пор старик ходил обедать в кухмистерскую: запасных судков у нас не было, а достать новые в то время было непросто.
В пятницу вечером дело тоже не обошлось без осложнений. Мы с Маркишем вернулись довольно поздно, и хозяйка встретила нас на пороге со словами:
— Дед ваш не ложится, свет не хочет гасить.
Маркиш, посмеиваясь даже с какой-то гордостью, объяснил мне, что в пятницу, после первой звезды, верующий еврей не может работать, а ведь погасить свечу — это тоже работа.
— Так я погашу! — вызвалась я.
— Иди, попробуй! — усмехнулся Маркиш.
— Давайте, я погашу, папаша! — сказала я, входя к старику и набирая воздух, чтобы подуть на свечу.
— Оставь! Оставь! — замахал руками Давид. — Ты же еврейка! Нужен шабес-гой!
Хозяйка наша тоже не подходила для роли шабес-гоя — она, как загодя выяснил старик, была еврейкой. Пришлось идти к соседям и звать гоя на помощь.
Наутро, рассуждая о субботних религиозных постановлениях, старик рассказал нам о том, что произошло с ним на пароходе.
В одной из корзин, сданных стариком в багаж, оказался Сидур — молитвенник. Никто из пароходной команды, разумеется, не соглашался копаться в багажном отделении в поисках дедовой корзины. Тогда старик пошел на хитрость: приметив в толпе пассажиров инициативного молодого человека с еврейским лицом, отец Маркиша подошел к нему.
— Простите, молодой человек, — сказал старик, — но вы, мне кажется, еврей.
— Да, — сказал молодой человек, — совершенно верно.
— И я видел, как вы ходили к начальнику этого парохода… — сказал старик, задумчиво глядя на собеседника.
— Верно, — подтвердил тот. — Я журналист.
— Видите ли, в чем дело, — сказал тогда Давид, — у меня в багаже есть одна корзинка. Там, в корзинке, лекарство, и я должен принимать его два раза в день. Но никто не хочет пойти за моей корзинкой… Попросите начальника, молодой человек, и вы совершите святой поступок!
Молодой человек так и сделал, и старик получил свою корзинку с Сидуром.
— И я его не обманул, того молодого человека, — заключил старик свой рассказ. — Сидур — лекарство для души, и я дважды в день должен принимать его, утром и вечером.
В тот же день нежданно, негаданно появился в Ворзеле мой брат Шура. Он приехал поглядеть, как живет его сестренка с «вертопрахом, грозой женщин» Перецом Маркишем.
Первым человеком, с которым столкнулся Шура на пороге нашего дома, был Давид.
— Ой! — сказал Давид, увидев Шуру. Больше он ничего не сказал.
Шура оказался тем самым молодым еврейским человеком, что помог старику добыть Сидур из багажа.
В Ворзеле Маркиш закончил работу над первой своей пьесой «Нит гедайгет». Пьеса рассказывала о событиях в одном из первых еврейских коммунальных поселений «на земле» — в Крыму, близ Джанкоя. Маркиша волновала тема еврейства «на земле», он много размышлял над ней. Так, немногим ранее, была написана Маркишем поэма «Нит гедайгет!» — «Не тужи!». Теперь эта тема нашла решение в драматургии.
Заканчивая пьесу, Маркиш был сосредоточен, замкнут. Особенно это проявилось у него по утрам.
Он вставал рано, будил меня — словно бы меня и не видя. Пока я на скорую руку готовила завтрак — уходил, бродил в одиночестве по дачному участку. Если я обращалась к нему с каким-нибудь вопросом — отвечал быстро, коротко, а то и вовсе не отвечал, уходил. Был нервен, взвинчен. Любые мои слова, обращенные к нему, сердили его, злили. По утрам — до того, как он садился за рабочий стол — он не желал ни с кем разговаривать.
Завтрак проходил молча, сопровождаемый лишь время от времени отрывочными междометиями. Это меня расстраивало, огорчало. Я по-своему, по-женски расценивала упрямое утреннее молчание Маркиша. Лишь потом, много времени спустя, Маркиш объяснил мне, что оно означало.
По ночам Маркишу грезилось продолжение того, над чем он работал днем. Не успевал он опустить голову на подушку — его образы приходили к нему. Утром они ненадолго оставляли его — пока он не садился за стол. В этот короткий промежуток времени — между пробуждением и рабочим столом — он продолжал общаться с ними, но уже не во сне, а словно бы наяву. Это было трудней, чем во сне — следовало не упустить их, продлить их жизнь до того мига, когда они окажутся намертво привязанными к бумаге. И все, что мешало Маркишу, отвлекало его в эти вынужденные полчаса утренней передышки — подавлялось им в более или менее вежливой форме.
Он заканчивал работу к обеду — и тогда наступал для него отдых. Он насвистывал что-то, обыкновенно мелодию «Я в Соренто вернусь», и по тональности его насвистывания я определяла, доволен ли он сегодняшней своей работой. После обеда он ложился вздремнуть на полчаса, вставал свежим и избегал говорить о своей работе. Послеобеденное время — до самой ночи — отведено было отдыху.
А утром он просто не мог, не желал выбрасывать на ветер, разбазаривать слова, нужные ему для другого дела и ценимые им за это.
Закончив пьесу «Нит гедайгет!», он отправил ее в Москву — Михоэлсу и в русский театр Корша. Я думала, он отдохнет несколько дней — но уже наутро после отправки он был, как всегда, молчалив и после завтрака сел к столу: работая над пьесой, он одновременно набрасывал заготовки стихов, и теперь занялся разработкой этих заготовок. Неиспользованное для работы утро он считал утром, убитым собственноручно. Сохранилось в моей памяти несколько таких утр — и до самой ночи Маркиш был тогда сумрачен, замкнут.
Зато после работы, вслед за послеобеденным сном, Маркиша нельзя было узнать. Мы шли с ним бродить по лесу, купаться, в гости. Там же, в Ворзеле, жила в то лето семья Исаака Нусинова — одного из самых блестящих еврейских литературных критиков. Нусинов, несмотря на свою молодость — он был лишь на несколько лет старше Маркиша — был уже профессором Московского университета и заведовал кафедрой литературы в педагогическом институте имени Бубнова, где читал на идиш курс «История западной литературы» для будущих преподавателей еврейских школ и техникумов. Многие из его учеников стали впоследствии литераторами — например, поэт Шлоймо Ройтман, критик Герш Ременник. Факультет, естественно, был закрыт в 1937 году — с началом официального разгрома еврейской культуры в СССР.
Тонкое, с малой бородкой, с влажными восточными глазами лицо Исаака Марковича удивительно напоминало лицо Иисуса Христа. Кто-то из знакомых друзей-художников даже подарил Нусинову рисунок-шарж: Нусинов в венце, где тернии переплетались с розами. Шарж был подписан Блоковской строчкой: «В белом венчике из роз — Впереди Иисус Христос».
В разговорах, в спорах с Нусиновым Маркиш просиживал у него в доме до поздней ночи. Разговоры велись то на идиш, то по-русски — чаще на идиш. Помню реакцию Маркиша и Нусинова на самоубийство Маяковского. Ни тот, ни другой не приняли официальной версии — Маяковский, якобы, застрелился по причине неудачной любви. Что-то более глубинное, более смутное видели они в этой смерти.
Я позволила себе вставить слово в их разговор — слово самого Маяковского:
«— Прохожий! Это улица Чайковского?
— Нет!
Она Маяковского 1000 лет!
Он здесь застрелился у двери любимой…»
— Э, нет! — сказал Маркиш после моей реплики. — Это неважно, что он писал о своей смерти. Важно другое: редко настоящий поэт спокойно умирает в своей постели… Да, неудачно ты выбрала себе мужа, Фирка!
Я тогда крепко запомнила эту его фразу.
Нусиновский дом в Ворзеле был открытым, хлебосольным домом. Маленький Эля, сын Исаака Марковича, был любимцем гостей: мальчик был остроумен, находчив, начитан. Однажды он написал какую-то маленькую пьеску и сам поставил ее, пригласив в качестве актеров мальчиков и девочек из соседних дач. Я не помню, о чем была та пьеса — но талант Эли не выветрился, как часто бывает, с возрастом: спустя тридцать лет он стал известным писателем, драматургом и киносценаристом. Страшная, нелепая судьба выпала на его долю: собирая материал для сценария о военных моряках, он вышел в море на крейсере, принимавшем участие в военно-морских маневрах. Там он умер от сердечного приступа — молодым еще мужчиной, тело его было зашито в мешок, и командир отдал приказ выбросить его в море с чугунной болванкой, привязанной к ногам. Соавтор Эли — Семен Лунгин, на руках которого он и умер в тесной каюте крейсера, умолял командира не выбрасывать бедного Эли за борт — какими глазами он, Семен, посмотрит на вдову Эли, когда вернется в Москву?.. Потребовалось специальное распоряжение высокого военно-морского начальства, чтобы, наконец, труп Эли Нусинова оставили в покое.
В первых числах июля пришел из Москвы ответ: пьеса была принята театром Корша, Маркиша вызывали на авторскую читку. Маркиш был доволен: в труппе театра работали отличные актеры — старуха Блюменталь-Тамарина, блестящий Межинский. Поручив меня заботам своего отца, Маркиш уехал в Москву. Это была наша первая разлука с Маркишем — недолгая, но для меня весьма чувствительная.
Старик отнесся к инструкциям Маркиша с высокой ответственностью. Он считал своим долгом ежедневно ходить на базар и по нескольку раз в день вести со мной беседы. О еврейской истории рассказывал мне старик, о еврейской религии. И еще — косвенно, без нажима — о том, что наиболее удачным из своих детей считает он Меира, «вышедшего в бухгалтеры». Занятия Маркиша старый Давид всерьез не принимал, хотя и осуждать открыто не решался. Он не понимал стихов сына, а, быть может, и вовсе не читал их. Вот работа Меира — это настоящее дело для еврейского молодого человека! Меир был прочной гордостью отца, Перец — непонятностью, несколько даже пугающей.
Дней через десять вернулся из Москвы Маркиш — стремительный, возбужденный, с неизменным портфелем в руке.
— Авратинер прислал подарок Соне, — сказал Маркиш, извлекая из портфеля пакет (семья Авратинера, в чьем доме я познакомилась с Маркишем, жила тем летом в Ворзеле). — Отнеси ей!.. А тебе я ничего не привез.
— Мне ничего не надо, Маркуша! — сказала я совершенно чистосердечно. — Ты ведь сам приехал…
Неожиданно для меня «железный» Маркиш растрогался, отвернул от меня лицо с повлажневшими вдруг глазами.
— Я пошутил, Фирка, — сказал Маркиш, протягивая мне коробочку с коралловым ожерельем, первым в моей жизни.
А я тоже приготовила Маркишу подарок: у нас должен был родиться ребенок.
Маркиш, узнав об этом, бурно обрадовался, сказал:
— Заказываю мальчика. Смотри — девочку не возьму!
Я не поняла — шутит Маркиш или говорит серьезно, и страшно боялась вплоть до самых родов. Родился мальчик — как хотел Маркиш.
В середине августа приехала в Ворзель моя мама — мы должны были вместе с ней вернуться в Москву, где ждал меня Университет. Маркиш же собирался остаться в Ворзеле — поработать. Ему нравилось в Ворзеле.
Здесь-то, на нашей ворзельской террасе, и состоялось знакомство моей красивой, статной мамы с облаченным в черный лапсердак библейским Давидом. К величайшему удивлению Маркиша, старик, знакомясь, протянул маме руку — закон религии запрещал ему здороваться за руку с женщиной. За столом, однако, старый Давид заметно потускнел и упорно не глядел на маму. Огорчившись, я обратила на это внимание Маркиша.
— Сейчас я это улажу, — сказал Маркиш и поманил маму из-за стола в комнату.
— Вы носите платье с короткими рукавами, — сказал Маркиш моей маме, — и правильно делаете, Вера Марковна: у вас красивые руки. Но поглядите на моего старика — он сам не свой, ему нельзя смотреть на открытые руки женщины, даже такие, как ваши… Набросьте платок!
Мама накинула шаль, и старик успокоился. Пришло время моего отъезда, но Маркиш не хотел отпускать меня.
— Что тебе эта учеба? — говорил Маркиш. — Я тоже Университет не кончал — и ничего, обхожусь… Оставайся! В крайнем случае, пойдешь учиться на следующий год.
Я хотела ехать, настаивала на своем.
— Оставь ты это! — убеждал Маркиш. — Я хочу, чтоб ты родила мне шестерых детей — а на это нужно время. Зачем тебе учиться, когда на работу у тебя все равно не хватит времени?
— А как же равенство между мужчиной и женщиной? — возражала я с жаром молодости. — Я за полную эмансипацию! Женщина сама должна обеспечивать себя!
— А! — досадливо отмахивался Маркиш. — Твоя обязанность — делать жизнь, моя обязанность — зарабатывать на жизнь. Если хочешь называть такое положение эмансипацией — называй на здоровье!
Маркиш, однако, не препятствовал всерьез ни моей учебе, ни последующей работе. Наоборот, он гордился моими маленькими успехами и, словно бы удивляясь им, всячески превозносил их перед своими товарищами-писателями. Мой успехи немного развлекали его.
В самом конце августа мы с мамой уехали в Москву. Я снова поселилась в своей пятиметровой комнатке в Цыганском уголке. К приезду Маркиша я с трудом втиснула туда крохотный столик: у знаменитого Переца Маркиша не было в то время в мире ни кола, ни двора — и он никогда не задумывался над тем, под чьей крышей придется провести ему ночь. Он был абсолютно искренен, когда писал:
— «Миг» зовут меня… Разбросав привольно руки, Мир я обнимаю жадно, И гляжу в немом восторге Вдаль и ввысь перед собой!6. «Золото» моего отца
Затея советской власти с «лишенцами» приобретала постепенно иной, куда более широкий, чем вначале, характер. «Грехи» родителей распространились на детей. Советы устроили первый публичный спектакль, омерзительный и грязный: в газетах стали появляться заявления об отказе детей от родителей, жен от мужей. Отказывающиеся били себя кулаками в грудь, выжимали из глаз слезы «чистосердечного» раскаяния: это-де нелепая случайность, они никак не связаны с буржуями, нэпманами, врагами социализма… Неопубликовавших такие заявления ждала суровая кара: они несли на себе клеймо «родственников лишенцев», их не брали на работу и учебу, преследовали и травили. Немного было тех, кто не проявил слабости.
Все эти истории витали вокруг нас, вокруг нашего с Маркишем дома — но не часто просачивались вовнутрь. Маркиш жил интересами национальными, а не классовыми. Еврейская жизнь в послеоктябрьском обществе интересовала его — а не жизнь послеоктябрьского общества в целом.
Гибель миллионов русских крестьян не коснулась нас непосредственно — и мы закрыли на нее глаза. В конце сороковых годов гибель пришла в наш дом — и миллионы остались слепы к нашей беде. А ведь речь шла не только о гибели Переца Маркиша — о планомерном уничтожении всей еврейской культуры в СССР.
Горько признаваться, но я не могу не сказать сегодня, что то была трагическая вина Маркиша, которую он разделяет со всей почти советской интеллигенцией. Лишь собственное горе заставило нас осознать весь ужас нашей жизни в целом — не только муки евреев или муки интеллигенции, но муки всей страны, всех социальных групп, всех народов, ее составлявших. После ареста Маркиша наша домработница, прожившая у нас больше 15 лет и ставшая, по сути, членом нашей семьи, сказала мне:
— Теперь ты плачешь, а почему не думала ни о чем, когда папаню моего раскулачили, погубили ни за что ни про что, семью по миру пустили!?
В этих словах не было ни злорадства, ни даже укора, была только боль за человеческую слепоту и эгоизм, в которых, вместе с другими, были повинны и мы.
Революция ставила своей целью не только разрушение старой культуры, но и создание новой. Дело продвигалось со скрипом, с трудом — поэтому, на обломках старой культуры власть потакала созданию «новых, социалистических отношений» между людьми. Эти отношения приобретали зачастую странные, а иногда и уродливые формы. Мы, ослепленные, не видели этого — до поры, до времени…
В то время считалось позором принять после свадьбы фамилию мужа, да и сама свадьба считалась позором: что это еще за «буржуазные пережитки»? Никому и в голову бы не пришло надеть обручальное кольцо или официально зарегистрировать свой брак. Свобода! Все можно, все дозволено!.. Власть была довольна: граждане, играющие в свободу, в запале игры принимали кандальный звон за жизнерадостную музыку.
В 31 году эксперименты «культурной революции» продолжались. Именно в этом году был неизвестно зачем распущен филологический факультет Московского университета. «Филология — устаревшая наука, не отвечающая духу времени!» — такова была официальная мотивировка, приведшая к закрытию факультета. Закрытию, однако, предшествовала «социальная чистка студенческих кадров», принесшая немало неприятностей. Мне — дочери бывшего нэпмана — пришлось идти работать на пуговичную фабрику, «изживать социальное происхождение пролетарским трудом». Работу на фабрике я сочетала с учебой в Университете и «вычищена» не была. После расформирования нашего факультета студентам предложено было продолжать учебу либо в Ленинграде, в институте общественных наук имени Герцена, либо в Москве — в педагогическом институте имени Бубнова. Был и третий вариант, который я предпочла первым двум: московский Институт иностранных языков. Там, на кафедре французского языка, я и продолжила свое образование. Преподавание, в основном, велось на безупречном французском: среди преподавателей немало было работников Коминтерна — иностранных коммунистов, приехавших в Россию «строить новую жизнь». Те из них, кто не вернулись во-время на Родину, были репрессированы в 37 году и закончили жизнь в лагерях и тюрьмах.
Весной 31 года пришло время произвести мне на свет ребенка. Рожать я уехала в Баку, к родственникам: в Москве были трудности с устройством в родильный дом, да и боялась я — а бабушка Оля звала меня к себе. Маркиш бурно радовался рождению сына, — он назвал его Симоном, а мне мой мальчик, конечно, казался самым красивым, самым смыленным, самым, самым, самым… К девяти месяцам он заговорил — и это тоже было удивительно.
С рождением сына у Маркиша совпал выход пьесы «Нит гедайгет» — на сцене театра Корш она называлась «Земля». Для Маркиша это была «проба пера» в драматургии, и успех первой же пьесы был ему приятен. Он собирался продолжать писать пьесы от времени до времени.
Вскоре после рождения ребенка в нашем доме появился человек, разделивший с нашей семьей все, что выпало на ее долю — русская крестьянка из Заволжья, Лена Хохлова. Она ухаживала за ребенком, варила обед, помогала убирать дом. По всем понятиям, она была домработницей — но я не могу ограничить ее место в доме этим словом: Лена стала членом нашей семьи.
От нее, от Лены, узнали мы кое-что о крестьянской доле в послеоктябрьской России.
Ее отец, мужик работящий, владел коровой и четверкой овец. Лошади у него не было, так что назывался он «безлошадник», человек бедный по сельским понятиям. Вскоре после революции его, однако, увели в тюрьму как «богатея». Ошибка была явная, и крестьяне обратились в город, в ЧК, И чекистское начальство решило Хохлова как трудящегося человека и бедняка отпустить на свободу. С освободительной запиской Лена и ее мать отправилась в тюрьму, за отцом. И когда стражник, приоткрыв дверь камеры, позвал: «Хохлов Митрий, выходи!» — Дмитрий Хохлов умер на месте от разрыва сердца. Он, видно, предположил, что его сейчас поведут на расстрел… Муж и дети нашей Лены умерли кто от голода, а кто от холеры, и Лена ушла из деревни в город — к чужим людям, на заработки. Она была малого роста, горбатенькая, — но горб свой называла «перекошение талии с тяжелого подъема».
Маркиш любил слушать Ленины истории о крестьянском житье-бытье — истории, рассказываемые сочным, живым народным языком. Мои дети — сначала Симон, а потом и младший, Давид — росли на этих замечательных историях. И, мне кажется, не только отцовские гены, но и Ленины истории помогли моим детям стать литераторами.
В Цыганском уголке мы с Маркишем перебрались в комнату мамы и папы — она была чуть попросторней моей. Маркиш работал, как всегда, очень много, и я переживала, что Маркиш, как мне казалось, мало внимания уделяет ребенку. Мне хотелось, чтобы он не уставал восхищаться нашим совместным творением. В семье моих родителей, в нашем кругу я привыкла к тому, что дети — это центр жизни, предмет поклонения… Маркиш же нетерпеливо выслушивал мои намеки по этому поводу — и уходил работать. Он, как мне кажется, не желал меня обидеть резким отпором, на который он, кстати сказать, был способен в высокой степени. Но однажды он сказал мне:
— Отца с сыном может объединить связь духовная. Сейчас он, — Маркиш кивнул в сторону сына, — просто кусок плоти, твоей и моей. Могу ли я, скажем, восхищаться своим пальцем — не как совершенным аппаратом, а как именно моим пальцем?.. Не проси меня о невозможном — связь с сыном придет позднее…
Но, тем не менее, Маркиш любил «хохмы» Симона, гордился, когда сын «отмачивал» что-нибудь забавное на глазах у гостей.
Мне запомнился такой случай.
Однажды у нас собрались гости — Михоэлс, Зускин, Нусинов, Добрушин. Кто-то из них принес в подарок Симону большую коробку конфет. Мальчик схватил коробку и, урча от предвкушаемого удовольствия, утащил ее в свой угол. Маркиш, вдруг посерьезнев, молча и внимательно наблюдал за сыном.
— Симон! — окликнул он, когда ребенок уже открыл коробку. — Подойди к отцу!
Мальчик подошел, смотрел вопросительно и нетерпеливо.
— Почему ты никого не угощаешь? — спросил Маркиш. — А ну-ка, угости!
Ребенок послушно пошел от гостя к гостю, предлагая угощение. Глядя на Маркиша, я понимала, что его воспитательный эксперимент на этом не закончится.
Закончив угощать, ребенок вопросительно взглянул на отца, собираясь приняться за конфеты.
— Э, нет, сын! — сказал Маркиш. — Ты не догадался сам поделиться с людьми своими конфетами, и за это будешь наказан. А ну-ка, подойди к окну и выброси то, что осталось в коробке!
Гостям было неловко, я хотела плакать — но мы молчали. Ребенок понуро добрел до окна и, еле дотянувшись до подоконника, исполнил приказанное отцом. Потом молча, жалобно пошел вон из комнаты.
— Детей надо учить, — сказал Маркиш, предупреждая наши укоры. — Особенно таких смышленных, как мой сын Симон. Эта учеба пойдет ему же на пользу. Отца он за это не разлюбит, а урок запомнит навсегда. И своим детям будет о нем рассказывать.
Маркиш занимался сыном только тогда, когда голова его была свободна от работы. Если ребенок подходил к нему, когда он был занят своими мыслями — он звал меня: «Фирка!» и глядел досадливо: освободи, мол, меня — мне сейчас ни до него, ни до тебя, ни до кого. В отношении к ребенку, как мне кажется, особенно отчетливо проявлялся его характер — характер поэта, творца.
Итак, все у нас было хорошо, прекрасно. Мир казался мне одним большим зеленым полем для игр. Маркиш уверенно, властно шел по своему пути, и слава бежала за ним, а не он догонял славу.
Однажды он получил письмо от своего брата Меира — надежды и гордости старого Давида, Меир к тому времени перебрался в Донбасс, в Макеевку и работал там — тихо и незаметно — простым счетоводом. Прежде — в период НЭПа — он вел крупные дела в Екатеринославе, где жили родители Маркиша.
Прочитав письмо, Маркиш погрустнел, помрачнел.
Некоторое время спустя он уехал в Донбасс — он давно задумал пьесу о шахтерах, и вот теперь можно было познакомиться с материалом, а заодно и повидаться с братом. Впрочем, быть может, второе было первым… Он не сказал мне, что было в том письме Меира — сказал только, что брат, хорошо разбирающийся в шахтерских делах, поможет ему как следует осмотреться в Донбассе.
Перед отъездом Маркиш предложил театру Вахтангова план пьесы «Пятый горизонт», и план этот был принят. Театр послал в Донбасс вместе с Маркишем замечательного художника Исаака Рабиновича — он должен был оформлять будущий спектакль.
Следовало до отъезда закончить и работу с русскими переводчиками: Маркиш готовил к печати первый свой сборник стихов «Рубеж». Русские поэты-переводчики приходили к нам в Цыганский уголок — громоздкий Давид Бродский, маленький и порывистый Павел Антокольский, всегда печальный и задумчивый Тарловский. Не успевал очередной переводчик войти в комнату, а я — выйти из нее, как раздавались крики на русском и на идиш, пенье, топот и шум: Маркиш работал с переводчиком. Он «разносил» перевод на чем свет стоит, доказывал, что слова — это только посуда для чувств и что нельзя переводить стихи, подбирая слова, близкие к оригиналу. Нужно переводить чувства поэта на другой язык, а не слова! И Маркиш, бурля, объяснял жестами, показывал чувства, заключенные в словах его стихов. Однажды, встревоженная шумом падающего тела, я тихонько заглянула в щель двери: Маркиш лежал на полу то ли перед Антокольским, то ли перед Бродским и, раскинув руки, обнимал пол — землю. Речь в стихах, перевод которых не устраивал Маркиша, шла о том, что он, автор, обнимает весь мир, всю Вселенную…
Потом, уже после выхода «Рубежа», многие критики удивлялись, что перевод поэмы «Последний», выполненный Антокольским, сильно отличается от оригинала — и не только в словах, но и в образах. А Маркиш, работая с Антокольским, доразвивал свои собственные образы, предлагал новые сравнения, метафоры — и настаивал, чтобы Павел Григорьевич включил их в текст перевода. И Антокольский, зажигаясь огнем Маркиша — включал.
Закончив московские дела, Маркиш уехал в Донбасс. Ко дню его отъезда я знала — отчасти догадывалась — что Меир перебрался в Макеевку, спасаясь от ареста. А арест висел над ним и грозил ему — бывшему нэпману. Нэпман, скрывающийся от ареста — явление, характерное для России тридцатых годов. Раньше ли, позже — нэпмана, как правило, ловили и сажали только за то, что он следовал Новой Экономической Политике большевиков. Меиру до сих пор везло — ему удавалось избежать тюрьмы.
Через несколько дней после отъезда Маркиша, перед вечером, в дверь нашего дома постучали.
— Лазебникова можно видеть? — осведомился какой-то человек.
— Он еще не вернулся с работы.
— Извините, — сказал незнакомец, отходя от подъезда.
Мы не придали значения этому визиту, даже не вспомнили о нем, когда пришел отец. Не успел он, однако, сесть за стол, как в дверь снова постучали, и отец вышел в переднюю — открывать.
Прошла минута, две — отец все не возвращался. Мы с мамой вышли на улицу — и увидели отъезжающий от нашего дома автомобиль.
На сей раз отца арестовали, не предъявив ордера, даже не поставив в известность его семью.
Сутки мы сидели дома — в слезах, в отчаянье. Потом почтальон принес письмо без обратного адреса. В конверте лежал клочок бумаги со словами: «Прошу того, кто найдет эту записку, отправить ее по такому-то адресу…» На другой стороне бумажки отец писал: «Меня везут в вагоне для арестантов. За что забрали — не знаю. Кажется, едем в сторону Екатеринослава. Записку выброшу в окно на ближайшей станции — даст Бог, кто-нибудь подымет».
Получив записку, узнав, что отец жив — мама тут же начала действовать самым энергичным образом. Она разыскала бывших екатеринославских дельцов-нэпманов — вернее сказать, их семьи: мужчины все поголовно были арестованы, увезены в Екатеринослав. Жены арестованных рассказали моей маме то, чего она не знала: началась «золотуха». Каждый город выполнял и перевыполнял свой план по аресту бывших нэпманов и просто богатых людей. Каждый город хотел арестовать их как можно больше, чтобы заслужить похвалу и одобрение — поэтому подымались домовые книги и другие документы, там отыскивались когда-то жившие здесь, а потом уехавшие в другие города граждане. Агенты ЧК отправлялись в эти города и хватали там своих жертв — втихомолку, как моего отца, чтобы арестанта не успел «присвоить» себе другой город. Мой отец никогда не был связан делами с Екатеринославом — но был женат на екатеринославке, как значилось в книге Записи актов гражданского состояния. Вот и решили, для «увеличения счета и выполнения плана» арестовать его и отвезти в Екатеринослав. «Золотуха» шла по стране Советов!
Что же это такое — «золотуха»? Исследователи, потрясенные бессовестным, кровавым концом НЭПа, почти упустили из виду окончательную расправу с ним — «золотуху». «Золотуха» носила всесоюзный характер. Вот в чем заключалась ее сущность.
Всех не успевших умереть собственной смертью или быть убитыми нэпманов решено было вновь посадить и «трясти» до тех пор, пока они не отдадут утаенное в прошлом золото, ценности или деньги. Государство нуждалось в деньгах, в больших деньгах — вот оно и решило действовать самым действенным способом: отнять эти деньги у своих граждан. Не облагать их налогами, не уговаривать подписаться на заем — а просто отнять. Схватить за шиворот, трясти, бить, угрожать смертью — и отнять. А затем отпустить за ненадобностью на свободу. Задача была несложна — как, скажем, отбирание кошелька у прохожего человека в чистом поле, ночью.
Я связалась с Маркишем. Узнав, в чем дело, он хотел немедленно вернуться в Москву — спасать моего отца. Но, подумав, мы решили, что мне самой следует ехать в Екатеринослав.
Нагрузившись продуктами, приобретенными по талонам Маркиша в специальном распределителе (после удушения НЭПа в стране ощущался недостаток продовольственных и промышленных товаров), я села в екатеринославскии поезд. С вокзала я решила ехать прямо к родителям Маркиша.
Старый Давид был подавлен, Хая — мать Маркиша — то и дело повторяла: «Всех сажают, всех сажают…» Давид боялся за гордость семьи, за Меира: его уже искали. Поэтому Давид согласился довести меня лишь до начала той улицы, в конце которой помещалась тюрьма: он не хотел привлекать к себе — а через себя к Меиру — лишнего внимания.
Площадь перед тюрьмой была черна от народа — словно бы праздник какой здесь проводили, или ярмарку, или устроили центр черного рынка. Люди толпились, ели принесенную с собой пищу, переговаривались. Меня, как человека нового, тут же забросали вопросами:
— У тебя кто сидит — отец?
— Он откуда?
— Как его зовут?
— Сколько он держится?
Последний вопрос меня озадачил. Мне разъяснили: «сколько держится» — это значит, сколько дней арестованный человек, подвергаясь мучениям, не дает показаний. Один крепкий старик-нэпман, как выяснилось, «держится» вот уже семьдесят шесть дней.
Зная достоверно, что у моего отца ничего не осталось от былого богатства и, следовательно, «держаться» ему незачем, я отправилась в тюремную комендатуру.
— Я дочь Лазебникова… — представилась я в узкое окошечко. — Мой отец у вас?
— А мы вас ждем с нетерпением! — вежливо, даже мягко сказал мне молодой блондин с ясными голубыми глазами. — Идите за мной!
И, открыв дверь, он повел меня по коридору тюрьмы в один из следственных кабинетов.
Здесь с него вежливость и мягкость как ветром сдуло.
— Где империалы? Где брильянты? Где золото в слитках? — заорал он зверским голосом. — Привезла? Давай сюда! Ну! Давай сюда и забирай своего отца!
Орал он громко, но не азартно — видно, приходилось ему орать одни и те же слова по много раз в день.
— Что такое «империалы»? — не выдержала тогда, закричала и я. — Что вы от нас хотите?!
— Империалы — это такие деньги, деньги, деньги! — бушевал блондин. — Стране нужны деньги! Где они? Давай их сюда! Как ты узнала, что твой отец здесь? У кого ты живешь? Отвечай немедленно!
— Я жена Переца Маркиша, — сказала я. — Живу у его отца.
Блондин застыл на миг, потом его снова понесло:
— Вот видишь — вы, буржуи, все вместе! Где Меир Маркиш? Признавайся — где Меир?
— Не знаю, — сказала я.
— А где отцовское золото?
— Нет у него никакого золота, — сказала я.
— Нет золота? — вскричал блондин, — Ха-ха-ха! Так я тебе и поверил! Сиди здесь и вспоминай, где золото и где Меир Маркиш. Ты не выйдешь отсюда, пока не вспомнишь, поняла?
С этими словами блондин выбежал из кабинета и запер дверь на ключ.
Ключ в скважине повернулся только к вечеру, и в комнату ворвался в сопровождении блондина новый человек — длинный, тощий, дерганный какой-то еврей с больным, желтым лицом. Безостановочно мечась по кабинету, он напоминал перебрасываемый кем-то невидимым складной метр.
— Твой отец во всем признался! — сходу приступил к делу еврей. — Он сказал — у него вот такие мешки с золотом! — длинный показал — какие, получилось — очень большие, почти в человеческий рост. — Где империалы? Ты привезла империалы?
— Ах, так! — закричала и я почти в истерике. — Если мой отец скрывал свое золото от семьи — ведите его сюда! У нас есть только рояль, мамино кольцо и золотые часы…
У мамы была еще нитка орлеанского жемчуга, но я про эту нитку ничего не сказала — она мне очень нравилась.
— А нитка орлеанского жемчуга! — заорал тогда длинный еврей. — Что ж ты ничего нам о ней не рассказываешь? Нитка на тридцать зерен!
— Я думала, она фальшивая, — нашлась я. — Но, если она вам нужна — забирайте ее. И часы берите, и кольцо. Больше у нас ничего нет. Забирайте — и отпустите отца.
Я поняла, что отец рассказал и про жемчуг, и про часы, и про кольцо, и про рояль — про все. А больше ему не о чем было рассказывать.
— Оставь жемчуг себе! — разрешил длинный еврей. — Ты смазливая девчонка — он тебе пригодится.
— Кто вам дал право со мной так разговаривать! — взорвалась я. — Мой муж — поэт, известный человек!
— Поэт? — несколько удивился длинный. — Кто ж такой?
— Перец Маркиш!
Длинный притих, потом походил по кабинету, сказал:
— Я с Маркишем знаком по Бердичеву. Я когда-то писал стихи… А где он теперь живет, Перец Маркиш?
— Там же, откуда вы забрали моего отца!
Еврей с блондином ушли, снова заперли дверь. Я просидела в комнате почти до темноты. Вечером явился длинный еврей, на сей раз без блондина.
— Ну, деньги надумали отдавать? — теперь уже на «вы» снова затеял свое длинный еврей.
— Нет у меня денег, — сказала я. — Лучше вы передачу для отца возьмите, и подушку.
— Передачу давайте, — разрешил еврей. — А подушку — обойдется без подушки. Здесь не курорт! Оставьте продукты и уходите!
На площади, несмотря на поздний час, людей не убавилось. Меня, как только я вышла, засыпали вопросами:
— Куда водили?
— Почему так долго?
— Кто с тобой говорил?
Как раз это — кто со мной говорил — я и хотела выяснить. Не успела я обрисовать длинного еврея, как со всех сторон закричали:
— Это ж Варновицкий, главный их начальник по «золотухе»!
Ночью я связалась с Маркишем по телефону, спросила:
— Ты помнишь такого — Варновицкого? Он говорит, что знаком с тобой по Бердичеву.
— Не помню, — сказал Маркиш. — Приеду, погляжу — может, вспомню.
Маркиш приехал через двое суток.
А отца выпустили через сутки — изможденного, с сильными сердечными болями, с синяками по всему телу.
Он вспоминал побои, вспоминал бессонные ночи в камере, при ослепительном электрическом свете, когда заключенных заставляли проводить «митинги» и «собрания» и каяться. Тогда выпускали на «сцену» агента-провокатора, который возвещал:
— Ленин сказал, что в стране рабочих золото пойдет на строительство общественных уборных! Давайте же отдадим наше золото! Давайте раскаемся и отдадим наше золото!
И заключенные выслушивали всю эту галиматью, и им не давали сомкнуть глаз до рассвета, и днем тоже не разрешали прилечь на нары.
Отец с легкой улыбкой вспоминал, как один из его сокамерников — еврей Гусатинский — не выдержал побоев, издевательств и мучений и заявил:
— После последнего собрания я принял решение, гражданин следователь: я отдам мое золото! У меня много золота, и я хочу, чтобы из него построили уборную в центре города Киева, против моего дома. И пусть повесят дощечку, что это мое бывшее золото. А я и мои дети, и мои внуки — все мы будем ходить в эту уборную с большим удовольствием!
— Построим, построим! — пообещал следователь. — Вы очень сознательный гражданин… Золото где?
— Я спрятал его, замуровал в моей квартире, в центре Киева.
— Сегодня же вечером мы с вами поедем в Киев, — сказал следователь. — Вас надо ставить в пример, гражданин Гусатинский!
— Ну, что вы! — засмущался Гусатинский. — Просто мне по душе сама идея, она так свежа: уборная из золота имени бывшего нэпмана Гусатинского…
Гусатинского накормили прекрасным обедом, и он с наслаждением проспал в следовательском кабинете до самого вечера. Вечером он со следователем отправился на вокзал и сел в мягкий вагон. Сидя в буфете, Гусатинский развлекал себя беседой со следователем о преимуществах социализма и наслаждался отдыхом после месяцев тюремного кошмара.
Назавтра они пришли к дому Гусатинского. Им открыла Гусатинская жена, обомлевшая от счастья.
— Я решил все отдать! — сообщил Гусатинский жене еще в дверях. — Давай все отдадим: золото, бриллианты, жемчуг, платиновую коронку и песцовую горжетку. Все!
— Что ты говоришь? — всплеснула руками жена. — Какую горжетку?!
— Ты же знаешь! — настаивал на своем Гусатинский. — Я замуровал все это добро в нашей спальне, под полом.
Вызвали рабочего, вскрыли пол в указанном Гусатинским месте. Там ничего не было.
— Я, как видно, немного перепутал, — сказал Гусатинский. — Давайте-ка вскроем пол в столовой.
Вскрыли и в столовой, и не нашли ничего также и там.
К вечеру расковыряли всю квартиру — безуспешно.
— Теперь вы, гражданин следователь, так же как и я знаете, что у меня ничего нет, — сказал Гусатинский. — И теперь можете в меня стрелять, вешать меня, резать на куски — я немного отдохнул и выспался.
Гусатинского увезли обратно в Днепропетровскую тюрьму, но некоторое время спустя выпустили. Вторично его арестовали в начале 1938 года, и он погиб в лагерях.
7. Дом писателей
Жить с ребенком в одной комнатенке Цыганского уголка нам было тесно, и мы решили перебраться на другую квартиру. Союз писателей как раз строил «писательский» дом в бывшем Нащокинском переулке, недавно переименованном в улицу Фурманова. Маркиш мог купить там квартиру.
Писательский дом представлял собой трехэтажную надстройку над двумя соседними двухэтажными домами. Место было хорошее, тихое. Одним своим концом переулок уходил к Арбату, другим упирался в Гагаринский переулок. И сами отдельные квартиры, и прекрасное место вызвали среди писателей большой ажиотаж: пролетарским писателям надоело ютиться в «коммуналках», а то и снимать углы. А разжиться «жилплощадью» в Москве было куда как непросто…
Квартиры на Нащокинском продавались с учетом заслуг, положения, знакомств и Бог знает чего еще. В числе наших соседей оказался Михаил Булгаков, Осип Мандельштам, Всеволод Иванов, Матэ Залка, Илья Ильф с Евгением Петровым, Константин Финн, начинающий Евгений Габрилович и уже довольно известный Виктор Шкловский. Поселились там и еврейские писатели: поэт Самуил Галкин, Исаак Нусинов — наш сосед по Ворзелю. И — совсем уж непонятно, с какой стати — въехал в роскошную квартиру нашего дома американский корреспондент Генри Шапиро.
Предоставив мне заниматься устройством, Маркиш назавтра же после переезда сел работать. Его ничуть не интересовало, кто живет с ним на одной лестничной площадке. Сама идея «писательского» дома была ему безразлична: есть стены, пол и потолок, и это основное. Его не угнетало, как некоторых, что сверху, снизу и по сторонам сидят за столами писатели и пишут, пишут, пишут. Или не пишут. Это его не касалось. Новоселье он, естественно, устраивать не стал.
Вскоре после переезда на новое место нас пригласил к себе Всеволод Иванов. Он прислал нам записку, в которой писал, что собираются у него участники проведенного недавно на Украине пленума правления Союза Писателей, посвященного памяти Тараса Шевченко. Маркиш был на этом пленуме и по приезде рассказывал мне об Иванове, как о приятном, умном человеке. Ставил он мне в пример и жену Иванова — Тамару. То была очень красивая, очень статная женщина, бывшая актриса театра Мейерхольда, женщина широких и свободных взглядов, с собственным мнением, умная и с мощным чувством собственного достоинства. Записка Иванова была составлена несколько «по-старомодному», и я именовалась в ней «супругой» Маркиша. В те времена такие слова были не в ходу, они говорили о позиции их автора.
Литературное положение Всеволода Иванова было в ту пору двусмысленным. На его беду ранние его, «сибирские» рассказы понравились Сталину. Рассказы те были жестокими, кровавыми — как правда Сибири тех лет — и, быть может, пришлись по душе Сталину именно по причине своей жестокости и оголенности. Сталин следил за публикациями молодого сибиряка, за его движением в литературе. Однажды он затребовал из редакции толстого московского журнала гранки ивановской повести. Повесть понравилась Сталину, он захотел написать к ней предисловие. Кто-то из сталинского окружения, предвидя резкий взлет ивановской карьеры, позвонил писателю и сообщил ему о том, что Сталин собирается писать предисловие к повести. Иванов, однако, принял новость весьма холодно. Он сказал своему телефонному кремлевскому собеседнику, что не видит никакой необходимости в предисловии политического деятеля, предпочитая ему предисловие писателя или литературоведа… Немедленно вслед за тем повесть была из журнала выброшена. До конца его дней — а он пережил Сталина и умер в 1963 году — на Иванове осталось несмываемое пятно неповиновения и «строптивости» в глазах литературно-политических вождей. Несколько его романов так и лежат в его архиве неопубликованными. Во все времена он оставался человеком независимым и прямым, хотя, зная отлично, где и в какое время он живет, избегал полемики и открытых высказываний.
За красивым, со вкусом и знанием дела сервированным столом Ивановых собрались в тот вечер «серапионовы братья» — Вениамин Каверин, Константин Федин и сочащийся мудростью литературовед Борис Эйхенбаум, зачисленный впоследствии в «безродные космополиты» и преданный своим любимым учеником — Ираклием Андронниковым. Был там и сам Ираклий Андронников — молодой еще человек с блестящими способностями устного рассказчика и речевого иммитатора. Под дружный хохот гостей он разыгрывал в лицах сцену за сценой из жизни литературной и театральной Москвы. Мне запомнился рассказ об одном из самых знаменитых актеров Художественного театра Василии Ивановиче Качалове. Напившись пьян в гостях у хлебосольного Алексея Толстого, Качалов отправился домой. По дороге он выпал из коляски извозчика и свалился в канаву. Там его и обнаружили спящим прохожие люди. Они растолкали его и разбудили, желая спасти от грабителей. На все расспросы он отвечал односложно: «Я еду к Толстому!» Тогда его посадили на другого извозчика и отправили к Алексею Толстому, куда он и прибыл под утро к немалому смущению хозяина…
Историю эту Андронников рассказал блестяще — подражая голосам Толстого, пьяного Качалова, терпеливых прохожих людей, безразличного извозчика и грубых грабителей, подкрадывающихся к пьяному человеку.
Маркиш слушал все эти байки, смеялся, скучал. Он не любил ходить в гости, не любил многолюдного застолья. Ему жалко было времени, отведенного им для отдыха перед утренней работой.
Узкий круг — дело другое: два человека, три, ну, четыре — не более.
К Маркишу нередко заходил живший неподалеку, Борис Пастернак. Он садился в кабинете Маркиша, смотрел, как тот говорит. Именно смотрел — потому что разговор Маркиша был неразрубаемо связан с движением, с жестом. Пастернак, как никто, понимал это. Он сидел и смотрел выпуклыми глазами, низко уронив на лоб клубок чуба. Потом говорил сам — немногословно, ожидая реакции Маркиша и ответа… Пастернак весь был — как собственное стихотворение, многогранное, горящее изнутри. Бытовые проблемы ничуть его не занимали. Переводческая работа еще не стала тогда его «поэтической службой», регулярно приносящей деньги для продолжения жизни. И жили Пастернаки трудно.
Однажды зимой мы с Маркишем возвращались откуда-то домой на трамвае. Мороз был лютый, в трамвайном вагоне невозможно было прикоснуться к металлическим частям — примерзала кожа. В голове вагона, сгорбившись и нахохлившись как птица, сидел какой-то человек в резиновом плаще. Он сидел совершенно неподвижно и приковывал внимание.
— Это ведь Пастернак, — сказал Маркиш, узнав человека в спину. Оставив меня на моем месте, Маркиш подошел к Пастернаку и о чем-то негромко заговорил с ним. Вернувшись ко мне, он сказал:
— Дай-ка мне все деньги, что у тебя есть с собой.
Вынув из кармана деньги, какие были у него, он присоединил их к моим и возвратился к Пастернаку. Передав ему деньги, он говорил с ним, пока не пришла Пастернаку пора сходить. Наша остановка была следующей — ближе к нашему подъезду.
В трамвае и идя к дому Маркиш молчал. Потом сказал:
— Великий поэт Пастернак — без хлеба…
За ужином в тот вечер Маркиш не проронил ни слова.
Осипа Мандельштама, также нашего соседа, Маркиш оценивал очень высоко как поэта — но дружбы между ними не было. Взаимная приязнь, может быть — и только…
Однажды утром, 13 мая 1934 года, к нам постучали. Был ранний час, я еще лежала в постели, и Маркиш сам открыл дверь. Минуту спустя он вошел в спальню — с резкими движениями, злой, бледный.
— Мандельштама забрали, — сказал Маркиш — Встань и спустись к Надежде Яковлевне, отнеси ей денег. Ей, наверно, теперь понадобятся…
На первый вопрос, приходящий в голову в такой ситуации: «За что?» мы — ни Маркиш, ни я — ответить, естественно, не могли, и это усугубляло нашу подавленность.
После дневной работы пошел к Надежде Яковлевне и Маркиш. Он как свидетельствует Анна Ахматова в своих «Воспоминаниях» — был единственным мужчиной-писателем, пришедшим к жене арестованного Осипа Мандельштама в первый день после ареста.
Тяжелая судьба выпала на долю венгра Матэ Залка, жившего двумя этажами ниже нас. Обаятельный, неизменно вежливый политэмигрант — Матэ Залка был приятным человеком, а с его женой Верой меня связывали дружеские отношения… В 36 году тревожная, погрустневшая вдруг Вера сказала мне, что Матэ уезжает в далекую, долгую командировку. Видно было, что Вера не хочет распространяться на эту тему, и я не стала расспрашивать ее.
Спустя малое время газеты стали писать о героических подвигах командира 12-й Интернациональной бригады генерала Лукача на фронтах Гражданской войны в Испании. Рассказывая о доблести Лукача, Вера вся так и светилась. А потом появилось сообщение о гибели генерала Лукача в бою. Мало кто знал тогда, что легендарный Лукач и Матэ Залка — одно и то же лицо. Я, во всяком случае, не знала. Мне и в голову это не могло придти — и как могла я объяснить слезы, проливаемые Верой над траурным объявлением?!.. Советское правительство после гибели Залка выдало Вере очень большую сумму денег, но кто такой генерал Лукач так почему-то и не объявило. И Вере строго-настрого запретили об этом говорить.
События, происходившие в доме, занимали Маркиша постольку-поскольку. Регулярно общался он только с Исааком Нусиновым, и Нусинов любил приходить к нам. Женившись к тому времени вторым браком — на своей аспирантке, Исаак Маркович так и не обрел покоя в собственной семье. Быть может, ему было приятно бывать в нашем доме, где все подчинялось распорядку, желаниям и привычкам хозяина. Лена Хохлова души не чаяла в хозяине, дети — к тому времени мы взяли к себе дочку Маркиша, 7-летнюю Лялю — разговаривали до обеда вполголоса и не смели шумно играть. Дом и домочадцы существовали для Маркиша — это было законом, не требовавшим объяснений.
Нусинов приходил, закрывался с Маркишем в его кабинете. Маркиш интересовался мнением Нусинова, иногда читал ему свои «свежие» стихи, терпеливо выслушивал, что говорит гость. Выслушивал — но, конечно, не слушал. Он знал цену стихам, своим и чужим.
Нусинов — старый, фанатичный коммунист предреволюционной формации — пытался подходить к творчеству Маркиша с марксистских позиций. Маркиш хохотал — громко, заразительно, до слез. Стихи и политэкономию, душу и букву — этого Маркиш не мог соотнести, и Нусинов сердился на него за «политическую близорукость» и за полное непонимание «законов» марксизма-ленинизма.
— Вы знаете, что вас связывает с Марксом? — спрашивал Нусинов. — Только то, что вы с ним на одной странице энциклопедии!
Понимая «неисправимость» Маркиша, Нусинов сердился недолго и вскоре успокаивался. Любовь к поэзии Маркиша возобладала в нем над любовью к Марксу — во всяком случае, в те часы, что он проводил в нашем доме.
Однако упреки Нусинова были, к сожалению, справедливы, хотя и совсем в ином смысле, чем тот, какой придавал им Нусинов. Советское понятие о политической «подкованности» означает, в действительности как раз обратное, а именно — полную политическую слепоту, умение свято веровать в сегодняшнюю передовицу «Правды» вне зависимости от того, что гласила вчерашняя и что будет гласить завтрашняя. Разумеется, Маркиш был «подкован политически» в той мере, в какой требовалось, но продумать политическую ситуацию до конца и сделать выводы он не умел. А может быть, и не хотел, потому что, продумав и сделав выводы в такой ситуации, как, скажем, заключение сталинско-гитлеровского пакта 1939 года, надо было покончить с собой или, по малой мере, перестать писать, а перестать писать было бы для Маркиша той же смертью.
Мне вспоминается очень тяжелый разговор в доме наших друзей, разговор очень откровенный и по тем временам смертельно опасный. Все вещи назывались своими именами, говорили о Сталине и о терроре. Маркиш не выдержал, рванул ворот рубахи, закричал: «Хватит! Я не могу больше!» — и выбежал вон. На улице он сказал мне:
— Если я перестану верить, я не смогу написать больше ни строчки.
Я описываю обитателей «писательского дома» так подробно, ибо дом этот — как бы модель всей большой писательской братии, обитавшей в то время в России. И Всеволод Иванов вынужден был там жить рядом с Константином Финном.
Константин Финн, вовремя сменивший еврейскую фамилию Хальфин на «непонятную» — Финн, отличался малым ростом и омерзительной внешностью. Он был женат на молодой миловидной женщине, с которой я быстро подружилась. Финн любил выпить и, напившись пьян, многословно рассуждал о своем необыкновенном таланте, называя себя «великим русским комедиографом» без тени юмора. Хмельные его мозги работали в одном направлении, и он уверял всякого — желающего и не желающего слушать его человека — что национальное его происхождение — чистая случайность, что еврей он только по паспорту, что еврейский язык ему вовсе неведом, что душа у него — русская и т. д. и т. п. Однажды, когда я зашла к его жене, в дверь позвонил старый еврей, крайне бедно одетый и грустный. Старик оказался отцом Константина Финна. Он пришел к богатому и уважаемому властями сыну попросить немного денег. Константин Финн, не пуская отца в квартиру, обрушил на его голову поток ругани и оскорблений на хорошем еврейском языке, которому учил его когда-то старик. Молча выслушав словоизлияния сынка, старик ушел, печально и недоуменно покачивая старой головой.
— Как же вам не стыдно? — не выдержала я. — Он ведь ваш отец, старик!
— Стариков надо давить, как клопов! — сказал со злобой в голосе «инженер человеческих душ», известный и уважаемый советский писатель Константин Финн.
Карьера его складывалась весьма удачливо. Он «пек» свои бездарные пьесы на злобу дня, начальство было им довольно. Шестидесяти лет от роду он вступил в коммунистическую партию — чтобы не было препятствий в организации зарубежных поездок. Моя приятельница — его жена — давно ушла от него к другому человеку. Почувствовав себя обкраденным, Финн кричал на весь дом:
— Я — великий русский комедиограф, а ты — вонючая жидовка!
Время от времени заглядывал к Маркишу талантливый поэт-сатирик Александр Архангельский, умный и резкий в оценках и суждениях человек. Он приходил, по его словам, «проветрить мозги и побывать на облаках» — Маркиш зажигал его огнем своего темперамента. Тянущийся к детям, Архангельский «подружился» с нашим смышленым пятилетним Симкой. Мальчик просиживал у него часами, читая сатирические журналы 20-х годов. Мальчик был в восторге от Архангельского, и тот, живя этажом выше нас, вызывал его к себе условным стуком палки об пол.
Эта дружба чуть было не привела к большому «литературному» скандалу. Вот как это случилось.
В конце тридцатых годов Сталин приказал восстановить разрушенные в результате «российской культурной революции» — некоторые традиционные праздники. Зачем он это сделал — доподлинно никому неизвестно. В ряд других разрешений был включен и зимний праздник елки — только его «передвинули» с Рождества на Новый год. Несколькими годами ранее человек, рискнувший поставить под Новый год в своем доме украшенную игрушками елку рисковал очень многим: его обвинили бы в поклонении старым буржуазным обычаям, в потере политической бдительности, в «поповщине» и Бог знает в чем еще… Теперь же, после «всемилостивейшего соизволения», во многих московских домах готовились зажечь свечки на новогодних елках. Даже в Колонном зале Дома Союзов должна была зажечься, подавая смелый пример частным домам, «государственная» елка, предназначенная для детишек высокопоставленных чиновников.
Маркиш отнесся к затее «отца народов» весьма скептически.
— В доме моего отца я не видел ни елок, ни других деревьев или кустов, — сказал Маркиш. — Это не еврейский обычай… Но, если хочешь развлечь детей — пожалуйста, устраивай!
Дети были в восторге, да и мне приятно было отметить наступление Нового года украшением душистой елочки.
Нашего Симку пригласили на детский елочный праздник в дом процветавшего в то время русского поэта Виктора Гусева. Елка у него была на славу, елочные игрушки — великолепные, раздобытые где-то «по-случаю»: в магазинах, естественно, достать хорошие игрушки было еще невозможно. Десятка два писательских детишек собралось под гусевской елкой, и жаждуще-требовательные глаза родителей следили за отпрысками, ожидая от них особенно удачной забавной шутки, песенки, стихотворения. Маркиш, понятно, остался дома — с сыном в гости пришла я одна.
От «Деда Мороза» Сима получил в подарок «Би-Ба-Бо» — пару кукол, одевавшихся на пальцы и приводимых ими в движение. Одна кукла изображала крестьянина, другая — крестьянку. С помощью этих кукол можно было разыграть целую сценку на два голоса.
Именно такую забаву и предложил Сима гостям.
Влезши на высокий стул, поставленный за ширмой, и приведя кукол в движение, мальчик стал разыгрывать эпизод ссоры крестьянского мужика с женой. Диалог пестрел чисто народными, часто околоцензурными выражениями — но отличался большой остротой и вкусом. Мальчик, конечно, не импровизировал — текст был выучен им из юмористического журнала 20-х годов прочитанного у Саши Архангельского… Писательские жены были шокированы чрезвычайно, моего Симку чуть ни силком содрали со стула и выволокли из-за ширмы. «Великосветские советские мещане» громко выражали недовольство, а детишки их были в полном восторге от Симкиной проделки. Мы, однако, должны были уйти…
Узнав о «происшествии пренеприятном», Саша Архангельский хохотал до слез. Маркиш вторил ему — он не любил мещан, терпеть не мог ханжества. Симка сделался героем дня — но «изгнание из общества» все-таки переживал.
— Не бери меня больше никогда в гости! — просил он меня. — Когда кругом много людей, я делаюсь как сумасшедший!
Самые мягкие отношения установились, мне кажется, между Маркишем и еврейским поэтом Самуилом Галкиным, поселившемся в соседнем подъезде. Галкин был моложе Маркиша, красивый медленной, плавной красотой мужчина с мечтательно-грустными глазами. Поэзия его была не взрывоопасной, взрывчатой, мятущейся как костер на ветру — как у Маркиша, — но мягкой, раздумчивой, филигранной. Он и читал свои стихи вполголоса, полуприкрыв глаза, тихо раскачиваясь. А Маркиш — тот швырял слова, как острые камни. Такое творческое несходство, по-видимому, и обусловило взаимную приязнь двух поэтов — довольно редкое явление в московском литературном мире. Это — да еще, пожалуй, склад галкинского характера.
Галкин живо интересовался всем, что связано было с деятельностью еврейской секции Союза писателей — но участия в ней не принимал. К Маркишу он приходил поговорить не только о стихах, но и о «еврейских делах» вообще.
Маркиш был в центре еврейской жизни — и общественной, и литературной. Он возглавлял еврейскую секцию Союза писателей, был секретарем ревизионной комиссии этого Союза. На должность Секретаря он был избран на Первом съезде писателей в 1934 году. Съезд проводился весьма торжественно и был, несомненно, крупным явлением в культурной жизни страны. Он проводился под председательством Максима Горького, при участии таких писателей, как Фадеев, Гладков, Серафимович. Из Грузии приехал блестящий поэт Тициан Табидзе (его расстреляли в 37 году). Среди иностранных гостей был Андрэ Мальро, известный своими просоветскими взглядами, Мартин Андерсен Нексе, испанские писатели Мария Тереса Леон и Рафаэль Альберти. Один из основных докладов о литературе за рубежом прочел блестящий оратор Карл Радек. Мало кто мог предвидеть тогда, в 1934 году, что Радек вскоре будет арестован и погибнет так же, как другой докладчик, говоривший с трибуны того же съезда о советской поэзии — Николай Бухарин. В 49 году, в ночь ареста Маркиша, у него был изъят при обыске текст доклада Радека на съезде писателей как «подрывной документ врага народа».
Ближе, чем Галкин, Маркишу был другой еврейский писатель и драматург — Йехескель Добрушин. Их связывала старая дружба, начавшаяся еще в «киевский период» Маркиша, в начале двадцатых годов. Маркиш познакомил меня с Добрушиным — «Хацей», как он его называл — вскоре после моего с Маркишем знакомства. Как-то мы собрались ехать за город, на пикник по поводу дня 1 Мая. Такой организованный выезд назывался в России «маевка». Маевка была организована студентами и преподавателями Московской театральной еврейской студии, руководимой известнейшим еврейским актером и режиссером Соломоном Михоэлсом. Актерская среда была для меня — студентки Университета — новой и увлекательной. Широта взглядов, свобода поступков — все это завораживало меня и несколько даже шокировало… Я толком не знала, как держать себя с этими красивыми, нескованными молодыми людьми, будущими актерами. Все они казались мне людьми особыми, сделанными, как говорится, «из другого теста». Кроме того, я ревновала Маркиша к этим красивым девушкам, открыто восхищавшимся красотой моего будущего мужа. Да и Маркиш, надо сказать, охотно улыбался в ответ на кокетство молодых актрисочек. Они все время говорили между собой на идиш, и я, к великому своему сожалению, не понимала ни слова. Добрушин, преподававший в Студии историю еврейского театра, заметил, что я расстроена, заметил слезы в моих глазах. Здесь же, на пикнике, я сказала Маркишу о причине такого моего расстройства. А Маркиш прочел мне целую лекцию о том, что для поэта любой человек — это прежде всего объект наблюдений, что поэт принадлежит миру, что я не знаю актерской среды и поэтому мне сейчас кажется Бог весть что… Что актерские поцелуи — это нечто вроде сценической привычки, не более того.
Я в свои семнадцать лет не научилась еще дискутировать, и в ответ на объяснения Маркиша только глотала слезы. Но вскоре мне представился случай, и я «проучила» Маркиша.
Мы пришли на спектакль в московский Еврейский театр, к Михоэлсу. В театре Маркиша буквально все боготворили — от ведущих актеров до гримеров и рабочих сцены. Громкий, напряженный голос Маркиша раздавался, казалось, во всех закоулках театра одновременно. Одних актеров он подбадривал перед выходом на сцену, другим рассказывал какую-нибудь мудрую и забавную народную притчу — а знал он их множество… Я задержалась где-то по дороге за кулисами и случайно столкнулась с обаятельным Веньямином Зускиным у двери его гримуборной. Зускин играл в тот день одну из самых блестящих своих ролей — Сендерла из «Путешествия Вениамина Третьего». Встретив меня, Веньямин ласково обнял меня и поцеловал, как принято было в театре. Внезапно, как из-под земли, рядом с нами возник Маркиш. Мрачно взглянув на меня, он увел меня в зал — начинался спектакль. В антракте он учинил мне настоящий «разнос»: как это я позволила Зускину поцеловать себя! К «судилищу» Маркиш привлек и встретившегося нам в фойе Добрушина. Хаця весело посмеивался, слушая нашу перепалку.
— Но, Маркуша, — оправдывалась я, — ты же сам говорил, что это принято в театре, в вашей среде. А Зускин — актер. Вот я и хочу вести себя так, как это у вас принято!
Маркиш промолчал, глядя вдруг вспыхнувшими смехом глазами то на Добрушина, то на меня.
— Ну, что ты можешь ей сказать? — спросил Добрушин. — Ты ведь сам наставлял ее по части театральных привычек, а она, как видно, способная ученица!
8. Год потопа
Но, словно хищный зверь на мягких лапах, подкрадывался к нам 1937 год.
1937 год можно сравнить с годом потопа, мора, солнечного затмения. Этот год принес и смерти, и аресты, и потрясения душ.
Вначале умерла — тихо, буднично, как отрывается от ветви и падает наземь переспелый плод — мать Маркиша, старая Хая. Маркиш уехал в Днепропетровск — так к тому времени переименовали Екатеринослав — хоронить мать. Вернулся в Москву грустным, светлым, задумчивым. Мать не была для него понимающим другом — была просто матерью. Его любовь к ней была традиционным сыновним чувством, а скорбь по ней вышла за рамки традиционности, обернулась скорбью художника, творца — по Человеку…
Потом тяжело заболел и слег в постель мой отец. Он мучился тяжелыми приступами стенокардии — последствия пребывания в Днепропетровской тюрьме в период «золотухи». Он отдавал себе отчет в том, что служит причиной его болезни, но — человек мягкий и добрый — не ненавидел, не презирал своих губителей.
Отец мой Ефим лежал в постели, тихо умирал. В конце лета 37 года его перевезли в больницу, и врачи не обнадеживали нас. Однажды утром — накануне вечером мы долго сидели у постели отца — нам позвонили, сказали, что отец умер. Мать, узнав, вскрикнула.
— Дедушка умер! — сказал маленький Симон. — Я тоже не буду больше жить! — мальчик любил деда.
И мама, сдерживая рыдания, уговаривала ребенка, что дед жив, просто болен, плохо себя чувствует.
На кладбище пришли наши друзья, друзья Маркиша — еврейские писатели. Они сохранили добрые чувства к моему отцу — доброму и мягкому человеку, убитому русской революцией.
Вскоре после смерти моего отца умер отец Маркиша. Маркиш не мог поехать на похороны — у него был нарыв в горле, он лежал, мучился. Решил все же ехать — но ему дали знать из Днепропетровска, что старика уже похоронили: он был мудрый старик, хахам, и его по нашим обычаям следовало предать земле как можно скорее.
В это время появилась в нашем доме дочь Маркиша Голда, или, как мы ее звали, Ляля. Мужа ее матери незадолго до этого арестовали и обвинили в украинском национализме и попытке свержения строя. Борис Ткаченко был интересный, образованный человек, переводчик Пушкина на украинский язык. После его ареста у матери Ляли, Зинаиды Борисовны Иоффе, взяли подписку о невыезде. Понимая, что ее, подобно мужу, ждет арест, Зинаида Борисовна решила спасти ребенка. Мы с Маркишем приехали в Киев, где жила Зинаида, и увезли Лялю с собой в Москву. Зинаида провожала нас на вокзале, плакала. Она не знала, что эта ее разлука с дочерью растянется на десять лет: вскоре после нашего отъезда Зинаиду Борисовну забрали, дали ей срок за антисоветские настроения.
Началась черная полоса и в жизни моего брата. Его журналистская карьера складывалась, казалось бы, вполне удачно: он работал заместителем заведующего отделом информации газеты «Комсомольская правда». Шеф Шуры, Ефим Бабушкин, также еврей, был ближайшим другом знаменитого советского летчика Валерия Чкалова, человека смелого и справедливого. Главным редактором «Комсомольской правды» был кадровый комсомольский работник Александр Бубекин. В 37 году он был арестован как враг народа и предатель социалистического отечества. Ему много еще предъявили обвинений: и в шпионаже в пользу иностранной державы, и в намерении убить Сталина. Вскоре после ареста Бубекина новый главный редактор, Михайлов, занявший впоследствии, уже после смерти Сталина, пост Первого секретаря ЦК комсомола, а потом и Министра культуры, созвал совещание сотрудников-евреев. Всем им было предложено изменить еврейские фамилии на «русские»: Розенцвейгу — на Борисова, Розенфельду — на Михайлова, моему брату — на Ефимова. Евреи возмутились и отказались, а Шура, не откладывая дела в долгий ящик, написал письмо «сильному человеку в Кремле» — Вячеславу Молотову. Неожиданно быстро Шуре позвонили из секретариата Молотова и поблагодарили за «сигнал». Тем не менее операция, разработанная, по всей видимости, где-то «наверху», продолжалась: в той же «Комсомольской правде» Маркишу предложили подписать стихотворение, поставленное в номер, чужим именем — Петром Марковым. Маркиш, естественно, отверг это предложение с гневом и негодованием.
Шура в ту ночь, наутро после которой должно было быть опубликовано это стихотворение Маркиша, как раз дежурил в типографии. Он первым узнал о предполагаемой замене имени Маркиша. Он узнал также, что снять имя Маркиша и заменить его на «русское» приказал лично Главный редактор Михайлов. В ту же ночь Шура написал второе письмо Молотову, ответа на которое не получил. Зато оба письма-обращения осели в досье моего брата и использовались против него после его ареста.
Вскоре после ареста Александра Бубекина в «Комсомолке» произошли и другие аресты. Был арестован Шурин шеф — заведующий отделом информации Ефим Бабушкин. Его друг — летчик, герой Советского Союза Валерий Чкалов добился разговора со Сталиным и ручался головой за Бабушкина. «Кремлевский горец» — так назвал Сталина в одном из своих стихотворений Осип Мандельштам — в ответ на это произнес свою излюбленную фразу:
— У вас только одна голова, она вам еще может пригодиться!
В это примерно время я поступила на работу в иностранный отдел «Комсомольской правды», но проработала там всего несколько дней: был арестован мой начальник, Саша Филиппов, и я тут же была уволена. Уволили и Шуру — как сотрудника арестованного «врага народа» Ефима Бабушкина. Шура, однако, без труда нашел работу в газете «Советский флот» и уехал от этой газеты на Дальний Восток. Вначале мы получали от него много теплых писем, а потом он вдруг замолчал. Весь апрель от него не было никаких известий. Я позвонила в его редакцию, спросила, не знают ли они там о Шуре. И мне ответили:
— Ваш брат недостоин того, чтобы о нем запрашивали. Вы все узнаете со временем.
Некоторое время спустя в Цыганский уголок пришли с обыском, и Шурину комнату опечатали. Так мы узнали, что Шура арестован.
В это время у нас жила приехавшая из Баку любимая моя бабушка Оля, мать моей матери. Узнав об аресте Шуры, бабушка Оля слегла. В доме воцарилось уныние и паника. Я была нездорова, и Маркиш настоял, чтобы мы с мамой уехали на курорт, в Кисловодск. Ведь мы все равно ничем не могли помочь Шуре.
Не успели мы как следует освоиться в Кисловодске, как получили телеграмму от Маркиша: «Бабушка Оля умерла». Мы приехали на похороны — которые уже за этот короткий промежуток времени! Маркиш был подавлен, грустен. Он был привязан к бабушке Оле, ценил ее тонкое понимание человеческих чувств. Она — терпимая и мудрая женщина — иной раз понимала порывистого, горячего Маркиша куда лучше, чем мои «благопристойные буржуазные» родители.
А в октябре нам сообщили, что Шура осужден на восемь лет лагеря, с правом переписки. Мы принесли ему в Бутырскую тюрьму теплые вещи и рюкзак: его отправляли на Север. Обвинили его в контрреволюционной агитации и участии в подпольной организации.
Маркиш, используя все свои связи, добился приема у заместителя Генерального прокурора страны. Фамилия его была Розовский, он был еврей, посещал иногда еврейский театр. Розовский запросил Шурино дело, прочитал его и развел руками: он ничем не мог помочь моему брату. Под пытками Шура «признался», что состоял в подпольной организации. Многие тогда подписывали сфабрикованные обвинения — лишь бы прекратились мученья следствия. От Шуры требовали, чтобы он назвал и выдал «сообщников», и брат мой не без иронии написал: «Организация наша была столь засекречена, что ни один из членов не знал другого». Это признание удовлетворило следствие. Позднее, уже во время войны, когда политических заключенных не освобождали, Шура получил в лагере второй срок — десять лет, за… попытку построить на территории лагеря самолет и перелететь к Гитлеру.
Что же касается Розовского, то, он сам вскоре после встречи с Маркишем был арестован и расстрелян.
Люди пропадали вокруг нас, люди уходили в тюрьмы и лагеря, чтобы никогда не вернуться оттуда. Еврейские деятели подвергались особым преследованиям и репрессиям. Арестовали Мойше Литвакова — главного редактора центральной газеты на идиш «Дэр Эмес», оголтелого коммуниста-догматика, активного члена печально известной евсекции. Литваков не любил Маркиша, протестовал против выдачи ему разрешения на въезд в Россию из эмиграции. Он считал, что Маркиш — безыдейный поэт, чуждый марксизму, близкий к националистическим еврейским тенденциям. Литваков также обвинял Маркиша в том, что он пишет «только о евреях», вместо того чтобы писать о «рабочих крестьянах» вообще.
Арестовали крупных еврейских писателей Мойше Кульбака, Изи Харика. Многие поглядывали на Маркиша, как на обреченного. Трудно установить сегодня, отчего Маркиш остался в то время на свободе. Одна из версий сводится к тому, что Сталин в беседе с Александром Фадеевым говорил о Маркише как о прекрасном поэте. Могущественный Фадеев поспешил принять это к сведению, и Маркиш до времени избежал судьбы многих своих коллег.
Итак, Маркиш знал, что происходит в стране вокруг него. Знал, как и все.
И как все, не знал, что «десять лет заключения без права переписки» — это расстрел, что в тюремных подвалах пытают заключенных, что миллионы ни в чем неповинных людей сидят в концентрационных лагерях. Не знал — и продолжал верить в справедливость идей и действий «строителей новой жизни». Теперь мне страшно об этом вспоминать. Но это правда, и я не хочу ее скрывать.
В самый разгар так называемой «великой чистки» мы с Маркишем уехали в Тбилиси. Страна пышно и торжественно отмечала 750-летие со дня рождения великого грузинского поэта Шота Руставели. Союзу писателей велено было провести свою юбилейную сессию в Грузии. Маркиш и еще несколько членов Правления получили возможность отправиться в путешествие с женами. Литературный спектакль обещал быть красочным, и я радовалась будущей поездке.
Поехала я, однако, отдельно от Маркиша: решила заглянуть по дороге в Баку. Дело в том, что один из братьев моей матери, Наум, был арестован. Он был помещен в ужасную Сумгаитскую тюрьму, и здоровье его оставляло желать лучшего. Только благодаря своевременным действиям моей энергичной родни удалось добиться пересмотра дела моего дяди. Он вернулся из тюрьмы в Баку инвалидом. В 41 году он погиб от немецкой пули, защищая Севастополь.
Я поехала в Баку, чтобы повидаться с любимым дядькой. Зная, что некогда «сытый» Баку находится нынче на пороге голода, я везла из Москвы продукты и лакомства. В первую очередь они, конечно, были предназначены вышедшему из тюрьмы Науму.
Однако, судьба судила иначе. К моменту выхода из тюрьмы Наума хозяйственный отголосок «великой чистки» коснулся другого моего дядьки — Исаака. Инкриминировали ему «служебное преступления» — не объясняя, какое именно. Так что московская продуктовая посылка пошла не вышедшему из тюрьмы дяде Науму, а севшему в тюрьму дяде Исааку.
В период «великой чистки» сажали не только «политических». Рубили направо и налево и хозяйственников, и в этот период в тюрьме побывали все мои пять дядьев — братья мамы. Их «спасала» бабушка Оля, а маме предстояло целых 18 лет «спасать» своего единственного сына — моего брата Шуру, — ездить к нему в лагерь, возить продуктовые посылки, вызволяя его тем самым от голодной смерти.
Наплакавшись в некогда спокойном и счастливом Баку, я уехала в Тбилиси — к Маркишу. В соседнем купе ехал на пленум в Тбилиси Илья Эренбург с женой Любой. Мы были знакомы давно — через Маркиша, конечно. А Маркиш знал Эренбурга еще по «киевскому периоду», предшествовавшему эмиграции, где он встречался с молодым Эренбургом в парижских литературных кафе.
Заказав у проводника традиционный железнодорожный чай с лимоном, мы сидели с Ильей Григорьевичем в его купе. Был поздний час, мягкий свет настольной лампы тонул в краснокирпичном чае… Эренбург сказал:
— Знаете, я познакомился с Маркишем году в двадцатом, в Киеве. Там тогда работала целая группа молодых еврейских поэтов, Маркиш был как бы над ними — стремительный, красивый, фантастически талантливый. А потом, года через два, я встретился с ним в Париже, кажется, в «Ротонде»… Да-да, в «Ротонде»! Вы ведь тогда не были с ним в Париже?
— Мне тогда было лет десять.
— Ну, конечно, конечно… Как же это я сразу не сообразил!.. Он сидел в «Ротонде» вместе с писателем Варшавским — еврейским прозаиком из Польши. Я уже не помню точно к чему, Варшавский рассказал вдруг хасидскую легенду. Маркиш, наверняка, знал ее — но слушал внимательно. А я — не знал. «В Судный день евреи какого-то маленького местечка собрались в синагоге и замаливали свои грехи. Они молились целый день, и Бог, по их подсчетам, должен был уже простить их. Но они, видно, грешили слишком крепко — и Бог никак не прощал, и вечерняя звезда никак не зажигалась. И евреи не могли уйти из синагоги до вечерней звезды. Ропот поднялся в синагоге — люди боялись мести Бога. Люди обвиняли друг друга в корысти, обмане, лжесвидетельстве. А вечерняя звезда все не зажигалась… У самого входа в синагогу стоял старый бедный портняга с мальчишкой-сыном. Мальчику стало скучно, он уже покаялся во всех своих грехах — грехи других людей его еще не волновали. И вот он достал из кармана грошовую дудочку — и заиграл. Евреи набросились на портного — из-за таких, мол, шалопаев, как твой сын, Бог гневается на нас! Но раввин остановил евреев — он увидел, как Бог улыбнулся мальчику, и тогда зажглась вечерняя звезда». Помню, история эта потрясла меня до глубины души. Маркиш поглядывал на меня искоса, глаза его были грустны и лучисты. «Это ведь история об искусстве, — сказал Маркиш. — Только сейчас нужна не дудочка — нужна труба Маяковского!»
В разговорах с Эренбургом — интересным собеседником, несколько меланхоличным человеком, дорога до Тбилиси прошла незаметно.
Тбилиси встречал сытостью, хмелем, кавказским гостеприимством. Рядом с объятым продовольственным кризисом Баку грузинская столица казалась раем. Роскошные банкеты сменяли друг друга — под председательством секретаря Союза писателей Гасема Лахути, друга Сталина. Лахути, возглавивший Союз писателей, приехал в СССР из Персии как политэмигрант. Всем было известно, что на стене его московской квартиры висит большая фотография, на которой изображен кремлевский хозяин с надписью: «Моему другу Гасему Лахути от Иосифа Сталина». Эта фотография была охранной грамотой Лахути. Персидский поэт любил писать Сталину письма, полные лести и восхвалений — в полном соответствии с традициями персидской литературы. На письме он и «погорел» — правда, значительно позже, уже после войны. Он тогда написал Сталину очередное письмо, где сравнивал Сталина с садовником, вырастившим прекрасный цветник. Запах каждого цветка, по словам отправителя, был знаком садовнику. Только один чудный цветок — еврейский театр Михоэлса — остался вне поля зрения хозяина сада. Лахути призывал Сталина посетить еврейский театр и воздать ему должное. Кремлевского антисемита такой призыв возмутил до глубины души, и он приказал Лахути больше писем ему не писать.
В 37-м, однако, слава Лахути была в зените.
Именно ему было доверено провести литературный митинг в Гори — том городке, где на свет появился Сталин. Митинг решено было устроить у подножья широчайшей мраморной лестницы, ведущей к мраморному же павильону, внутри которого спрятан был и укрыт домишко родителей Сталина. Символично, не правда ли — у подножья лестницы?!
О литературе ничего не говорилось на этом митинге.
Лахути сказал, обращаясь к солнцу над нашими головами (цитирую по памяти):
— Ты, солнце, глупое! Ты нам больше не свети! У нас есть свое солнце — Сталин!
Люди молчали, словно пораженные молнией. Потом раздались жидкие аплодисменты — люди боялись не аплодировать, боялись угодить за это в тюрьму.
Маркиш стоял рядом со мной, лицо его было серого цвета. Он не глядел на людей — глядел в землю. Желваки его судорожно вздувались под кожей. А люди вокруг него хлопали в ладоши, также не в силах поднять глаза.
31 декабря 37 года состоялся заключительный банкет, посвященный 750-летию со дня рождения Шота Руставели. У входа в ресторан стоял Миша Светлов с большим поленом в руках. В ответ на мой недоумевающий взгляд Светлов разнял полено, и я увидела внутри букет очаровательных весенних — откуда только он из раздобыл? — фиалок.
— Сегодня я подарю эти цветы самой красивой девушке в мире, — сказал Светлов.
Он подарил их Радам Амирэджиби — из рода грузинских царей, действительно потрясающе красивой девушке, ставшей вскоре женой Миши Светлова. Брак этот был не слишком-то удачным, длился долго, но, в конце концов, распался.
— Грузинская царица — слишком большая роскошь для бедного еврея, — горько шутил впоследствии Светлов.
В 11 вечера, накануне Нового года, группа писателей — Светлов, Голодный, Маркиш и испанец Пля и-Бельтран — выехали в Батуми. Наутро мы приехали в Сухуми — столицу Абхазии. Там нас всех «сняли» с поезда: партийный начальник Абхазии, по имени Дэлба, прибыл на вокзал и просил Маркиша задержаться в городе. Он, оказывается, много читал Маркиша и теперь мечтал о знакомстве с ним. Уговоры были столь настойчивыми и дружелюбными, что Маркиш согласился задержаться в Сухуми вместе со своими товарищами.
Вечером Дэлба принимал нас в своем доме. В его кабинете, над столом, было прикреплено к стене английской булавкой, вырезанное из газеты стихотворение Маркиша «Испания».
Дэлба недолго удержался на вершине партийной власти: он был подвергнут опале, оказался не в чести и ушел в научную работу.
С опозданием на сутки приехали мы в Батуми. Там нас ждали предупрежденные Дэлбой о нашей задержке в Абхазии. Началось все, конечно, с гигантского собрания в Батумском оперном театре. Кто-то из хозяев закатил доклад на два часа. Почти в каждой фразе, произносимой по-грузински, встречалось слово «Сталин». И каждый раз в зале начинали аплодировать и вставали. А в президиуме Маркиш со Светловым с серьезными лицами играли в «крестики». Я видела это — сама сидела в президиуме, переводя с испанского на русский выступление Пля и-Бельтрана.
Уезжали мы из Батуми на пароходе. Оркестр сыграл уже все ему положенное, приветственно-прощальные речи были произнесены. Пароход, однако, не отправлялся. Пассажиры начали понемногу роптать и выражать свое нетерпение. Капитан в ответ на это закрылся в своей каюте, а портовая администрация отказалась отвечать на вопросы. Так простояли мы под парами, у причала, более часа.
Наконец, из города на большой скорости прикатил автомобиль. Из автомобиля выскочили люди и потащили на пароход какие-то ящики с именными ярлыками.
Выяснилось, что типографии приказано было напечатать для гостей-писателей памятные грамоты, а типография не успела выполнить заказ в срок.
Вот пароход и держали на рейде.
Наконец, отплыли — с грамотами, песнями провожающих, ящиками коньяка и фруктов.
А я везла в себе то, что девять месяцев спустя стало моим вторым сыном, Давидом.
9. Соломон Михоэлс
23 сентября 38 года в нашем доме были гости — еврейские писатели из Одессы. Речь, как всегда, шла о литературных делах. Молодые одесситы — среди них Нотка Лурье — глядели на Маркиша как на оракула: уже в те годы Маркиш был «живым классиком» еврейской литературы на идиш.
В самый разгар вечера я почувствовала приближение родов. Не желая отвлекать Маркиша от его дела и — главное — не смущать до поры его душу своей болью, я кое-как дотащилась до телефона и вызвала «скорую помощь». Карета приехала скоро, и тут Маркиш, естественно, был введен в курс дела. Маркиш был взволнован необычайно, но, как мне думается, не тем, что вот-вот должен появиться у него второй ребенок. Он глядел на меня потерянно и словно бы виновато: видя, что мне больно, он не мог помочь мне, не мог взять на себя хотя бы часть моей боли — и это мучило его.
24 сентября 1938 родился наш второй ребенок — сын. Все знакомые и родственники, как положено в таких случаях, принимали активнейшее участие в выборе имени. Предложений была целая куча — от Абрама до Ивана. Маркиш положил конец неопределенности: он решил назвать сына Давидом — в честь своего покойного отца.
И даже потом, когда все уже счастливо завершилось и даже много времени спустя я все еще не могла забыть глаз Маркиша — полных сочувствия и мучительной беспомощности.
Чужая боль, чужое физическое страдание всегда угнетало его. Он как бы был в долгу перед тем, кто страдает. Вид крови вызывал в нем почти шок. Боль, кровь он воспринимал не как рационалист — он никогда им не был, а как поэт, человек, обладающий особой душевной конструкцией. Он не желал искать объяснение страданию человеческой плоти, не желал видеть в крови сочетание красных и белых кровяных шариков, а в боли — следствие нарушения деятельности компонентов организма.
Он, не получивший систематического образования и в анкетах указывавший: «образование — домашнее», и к людям науки подходил, прежде всего, как поэт, носитель особой души. Помню, какое впечатление произвело на него в 1934 году посещение лаборатории знаменитого ученого Петра Капицы — он незадолго до того вернулся в Россию из Англии и привез с собой свою уникальную лабораторию. Вряд ли Маркиш понял научные объяснения Капицы — непомерное впечатление на него произвели огромные знания ученого, его фантастические приборы, его эксперименты. В ученом Маркиш видел противоположность себе. Глаза Маркиша, как ручьи, брали начало в его душе, и он смотрел ими на мир, и все то, что умещалось в этих глазах, плыло в душу. Глаза Капицы, казалось, вырастали из мозга, и информация, собранная ими в окружающем мире, немедленно поступала в мозг и перерабатывалась им… Несколько дней подряд после встречи с Капицей Маркиш возвращался к этой теме, восторгался фигурой ученого и его знаниями в области, недоступной поэту. Другой на месте Маркиша, может быть, прочитал бы какую-нибудь популярную книжку, рассказывающую об области научных интересов Капицы, так поразившего его. Маркиш читать не стал. Узнай он что-нибудь дополнительное, специальное о вакууме — это не прибавило бы к его пониманию личности Капицы ровным счетом ничего.
Однажды, осенью 1939, Маркиш попросил нашего большого друга, профессора медицины Якова Брускина, разрешить ему присутствовать на хирургической операции: в одном из своих произведений о войне, вспыхнувшей на Западе, Маркиш собирался писать на эту тему. Брускин, конечно же, не отказал ему.
Яков Брускин был не просто хирургом — он был крупным ученым, универсальным специалистом в области медицины. Его работы о методах лечения рака получили мировую известность. Он консультировал и как хирург, и как терапевт, и как фтизиатр. Дружба связывала его со многими замечательными людьми. Он лечил Есенина, лечил Маяковского. Он возглавлял Институт раковых проблем — но был уволен в самый разгар «борьбы с космополитизмом» в конце сороковых годов: еврейское происхождение послужило тому причиной.
Итак, Брускин пригласил Маркиша на сложную полостную операцию. Вернулся Маркиш с операции бледным до серости, измотанным, молчаливым. И много говорил потом о руках хирурга — и об огромных, знаниях, руководящих движениями рук. Знания Капицы помогали ему исследовать небытие. Брускин — благодаря своим знаниям — держал в своих толстопалых, мощных руках тончайшую ниточку человеческой жизни. Это было почти сверхъестественно, это делало Брускина — хорошего приятеля, интересного собеседника — чародеем и волшебником.
Маркиш преклонялся перед знаниями, подобно язычнику. Благодаря феноменальной памяти — он знал много. Прочитанное, наблюденное — все это удерживалось в его памяти без закрепления и без усилий с его стороны. Но систематическими знаниями он не обладал — за исключением области литературы и языка. И именно здесь он, с присущей ему страстностью и темпераментом, обрушивался на тот предмет, которым я академически занималась — языкознание.
Еще в 34 году я поступила в аспирантуру ИФЛИ — Института Философии, Литературы и Истории. Маркишу нравилось и импонировало, что я занимаюсь, учусь — но, как только он просмотрел как-то мои конспекты по языкознанию, он пришел буквально в бешенство. Он назвал языкознание «гробокопательством», его доводы сводились к тому, что язык — следствие развития человеческого духа, и анализировать его и копаться в его живом организме — святотатство и бессмыслица. Языкознание как науку он отверг для себя раз и навсегда.
Я, однако, продолжала заниматься романо-германским языкознанием. Мне хочется назвать двоих выпускников ИФЛИ, которые были студентами в ту пору, когда я училась в аспирантуре.
Ничем не выделявшийся Александр Шелепин стал в середине шестидесятых годов «Железным Шуриком» советского партийного руководства. ИФЛИ, несомненно, дал ему больше знаний, чем получил кто-либо иной из темной и необразованной партийно-правительственной верхушки Советской России. «Железный Шурик», как известно, возглавлял одно время советский Комсомол, а затем и Комитет государственной безопасности — секретную политическую полицию. Относительно молодой и энергичный, он уверенно «набирал очки» в кремлевской политической игре. Однако попытка его стать после смерти Малиновского министром обороны — подобно опыту цивилизованных стран, где этот пост занимает гражданский чиновник — привела к провалу: «Железный Шурик» слишком быстро шел вверх. Гречко возглавил Министерство обороны, а Шелепин был назначен руководителем профсоюзов.
Училась в ИФЛИ и Таня Литвинова — дочь Наркома по Иностранным Делам Максима Литвинова. Судьба семьи Литвиновых интересна и во многом показательна. Максим Литвинов — один из деятельных основоположников страны коммунистов — умер в опале и безвестности. Эта опала началась еще в 1939 году, когда политика Литвинова, последовательного антифашиста и сторонника сближения с Англией и Францией, потерпела крах и Сталин вступил в союз с Гитлером. Во время войны его закатившаяся было звезда поднялась, но ненадолго, а после войны он и вовсе исчез с политического горизонта: в советской дипломатии евреям больше не было места. Дочь его Татьяна отличалась свободомыслием и широтой взглядов. Внук Павел участвовал в «демонстрации семи» на Красной площади 24 августа 1968 года — безнадежном, но поразительно смелом протесте против оккупации Чехословакии, был арестован и провел в ссылке 5 лет. Внучка Литвинова, дочь Татьяны, став женой известного демократа Валерия Чалидзе, также не нашла себе места на «родине победившего социализма» — вместе со своим мужем она была лишена советского гражданства и изгнана из СССР.
С Максимом Литвиновым я встретилась благодаря моей работе в газете «Вечерняя Москва». Встреча была не столь уж интересной — но она характеризует простоту служебных отношений в довоенный период, простоту, на смену которой пришла потом шпиономания, пришел чудовищный бюрократизм советской военно-полицейской машины с ее боязнью допустить контакты «массы» с «руководством».
«Вечерка» собиралась напечатать подборку материалов о нашумевшем во всем мире «деле Стависского». Газета не имела права опубликовать ее, не испросив сначала разрешения и не получив визы отдела печати Министерства иностранных дел — или, как оно тогда называлось, Наркомата иностранных дел. Подготовив материал и получив «добро» редактора Рокотова, я отправилась в МИД. Своевременное получение визы на публикацию зависело там от двух человек: начальника отдела печати Константина Уманского и его заместителя Подольского. Судьба этих высокопоставленных чиновников сложилась почти одинаково страшно. Уманский был назначен советским послом в Мексику. Незадолго до отъезда к месту службы его пятнадцатилетнюю дочь застрелил на любовной почве сын одного из советских министров. Отправляясь в Мексику, супруги Уманские взяли с собой прах единственной дочери — и погибли в авиационной катастрофе.
Судьба Подольского была более обыкновенной для СССР: его расстреляли в 37 году.
К этим двум людям и пришла я с подборкой материалов о Стависском. Но они не взяли на себя ответственность визировать: весь мир кричал в эти дни о Стависском, и для визы требовалась более «начальственная» рука — на всякий случай.
— Пойди к Литвинову! — сказал мне Уманский. — Он, может, и завизирует…
Я была потрясена: вот так, вдруг — к министру?!
— Иди прямо по коридору, — сказал Уманский, — последняя дверь направо.
Тихонько стучу, слышу из-за двери голос с сильнейшим еврейским акцентом:
— Войдите, пожалуйста!
За столом сидит грузный немолодой мужчина в пенсне:
— Что у вас?
Я, сбиваясь от смущения, объяснила, в чем дело. Литвинов быстро просмотрел материал и поставил подпись.
— Это интересно, — сказал Литвинов. — Можно печатать.
Ни секретаря не было около двери Литвинова, ни секретарши, ни помощников, ни порученцев, ни охранников — никого! Для всякого советского человека второй половины XX века это кажется удивительным и неправдоподобным.
Рокотову, моему начальнику по иностранному отделу «Вечерки», в жизни повезло: он умер своей смертью. Его имя вспомнили в конце шестидесятых годов в связи со скандальным процессом его сына, занимавшегося валютными операциями на «черном рынке». Рокотов-младший, вопреки советским же законам, был расстрелян по личному, как говорили в России, приказу Никиты Хрущева.
Наша квартира на улице Фурманова походила на еврейский островок в русском океане. Интересы, темы разговоров, сама атмосфера была еврейской. Нет нужды заниматься статистическими изысканиями и выводить процентные величины: сколько у нас в доме бывало русских, а сколько евреев. Но выходит так, что Маркиш — а под его влиянием и я — естественно стремился к общению со «своими» — евреями. Это вовсе не означает, что он был настроен узко-националистически, и по этой причине суживал свои контакты с неевреями. Вовсе нет. Просто общение «со своими» в диаспоре — проверенное лекарство против ассимиляции, безошибочное средство, выверенное веками и привитое с рождением на свет. И евреи всегда оставались для Маркиша «своими» — хорошими ль, плохими — но «своими». Были у него близкие люди — немного. Но безусловных друзей, без которых он не мог обходиться, у него, пожалуй, не было никогда. Он дружил и ссорился с самим собой, а окружающие его люди лишь принимали участие в этой дружбе и этих ссорах.
В нашем доме не соблюдали субботы, не было там кошерной кухни, и Маркиш с чистой совестью добавлял сметану в мясной борщ. Но в красном сафьяновом мешочке бережно хранил Маркиш отцовский свиток торы и доставшиеся ему по наследству филактерии — атрибуты еврейской религии, еврейского национального мировоззрения. Маркиша-поэта восхищало героическое прошлое его народа — и угнетало его настоящее: рассеяние по миру, утрата государственности, физическое и нравственное оскудение забитых обитателей диаспоры.
— Ты помнишь пастухов тобой избранных племя? — восклицает он, обращаясь к Богу, в поэме «Последний». И взывает к взрыву, способному укрепить и обновить народ:
Собака тощая грызет в ущелье гетто Кость непотребную, и щелкают клыки. Мне нужен гневный нож, а не гиена эта, Не гнусная труха, забитая в мешки.«Крылатый нищий» — потомок гордых ханаанейских пастухов — нашел себе новое применение в жизни, новое место под небом рассеяния:
Заплатан и потерт его столетний бархат. Как сроки векселей, бесчувственны глаза. Так выдыхается отродье патриархов, Отгромыхавшая синайская гроза…Но есть одна сила, одна упрямая мечта, объединяющая народ:
— О, нищенская рвань кладбищенского торга! Но выжжено на лбах твоих — «Иерусалим».Неверно было бы толковать эти стихи как сионистские. Речь идет лишь о великом духовном наследии, промотанном ничтожными потомками, которых поэт зовет опомниться, осознать свой позор. Маркиш не был сионистом, но гитлеровские и сталинские гонения заставили его уже в самый канун конца — ареста, тюрьмы и казни — увидеть свою неправоту, понять, что для еврея, который хочет остаться самим собой, нет иного выхода, кроме возвращения «к берегам отчизны древней». Я помню с какой гордостью и восторгом встретил Маркиш рождение Израиля, как он ходил к воротам только что открытого посольства — взглянуть на русского милиционера, охраняющего еврейских дипломатов. (Надо ли говорить, что войти в посольство в ту пору и в голову никому не могло прийти. А если бы и пришла такая фантастическая идея кому-нибудь в голову, милиционер у ворот мгновенно внушил бы ему идеи более здравые.) А несколько месяцев спустя, в разговоре с Нусиновым, Маркиш сказал: «Умереть я тоже хотел бы там!»
Тем ужасней была смерть, которая выпала на его долю в действительности. Смерть, которой предшествовало крушение веры и идеалов целой жизни. Но любовь к народу, верность народу остались нетронутыми. Ими и сильно творчество Маркиша — та, бесспорно, большая часть его творческого наследия, которая принадлежит будущему.
Естественно, окружали Маркиша люди, с которыми он мог найти общий язык или, по крайней мере, общую тему разговора. Особое место среди этих людей занимал Соломон Михоэлс.
С великим еврейским актером и замечательным режиссером Соломоном Михоэлсом Маркиш познакомил меня в 29 году, вскоре после моего с Маркишем знакомства. Он пригласил меня тогда в Московский еврейский театр — впервые в моей жизни. Шел спектакль «200 000», Михоэлс играл в нем Шимеле Сорокера. В антракте Маркиш повел меня за кулисы. Я немного волновалась — вот сейчас я познакомлюсь с «самим» Михоэлсом, имя которого было известно всему сколько-нибудь интеллигентному российскому еврейству. Да и не только еврейству — множество русских приходили на спектакли еврейского театра, чтобы посмотреть игру великого актера.
Михоэлс поразил меня своей внешностью: он был очень некрасив в привычном понимании этого слова. На крупной коричневоглазой голове, сидевшей на короткой шее, выдавался далеко вперед неправильной формы подбородок с отстающей нижней губой. Коренастое, плотное, короткое туловище скрывало в себе значительную физическую силу. Горячие, грустные, насмешливые глаза жили словно бы отдельной от лица жизнью. С доброй иронией глядел на меня Михоэлс, уловивший мое смущение, граничащее с испугом. Но первые же, ничего, быть может, незначащие слова, произнесенные им, заставили меня забыть о его необычайной внешности: Соломон Михайлович располагал к себе, внушал доверие интонацией голоса, строем мысли. И несомненным ироническим самокритицизмом.
Несколько лет спустя, в 1934, я оказалась на одном теплоходе с Михоэлсом: мы плыли в Сухуми. Михоэлс был подавлен, почти мрачен: незадолго до этого он похоронил свою вторую жену, Женю Левитас. Мы с Маркишем были, конечно, на похоронах и были потрясены почти нечеловеческим горем Михоэлса над гробом Жени. Кроме того, я знала, что Михоэлс готовит к постановке «Короля Лира», «вживается» в трагедийную роль своего героя — несчастного короля. Это, как мне казалось, тоже накладывало отпечаток на актера.
В Сухуми всех пассажиров парохода повезли смотреть знаменитый обезьяний питомник. Поехал и Михоэлс — без особого интереса, за кампанию. Мы шли рядом по музею питомника, скользя взглядами по скучным таблицам, диаграммам, рисункам.
И вдруг Михоэлс, молчавший всю дорогу, остановил меня, взяв за руку:
— Что же это ты проходишь мимо моего портрета? — пророкотал у меня за спиной Соломон Михайлович. В голосе его слышался сдержанный смех, почти торжествующий.
Я остановилась — на стене против меня висела большая картина, написанная маслом: портрет шимпанзе. Не зная, что сказать, я молчала смущенно.
— Но это же копия! — с наигранным восхищением сказал Михоэлс. — Разве ты не находишь?
Мне ничего не оставалось, как вежливо улыбнуться: Михоэлс шутил не напрасно.
— Какой художник! — продолжал восхищаться Михоэлс. — Какой портретист! Как верно он уловил мои черты!
Этот эпизод развеселил Михоэлса, вывел его из угнетенного состояния.
А вскоре после возвращения с Кавказа я снова вспомнила похороны Жени Левитас. Тогда, на похоронах, в крематории, горе Соломона Михайловича потрясло всех, кто пришел проводить покойную. В немой, бешеной скорби, в скорби человеческого бессилия перед смертью Михоэлс одному ему присущим жестом подносил к стиснутым губам сведенные судорогой пальцы правой руки… Это было страшнее плача, страшнее мужских рыданий. Это осталось в памяти как крайний предел страдания и боли человеческой души.
На премьере «Короля Лира» мы с Маркишем увидели ту же самую гениальную сцену горя — только лежала перед Михоэлсом не Женя Левитас, а лежала перед Лиром дочь его Корделия. Мне стало страшно, я взглянула на Маркиша. Он подавленно, тихонько кивнул головой: он тоже узнал, вспомнил. Я видела, что это перенесение поразило его и смутило его душу… Исполнение Михоэлсом роли Лира вызвало настоящую бурю в театральной Москве. Театральной критикой Михоэлс был назван «лучшим Лиром века». Этому немало способствовала сцена «Смерть Корделии».
Взаимоотношения между двумя крупнейшими фигурами российского еврейства — Маркишем и Михоэлсом — характеризует история, случившаяся в начале 39 года. Газета «Правда» попросила тогда Маркиша выступить с публицистической антифашистской статьей, и Маркиш, написав, отправил ее в редакцию. Накануне опубликования статьи в нашем доме раздался утром телефонный звонок. Маркиш, как всегда в эти часы, работал и к телефону не подходил — так что на звонки отвечала я. Я сняла трубку — и услышала взволнованный голос Михоэлса:
— Где Маркиш?
Узнав, что звонит «Старик», Маркиш взял трубку. А десять минут спустя вышел из кабинета.
— Я уезжаю в театр, — сказал Маркиш. — Старик просит… Ему через полтора часа выступать на митинге — надо помочь.
Через полтора часа Маркиш позвонил мне, сказал:
— Включи радио — Старик сейчас будет говорить.
Я включила — и обомлела: Михоэлс читал статью Маркиша, написанную для «Правды». Не успел он закончить — снова звонок, на сей раз из «Правды»:
— Где Маркиш? Что он сделал — ведь Михоэлс читал на митинге его статью, уже поставленную в номер! Такая статья!..
Статья, действительно, была замечательная — она обошла мировую прессу под именем Михоэлса.
Скоро вернулся Маркиш, и я рассказала ему о звонке из «Правды». Маркиш улыбнулся шаловливо, весело:
— Это все чепуха. Но ты слышала, как великолепно Старик читал?!
Вечером в театре шел «Лир», а мы по традиции никогда не пропускали этот спектакль — если только были в Москве. Не обязательно было смотреть спектакль — надо было зайти к Михоэлсу за кулисы.
Мы пришли в его артистическую уборную, когда Михоэлс был на сцене. Из репродуктора театральной радиосети доносились слова Лирова монолога… Наконец, открылась дверь, и вошел Михоэлс — в тяжелом костюме, усталый, измотанный. Вошел — и бросился к нам:
— Вы только посмотрите! — указал он на стол, на котором лежала целая кипа телеграмм. — Это все поздравления с сегодняшним выступлением!.. Это так неудобно — не знаю, что и делать.
Маркиш посмеивался, глаза его светились: он был по-настоящему рад, что сделал для Старика доброе дело.
Отношения Маркиша с Михоэлсом, однако, отнюдь не всегда были столь безоблачными. Многое в характере «Старика» не устраивало, раздражало Маркиша, — и случались между ними ссоры — с криком, чуть ли не со швыряньем стульев друг в друга: темперамент жег их обоих, и каждый, естественно, считал, что прав именно он — и всецело. Маркиш, не отличавшийся терпимостью и не признававший компромиссов, затягивал эти размолвки надолго.
Одна из самых серьезных ссор с Михоэлсом произошла во время войны, в Ташкенте, куда эвакуировался Еврейский театр. Михоэлс был занят в то время общественными делами, они отнимали у него много времени, и репетиции зачастую проводились в его отсутствие. Театр репетировал пьесу Маркиша «Око за око». Не чувствуя жесткой руки Старика актеры распустились, репетировали небрежно, да к тому же путали Маркишевский текст и несли «отсебятину». Я написала об этом Маркишу — он служил тогда в Черноморском флоте. В одну из командировок Маркиш добился изменения маршрута и нагрянул в Ташкент в день генеральной репетиции «Око за око». Премьера должна была состояться назавтра.
С генеральной репетиции Маркиш пришел мрачнее тучи.
— Поругался со Стариком, — сказал Маркиш. — Я в ответе за то, что пишу — и не желаю, чтобы меня исправляли!
Скандал в театре, как я потом узнала, был сильнейший. Маркиш ругал Михоэлса на чем свет стоит, не желая слушать никаких его возражений. Назавтра он не пошел на премьеру и уехал на фронт, не простившись с Михоэлсом. Эта ссора продолжалась долго. Я и Анастасия Потоцкая, на которой Михоэлс женился после смерти Жени Левитас, старались, как могли, помирить наших мужчин — но безуспешно. Страсти улеглись только к концу войны.
10. Шурина одисея
Вершины официального признания Маркиш достиг в 39 году — тогда состоялось первое награждение большой группы писателей орденами. Высшую награду среди всех еврейских писателей получил один Маркиш, да и среди русских и других писателей орден Ленина получили всего несколько человек: Самуил Маршак, Корней Чуковский, Алексей Толстой и другие. Награждение носило характер кампании — орден Ленина «выделяли» скорее национальностям, нежели литературным фигурам. «Национальная политика» — так это называется в России… Два других еврейских писателя — Квитко и Фефер — получили ордена меньшего достоинства.
Разговоры о награждении Маркиша пошли по Москве задолго до самого награждения — но Маркиш относился к ним с улыбкой. Он над этим всерьез не задумывался и, как мне кажется, не особенно в это верил. В ночь накануне опубликования списка награжденных в нашем доме стал трезвонить телефон — Маркиша на всякий случай спешили поздравить друзья и недруги. Маркиш отмахивался и велел, в конце концов, отключить телефон. Наутро он развернул газету, прочитал, хмыкнул.
Наш старший сын Симон подошел к отцу, спросил:
— Тебе дали орден? Какой?
Мальчик наслушался разговоров, был в курсе дела.
— «Знак почета», — сказал Маркиш. — А что — мало?
— Мало! — разочарованно протянул Симон.
Нечего скрывать — я тоже была расстроена: я была честолюбивей Маркиша.
Через час к нам ворвался Иосиф Авратинер — старый друг, тот, что познакомил меня с Маркишем.
— Поздравляю с орденом Ленина! — закричал Авратинер с порога.
Маркиш, улыбаясь, как довольный своей проделкой ребенок, вышел навстречу гостю.
Радовался ли Маркиш награде, полученной от Советской власти сразу же после страшных лет, когда та же самая власть убила и отправила в лагеря десятки, если не сотни близких Маркишу людей? Уверена, что радовался. Вера его в эту власть, «в наше светлое будущее» и в Сталина лично не была ни разрушена, ни даже подорвана. Политическая слепота? Конечно. Неодолимая, не контролируемая разумом радость чудом уцелевшего в чудовищную бурю? Вероятно, было и это. Но было и другое: в начале 1939 года Советский Союз еще казался самым решительным и последовательным врагом нацизма. Я думаю, что сговор Сталина с Гитлером был первым ядром, пробившим броню маркишевской веры. Но до поездки Молотова в Берлин, а Риббентропа в Москву было еще далеко — больше полугода.
Теперь, десятилетия спустя, в покое и безопасности, легко рассуждать и еще легче осуждать. Особенно тем, кто смотрел на нашу жизнь со стороны и знает ее понаслышке. Но нет худшей несправедливости, чем эти высокомерные и самодовольные осуждения. И я надеюсь, что ни у одного мало-мальски совестливого человека не подымется рука, чтобы бросить камень в тень Маркиша за его близорукость и его веру.
Но если орден с профилем Ленина радовал Маркиша, как мне представляется, без оговорок и компромиссов, то вступление в ленинско-сталинскую партию было для него тяжким испытанием.
Примерно через год после награждения Фадеев вызвал Маркиша в Союз писателей:
— Партия оказала тебе доверие, обласкала тебя, ты должен ответить на ласку партии.
Методы, которыми пополнялись ряды национал-социалистов в Германии, описаны и проанализированы многими историками. Страх и принуждение играли при этом не меньшую роль, чем энтузиазм и корысть. То же, безусловно, верно и для ВКП(б) — Всесоюзной коммунистической партии (большевиков), начиная со второй половины 30-х годов. Отказ от предложенной «чести» грозил последствиями самыми жестокими. Люди тщетно искали уверток и отговорок; я знаю лишь один довод, который действовал безотказно, — религиозные убеждения, несовместимые с уставом партии. У Маркиша этого довода не было. Он пытался ссылаться на свою недисциплинированность, на недостаточную политическую грамотность — Фадеев был непреклонен. Обычно Маркиш бывал сдержан, чтобы не сказать скрытен. Тут, вернувшись домой, он не сумел промолчать. Он рассказал о разговоре с Фадеевым, о том, как мучителен шаг, которого от него требуют, как он не смеет сказать «нет», потому что опасается за будущее — не свое, но семьи, детей. Я ничего не могла ему ответить, да он и не ждал от меня советов. Теперь мне кажется: единственным утешением впоследствии ему было то, что дело затянулось и членом партии он стал лишь во время войны, когда коммунистов и евреев гитлеровцы расстреливали вперемежку и бросали в один ров.
После рождения нашего второго сына в нашей квартире на улице Фурманова стало тесно: мы с Маркишем, дочка Ляля, двое сыновей, няня, домработница. Пришло время подумать о более просторной квартире.
Подыскание подходящей квартиры — дело крайне трудное в России. Только случай может помочь получить то, что ты хочешь — или почти то. И такой Его Величество случай подвернулся — в лице приятеля Маркиша, еврейского критика Меира Виннера. Зайдя к нам как-то, Виннер рассказал, что его знакомые хотят обменять большую квартиру в самом центре города, на улице Горького, на квартиру меньшей площади. Эти люди — немцы, супруги Pop, он — профессор-историк, она… — аккредитованный корреспондент «Фелькишер беобахтер», главной газеты фашистской Германии! Супруги Роры, оказывается, решили порвать с Гитлером и попросили в СССР политическое убежище. Убежище и советское гражданство было им предоставлено, и теперь они должны были освободить роскошную квартиру, принадлежащую дипломатическому ведомству по обслуживанию иностранцев. Если заручиться «высокой» поддержкой в МИДе — квартиру можно получить.
Маркиша подобными делами я не занимала. Я поехала на улицу Горького, поглядела квартиру — и пришла в восторг. Четыре комнаты, большие, светлые! Помню, как понравилась мне «казенная» мидовская мебель — антикварная, красного дерева, свезенная из помещичьих усадеб и дворцов… В общем, все было бы прекрасно — не хватало только «высокой» протекции, ведущей к заместителю Наркома иностранных дел Деканозову, ведающему хозяйством. Но и здесь помог мне случай. В еврейский театр пришел как-то другой заместитель Наркоминдела, еврей Соломон Лозовский. Я также была в театре, и после короткого разговора Лозовский устроил мне встречу с Деканозовым. Дело было сделано: Роры могли переезжать к нам, а мы к ним.
Роры долго не прожили на улице Фурманова. Вскоре их арестовали, и они оба погибли в лагерях.
А у нас на улице Горького остался от Роров роскошный шкаф-библиотека Павловской эпохи, настоящее произведения искусства из царского дворца. Шкаф был настолько велик, что вывезти его из квартиры представлялось целой проблемой. Шкаф принадлежал наркоминделу, и мы платили некоторое время за «прокат». А потом нам предложили приобрести этот шкаф. Маркиш не возражал — шкаф и тогда стоил немало — и «дворцовый инвентарь красного дерева с пламенем» перешел в нашу собственность. Я столь подробно останавливаюсь здесь на этом шкафе не случайно — история шкафа имеет продолжение. После ареста Маркиша, после нашей высылки шкаф был конфискован — как и все прочее имущество — и передан в магазин конфискатов. После возвращения из ссылки в 1955 году я зашла в библиотеку Союза писателей и увидела там наш шкаф. Меня пытались уверить, что я ошиблась, что шкаф этот стоит в библиотеке давным-давно — но я открыла дверцу и указала на дырку в задней стенке — там маленький Давид выковырял когда-то сучок. Подняли документы и обнаружили, что шкаф приобретен в магазине конфискатов в 1953 году. Шкаф вернулся в наш дом — единственное материальное свидетельство нашей «прежней» жизни. Пятнадцать лет спустя, уже после подачи нами документов с просьбой об эмиграции в Израиль, шкаф снова сменил хозяина. Нам было запрещено вывезти его из России — художественные ценности вывозу не подлежат. Работы у нас не было, денег тоже — и мы решили продать шкаф. Под большим секретом нам, «предателям советской родины», мечтающим об Израиле, сообщили, что шкафом интересуется некая высокая персона. В один прекрасный день персона пожаловала к нам и внимательно осмотрела шкаф. Персона делала вид, что не знает, кто мы такие, а мы делали вид, что нам неведома персона. По оценке Государственного исторического музея шкаф стоил дорого. Персона торговалась яростно, ссылаясь на бедность, вслух прикидывала, сколько денег придется занимать у соседей… Наконец — выхода у нас не было — пришлось уступить шкаф за треть его истинной цены… Покупателем был заместитель министра Иностранных дел СССР Семенов. Очень, надо думать, был он заинтересован в покупке, если рискнул переступить порог дома опальных Маркишей.
Во время нашего переезда на новую квартиру Маркиша не было в Москве — он уехал в «освобожденный» Советами польский Белосток. Там собралась целая группа еврейских писателей и деятелей еврейского искусства, бежавших от Гитлера.
Маркиш хотел помочь им с устройством, с работой — но, зная или, скорей, догадываясь об истинном положении вещей в области национальной политики, не рисовал перед польскими беженцами особо радужных перспектив. Власти «мирились» с наличием еврейской культуры в СССР, но не намеревались способствовать ее расширению за счет польской еврейской интеллигенции. В глазах советской власти беженцы из Польши были не только евреями, но, к тому же, и иностранцами, не прошедшими советской психологической обработки — а потому вдвойне опасно было подпускать их к «идеологическому фронту».
— Сейчас здесь нужней сапожники, чем писатели… — с горькой иронией правды сказал Маркиш на белостокской встрече.
Некоторые из участников белостокской встречи, не поняв Маркишевской иронии, крепко запомнили его слова о сапожниках. И впоследствии, извращая истинное положение вещей, они писали о том, что Маркиш-де пренебрежительно отозвался о польских еврейских писателях, предложив им сменить перо на орудие ремесленников-мастеровых.
Писатели Рохл Корн, Хаим Граде, Кагановский с помощью Маркиша перебрались в Москву. Квартир у них не было, и «беженцев» на первых порах «разобрали» по домам: у нас жил Алтер Кацизна, Рохл Корн — у Бергельсона, Бомзе и Ашендорф — у критика Исая Лежнева. Вскоре в московском Центральном доме работников искусств состоялся вечер еврейских писателей, бежавших из Польши. Этот вечер стал явлением в еврейской культурной жизни.
Самая страшная судьба постигла Алтера Кацизна. Он вернулся из Москвы во Львов, к семье. Там он и осел — пока немцы в 41 не подошли к городу. И тогда украинские антисемиты забили еврейского писателя до смерти.
А Маркиш в Москве принимал польских беженцев, «давил авторитетом», добиваясь для них места под солнцем в советской стране. Долго хлопотал он по поводу польского еврейского театра миниатюр под руководством Джигана и Шумахера. В коллективе театра работала прекрасная танцовщица Рахель Любельская. Судьба ее была страшна — она повторила судьбу многих евреев под властью немцев. Родители Рахели погибли, сама она уцелела чудом. И, невзирая на сталинско-гитлеровскую «дружбу», Маркиш пишет свою знаменитую поэму-стансы «Танцовщица из гетто». В «Танцовщице из гетто» он писал не о бездомной танцовщице — о своем народе:
Куда тебя зовет, куда ведет Холодный ветер и ночное горе? Метель метет, в полях метель метет, Калитки и ворота на запоре.В самый расцвет сталинско-гитлеровской дружбы, когда писать о зверствах фашизма было запрещено советской цензурой, Маркиш писал:
Когда-то здесь под грозный гул стихий Над замершей толпой пророкотало Торжественное слово «Не убий»! Теперь убийство заповедью стало. Но не смолкает правды гневный гром, И мысль не уступает тьме и страху. Погиб не тот, кто пал под топором, А тот, кто опустил топор на плаху!Это пророческие стихи. Перец Маркиш предрекал в них свою собственную судьбу, в которой во многом отразилась судьба его народа.
Поэма, естественно, не была опубликована — ругать немцев было запрещено. Не напечатали ее и потом, после начала войны — тогда было не до литературы на идиш. После войны в ней узрели еврейский национализм, и она лежала в столе. Потом ее напечатали в переводе на русский. А потом Маркиша арестовали, и он так и не увидел опубликованной одну из лучших своих поэм, выпущенную на родном языке уже в Израиле.
Еврейские писатели из Польши, театр Иды Каминской, группа Джигана и Шумахера. Рохл Корн, Алтер Кацизна, Рахель Любельская… Маркиш принимал в них участие, помогал выжить и уцелеть — как еврей евреям, попавшим в катастрофу.
А русским правителям не было дела до страданий гонимых по всему свету евреев. Когда Маркиш, направляясь в Белосток, приехал в Минск, его пригласил к себе Первый секретарь ЦК Белоруссии Пономаренко, впоследствии один из приближенных Сталина. Разговор носил тягостный характер. Он сводился к тому, что дальнейшая судьба польских евреев в России — это вопрос государственной политики, что будущее еврейства в России покрыто мраком неизвестности.
Само собой разумеется, в Белосток Маркиш приехал после этого разговора не с лучшими предчувствиями.
Брат мой Шура сидел на Севере, в Архангельской области. Маркиш рвался поехать к нему на свидание, проведать его — но я противилась этому: я опасалась, что такая поездка и самого Маркиша может привести в северные края на долгий срок.
К Шуре поехала я вместе с моей мамой, Верой Марковной. Этой поездке предшествовал забавный и в какой-то мере символический эпизод.
Добиваясь разрешения на свидание с Шурой, я пробилась на прием к заместителю начальника Главного Управления Лагерей — ГУЛага. Этот высокопоставленный чиновник-тюремщик — фамилия его была Грановский — принимал близ печально известной Лубянки, к которой и относилось его ведомство. Маркиш пошел со мной, но его не пропустили вовнутрь, и он остался ждать меня на улице: пропуск был выписан на меня, на мою девичью фамилию, которую я носила официально.
Я вошла в кабинет. Грановский вскочил из-за стола, закричал изумленно:
— Это ошибка! Не может быть! Вы не Лазебникова! Вы жена Переца Маркиша!
Оказалось, Грановский отдыхал годом раньше на Кисловодском курорте, где жила также и я. И кто-то сказал ему, указав на меня, что я — жена Маркиша.
Встреченная столь необычным образом, я изложила Грановскому свою просьбу о свидании с братом. Он, к великому моему счастью, подписал мне пропуск на трое суток.
— Но там не только политические! — предупредил меня Грановский. — Там есть и настоящие бандиты! Вы должны быть осторожны!
Тогда я попросила, чтоб он разрешил поехать вместе со мной моей маме. Он тут же «вписал» ее в разрешение.
Потом сказал:
— Вернетесь — обязательно позвоните мне, расскажите, как съездили. Только телефон мой не записывайте — запомните наизусть.
Маркиш провожал нас на Северном вокзале, нес большой рюкзак с продовольствием для Шуры. Он был одет, как всегда: свободное пальто, шляпа надвинута на глаза, шарф перекинут через плечо. Такой «подозрительный» вид привлек внимание милиционера, и Маркиша без долгих разговоров потащили в отделение милиции. Там проверили его документы и отпустили, объяснив на прощание, что ищут какого-то преступника и заподозрили его в Маркише. Перед самым отходом поезда Маркиш подбежал к нам с рюкзаком, и мы сели в вагон.
Путешествие было неспокойным: солдаты патрулей то и дело будили пассажиров, проверяли документы. Кого они там искали — не знаю, может, действовали они просто так, «для порядка». Наконец, поезд притащился к полустанку, откуда нам предстояло добираться до лагеря. Тайга обступала полустанок со всех сторон, в воздухе монотонно гудели комары, нога проваливалась в болотистую почву по самую щиколотку.
Лагерное начальство, к которому мы явились, начало с того, что немедленно аннулировало распоряжение Грановского. Нам было разрешено свидание на два часа, на лагерной вахте.
Но и за эти два часа Шура успел рассказать нам немало удивительного. Его арестовали во Владивостоке и несколько месяцев везли до Москвы, задерживая в ожидании этапов в пересыльных тюрьмах. Познакомившись с методами тюремщиков, Шура пришел к выводу, что в Москве совершен фашистский переворот. «Да здравствует Сталин!» — кричал он сквозь решетки, а тюремщики издевались над ним. Наконец, он попал на Лубянку, к следователю. Шуру обвиняли во всех смертных грехах, и грозил ему приговор «десять лет без права переписки» — то есть расстрел (в советском законодательстве того времени не было предусмотрено высшей меры наказания, поэтому смертникам давали «десять лет без права переписки»). В последний день «следствия» следователь подозвал Шуру к окну своего лубянского кабинета, к зарешеченному окну,
— Ну, посмотри на Москву в последний раз! — сказал следователь.
Шура глядел на тесный колодец площади внизу, на памятник Воровскому, на снующих по своим делам людей, не знающих или не желающих знать, что происходит за стенами Лубянки.
И в этот миг на следовательском столе зазвенел телефон. Следователь снял трубку.
— Светланочка? Ты? Ну, наконец-то! Муж уехал отдыхать? Какое счастье! Значит, сегодня? Во сколько? Через четверть часа? Буду как из пушки! Сделать доброе дело? Это не совсем входит в мои обязанности… Для тебя? Ну, ладно, что-нибудь придумаем, если ты так хочешь…
Опустив трубку на рычаг, следователь оборотился к Шуре. В глазах следователя прыгали огни неподдельной человеческой радости.
— Ну, вот что, — сказал следователь. — Можешь считать, Лазебников, что родился ты под счастливой звездой. Тут одна девушка попросила меня кое о чем, и я не могу ей отказать, так что ты получишь восемь лет — вместо десяти без права переписки.
И Шура поехал в концлагерь на восемь лет — с почками, отбитыми ему следователем, с выбитыми зубами, с исполосованной шрамами головой.
Два часа свидания промелькнули как минута. Назавтра мы с мамой снова пришли к вахте. Дело было в том, что мы надеялись на еще одно свидания: его обещал Шуре начальник лагерного пункта «Черная речка» Саша Семацкий. Этот Семацкий был славный человек, женатый на еврейке Фане. По просьбе Фани он помогал чем мог евреям-политзаключенным.
Но на вахте, на нашу беду, мы наткнулись на заместителя начальника всего лагеря — некоего Брицкого, настоящего бандита человекогубца. Узнав, в чем дело — без упоминания, естественно, фамилии Семацкого — он велел нам убираться, угрожая в противном случае спустить собак. Через полчаса мы еще бродили вокруг вахты, надеясь на чудо. И тут Брицкий выполнил свое обещание.
Откормленные овчарки бросились на нас. Мы с мамой побежали — спотыкаясь, падая, подгоняемые страхом и отчаянием. На наше счастье, вблизи вахты стоял маленький деревянный домишко — там жили местные люди. Они видели нас и наше бегство и, выскочив за порог, втащили нас в дом. То были добрые люди, муж и жена, которую звали Любушка. Они спасли нас и приютили. А ночью в избушку тихонько постучался уголовник — ему Семацкий дал пропуск за зону — и принес записку от Шуры. Шура просил нас придти завтра вместе с уголовником к месту работы заключенных — они строили там железную дорогу. Просил он принести для ребят еды какой-нибудь и водки.
Решено было, что на сей раз пойду я одна, без мамы. На рассвете Любушка собрала меня в дорогу — идти предстояло около десяти километров. Любушка дала мне свою крестьянскую одежду, чтобы я не привлекала ничьего внимания, а вот обуви у нее лишней не оказалось, и я отправилась в городских туфлях на каучуке. Часа через два с половиной пути мы пришли к пустующей железнодорожной будке, куда вскоре подошел и Шура. Вынув еду из корзинки, он аккуратно сложил туда десятки писем своих товарищей-заключенных — по возвращении в Москву я должна была опустить их в почтовый ящик: ведь не говоря уже о цензуре, переписка лагеря с волей была строго ограничена.
Не прошло и пятнадцать минут, как раздался телефонный звонок: кто-то стукнул лагерному начальству о том, что в окрестностях лагеря видели женщину в городских туфлях, и Шуре дали знать, что на поиски вышел опер с собакой. Надо было спасаться: если бы меня поймали с письмами, срока мне не миновать. Выбросить письма, однако, я не согласилась.
Чувствуя чугунную тяжесть в коленях и стараясь не оглядываться, шла я по шпалам в сторону станции. Другой дороги просто не было: сойди я с железнодорожного полотна, я утонула бы в болоте… Наконец, слышу — кто-то догоняет меня, окликает так, как звал только брат: «Фируша!» Я понимаю, что это посланец от Шуры.
А посланец объясняет мне, что опасность миновала, что опер сбился с дороги и ушел в другом направлении, что я могу вернуться к Шуре в путевую будку — он уже ждет меня там.
По дороге назад посланец этот поведал мне замечательную историю. Он, оказывается, сидел вот за что: в колхозе, где он работал до ареста, жена председателя отличалась большой слабостью к мужскому полу. Иными словами, всякий мужчина мог добиться ее благосклонности без особых трудностей. В числе облагодетельствованных оказался и мой посланец. Он, однако, отличался игривостью необычайной и на достигнутом не остановился. Желая насолить ненавистному председателю, он в час любовных занятий с его женой оттиснул на ее ягодице колхозную печать, извлеченную тут же, из председательского стола. Малое время спустя председатель обнаружил «обновку» жены, провел короткое следствие с применением недозволенных приемов и дознался истины. Вслед за тем он написал в район донос о том, что в его колхозе имело место глумление над государственной печатью, и незадачливый любовник получил десять лет лагеря — правда, с правом переписки. «Преступление» квалифицировалось как политическое.
Вернувшись из Шуриного лагеря, я позвонила Грановскому, рассказала ему, как нас травили собаками, как отменили его распоряжение о трех сутках свидания. Рассказ о собачьей травле его, как будто, особо не взволновал — а вот отмена его приказа пришлась ему не по вкусу. Брицкий, во всяком случае, был в скором времени отозван из лагеря неизвестно куда.
Вторично я позвонила Грановскому много лет спустя — уже после ареста Маркиша. Сухой голос ответил мне в трубку, что такой здесь больше не работает. Потом я узнала, что и Грановский не ушел от своей судьбы — он был арестован и, кажется, погиб.
11. Эвакуационный поезд
Утром 22 июня 1941 года мы с Маркишем собирались ехать в подмосковный поселок Ильинское — осматривать дачу, которую Маркиш намеревался купить. Он долго «раскачивался», прежде чем решиться на покупку: ему самому не нужна была ни дача, ни машина — только стол и пишущая машинка. Но брат Маркиша — Меир тяжело страдал сердечной болезнью, врачи рекомендовали ему больше быть на свежем воздухе — и это определило решение Маркиша.
Отвлекшись немного, следует сказать здесь, что Маркиш — по советским понятиям весьма обеспеченный материально человек, не только не стремился к «красивой жизни», но даже порицал ее атрибуты: загородный дом, красивую мебель, хорошую посуду на столе — все то, что можно было приобрести за деньги в России в то время. Он был удивительно непритязателен и скромен в быту. До самого конца не изменил он привычной пище местечка: каждое утро, к завтраку, на стол подавалась отварная картошка с селедкой. Он никогда не жалел денег и никогда не спрашивал отчета в расходах по дому. Некоторое время он вообще не замечал новых вещей, купленных мной для дома: нового стола, дивана. Потом, несколько дней или недель спустя, он вдруг спрашивал:
— Слушай, этого дивана, вроде бы, раньше не было!
— Я купила, — объясняла я.
— А зачем? — спрашивал он. — Здесь ведь, кажется, стояло что-то другое…
Иногда вещь нравилась ему — но он никогда не испытывал привязанности к вещам. Он никогда не смог бы стать коллекционером — это было не в его характере.
Чужим людям деньги он раздавал щедро: домработницам, лифтерам. На Новый год всегда пеклись специальные пироги для обслуживающего персонала дома, где мы жили. Слесари, истопники — русские люди — нередко приходили к Маркишу за помощью, а то и просто за советом. Он никогда не был высокомерен, был доступен — в отличие от большинства жильцов нашего «начальского» дома на улице Горького.
Итак, около полудня 22 июня 41 года мы собирались за город покупать дачу. Мы уже стояли в дверях, когда раздался телефонный звонок. Звонила моя мать. Подняв трубку, я услышала только одно слово: «Война!»
Войны и ждали, и не ждали — надеялись, что «мудрая сталинская политика» убережет Советский Союз от столкновения с Германией, и не верили в это. И, однако, начало войны было чудовищной неожиданностью, громом среди ясного неба.
Пять минут спустя Маркиш уехал в Союз писателей, на воинский призывной пункт. А я отправилась в загородный пионерский лагерь, где отдыхали летом дети писателей; там жили наши дети Симон и Ляля.
Через несколько часов Маркиш вернулся домой — серьезный, подобранный, немногословный.
— Через час я ухожу в народное ополчение, — сказал он.
До шестого июля о нем не было почти никаких известий, а шестого наша семья — я и дети — должна была эвакуироваться вместе с пионерским лагерем в село Берсут на Каме. Горю моему не было предела: я не могла попрощаться с Маркишем перед отъездом. Заплаканная, пришла я во двор Литературного фонда, где дожидались автобусы для отправки на вокзал. Двор был забит писателями и их семьями с детьми. Взрослые нервничали, дети ревели в толчее и тесноте. Никто не знал, как нас повезут, надолго ли, не навсегда ли…
И вдруг я увидела Маркиша — он протискивался к нам сквозь толпу, похудевший, в своей мягкой замшевой куртке, подчеркивавшей стройность его фигуры. На фоне угрюмых, усталых людей он выглядел посланцем иного мира. Его узнали, глядели ему вслед, говорили: «Это Маркиш…»
Маркиш отпросился из казармы на несколько часов — проводить нас. Обмундированья ему тогда еще не выдали — на всех не хватало.
С июля по сентябрь я жила с детьми в Берсуте. Потом мы перебрались в Чистополь — там существовал к тому времени целый писательский поселок, дожидавшийся дальнейшей транспортировки в глубинные эвакуационные места — в Сибирь или Среднюю Азию.
В Берсуте царила нервная обстановка исправительного заведения. Начальником над писательскими эвакуированными семьями был назначен так называемый «пролетарский, рабоче-крестьянский» писатель Ляшко. То был грубый хам-самодур, чрезвычайно серьезно подошедший к новому своему назначению. Хозяйственные свои функции он подменил «идеологическо-воспитательными». Собрав нас — жен писателей — он прочитал нам длинную и нудную лекцию о том, что теперь мы — «как все», что нам ни в коем случае не следует пользоваться косметикой, носить колец, бус, серег. Ото дня ко дню Ляшко все более грубел и хамел, превращался словно бы в лагерного надзирателя. Мою мать он вообще не пускал на территорию детского сада, куда были помещены мои дети. И это несмотря на то, что я работала там с детьми в качестве ночной няни… Я решила выйти из-под назойливой «опеки» пролетарского писателя и перебраться в городок Чистополь, что на реке Каме.
Однако все мои поездки в Чистополь для снятия квартиры не приводили к успеху. Я ходила из дома в дом, стучала в двери и окна, спрашивала: — Не сдадите ли комнату?
И слышала в ответ:
— Евреям не сдаем!
То ли чистопольцы были сплошь антисемитами, то ли боялись, что придут немцы и накажут тех, кто «помогал» евреям. Тогда не было у меня желания разбираться в этих вопросах — я просто ходила по чистопольским улицам и плакала в голос.
В таком-то виде и остановил меня однажды средних лет мужчина, сидевший на лавочке вместе со своей женой, около старого дома.
Всхлипывая, я рассказала ему о своих злоключениях.
— Живите у меня! — предложил мужчина, указывая на дом. — Это не царские хоромы — но разместимся. Правда, Шура? — обратился он к жене.
Так поселились мы в комнатке за кухней в доме прекрасных русских людей дяди Васи и тети Шуры Вавиловых. Мы прожили у них несколько месяцев — до эвакуации в Ташкент — деля с ними и пищу, и заботы. После нашего отъезда к Вавиловым по нашей рекомендации вселился Борис Пастернак с семьей. Впоследствии Пастернак написал Вавиловым несколько писем, которыми дядя Вася и тетя Шура чрезвычайно гордились.
Наша дружеская связь с Вавиловыми не прервалась и после войны: дядя Вася время от времени приезжал в Москву по своим делам — он работал на часовом заводе — и обязательно заглядывал к нам и Пастернакам.
Рядом с Берсутом Чистополь выглядел настоящим городом: несколько мощенных улиц, двухэтажные дома, кирпичное здание бывшей гимназии, центральная площадь со старинными торговыми рядами, большая пристань. В еде к тому времени уже чувствовался недостаток, люди дорожили припрятанным сахаром, маслом, мылом. С утра мы, писательские жены, отправлялись на скудный чистопольский рынок в надежде приобрести что-нибудь съестное — за деньги или в обмен на одежду. Запомнился мне такой случай на чистопольском рынке.
Какой-то крестьянин привез на рынок большой бочонок меда. Мы, рыскавшие по базару в поисках съестного, сразу приметили торговца и, выстроившись в длинную очередь, договорились о том, чтобы каждая покупала по сто пятьдесят граммов — иначе всем не хватит. А побаловать детей медом — о чем еще можно было мечтать! Счастливые, стояли мы в очереди, дожидаясь, пока торговец установит весы и откроет свою бочку.
И вдруг на базаре появился Леонид Леонов — крупный русский писатель, один из руководителей Союза писателей.
— Что дают? — осведомился Леонов, подойдя к очереди. — Почем?
И, узнав, подошел к торговцу, стал шептать ему что-то в ухо.
Торговец, выслушав, сложил свои весы и, снова погрузив бочонок в тачку, покатил ее за уходившим с базара Леоновым.
Так наши дети остались без меда — Леонов, предложив торговцу более высокую цену, купил для себя всю бочку. На наши упреки и воззвания к его писательской совести он, естественно, никак не реагировал.
От Маркиша не было никаких вестей, и я решила попытать счастья — пробиться без пропуска в закрытую Москву. Вместе с двумя другими женщинами — поэтессой Маргаритой Алигер и первой женой поэта Евгения Долматовского Софой Мазо — я пароходом добралась из Чистополя в Казань. В Казани нам повезло — мы умудрились выпросить у начальства специальные талоны — «литеры» — для следования в Москву. Литеры были выписаны на чужие имена и, случись проверка, мы все были бы арестованы. В военное время задержание с подложными документами повлекло бы за собой крупные неприятности.
По рекам — на поезд попасть нам не удалось, да и слишком опасно это было с «липой» в кармане — мы добрались до границы московской области. Дальше наверняка нам грозили проверки документов — и мы сошли на берег километрах в восьмидесяти от Москвы. Оттуда можно было рискнуть доехать попутными машинами и пригородными поездами. В последних числах сентября я вошла в подъезд нашего дома и поднялась на пятый этаж. Маркиш был дома. Он работал — сидел на своем диване, поставив перед собой кресло с пишущей машинкой. Он был одет в военно-морскую форму, на плечах его были погоны с двумя звездами: капитан второго ранга.
Какое-то «высокое начальство», просматривая списки Народного ополчения и понимая, что все ополченцы погибнут под Москвой в боях с отборными гитлеровскими дивизиями, вычеркнул Маркиша. Его в приказном порядке отозвали в штаб Военно-морского флота, присвоили ему звание капитана второго ранга и до поры до времени отпустили с миром домой — писать стихи. Впоследствии он был отправлен в действующую армию, воевал на одном из крейсеров Черноморского флота. Крейсер был потоплен при попытке прорваться к осажденному Севастополю, и только чудо спасло тогда Переца Маркиша от гибели.
Его товарищи — еврейские писатели, попавшие в ряды Народного ополчения — не ушли от своей судьбы. Меир Виннер, Годинер, Росин — все они погибли под Москвой.
Из Москвы я вернулась вместе с Маркишем — ему разрешили сопровождать семью дальше в эвакуацию, в Ташкент. Десятки писателей ждали тогда эшелона в Казани. Некоторые из них вернулись потом на фронт, некоторые остались в тылу, в Ташкенте. Маркиш вернулся в армию.
Писательский эвакуационный эшелон был набит битком. Мы получили четырехместное купе в мягком вагоне и погрузились в него всемером: Маркиш, я трое наших детей, моя мать и захворавший племянник Маркиша. Когда поезд был уже готов к отправлению, мы увидели мечущихся по перрону молодого человека с женщиной — им не хватило места. Глаза молодого человека были безумны от растерянности и страха.
— Надо взять их! — решил Маркиш.
Эти двое на ходу вскочили в отходящий поезд, прошли в наше купе. Свободного места не было — поэтому повеселевшая парочка, глядя на Маркиша собачьими глазами, полезла, не мешкая, в подпотолочное чемоданное отделение.
Это был нынешний главный редактор «Литературной газеты» еврейский антисемит Александр Чаковский с женой.
В соседнем вагоне ехали немецкие писатели-антифашисты, бежавшие от Гитлера в СССР: Фридрих Вольф, Бредель, Бехер и другие. Немцы сразу же обособились от прочего пестрого населения эвакопоезда. Они общались только между собой, вели себя так, словно нас вообще не существовало и словно не один паровоз тащил нас навстречу нашей судьбе. Мы, «советские», и так-то не общались с «иностранцами», а после одного случая контакты стали невозможны и вовсе. В один прекрасный день наш поезд остановился на каком-то заброшенном полустанке. Население нашего вагона, в основном женщины с детьми, высыпали погреться на солнышке. Немецкий писатель Теодор Пливье вышел в тамбур, прищурился на солнце, потянулся и словно бы не замечая нас, прогуливавшихся у самого вагона, неторопливо расстегнул штаны и помочился. Мы были как громом поражены: вот так европеец, вот так интеллигент! Из нашей остолбеневшей на миг компании раздались бурные крики протеста. Пливье, смотря словно бы сквозь нас, преспокойно закончил свое дело и удалился в купе… Нечего греха таить — свое возмущение Пливье мы перенесли на «немцев» вообще, хотя они и вели себя не столь вызывающе, как их литературный коллега.
Маркиш — без деклараций и распоряжений — ввел жесткий распорядок дня в нашем купе. С утра дети отправлялись гулять и играть в коридор вагона, а Чаковские исчезали неизвестно куда. Маркиш снимал чехол с пишущей машинки, стоявшей на столике. Шел ли поезд вперед, стоял ли подолгу на полустанках и в тупиках — Маркиш работал. Он не желал изменять своим рабочим привычкам, не желал терять времени на пустые разговоры, ведшиеся во всех купе поезда. Он писал — потому что не мог не писать.
В эвакуационном поезде был создан им весь цикл стихов «Москва. 1941».
Атмосфера писательского эвакуационного поезда, шедшего из Казани в Ташкент 23 суток, стоит того, чтобы остановиться на ней подробней.
То был воистину «сумасшедший поезд» — со скандалами, слезами, отчаянием, апатией и флиртом. «Писательский дом» на колесах тащился по степям прочь от войны и от смерти — в неведомое, но наверняка трудное и тяжелое будущее. Вряд ли я ошибусь, сказав, что по-писательски работать продолжал в этом поезде один только Маркиш.
Вся эта суматоха и горькая суета дороги превращала культурных, цивилизованных людей в неврастеников и дикарей. Маркиша сам этот беженский путь не трогал — Маркиш перенял горький опыт поколений своего народа — вечного беженца, вечного странника.
Скандалы в поезде возникали часто — из-за пустяка, из-за мелочи. Наскоки на нас носили совсем уж бредовый характер. Во-первых, нас с пеною у рта обвиняли в том, что Маркиш, работая в купе, отправлял оттуда «домочадцев» и те слонялись по коридору. Во-вторых — совсем уж бред — о нас говорили и повторяли с утомительной нудностью и желчью: — Эти Маркиши умеют устраиваться! Набили купе детьми и получают каждый день, по целых четыре чайных ложечки сгущенного молока!
Это была правда — поездное начальство выдавало по ложке молока каждому ребенку. То, что свою ложку получал и больной племянник Маркиша, взятый им на время болезни из общего вагона, вызывало ярость опустившихся людей.
Наконец, произошел взрыв. Скандал учинил умный и интеллигентный Виктор Шкловский. Поводом послужил тот же больной племянник Юра. Что в нем не устроило Шкловского — неизвестно, но он стал метаться по коридору с громовым криком:
— Маркиш! Я тебя бить не стану, я тебя сразу убью!
Дальше этого объяснения не шли, но крик нарастал. Маркиш, сидя за пишущей машинкой, и слов крика не различал, но шум мешал ему.
Тогда я вышла в коридор — к беснующемуся Шкловскому и одобряющим его приятелям-писателям.
— Вы — инженеры человеческих душ? — не помня себя, закричала я, стоя на пороге купе. — Дерьмо вы!
Услышав от меня — прежде тихой и уравновешенной — ругательное слово, Шкловский умолк, словно бы его окатили ведром холодной воды. Ему было неловко.
В одном из соседних с нами купе ехал в Ташкент крупнейший еврейский прозаик Давид Бергельсон с семьей. Странная дружба связывала Маркиша с Бергельсоном. Это была, собственно, и не дружба — связь острых индивидуальностей. Она длилась почти всю жизнь — вплоть до дня гибели 12 августа 1952.
Маркиш познакомился с Бергельсоном еще в 1917 году в Киеве. В двадцать первом году они вновь встретились в Берлине, где собрались к этому времени все сколько-нибудь крупные еврейские писатели эмигрировавшие из России: Дер Нистер, Квитко, Маркиш, Бергельсон, Гофштейн. Уравновешенного «европейца» Бергельсона раздражало бунтарское неистовство молодого Маркиша, личные чувства, как это нередко бывает, были перенесены на оценки творчества, и в еврейской печати начались между двумя писателями публицистические баталии. Бергельсон был человеком умным, образованным, резким и злым. Маркиш — вспыльчивым как порох, но добрым и мягким. После возвращения Бергельсона из эмиграции в конце 34 года настоящая дружба между ним и Маркишем так и не установилась. Подружились женщины — жена Бергельсона Циля и я. Мы, как могли, сдерживали наших мужчин от взаимных резкостей и радовались, когда все шло у них хорошо. Маркишу и Бергельсону было интересно вместе, и этот интерес влек их друг к другу. А потом вдруг между ними пробегала кошка, и наступало охлаждение. Бергельсон — выходец из богатой семьи, получивший европейское образование и воспитание, называл Маркиша в шутку «азиатом» — за то, что Маркиш не любил сидеть в кафе, предпочитая ему собственный дом. А кафе такое в Москве открылось в тридцатые годы — кафе «Националь». Его организовала эмигрантка из Америки, она хотела, чтобы вышло у нее нечто подобное литературным кафе Парижа, чтобы в «Националь» запросто заглядывали писатели, художники, актеры. Истосковавшиеся по обществу «артисты» валили в «Националь» валом — посидеть, поболтать, выпить кофе с коньяком. Американка ввела в меню кафе «коронное» блюдо, вывезенное из Америки — яблочный чай. Он и по сей день подается в «Национале». А больше, пожалуй, в этом кафе в самом центре Москвы ничего не напоминает о прошлом: завсегдатаи либо были арестованы и погибли в лагерях, либо умерли своей смертью, а американка, естественно, была арестована и погибла. В 37 году кафе пережило кризис: люди боялись говорить не только в кафе, но и у себя дома. После войны в «Националь» потянулись по старой привычке завсегдатаи: Михаил Светлов, Юрий Олеша, Владимир Бугаевский, Марк Шехтер. Но МГБ, выслеживая «либералов», установило в зале кафе множество микрофонов, а официанток принудило сотрудничать с Лубянкой.
Вот туда-то, в «Националь», и вытягивал Бергельсон Маркиша несколько раз в году, подтрунивая над его приверженностью к домашним коржикам с маком, которые считались в родном местечке Маркиша изысканным лакомством — особенно, когда их было вдоволь. Выросшего в достатке Бергельсона несколько коробили чисто народные вкусы Маркиша… Я почти ничего не знаю о жизни Маркиша в эмиграции, и я была несказанно удивлена, что в Париже он принадлежал к кругам богемы. Марк Шагал сказал мне, что в Париже Маркиш сильно пил. Это просто удивительно: я не помню ни одного случая, чтобы Маркиш выпил рюмку водки. И это на фоне массового писательского пьянства в России. После возвращения из эмиграции Маркиш вообще сторонился мест общественных развлечений.
Шагал, которого я посетила во Франции в его доме на Лазурном берегу, говорил о Маркише с восхищением и любовью. Они были дружны еще в России, до эмиграции и Шагала, и Маркиша. Парижская встреча в двадцать четвертом году еще более сблизила их. Быть может яростный огонь поэзии Маркиша и тихая грусть творчества Марка Шагала — именно это притягивало друг к другу художника и поэта… Мне очень хотелось познакомиться с Шагалом, но мои французские друзья отнеслись к моей затее весьма скептически: Шагал занят, Шагал никого не принимает, пробиться к Шагалу невозможно. Я все же решила написать ему: «Я жена вашего друга Переца Маркиша, я во Франции…» Назавтра я получила письмо по пневматической почте — Шагал ждал меня.
Мы сидели за столом втроем: художник, его милая жена Вава и я. Расспрашивал в основном Шагал — о Маркише, о его жизни в России после возвращения из эмиграции. Говорили мы по-русски и на идиш. Мне кажется Шагалу доставляло удовольствие выговаривать слова на этих языках его молодости.
О чем мне было просить великого Шагала? Конечно же, я мечтала посмотреть его новые работы, его мастерскую. Небольшого роста, порывистый, резкий в движениях Шагал распахнул передо мной дверь в огромную, светлую мастерскую. Я переступила порог и меня поразило, что стены мастерской были пусты: ни одной картины, ни одной зарисовки. А Шагал тем временем легко отодвинул одну из раздвижных стен — там, за ней, словно в стальном сейфе, стояли работы из цикла «Война».
Я уезжала от Шагала, увозя с собой драгоценный подарок: книгу «Монотипии», на титульном листе которой он нарисовал свой автопортрет и написал: «Дорогой Эстер Маркиш, в память о любимом друге моей молодости, Переце Маркише. Будьте счастливы».
Сидя в своем купе, работая — Маркиш, тем не менее, зорко наблюдал за жизнью «сумасшедшего поезда». Движение эвакуационного поезда он потом с большой точностью описал в романе «Поступь поколений». Заняли там свое место и еврейские эвакуируемые писатели.
А по степным дорогам по обе стороны скучного железнодорожного полотна брели группки беженцев — евреев из Польши. Их никто никуда не вез, и они спасались от наступающих немцев сами. Когда поезд останавливался, они подходили, смотрели на пассажиров голодными глазами. И Маркиш с Бергельсоном отдавали им всю пищу, какая была. (Уже сейчас, в Израиле, ко мне пришел один такой еврей, спасенный Маркишем от голода на каком-то азиатском полустанке).
Огромное впечатление произвела на Маркиша встреча с одним еврейско-польским беженцем, подошедшим к нему во время стоянки поезда. Этот человек шел в обратном направлении — на Запад.
— Здесь мне плохо, — рассуждал этот человек, — никто обо мне не заботится, я голодаю и не могу заработать себе на кусок хлеба. Я хочу вернуться в Польшу. Съедят меня немцы, что ли?
Этого человека вскоре задержали и «на всякий случай» посадили в тюрьму. Тюрьма — он вышел оттуда уже после войны — спасла его от гитлеровских печей… И таких людей встречалось тогда — в 41 году — немало.
Степь за окном нашего вагона все желтела, становилось все жарче. Ссоры нервно истощенных людей, вспыхивали все чаще…
Наконец, после почти месячного путешествия (в обычное время этот путь занимает пять суток), мы приехали в неведомый Ташкент.
12. «Светская жизнь» в Ташкенте
Писатели и их семьи приехали в эвакуацию, в Ташкент, несколькими потоками-эшелонами. Наш поток был вторым. Мы застали в Ташкенте Анну Ахматову, Всеволода Иванова, Бориса Лавренева, Алексея Толстого — нашего соседа по дому на улице Горького, семью Горького — вдову Екатерину Пешкову, внучек, вдову сына Максима Надежду, которой Горький придумал ласковое прозвище — Тимоша. Жил в Ташкенте и старый мой знакомый Иосиф Уткин. Ему к тому времени оторвало на фронте пальцы правой руки, и он теперь хлопотал о переводе в действующую армию в качестве военного корреспондента.
В Ташкенте, таким образом, существовала, перебиваясь по военному голодному времени с хлеба на воду, целая колония писателей. Жили также писатели и в Ашхабаде — среди них Юрий Олеша и Владимир Бугаевский, и в Алма-Ате.
Нам, «второму эшелону», выделили под жилье помещение общественной библиотеки на Хорезмской улице, дом 7. Теперь нет ни улицы, ни дома: последнее ташкентское землетрясение стерло с лица земли весь район…
Многосемейному Маркишу достался читальный зал — довольно просторное помещение, перегороженное на две неравные части высокой стойкой с окошечком для выдачи книг. В первый же день дети наши затеяли тихую игру, ставшую впоследствии их любимым занятием: игру в «библиотеку». Игра состояла в том, что один из детей стоял по одну сторону перегородки и изображал библиотекаря, другие же толпились у окошка и просили выдать им книги.
Мы оказались счастливыми обитателями двухкомнатного помещения и прилегающего к нему коридора. Там, в коридоре, поставлены были впоследствии раскладные кровати, на которых спали преимущественно бездомные польские еврейские писатели, приходившие за помощью в «дом Маркиша».
Жилье наше, естественно, не напоминало дворец или даже обычную городскую квартиру, но было вполне сносным. Рядом с нами поселился Давид Бергельсон, а на первом этаже (дом был двухэтажным) еврейский писатель Дер Нистер. Нистер приехал вслед за нами из Намангана — провинциального городка вблизи Ташкента. В Наманган он попал в соответствии с «табелью о рангах», действовавшей в Союзе писателей. А комнатку в нашем доме он получил благодаря «немецкому бунту». Вот как это случилось.
Немецкие писатели-антифашисты, бежавшие от Гитлера в Россию, приехали в Ташкент вместе с нами — Иоганес Бехер, Фридрих Вольф, Эрих Вайнерт и другие. Дом на Хорезмской улице им очень не понравился — они просто в ужас пришли от него. Не было там ни холодной и горячей воды, не было ванны и душа, не было уборной. Непривычные к таким «спартанским» условиям немцы выразили бурный протест: они написали письмо в узбекский ЦК партии, требуя немедленного перевода в другой дома. В противном случае они угрожали коллективно и демонстративно покончить жизнь самоубийством.
Новое жилье им, естественно, никто не дал — но начальство поспешило избавиться от беспокойных европейцев, сплавив их обратно в Куйбышев — поближе к «большим мира сего»: пускай сами разбираются.
А в освободившиеся комнатки-каморки вселились советские, привычные ко всему на свете писатели — в их числе Пиня Нистер.
Один только немец остался в нашем писательском доме — Вилли Бредель.
А мы, откровенно говоря, нисколько не жалели об отъезде немецких писателей: очень уж они были заносчивы и требовательны.
Война была далеко, день шел за днем, месяц за месяцем. Старшие дети — Сима и Ляля — пошли в школу. Я устроилась на работу в Радиокомитет, в отдел радиоперехвата французских передач: слушала передачи с Ближнего Востока и писала аннотации. Денег это давало немного, но позволяло все же сводить концы с концами. Квартира принимала понемногу человеческий вид: из фанерных листов сколотили одежный шкаф, кто-то подарил стул, где-то достали кровать-раскладушку, напоминавшую козлы для пилки дров.
Младший наш сын Давид вызывал тревогу: целыми днями гулял он, одетый в «довоенные» красные сапоги и красную шапку, по двору, и узбеки, подкармливая его хлебом и иногда мясом, уговаривали его уйти с ними. Узбеки очень любили детей, особенно красивых, а Давид очень любил хлеб с мясом.
Маркиш бывал в Ташкенте наездами — вырывался на пару дней из Москвы или с фронта. Как только он появлялся в Ташкенте, к нему сразу приходили еврейские писатели, в основном из Польши: тем было хуже, чем другим, они нуждались в помощи и защите. Как-то пришел человек, похожий на свою собственную тень: кожа да кости, в тряпье, в рваной солдатской шинели, подпоясанный куском веревки. Маркиш не узнал его — это оказался Кайтельман, еврейский писатель из Польши. Он, действительно, был на краю гибели — от голода, от отчаяния… Маркиш отдал ему свою одежду, дал денег, пошел с ним «по начальству». После отъезда Маркиша в Москву Кайтельман еще некоторое время прожил у нас, а потом уехал куда-то, исчез. Я не знала о нем ничего до моего приезда в Израиль. Здесь меня нашла вдова Кайтельмана — он умер не так давно — и рассказала, что покойный ее муж часто говорил ей о встрече с Маркишем в Ташкенте, говорил, что ему он обязан жизнью. Много евреев прошло тогда через «дом Маркиша» — всех не упомнишь. Многие из этих евреев спаслись, приехали в Израиль. И сейчас часто находят меня незнакомые или забытые мной люди, говорят о том, что Маркиш помог им, вдохнул в них бодрость и надежду, спас их.
Там же, недалеко от нас, жил и Соломон Михоэлс с семьей. Они жили в помещении Академии наук. Михоэлс частенько заглядывал к нам, предупреждая о своем приходе громовым свистом…
Одним из самых значительных событий нашей ташкентской жизни стала лотерея Комитета помощи детям фронтовиков. Как-то Тимоша Пешкова (Горькая) разыскала меня и предложила сотрудничать с Комитетом. Я согласилась с восторгом: хотелось хоть как-то разнообразить вялую эвакуационную жизнь, хотелось помочь людям, которым пришлось еще туже, чем нам… Первое заседание Комитета состоялось в доме Тимоши. Там собрался весь ташкентский дамский «свет». Там познакомилась я с Ириной Трофименко — женой крупного боевого генерала Сергея Трофименко, находившегося на фронте. Ирина жила с двумя мальчиками-сыновьями в Ташкенте, в хорошем, просторном особняке. Мы почувствовали приязнь друг к другу, и вскоре, с порывистостью молодости, подружились. И эта дружба оказалась прочной.
Попивая пустой чай из старинных чашек мейсенского фарфора, мы обсуждали планы проведения лотереи. Все доходы с нее, естественно, должны были пойти в фонд помощи детям фронтовиков. Предполагалось организовать несколько концертов силами известных артистов-москвичей, и провести самую лотерею — венец всей операции. Главным призом лотереи должен был стать… живой баран. Помимо оригинальности, главный приз таил в себе особое достоинство и ценность — двадцать килограммов мяса. Второй приз являл собою торт, третий — тортик. Разыгрываться должны были также кое-какие предметы одежды, обувь. Ничего этого у нас, конечно, не было — ни барана, ни тортов, ни ботинок. Мы решили обратиться к правительству Узбекистана с просьбой о предоставлении нам необходимого. На нас, как писали мы в письме, ложилась полная ответственность по организации лотереи и ее проведению: мы должны были запастись лотерейным барабаном, писать и скручивать лотерейные билетики, продавать их, вести переговоры с артистами.
Написав письмо, мы разошлись по домам. Я вышла от Тимоши с Ириной Трофименко, и мы договорились, что следующее наше заседание состоится в ее доме. Мы собрались там после получения ответа на наше письмо: начальство выражало нам поддержку и обещало дать живого барана. Мы собрались у Ирины для обсуждения всех деталей намечавшейся лотереи — «литературные жены», а заодно и мужья. Ирина выставила царское по тем временам угощенье: бутерброды, печенье, вино… Так и повелось, что частенько стали захаживать к Ире Трофименко обнищавшие писатели — в ее богатом и относительно благополучном доме; было приятно провести время, вспомнить прошлое и подумать о будущем. «Завсегдатаи» с некоторой тревогой ожидали прибытия хозяина-генерала: о нем писали в газетах, он представлялся отчаянным рубакой, суровым деспотом, Бог знает кем… Зачем понадобится боевому генералу «литературный салон», не захочет ли он по фронтовой привычке «ликвидировать» его?
Однако эти опасения оказались напрасными: Сергей Трофименко вернулся с фронта лишь в конце войны, в мае 1945, и большинство завсегдатаев «салона» познакомились с этим милым человеком только в Москве.
Подготовка к лотерее шла тем временем полным ходом. Мы обошли дома всех сколько-нибудь «высоких» людей Ташкента, продавая билеты на концерт. Академики, военные, партийные работники — никто не был нами забыт. Цены на билеты были высокие, а зал нам предоставили бесплатно, да и актерам мы, конечно, не платили.
Лотерейный концерт состоялся в ташкентском оперном театре. Гвоздем концерта была пьеска, написанная Алексеем Толстым специально по этому случаю и в которой автор вместе с Михоэлсом играли бессловесные роли двух плотников: время от времени они появлялись на сцене с ящиками с инструментами и выразительно стучали молотками под аплодисменты зрителей.
Назавтра после концерта состоялась сама лотерея. Для этого мы соорудили в одном из парков города большую эстраду с кассой и там продавали билеты для участия в лотерее. Весь Ташкент явился сюда, чтобы полюбоваться на барана, мирно пасшегося на лужайке под бдительным наблюдением приставленного к нему сторожа. Мы хотели собрать как можно больше денег для детей фронтовиков, и решили, поэтому, проводить лотерею три дня подряд. Вот бы достать еще двух баранов!.. Но об этом и мечтать нечего. А если оставить барана на третий тур, никто не купит билеты на первые два дня. Что делать!..
И мы нашли очень простой выход, «ложь во спасение», так сказать: два первых вечера барана выигрывала одна из «наших» — член комитета. Под дружный и печальный вздох участников — счастье было так близко! — упирающегося барана уволакивали на веревке. Час спустя, после ухода публики, баран водворялся на полянку. На третий вечер барана действительно выиграл какой-то счастливчик-узбек, и свежая баранина украсила, наверно, его плов.
Узбеку повезло — ничего не скажешь. Барану не повезло… Нам тоже не очень-то везло: мы жили впроголодь, я навязчиво мечтала о большой сковороде жареной картошки. Маленький Давид — сколько его за это ни наказывали — ходил по соседям и вечно клянчил еду. Обставлял он это довольно своеобразно: Нистера уверял, что накануне не доел у него вареную свеклу — и вот явился за ней, жену критика Исая Лежнева пытался убедить, что хранимый ею как зеница ока круг копченой колбасы — продукт невкусный, просто отвратительный, и поэтому он, Давид, согласился бы, пожалуй, принять его… Постепенно мы свыклись с постоянным чувством голода, воспринимали его как нечто само собой разумеющееся.
И вот однажды, придя домой с работы, я обнаружила на столе целую сковороду дымящейся жареной картошки! Это было похоже на чудо, на сон: только накануне я обсуждала с моей мамой, как легкомысленно не ценила я жареную картошку всего полтора года назад.
Глядя на мой восторг, который я не могла скрыть, мама счастливо улыбалась. Я, однако, понимала, что вряд ли добрый человек или ангел Божий принес мне такое сокровище. И мама объяснила мне.
На соседней улице работал магазин, скупавший золото и драгоценности. И моя мама пошла туда и продала свою золотую коронку. Вот так и появилась картошка на нашем столе.
То была нищая и голодная жизнь, и старая и новая дружба с людьми проходила испытание на прочность. Старый наш друг, профессор-медик Яков Брускин жил против нас: он работал главным врачом большого тылового военного госпиталя и носил погоны то ли полковника, то ли генерала медицинской службы. Военные пользовались специальным продуктовым пайком — тоже далеким до изобилия, но чуть более щедрым, чем наш. В марте 42-го Брускин был приглашен к нам на день рождения старшего нашего сына Симона, ему исполнялось одиннадцать лет. Утром этого дня Симон был отправлен в хлебную лавку, где получил по карточкам черный хлеб, предназначенный для угощения гостей. Вернулся он из лавки без хлеба.
— Где хлеб? — спросила я.
Симон виновато поглядел на свои руки, словно бы удивляясь, что они пустые.
— Я его, наверно, незаметно съел… — сказал Симон.
Это было происшествие чрезвычайное — приглашенные гости оставались без хлеба. Брускин был в курсе дела — я рассказала его жене об этой грустной истории. Придя к нам вечером, Брускин торжественно извлек из сумки самый лучший, самый дорогой подарок — две буханки черного хлеба. Это, действительно, был дружеский подвиг — Брускины ведь сами оставались без хлеба.
Война громыхала где-то за тридевять земель — сюда, в Ташкент, долетали только осколки. Но осколки эти ранили, жалили душу.
Пришло письмо: погиб под Севастополем мой любимый дядя Наум — брат моей мамы. Другое письмо: погиб под Брестом мой двоюродный брат Рувим. Еще письмо: погиб мой двоюродный брат — Марк…
А родной мой брат — Шура — сидел в северном лагере, погибнуть в борьбе с немецким фашизмом он не мог. Его могли расстрелять «свои», он мог умереть от голода, от болезни… От него тоже пришло письмо — вернее, не от него, а о нем. Письмо, написанное лагерным другом Шуры, было отправлено не из лагерной зоны — какая-то добрая душа вынесла его из-за колючей проволоки и опустила в почтовый ящик уже на воле. Шурин друг (назовем его для краткости X, он жив, живет в России) писал, что в лагере царит страшный голод, заключенные не получают пайка, питаются травой, корнями, если повезет — выкапывают из земли и поедают мясо павших сапных лошадей. Друг писал, что политических заключенных выпускать нельзя, что предписано добавлять им срок. Писал, что Шура получил еще десять лет — в дополнение к своим восьми. Его судили за то, что он, якобы, собирался построить в своем бараке самолет и перелететь к Гитлеру. Абсурдность обвинения не удивляла — «был бы человек, а статья найдется»…
Пришла весточка и от Лялиной матери — она сидела в Потьме, голодала, болела. Мы в Ташкенте не знали, доведется ли нам увидеться с нашими лагерными родными, или их ждет судьба фронтовиков.
В январе 43-го Ирина Трофименко собралась ехать к мужу, на фронт. Уступив моим просьбам, она согласилась взять меня с собой до Москвы, к Маркишу. В Ташкент прибыл ординарец Сергея Трофименко — Петренко, и мы под его охраной и попечительством выехали на Запад.
Москва кряхтела и скрипела от сильного мороза, ее дома не отапливались. Маркиша я застала дома — он жил в кухне, единственной относительно теплой комнате дома. В морской шинели, поверх которой наброшено было одеяло, он сидел за машинкой около газовой плиты, дававшей слабенькое голубое пламя. Спал Маркиш на кровати нашей верной домработницы Лены Хохловой — кровать стояла в нише кухни. Сама же Лена — она была малого роста, горбата — умещалась на ночь на газовой плите.
Война ушла уже от Москвы далеко на Запад, и Маркиш разрешил мне с детьми вернуться домой. Через несколько дней он «пробил» соответствующие документы, и я вернулась в Ташкент — собираться и готовиться к переезду в Москву. Готовилась я фундаментально: продала последнюю ценную свою вещь — меховую шубу, и купила на вырученные деньги сахар, рис, муку, кишмиш. На первые недели жизни в Москве семья была обеспечена.
Маркиш встречал нас на вокзале с фургоном — такси не было, машину он достать не сумел. Апрель стоял на дворе, мороз спал. С надеждой распахнули мы двери нашей квартиры на улице Горького — мы надеялись на скорое окончание войны, на освобождение Шуры, на нормальную человеческую жизнь.
Разве могли мы тогда предвидеть, что с победой над гитлеровским фашизмом наступит для нас самый страшный период нашей жизни?
13. «Кроме евреев…»[2]
Дом обживали заново — комнаты казались чужими, вещи случайными. Только старинный шкаф, доставшийся нам от Роров, мягко сиял своим красным деревянным пламенем.
Маркишу шла военно-морская офицерская форма, он казался в ней еще стройнее, еще выше. Кортик он не носил — прятал в стол, от детей. К тому же, у Бориса Лавренева украли кортик в метро — отстегнули от ремня, и Лавренев был посажен под домашний арест за утерю личного оружия. Маркиш не желал сидеть даже под домашним арестом.
Хлопоты, связанные с переездом, нахлынувшие домашние заботы, промозглая московская погода после ташкентского тепла — все это свалило меня. Маркиш пользовался тогда известными привилегиями, и меня — как члена его семьи — положили в Кремлевскую больницу. После голодных военных годов «кремлевка» показалась мне сущим раем. Больные получали там кремлевский паек, кормили замечательно и обильно. Мне было неловко: дети и Маркиш давно забыли, как выглядит ветчина, икра, семга и многое, многое другое. Посещения «кремлевки» разрешены были два раза в неделю, и я ко дню посещения копила еду и передавала Маркишу или маме. Маркиш был растроган и даже немного гордился мной. Как-то он прислал мне шутливое послание:
«Милосерднейшая Эсфирь!
Семья разоренного писателя Переца Маркиша выражает вам благодарность за бесперебойное снабжение продуктами чрезвычайной необходимости, в котором приняли такое непосредственное участие ваша настойчивая любовь и неустойчивые сосуды.
Обещаем вам выменять ваши неустойчивые сосуды на настойчиво-атакующий аппетит.
Благодарная вам за освобождение от забот семья.
Маркиш».
В больнице мы жили как в санатории мирного времени. Но как-то раз воздушная тревога погнала нас в бомбоубежище. Санитары забегали по этажам, успокаивая нервных партийцев и их паникующих жен.
Мы уже разместились в комфортабельном бомбоубежище, когда дверь отворилась и пропустила Литвинова. Я вспомнила мою встречу со знаменитым дипломатом задолго до войны, в связи с делом Стависского. Литвинов выглядел неважно, состарился.
— Здравствуйте, — сказал Литвинов, обращаясь к присутствующим. В ответ на его приветствие отозвалась только я одна.
— Вы что, знакомы с ним? — удивленно спросил мой сосед, секретарь какого-то обкома партии. — Это же Литвинов!
С точки зрения партийного босса ответить на приветствие незнакомого человека было в высшей степени удивительно. Интеллигент Литвинов, как видно ощущал всю глубину пропасти, отделявшей его от начальства «новой формации», — бюрократов, технократов и прочих аппаратчиков.
Как ни приятно было «подкармливать» семью кремлевскими подарками, залеживаться в больнице я не хотела — старшие дети должны были идти в школу, да и по младшему — Давиду — я очень скучала.
Вскоре после того, как я вышла из больницы, Маркиш рассказал мне о случае, который, как я видела, сильно поразил его и потряс.
Маркиш передал в газету «Правда» какое-то свое военное стихотворение. Прошло довольно много времени, а стихотворение так и не появилось в газете. Тогда Маркиш позвонил главному редактору «Правды» Поспелову и спросил его, почему задерживают публикацию. В ответ Поспелов пригласил Маркиша в редакцию для разговора.
После ничего не значащих, обтекаемых фраз Поспелов перешел к делу.
— Печатать в центральном органе коммунистической партии еврейского поэта Переца Маркиша — это уже дело высокой политики, — сказал Поспелов.
Шел 44 год. Маркиша в «Правде» больше не печатали. Сталин, надо полагать, уже запланировал подавление и уничтожение еврейской культуры, расправу над евреями — запланировал то, что не успел завершить другой «вождь рабочих и крестьян» — Гитлер.
Вечер 9 мая 45 года мы с Маркишем встретили в Еврейском театре Михоэлса. Перед началом спектакля на сцену вышел актер Зильберблат. Он сильно волновался, долго держал паузу. Потом вдруг глаза его наполнились слезами, и он прокричал срывающимся голосом:
— Только что передали по радио, что кончилась война! Немцы капитулировали!
Да простит нас драматург той позабытой мною пьесы, но спектакль мы смотрели невнимательно. И актеры играли его кое-как — лишь бы поскорей отыграть, снять грим и костюмы, В зале то и дело возникали разговоры, смех в самых неподходящих местах. После первого акта добрая половина зала опустела — люди сидели в театральном буфете, пили, плакали и смеялись, провозглашали тосты за победу. Будущее казалось теплым и солнечным днем.
Через несколько дней мне неожиданно позвонила Ира Трофименко. Она ехала к Сергею — его армия стояла на Балатоне, в Венгрии. Вскоре Трофименки — Сергей к тому времени стал генералом армии — должны были вернуться в Москву, на парад Победы. Ирина справлялась, как дела, обещала обязательно заглянуть на обратном пути.
А 23 мая позволил сам Сергей Трофименко.
— Я — Трофименко, — сказала телефонная трубка. — Спасибо вам, что Ирину мою в Ташкенте вниманием не обошли. Она мне только о вас и рассказывала, и еще о Михоэлсе Соломоне.
— Ну, что вы… — сказала я, не зная, как говорить со знаменитым генералом. — Мы ведь с Ириной хорошие подруги…
— А у меня к вам просьба, — по-военному перешел прямо к делу Трофименко. — Завтра парад, а потом мы хотим это дело отметить как следует. В ресторане, понимаете сами, чужое все. Ирина говорила — у вас большая квартира. Можно к вам нагрянуть с десятком генералов? Да и ваши друзья, может, не побрезгают с нами за столом посидеть… — пошутил Сергей.
— Конечно, конечно… — сказала я, лихорадочно соображая, где бы достать провизии и вина.
— Значит, порядок, — резюмировал генерал. — С утра к вам завезут продукты, а вечером ждите… Теперь Ирина на очереди — она сама хотела вас просить, да я уж взял инициативу в свои руки.
Назавтра, с утра пораньше, в наши двери застучали ординарцы. Солдаты тащили корзины с немецкими колбасами, итальянскими винами, американской ветчиной и французскими коньяками. Младший мой сын Давид, глядя на этот парад еды, совсем ошалел: он никогда не видел такого изобилия. Особенно его потрясла высокая — с него ростом — бутылка ликера, на дне которой рос какой-то куст.
К вечеру приехали гости — в парадных генеральских мундирах, с плеч по пояс увешанные орденами. То были простые, малообразованные люди, и как все простые люди относились они к писателям с искренним почтением. А к нам пришел Всеволод Иванов с Тамарой, Михоэлс с женой, вдова Алексея Толстого, Людмила. Пришла — памятуя ташкентские времена — невестка Горького Тимоша. Ужин получился шумный, было много съедено, еще больше выпито. Говорили о минувшей войне, генералы вспоминали боевые свои истории, поминали погибших. Я смотрела на Маркиша — он, как всегда, не пил, слушал внимательно. По бегающим желвакам я понимала, что Маркиш нервничает. Я знала, отчего: Маркиш ждал, что кто-нибудь из гостей вспомнит в доме Переца Маркиша о миллионах евреев, убитых войной. Но никто не вспомнил.
Когда тосты иссякли, Маркиш наполнил свой бокал и поднялся.
— Я хочу выпить, — сказал Маркиш, когда наступила тишина, — за то гостеприимство, которое русский народ оказывает моему еврейскому народу.
— Да что вы, Перец Давидович! — после паузы воскликнул генерал авиации Владимир Судец. — О каком гостеприимстве вы говорите! Вы ведь — дома!
Маркиш упрямо покачал головой, повторил:
— Я пью за ваше гостеприимство…
Послевоенное время было почти столь же голодным и неустроенным, как и военное. Были организованы, однако, закрытые распределители продовольственных и промышленных товаров для «избранных» — в зависимости от их положения в советской «табели о рангах». Маркиш — кавалер ордена Ленина — получил «литер А» и право покупать продукты в распределителе, открывшемся в нашем же доме. В нашем распределителе можно было приобрести по талонам, в строго ограниченном количестве, сахар, конфеты, печенье. Там же выдавалось масло, кое-какие мясные продукты. Можно было прикупить кое-что на «черном рынке», но для этого надобны были немалые деньги — а где их взять? С началом войны деньги вкладчиков сберегательных касс были «заморожены», и после войны мы тоже имели право получать в сберкассе только ежемесячную незначительную сумму.
Детей в распределитель или, как его еще называли, лимитный магазин, мы не посылали. Упаси Господи, еще потеряют книжку и останемся всей семьей без продуктов на целый месяц.
Однажды — по недогляду — в «лимитный» отправилась за покупками Ляля с семилетним уже Давидом. Давид увидел в витрине роскошный шоколадный шар, завернутый в серебряную бумагу, перевязанный красной ленточкой, с сюрпризом внутри. Оттащить Давида от витрины не было никакой возможности. Ляля, зажав в кулаке лимитную книжку, выслушивала «аргументы» младшего брата. Давид был по этой части специалист, он уверял Лялю, что сюрприз, заключенный в шаре, покроет стоимость и ценность талонов, потраченных на сам шар… Ляля, одним словом, вняла увещеваниям братишки, и шар был куплен. Целую неделю мы жили без сахара — «сюрприз» съел талоны недельного рациона. В шаре оказалась маленькая фарфоровая фигурка лисенка… Ругать Давида было бесполезно — он, как видно, восторгался не самим шаром, а удачно проведенной «операцией».
Все бытовые заботы, все эти веселые и грустные истории проходили мимо Маркиша. Он снова обосновался в своем почти пустом кабинете — там стоял стол, диван, кресло и несколько книжных шкафов вдоль одной из стен — и работал, как всегда, с утра до обеда. Лена Хохлова, боготворившая хозяина, старалась сделать ему приятное — буквально «отрывая» от необходимых продуктов, пекла ему раз в неделю дрожжевой пирог. Этот пирог, по выработавшейся традиции, помещался на книжный шкаф в кабинете Маркиша и ждал там своей пироговой участи…
* * *
В первой половине дня в комнату Маркиша никто не входил, Маркиша никто не беспокоил. Об этом законе знали и домочадцы, и друзья. Дети — если они были дома — ходили по коридору на носках, и это было в порядке вещей. Культ хозяина не был в доме обременительным… Только один человек — маленький Давид — скребся у двери отца часов в десять утра, дожидаясь наигранно-официального: «Войдите!» Давид входил, здоровался с отцом. Потом говорил:
— Я пришел за «литературным пайком»…
Маркиш подымался из-за стола, снимал пирог со шкафа и отрезал сыну кусок пирога. И выдача «литпайка» также стала в доме традицией, в которой Давид — и не без оснований — усматривал свою привилегию.
Сломив сопротивление Маркиша, не любившего нововведений в доме, я настояла на ремонте квартиры. Мастера на две недели превратили квартиру в сущий ад. Разведя жуткую грязь, они без конца пили водку, шумели. Маркиш был мрачен как туча. Наконец, ремонт был закончен, комнаты светились свежей краской. Через несколько дней после ремонта стена самой большой комнаты — детской, оказалась исчерченной карандашом.
— Кто это сделал? Ты? — спросила я Давида, уверенная, что не ошибаюсь.
Давид не отпирался.
— Я рисовал коня, — сказал Давид, предчувствуя бурю.
Буря состоялась, а потом Давид был надолго поставлен в угол. Туда, жалея мальчика, Лена Хохлова понесла еду. Давид свыкся с новыми условиями и чувствовал себя неплохо. Когда Лена пришла к нему с тарелкой, она застала его с карандашом в руке продолжающим чертить что-то на изуродованной стене.
— Что ты делаешь?! — шепотом воскликнула Лена,
— Хвост коню дорисовываю! — гордо заявил Давид.
Маркиш потом долго рассказывал друзьям об этом случае. Он, мне кажется, ничуть не осуждал сына за такую последовательность. Наша жизнь с Маркишем была теперь другой, чем десять лет назад. Маркиш стал зрелей, теплей к детям и ко мне. В 45 году, летом, мы снимали дачу под Москвой, и Маркиш иногда гулял с детьми. Однажды он ушел на такую прогулку с Давидом и, вернувшись, сказал мне:
— Твой старший сын принесет тебе много радости, он станет мудрым ученым человеком. От младшего радости не жди — он будет писателем…
— Почему? — спросила я. — Откуда ты знаешь?
— Дашка (так Маркиш звал своего младшего) рассказывал мне сейчас что-то о крыльях бабочки…
Маркиш оказался провидцем.
Полтора-два послевоенных года не давали повода к надеждам на положительные перемены. По соседству с немецкими военнопленными сидели советские — те, что попали в немецкий плен во время войны. Выступление Жданова о ленинградской группе писателей и о журнале «Звезда» вызвало замешательство в писательских кругах. Журнал закрыли, расправились с Ахматовой и Зощенко.
Маркиш тем временем заканчивал свою огромную поэму «Война», насчитывавшую 22 тысячи строк. Параллельно с работой над поэмой он писал лирические стихи — прозрачные, задумчивые, мощные своей светлостью. Он успел собрать их в книгу, которая так и не вышла при его жизни.
Маркиш относился к литературе с тем уважением, которым почти всегда отличается отношение большого мастера к своему искусству. Когда речь заходила о литературе, его обычной доброте и жалости к людям наступал конец. В этом случае для него не существовало ни дружбы, ни даже правил приличия. Он бывал откровенен и резок предельно. Понятное дело, люди бездарные этого ему не прощали. Они его обвиняли — в явных, а чаще в тайных доносах — в самом страшном грехе тех времен: в еврейском национализме. Обвиняли даже в том, что «он пишет слишком много». Это, дескать, лишает возможности других — то ли печататься, то ли писать. Маркиш, издав огромную «Войну», отказался от части гонорара в пользу издательства, чтобы помочь приобретению новых печатных машин и шрифтов.
Первый ощутимый антисемитский удар нанес крупный русский писатель Николай Тихонов. В ответ на появление книги Нусинова о Пушкине он опубликовал летом 46 года, в № 1 газеты «Советская культура» статью «В защиту Пушкина». Назвав еврея Нусинова «беспачпортным бродягой», «Иваном, не помнящим родства», Тихонов громил концепции Нусинова о западных предшественниках Пушкина. Тихонов из кожи вон лез, чтобы «защитить» русского Пушкина от западной культуры, а заодно и от еврея Нусинова. Статья носила разнузданный антисемитский характер.
Выступление Жданова было воспринято руководством Союза писателей как призыв к действию — к борьбе с проявлениями какого бы то ни было свободомыслия в литературе и искусстве. Срочно потребовались «козлы отпущения», и найти их проще всего было среди «чужеродных» евреев. Первым таким «козлом отпущения» стал Исаак Нусинов.
После опубликования этой статьи Нусинов написал ответную — «В защиту Истины» где отстаивал свои доводы, изложенные в книге. Статью, однако, печатать отказались наотрез. Творчество великого русского поэта Пушкина не могло стать предметом обсуждения «беспачпортного бродяги» — еврея Нусинова. О Пушкине могли писать только русские…
Нусинов пошел искать защиты к Фадееву — генеральному Секретарю Союза писателей. Фадеев, прочитав статью, обещал помочь — но, как видно, оказался не в силах. Он не обладал властью — только «подвластью».
Нусинов держался долго, но в конце концов сломали и его. На закрытом собрании в Союзе писателей он «раскаялся», обещал исправиться, «признал ошибки». Нусинов хотел жить и понимал, что упорство приведет его в тюрьму. Однако, и «раскаяние» не помогло ему — он был арестован одновременно со всеми своими товарищами в начале 49 года и умер в тюрьме не выдержав мучительных условий «следствия».
Маркиш был на этом закрытом собрании и пришел с него подавленным и мрачным. Он не осуждал Нусинова — он просто скрупулезно разбирался в том, что произошло. И прекрасно понимал, к чему идет дело.
А указание о «борьбе с тлетворным влиянием Запада» работало вовсю. Исполнители соревновались между собой во рвении. В один прекрасный день конфеты «Американский орех» были переименованы в «Южный орех», «французские булки» — в «булки городские», «еврейская колбаса» — в «сухую колбасу». Люди боялись надевать заграничную одежду, читать иностранные книги: за это можно было ждать больших неприятностей, а то и угодить в тюрьму. Начиналась «космополитская» — в действительности антиеврейская — кампания в государственном масштабе.
Эта кампания началась 2 февраля 1949 года (ровно через пять дней после ареста Маркиша) статьей в «Правде» под названием «Об одной антипартийной группе театральных критиков». Статья была без подписи, т. е. шла с самого «верха». Речь шла о нескольких критиках, не желающих признавать великие достижения сегодняшней советской драматургии. Часть критиков носила явно выраженные еврейские фамилии, почти всем остальным, как тогда говорилось, «раскрыли скобки», т. е. рядом со звучавшим вполне по-русски псевдонимом была напечатана подлинная фамилия владельца псевдонима, например: «Яковлев (Хольцман)». Антисемитский тон статьи был не только очевиден, он носил директивный характер и складывался в целую «концепцию»: евреи не могут любить и ценить русскую культуру, самую высокую в мире, источник всех великих открытий в науке и искусстве. Таким образом, антисемитизм сочетался с «теорией» русского приоритета во всех областях знания (все на свете, от колеса до расщепления атомного ядра, изобретено только русскими) и вместе с этой теорией венчал здание шовинистского изоляционизма, которое Сталин начал воздвигать еще во время войны.
После статьи в «Правде» по всей стране, во всех отраслях хозяйства и культуры начались антиеврейские чистки. «Безродных космополитов» (читай: жидов) выгоняли с работы без всякой надежды найти другое, мало-мальски приличное место, многих сажали в тюрьмы. Любопытная деталь: тех, кого обливали помоями и грязью в газетах, за редчайшим исключением, не сажали, и наоборот, о тех, кого сажали или собирались посадить, почти никогда не писали в газетах перед акцией.
Огласку получила громкая история двух супругов-микробиологов — русской Клюевой и еврея Роскина. Они изучали проблему ранней диагностики рака и создали препарат «КР». Сведения о препарате «просочились» на Запад, и западные ученые проявили понятный интерес к работе своих советских коллег. Клюева и Роскин немедля были объявлены чуть ли не шпионами. Столь привычные нам «письма рабочих и колхозников» посыпались в центральную прессу. Корреспонденты проклинали «предателей» и требовали самого сурового наказания для них.
Под угрозой ареста Клюева и Роскин публично «покаялись». И никто не задал тогда себе вопроса: как можно скрывать от человечества какие-либо достижения в области борьбы с самым страшным бичом — смертью?!
А на «деле» Клюева и Роскиной сделал себе карьеру писатель Александр Штейн — тоже, кстати, еврей по происхождению: он быстренько сочинил пьесу «Суд чести». Автор сподобился партийной похвалы, на спектакль гоняли миллионы людей по всей стране. Штейн «вышел в люди» и даже получил Сталинскую премию.
Как только быт кое-как наладился, я решила продолжить мою учебу в аспирантуре. Тема моя называлась «Языковые особенности драм Мольера и его литературного окружения», над этой темой я начала работать еще в ИФЛИ. Но ИФЛИ был расформирован, и я решила отправиться в Главное Управление учебных заведений — выяснить свои перспективы. Друзья говорили мне, что неизбежно возникнут сложности с продолжением моей работы, что евреев в аспирантуру почти не берут — но я, не сталкивавшаяся еще с такого рода антисемитизмом, не верила им.
Меня принял в своем кабинете заместитель начальника Главного Управления — Гусев. С порога бросилось мне в глаза, что все зубы Гусева были отлиты из нержавеющей стали — рот его сверкал как столовый прибор.
Гусев бегло просмотрел мои документы. Моя фамилия — Лазебникова — была похожа на русскую, а вот имя привлекло внимание начальника — он несколько раз, словно бы с сомнением, повторил его вслух.
Выслушав мое дело, Гусев усмехнулся, показав железо своих челюстей.
— Ну, кому это нужно — Мольер? — сказал Гусев. — Кому это интересно? Занялись бы вы, скажем, великим русским драматургом и ученым Иваном Фонвизиным!
Предлагать мне, выпускнице романо-германского отделения филологического факультета, работу над Фонвизином — это было либо издевательством, либо дремучей неграмотностью.
Огорченная, вернулась я домой. В тот вечер к нам в гости пришел крупный ученый-литературовед Николай Гудзий — в прошлом он заведовал кафедрой русской литературы ИФЛИ, теперь — возглавлял ту же кафедру в Московском университете.
Выслушав мой рассказ о посещении Гусева, Гудзий сказал:
— Вам придется забыть об аспирантуре. Евреев приказано не брать. Я русский человек, и мне стыдно говорить вам об этом.
Маркиш молчал, слушая Гудзия — только желваки нервно бегали на щеках.
— Это продолжение моего разговора с Поспеловым, — сказал Маркиш, когда Гудзий ушел. — Государственная политика…
Маркиш становился все более замкнут, работал все больше — словно бы спешил, спешил… Поэма «Война», большой — в 1000 страниц — роман «Поступь поколений», книга лирики — все это появилось уже после войны. Маркиш с каким-то внутренним облегчением относился к тому, что его постепенно «отодвигали» от общественных еврейских дел. «Отодвигал» его человек, которого Маркиш терпеть не мог за интриганство, за склочничество, за наигранный, дешевый догматизм — еврейский поэт Ицик Фефер.
Фефер обосновался в Москве после войны — переехал из Киева, привезя с собой несколько «своих людей». Маркиш не способствовал расколу еврейских писателей на «маркишистов» и «феферистов» — однако, такой раскол произошел.
«Непорочный» Фефер (в отличие от большинства еврейских писателей, он не был в послереволюционной эмиграции), интригуя и не брезгуя доносами, уверенно двигался вверх. Ему помогал в этом Шахно Эпштейн, ответственный секретарь еврейского Антифашистского комитета, в котором Фефер занимал пост «комиссара» — заместителя Председателя. Первой «пробой сил» явилась для Фефера поездка в Америку во время войны. Первоначально должны были ехать Михоэлс с Маркишем, как представители еврейского Антифашистского комитета — но потом решение было изменено в пользу «железного партийца» Фефера.
Не в силах противостоять Маркишу в поэзии, Фефер продолжает чинить мелкие неприятности. Маркиш, заведовавший отделом радиовещания на идиш, взял как-то на работу несчастного человека, еврейского писателя из Минска Кацовича. В панике и суматохе эвакуации Кацович потерял — в буквальном смысле этого слова — двоих своих детей и так и не сумел никогда разыскать их. Кацович работал прилежно, хотя и без особого блеска. Раз в неделю приходил он к Маркишу по радиоделам. Однажды — Маркиш был болен тогда, у него был часто повторяющийся горловой нарыв — Кацович пришел к нему. Маркиш не мог говорить — писал на бумаге то, что хотел сказать. Гость, как видно, испытывал неловкость, держался скованно.
— Знаете, Маркиш, — сказал, наконец, Кацович, — я ведь пришел принять от вас дела. Я назначен на ваше место…
Здесь, пожалуй, стоит остановиться на организованной вскоре после начала войны редакции радиопередач на языке идиш. Передачи эти транслировались на коротких волнах и были предназначены для еврейских слушателей в США. Передачи носили информационно-пропагандистский характер и имели своей целью познакомить западных евреев с положением в России — через еврейский национальный сантимент… В Москве хорошо отдавали себе отчет в том, что означает в США вес и положение еврейской общины, и по мере сил желали заручиться помощью этой общины. В основе деятельности Еврейского радио в тот период, когда им руководил Маркиш, лежала совместная борьба с фашизмом. К работе в редакции Маркиш привлек несколько еврейских писателей — Давида Вендрова, Самуила Галкина.
Вслед за смещением Маркиша работа редакции приняла более политизированный характер. После войны, вместе с разгромом еврейской культуры, было закрыто и еврейское радио, и многие его сотрудники арестованы.
Однажды — это было на каком-то собрании — Маркиш, отвечая Феферу, сказал, что неверно и неправильно дробить еврейский народ на «польский еврейский народ», «русский еврейский народ» и т. д. Есть единый еврейский народ, живущий в нашем мире… Такая формулировка была в ту пору и «подозрительна» и «опасна»: война осталась позади, еврейская солидарности в борьбе с фашизмом уже начинала превращаться — в глазах властей — в «заговор сионских мудрецов», «орудие империализма» и тому подобное.
Отношения между Маркишем и группой Фефера становились все более напряженными. Однажды Маркиша срочно пригласил к себе Александр Фадеев. Маркиша связывали с Фадеевым отношения обоюдной симпатии — но Маркиш не стремился к дружбе с «всесильным» руководителем Союза писателей, как вообще не стремился к общению с «сильными мира сего». Фадеев сказал, что на Маркиша написан донос в ЦК. В доносе Маркиш обвинялся в сионизме и еврейском буржуазном национализме, что особо отчетливо проявилось, по словам доносчиков, в главе «Разговор с сатаной» из поэмы «Война». Донос переслали в Союз писателей с указанием изучить главу и представить рекомендации в ЦК. Маркиш было только рукой махнул — мол, очередная чепуха! — но Фадеев заметил, что дело серьезное и что донос подписан X. и У. — людьми, с мнением которых в ЦК считаются.
Придя домой от Фадеева, Маркиш просил меня сесть за русскую машинку. Нервно ходя по комнате из угла в угол, он начал диктовать мне подстрочный перевод главы «Разговор с сатаной». Речь в главе шла о миллионах погибших во время войны евреев, о грядущих путях еврейского народа.
Подстрочник Маркиш передал Фадееву, и тот «отстоял» главу в ЦК. Она была напечатана по-еврейски. (Кстати сказать, по-русски эта глава — а с ней еще несколько — так и не увидела света, даже после посмертной реабилитации Маркиша: переведенная на русский язык Давидом Маркишем, она была выброшена цензурой из посмертных изданий Маркиша по тем же причинам, на которые ссылались доносчики). В то же, примерно, время — в конце 47-го года — группа ведущих еврейских общественных деятелей во главе с Михоэлсом и Фефером была приглашена для беседы к Молотову и Кагановичу. Маркиш не был в числе приглашенных, и о совещании узнал на Президиуме еврейского антифашистского комитета, членом которого оставался. Речь на совещании «в верхах» шла о будущем Биробиджана. Идея создания «еврейской автономной области» с треском рухнула, и власти собирались подновить ее. Каганович и Молотов предложили Еврейскому антифашистскому комитету составить письмо на имя Сталина с просьбой передать Крым для образования Еврейской республики. Письмо было составлено, и Маркишу предложили его подписать.
Маркиш отказался в самой резкой и категорической форме, Он мотивировал свой отказ правом татар на Крым и видел в самом предложении грубую и открытую провокацию.
Он составил другое письмо, в котором предлагал передать евреям земли бывшей республики немцев Поволжья с центром в городе Энгельс. Такой акт, писал Маркиш, явился бы актом «величайшей исторической справедливости» — после всего того, что немецкий народ причинил еврейскому народу.
Письмо Маркиша не было поддержано — никто не смел выступить против предложения Молотова и Кагановича. Маркиш, однако, остался при своем мнении и не уступил.
Как-то Маркиш пришел с очередного заседания Антифашистского комитета грустней и подавленней обычного. Ему стало известно о том, что тысячи евреев, уцелевших в войне, пишут в Комитет письма с просьбой помочь уехать в Палестину, И все эти письма немедленно пересылались в Министерство государственной безопасности. Маркиш был уверен, что эта инициатива исходила от Фефера.
После этого случая Маркиш перестал бывать на заседаниях Президиума еврейского антифашистского комитета. Он избегал общения с людьми, занимавшимися «культурной политикой». Дело дошло даже до того, что он отказался принять участие в вечере по случаю юбилея Шолом-Алейхема — вечер проводился Антифашистским комитетом в помещении Колонного зала Дома Союзов и носил явно пропагандистский характер. В последний момент я все же уговорила Маркиша пойти — его отсутствие в Президиуме было бы воспринято как вызов и, несомненно, грозило неприятностями. Пешком дошли мы с Маркишем до входа в Колонный зал — и тут Маркиш остановился:
— Не могу! Не пойду… Там вся эта компания…
И мы вернулись домой.
13 января 48 года все распри были пресечены: погиб Михоэлс, начался разгром еврейской культуры, предпринята была попытка раз и навсегда «разрешить еврейский вопрос».
2 января 48-го нам позвонили из Минска Трофименки — Сергей командовал в то время Белорусским военным округом. Трофименки поздравляли с Новым годом, звали в гости. Мы знали, что Михоэлс собирается ехать в Минск — смотреть спектакли для выдвижения на Сталинскую премию. И мы решили поехать в Минск вместе с Михоэлсом.
Билеты были уже куплены, и буквально за несколько часов до отъезда Маркиш вынужден был отказаться от поездки: необходимо было вычитать корректуру книги.
Я расстроилась, жалела, что сорвалась поездка. С Михоэлсом в Минск поехал театральный критик Голубов — также по делу Сталинских премий.
13 января я вела урок французского языка в театральной студии Еврейского театра — там я работала с 1943 года по возвращении из эвакуации. Вдруг дверь открылась, в класс стремительно вошел заведующий учебной частью Студии.
— Вас срочно вызывают в дирекцию!
«Что-нибудь случилось с детьми!» — лихорадочно думала я по дороге в кабинет директора — Моисея Беленького.
Беленький сидел за столом — растрепанный, страшный, серый как замазка.
— Что случилось? — закричала я, понимая, что произошло что-то катастрофическое.
— Погиб Старик, — сказал Беленький. — Попал под машину. Подробностей нет…
В студии были прерваны занятия, студентов и педагогов отпустили по домам. Не успела я придти домой, как зазвучал прерывистый зуммер междугороднего телефонного вызова. Звонила из Минска Ирина Трофименко.
— Все правда, — сказала Ирина. — Михоэлс погиб.
Назавтра мы с Маркишем пришли на Белорусский вокзал — встречать Старика. Из вагона вынесли два цинковых гроба — Михоэлса и Голубова, которого «убрали» заодно с Михоэлсом как ненужного свидетеля.
Труп Михоэлса отвезли в Еврейский театр — доступ к телу должен был начаться в 12 дня. Толпы людей, пришедших проститься с великим актером, с самого утра осаждали театр.
Мы с Маркишем ждали в фойе. Уже после двенадцати Маркиш стремительно взбежал по лестнице в зал, где профессор Збарский, бальзамировавший когда-то Ленина, что-то делал с Михоэлсом.
Малое время спустя Маркиш вернулся в фойе. Он был бел как снег.
— Не подымайся туда! — Маркиш указал на закрытую дверь зала. — Ничего общего со Стариком!
И после паузы: — Теперь мне и поссориться по-настоящему не с кем…
До пяти часов вечера Збарский «чинил» разбитую голову Михоэлса, стараясь придать ей человеческий вид. В пять толпы с улицы хлынули в театр и затопили его.
— Найди мне какую-нибудь комнату, — тихо попросил меня Маркиш, — и никого туда не пускай.
Мы спустились за сцену, открыли чью-то гримерную. Потом я вышла.
Там, в гримерной, под аккомпанемент шагов тысяч и тысяч ног, Маркиш написал первые четверостишия стихотворения «Михоэлсу — вечный светильник» — строки, пророчески предопределившие его собственную судьбу:
Сочащаяся кровь — вот самый верный грим. Ты и по смерти жив, и звезды ярче блещут, Гордясь последним выступлением твоим, И в дымке заревой лучами рукоплещут. Какой-нибудь из них, светящей сквозь туман, Ты боль свою отдашь, и гнев, и человечность. Пред ликом Вечности ни страшных этих ран, Ни муки не стыдись. Пускай Стыдится Вечность!Хоронить Михоэлса разрешено было пышно: пел Козловский, играла на рояле Юдина.
Вскоре в Москву приехала Ирина Трофименко, пришла ко мне и рассказала вот что: назавтра после гибели Михоэлса Ирина повела детей в музыкальную школу. В середине урока в класс вошел Сергей Трофименко, вызвал жену в коридор.
— Убили Михоэлса! — сказал Сергей. — Езжай домой, дай телеграмму в Москву, жене Соломона Михайловича!
Вслед за тем Сергей вернулся в штаб, а Ирина с детьми — домой. Не успела она закончить текст телеграммы, как позвонил Сергей.
— Телеграмму еще не отправила? — спросил Сергей. — Не отправляй!
Приехав обедать, Сергей объяснил: позвонили из ЦК, телеграмму отправлять «категорически не рекомендовали».
В 1956 году, уже после моего возвращения из ссылки, я снова встретилась с Ириной Трофименко. Сергей к тому времени умер, Ирина вдовствовала. В доме Ирины собрались в тот вечер бывшие сослуживцы Сергея, среди них — высокопоставленный генерал, служивший под началом Трофименко в Минске. Он рассказал мне, почему фактически запретили Трофименко посылать вдове Михоэлса телеграмму соболезнования:
— В КГБ прекрасно знали, что Трофименко дружен с Михоэлсом. Знали, что последний день Михоэлс провел у Сергея, а оттуда пошел на спектакль, после которого был убит. Знали, что убийство организовал министр госбезопасности Белоруссии грузин Цанава по приказу Берия, по поручению Сталина. Не знали только, как будут официально реагировать на убийство «наверху», а потому не советовали командующему округом спешить с телеграммой.
— Но откуда они узнали, что он хочет послать телеграмму? — спросила я.
Генерал усмехнулся:
— А вы бы хотели, чтобы шофер командующего округом не передавал каждое его слово в КГБ? Сергей, наверняка, сказал, Ирине об этой телеграмме в присутствии шофера…
Часть вторая
14. Арест
Последнее лето с Маркишем я прожила под Москвой, на даче в Ильинке. Шел 1948 год. Мы снимали первый этаж дома, на втором этаже жил Дер Нистер с женой. Нистер — человек молчаливый, замкнутый — словно бы раскрылся в это лето. Подолгу просиживали они с Маркишем перед закатом и говорили, говорили… Невеселыми были их разговоры. Как Маркиш так и Нистер не строили иллюзий по поводу будущего еврейской культуры и самого еврейства в Советском Союзе. Гигантская страна вступала в эпоху «послевоенного антисемитизма», имеющего свои отличительные особенности и приметы. Создавались искусственные барьеры для еврейских юношей и девушек при поступлении в высшие учебные заведения. Вновь обозначалась традиционная для России тенденция сваливать все внутригосударственные неурядицы на евреев: недостаток продовольствия и товаров широкого потребления, потогонную систему на промышленных предприятиях, мизерную оплату труда, полное и абсолютное гражданское бесправие. Государство не принимало никаких мер для пресечения этой опасной тенденции, и эта апатия государства, в свою очередь, подогревала антисемитские страсти.
Наш старший сын Симон закончил тем временем среднюю общеобразовательную школу с медалью. Он решил держать экзамены на поступление в Университет, на романо-германское отделение филологического факультета. Это была рискованная затея: каждому было известно, что поступить в Университет для еврея — дело почти безнадежное. И Симон попросил отца «заступиться» — поговорить с Фадеевым о том, чтобы его, Симона, не «резали», а дали бы ему равные шансы с русскими абитуриентами. Маркиш выслушал сына серьезно, потом сказал:
— Ты, сын еврейского писателя, просишь, чтобы я помог тебе, еврею — а другие чтоб обошлись без помощи… Я не стану этого делать. Ты должен разделить участь других евреев.
Симон сдал экзамены с блеском, поразившим университетских профессоров — но на прием не рассчитывал. В ожидании решения Приемной комиссии он жил с нами на даче. И вдруг почтальон принес телеграмму от Нусинова — он работал тогда в МГУ. Телеграмма была адресована «Студенту Московского государственного Университета Симону Маркишу…» Симон был принят.
Ляля к тому времени уже год как жила в Киеве. Ее мать, Зинаиду Борисовну, освободили прошлой весной. Она приехала из Потьмы к нам в Москву — повидаться с дочерью, посоветоваться. Жить в крупных городах ей было запрещено, и она решила поселиться в окрестностях Харькова, в поселке. Она хотела, чтобы Ляля, заканчивавшая школу и проявлявшая склонность к рисованию, поступила в художественный харьковский техникум. В конце лета Ляля уехала к матери и поступила в техникум. А после первого семестра ей удалось перевестись в Киев, в Художественный институт.
Маркиш с дачи в город почти не ездил. Он закончил работу над романом «Поступь поколений» (по первоначальному замыслу, роман должен был называться «Еврей») и книгой лирических стихов, и сдал рукописи в еврейское издательство «Дэр Эмес». Он был сильно утомлен, заметно постарел за один этот страшный год. Я настаивала на том, чтобы он поехал отдохнуть в санаторий, в Кисловодск. Маркиш не хотел — но я все же добилась своего и проводила Маркиша на курорт. Он уехал, как всегда, с портфелем в одной руке и с пишущей машинкой — в другой.
Он был в Кисловодске, когда власти закрыли издательство «Дэр Эмес». Вот как это произошло.
В этот день — 17 ноября — сотрудники, как всегда, пришли утром на работу в старенький домик в Старопанском переулке. С мягким, низким гулом работали новые линотипы, купленные частично на деньги, подаренные Маркишем. Главный редактор Моисей Беленький проводил совещание с директором издательства Стронгиным… И вдруг — как в кинофильмах о гитлеровских временах — подъехали к издательству грузовики с эмгебешниками. Солдаты в штатском ворвались в типографию и отключили машины. Типография стала, наступила тишина.
— Ваше издательство закрыто! — объявил кто-то из погромщиков.
Вслед за тем они поднялись на второй этаж, разогнали редакторов, приказали Стронгину и Беленькому подготовить «ликвидационный акт».
Маркиш узнал обо всем этом после возвращения из Кисловодска. Шепотом проклиная Сталина и всю его банду, Беленький рассказал Маркишу о всех деталях разгрома издательства. Стронгин вернул Маркишу рукописи романа и книги стихов — он спас их, они подлежали конфискации.
С закрытием издательства у Маркиша не осталось никаких надежд. Он понимал, что наступает конец — дело было только во времени: в днях или, в лучшем случае, в месяцах.
Из Кисловодска Маркиш привез несколько новых стихов — спокойная, созерцательная лирика. Теперь, после приезда, он почти не работал над новыми вещами — разбирал архив, перечитывал, не правя, пожелтевшие листки рукописей.
Как-то Маркиш показал мне длинные, узкие листки бумаги, исписанные от руки.
— Это — «Сорокалетний», — сказал Маркиш. — Лучшее из того, что я сделал.
Маркиш никогда до тех пор не говорил мне ничего о «Сорокалетнем» и не публиковал из него ни строчки.
— Я начал это писать в начале двадцатых годов — Маркиш с любовью встряхнул листочки и отложил их в сторону.
Вскоре Маркиш написал последнее свое стихотворение — пронзительное, провидческое:
Сколько жить на свете белом До печального предела, Сколько нам гореть дано!.. Наливай в бокал вино! Запрокинем к звездам лица — Пусть заветное свершится!Декабрь 48-го прошел словно бы в предгрозье. Люди боялись общаться друг с другом, боялись говорить. Еврейский театр гастролировал в Ленинграде. Зускин — после убийства Михоэлса он стал художественным руководителем — лежал в больнице: его лечили сном, он спал уже несколько недель. В Москве, в театре, осталось лишь несколько актеров и кое-кто из администрации.
22 или 23 декабря в театр вдруг приехал Фефер. Он был не один — с ним вошел в театр самый страшный после Сталина человек в России: министр государственной безопасности Абакумов. Вместе прошли они в бывший кабинет Михоэлса — там был оборудован временный музей. Закрывшись в комнате Фефер и Абакумов что-то делали там, что-то искали, перебирали бумаги и документы… Что ж, министр госбезопасности не обязан был уметь читать по-еврейски. И неважно, что искал и что делал Абакумов в кабинете Михоэлса — важно, что делал он это вместе с Ициком Фефером.
В ночь с 24-го на 25-е декабря первым был арестован в своей московской квартире Ицик Фефер. В ту же ночь забрали Зускина — из больницы, спящего, завернутого в одеяло. Проснуться ему было суждено на Лубянке.
Задолго до 31-го мы согласились встречать Новый Год под Москвой у маршала связи Ивана Пересыпкина и его жены Розы. Сидеть дома в эту ночь и ждать чужого стука в дверь, вздрагивать от хлопанья двери лифта мы не хотели, и решили ехать на Пересыпкинскую дачу. В пять часов дня Пересыпкин позвонил, сказал:
— Машина будет ждать вас у вашего подъезда в двадцать ноль-ноль.
Мы поехали.
Розу Пересыпкину привел в наш дом вскоре после войны бывший редактор газеты «Известия» Селих. Он позвонил тогда Маркишу, сказал:
— Маркиш, одна женщина умоляет вас посмотреть ее стихи. Сделайте это, прошу вас!
Через час Селих приехал с молодой женщиной, немного полной, красивой типичной еврейской медленной красотой, с прозрачными синими глазами.
— Жена маршала связи Пересыпкина! — представил Селих.
— Вы больше похожи на ребецн, чем на жену маршала! — сказал Маркиш.
— Я из Проскурова… — объяснила Роза.
Розины стихи Маркиш разгромил — камня на камне не оставил. Но Роза не особенно расстроилась — она, как видно, не очень-то рассчитывала на свое поэтическое дарование, а просто хотела познакомиться со знаменитым Маркишем. Мы подружились с Розой — она сумела сохранить свое еврейство в высших сферах советской военно-правительственной верхушки. Что касается ее мужа, маршала Ивана Пересыпкина — то был честный и смелый человек, не зараженный бациллой антисемитизма.
Вскоре после Гражданской войны кавалерийский полк, в котором служил рядовой Ваня Пересыпкин, расквартировался в еврейском городке Проскурове. Именно там Ваня повстречал Рейзл — и понял, что это его судьба. Рейзл поняла то же самое и объявила об этом своим родителям. Еще она заявила, что намерена уехать с Ваней и стать его женой. Узнав об этом, религиозный отец Розы проклял дочку, пожелавшую стать женой «гоя». Проклятая взгромоздилась на седло к своему Ване, и они уехали прочь из еврейского городка Проскуров.
Безукоризненный выходец из рабоче-крестьянских низов Ваня Пересыпкин быстро шел в гору. С еврейской женой он жил хорошо и дружно, и с течением времени Розин отец, скрепя сердце, снял с дочери проклятье и признал ее мужа. В первые дни войны, когда немцы подошли к Проскурову, Пересыпкин прислал за родителями своей жены самолет — и старики были спасены.
— Наш Ванечка! — говорила впоследствии мать Розы. — Это же золотой гой! Он нас прямо-таки вынимал из гроба!
И Маршала Пересыпкина ничуть не смущал и не шокировал «местечковый» вид стариков и их еврейский акцент, вызывавший издевательства и насмешки подонков.
Мать Розы умерла в Москве и там была похоронена. Вернувшись с кладбища, вдовец надорвал одежды и, повинуясь еврейскому религиозному закону, опустился на пол в одной из комнат роскошной маршальской квартиры. Разделяя горе тестя, Пересыпкин налил две рюмки водки и пошел к старику. Старик от водки отказался, отказался покинуть свое место и сесть за русский поминальный стол.
— Ну, что ж, папаша, — сказал Маршал. — Раз нельзя — значит, нельзя… Тогда я с вами тут, на полу, немного посижу… — и сел рядом со стариком.
Как-то раз, еще до убийства Михоэлса, Роза приехала к нам и сказала мне, отозвав в сторонку, шепотом:
— Умоляю вас, будьте осторожны! Не встречайтесь с иностранцами!
— Что случилось? — спросила я.
— Я не могу тебе объяснить — но я знаю, что говорю! Наступают трудные времена!
Дача Пересыпкина была расположена в «правительственной зоне» Подмосковья — на Николиной горе. Как только мы приехали, я отозвала Розу:
— Ночью арестовали Зускина и Фефера!
— О Боже! — воскликнула Роза. — Только не говори Ване!
Но я уверена, что — скажи я об этом Ивану — он бы не испугался.
Гости Пересыпкина — в основном люди военные — отмечали Новый год бурно. Много пили. Маркиш, по своему обыкновению, не пил ничего.
— С тобой поговоришь — на голову выше становишься! — говорил Пересыпкин Маркишу. — Вот только обидно — не пьешь ты…
Домой мы вернулись на рассвете. На нашей лестничной площадке, у окна, стояли два агента МГБ.
Эти стояли у дверей квартиры, другие ходили за Маркишем по пятам. Числа десятого января мы с Маркишем пошли посмотреть кинохронику — «сопровождающие» сели в зале по обе стороны от нас.
В середине января Маркиш в последний раз пошел в Союз писателей — там переизбирали Правление. Бориса Горбатова, баллотировавшегося в Правление, не оказалось на собрании. Кто-то в Президиуме поднялся, прочитал письмо Горбатова. В письме Горбатов просил снять его кандидатуру: он считал себя недостойным в связи с тем, что за сутки до выборов была арестована его жена — популярная киноактриса Татьяна Окуневская.
19-го утром нам позвонили по телефону:
— Заболел Нусинов…
По телефону боялись говорить — «арестован», говорили — «заболел». Весь день девятнадцатого нам звонили знакомые и незнакомые, спрашивали — здоров ли Маркиш?
23-го утром мы хоронили поэта Михаила Голодного, сбитого — или убитого? — правительственной машиной на одной из московских улиц.
В ночь с 23-го на 24-е арестовали Давида Бергельсона, Лейба Квитко, Моисея Беленького. Надежды не осталось никакой. Маркиш попросил Симона упаковать рукописи романа «Поступь поколений», последней книги стихов и «Сорокалетнего». Симон упаковал, написал на папках — «Мой архив».
Я заболела и слегла в постель. В доме не готовили обед, не убирали.
27 января вечером Маркиш забрал у Симона папки с рукописями и переложил в свой стол. Потом спросил у меня, где его дорожный портфель. Я показала, где. Маркиш, освободив портфель от случайных вещей, аккуратно поместил туда папки с рукописями.
— «Сорокалетний» — лучшая моя вещь, — повторил Маркиш. — Я хочу, чтобы вы сохранили ее.
Часов около девяти к нам пришла одна из двоюродных сестер моей мамы. Я осталась лежать в постели в кабинете Маркиша, а Маркиш с мамой и ее сестрой пошли на кухню выпить чаю. Я чувствовала себя неважно — то дремала, то просыпалась: с тех пор, как у нашей двери стояли топтуны, мы не могли заснуть по ночам.
Без нескольких минут двенадцать мамина сестра вошла с Маркишем в кабинет, и Маркиш молча передал ей портфель с рукописями. Приняв портфель, она немедленно вышла из квартиры на лестницу. Лифт был занят, мамина сестра не стала дожидаться его, и пошла вниз пешком. Не успела она миновать первый пролет, как лифт остановился на нашем этаже.
Звонок наш не работал уже несколько недель, и никому из нас не приходило в голову вызвать мастера и починить звонок. При нажатии на кнопку звонок издавал лишь еле слышное верещанье. Маркиш, проводив мамину сестру до дверей, вернулся на кухню. Там не было слышно слабого звонка — и я одна услышала его, но не нашла в себе сил подняться или сказать Маркишу, что звонят. Тогда в дверь заколотили кулаками.
Дверь открыл Маркиш. Я услышала в коридоре шарканье ног нескольких людей. И, спустя миг, Маркиш вошел в кабинет — уже в пальто, в шляпе, в кашне, переброшенном через плечо. Вслед за ним вошло семь офицеров, одетых поверх военных костюмов в штатские пальто с серыми каракулевыми воротниками, в шапках-ушанках, отороченных серым каракулем. Любой советский гражданин прекрасно знал эти пальто и шапки — это была партикулярная униформа МГБ.
Увидев их за спиной Маркиша, я вскрикнула.
— Ну, что вы! — сказал один из офицеров. — Вашего мужа наш министр вызывает на собеседование.
Маркиш заглянул в комнату спящего маленького Давида и вернулся в коридор. Там бросился к нему старший — Симон. Я тоже поднялась с кровати, выбежала.
— Тихо, тихо!.. — сказал кто-то из офицеров. — Чтоб вам не было страшно, с вами посидит один из наших людей… Муж скоро вернется!
К Маркишу с плачем бросилась наша верная Лена Хохлова, но ее отстранили. Шестеро вышли вместе с Маркишем, седьмой остался с нами. Он молча сел в кабинете и сидел, не произнося ни слова. Потом сказал:
— Пускай все соберутся в этой комнате.
— Младший ребенок спит, — сказала я.
— Ладно, не трогайте его, — сказал надзиратель. — Пускай спит.
Часа через три хлопнула дверь лифта на нашей площадке, и часто и громко заколотили кулаками. Теперь пришли четверо эмгебешников — все новые.
Эти уже не успокаивали, не извинялись за беспокойство. Эти предъявили ордер на арест Маркиша и на обыск. Потом они тщательно, плотно запахнули шторы — чтобы с улицы не видно было, что в квартире не спят.
Теперь можно сопоставить кое-какие факты, поддающиеся, возможно, объяснению. Никто из «подельников» Маркиша, кроме Лины Штерн, не был арестован таким странным образом: вызван, якобы, на собеседование к министру. Маркиша забрали без нескольких минут двенадцать 27 января — а ордер был предъявлен три часа спустя и подписан двадцать восьмым. И, наконец, Маркиш — единственный, кому не велено было снять и оставить дома поясной ремень и галстук.
Обыскная бригада, возглавляемая подполковником, начала с книжных шкафов. Книги были вывалены на пол, каждая из книг внимательно осмотрена — вплоть до пролистывания страниц. Потом взялись за домашние вещи: каждый предмет тщательно прощупывался, простукивался или подпарывался. Один из бригады — молодой еще человек — особенно усердствовал: он выкручивал лампочки из патронов, разбирал на части настольные лампы, в кухне заглядывал в чайники и кастрюли.
Утром проснулся маленький Давид, которому не так давно исполнилось 10 лет, увидел чужих людей в военной форме, ни о чем не спросил.
Вскоре начались телефонные звонки. Нам запрещено было подходить к телефону — трубку снимал подполковник, отвечал:
— Его нет, — или
— Ее нет…
К полудню неразобранным остался только архив Маркиша. Подполковник отпустил двоих своих людей, остался с помощником. В квартире все было перевернуто вверх дном. Подполковник, переходя из комнаты в комнату, словно бы продолжал что-то искать. Наконец, он обнаружил в ванной комнате, на антресолях, чемодан с бумагами. Там лежали материалы 1-го съезда писателей. Обнаружив текст доклада Радека, подполковник обрадовался, оживился. Этот доклад он отложил в сторону — вместе с фрагментами стихотворения «Михоэлсу — вечный светильник» в переводе Бориса Пастернака и копией письма Маркиша по поводу передачи евреям бывшей республики немцев Поволжья. Эти три документа были упакованы отдельно от других.
Большое недоумение подполковника вызвал сценарий Маркиша, по которому еще до войны был поставлен кинофильм.
— Это что? — спросил подполковник. — Пьеса?
— Киносценарий, — сказала я.
— Что это значит? — спросил подполковник.
Я пожала плечами — мой ответ был достаточно ясен.
— Так как же записать-то? — продолжал подполковник настойчиво.
— Повесть для кино, — попыталась я объяснить.
— Можно и так…
Тогда подполковник придвинул к себе акт изъятия, записал, пыхтя от напряжения: «Киноповисть».
Время от времени подполковник звонил по телефону какому-то своему начальству, докладывал, что «все в порядке».
В течение дня к нам пришли несколько знакомых людей, приятелей. Все они были впущены в квартиру и задержаны там до двенадцати ночи, когда обыск был, наконец, закончен. Документы задержанных, естественно, проверялись и данные заносились в протокол. Такая система задержаний на языке МГБ называлась, как мне помнится, «мышеловка».
К вечеру подполковник объявил мне, что три комнаты из четырех будут опечатаны и что я могу перенести в четвертую постели: все остальное опечатывается.
— Я отказываюсь, — сказала я. — Оставьте нам две комнаты — ведь семья…
Подполковник позвонил начальству, доложил:
— Я хочу три комнаты опечатать, а она протестует, просит две.
Начальник, видно, разрешил оставить две комнаты, и подполковник с помощником стал переносить в две крайние комнаты папки с архивными бумагами и книги. Закончив это дело, он запер двери ключом и опечатал.
— Если печати будут нарушены, — предупредил подполковник, — вы будете осуждены на срок не менее десяти лет.
После этого помощник подполковника сходил за «понятыми» — управдомом и дворником, и в их присутствии был подписан протокол обыска и изъятий.
Я к этому времени совсем сдала, у меня начался нервный приступ. Моя мама попросила подполковника, чтобы он разрешил вызвать врача. Подполковник запретил, ухмыляясь.
В двенадцать ночи — сутки спустя после того, как увели Маркиша — обыск был закончен. Подполковник с помощником ушли, унося с собой часть бумаг — в частности, доклад Радека, стихи Маркиша о Михоэлсе и копию письма о республике немцев Поволжья.
Около часа ночи разошлись задержанные в «мышеловке» люди. Мы остались одни: дети, моя мама и я. После обыска в доме царил разгром. Не стеля постелей, не раздеваясь мы легли спать. Впервые за много времени я спала как убитая: кончилось смертельное ожидание ареста Маркиша. Случилось то, что — все мы это знали, и сам Маркиш — должно было случиться.
Ранним утром зазвонил телефон. Звонила Роза Пересыпкина. К телефону подошел Сима.
— Сима, — сказала Роза, — папа дома?
— Нет, папы нет, но мама здесь… — сказал Сима.
— Понятно… — сказала Роза и положила трубку.
Я не разговаривала и не встречалась с Розой Пересыпкиной вплоть до нашего возвращения из ссылки. Я не в обиде на нее: многие наши «друзья» после ареста Маркиша поспешили сжечь его книги, а маршал Пересыпкин сохранил эти книги с надписью Маркиша. Звонок Розы разбудил всех нас — но мы продолжали лежать: не хотелось вставать, не хотелось чем-либо заниматься, что-либо делать в этой новой жизни.
— Мама, — сказала я, — мама, давай откроем газ, давай все отравимся.
Не успела мне мама ответить, как к моей кровати подбежал маленький Давид. Лицо его было бело как мел.
— Мама! — сказал Давид. — Я жить хочу!
— Ты слышала? — спросила моя мама. — Вот тебе ответ!
Днем стали приползать к нам слухи, распространившиеся по дому — их авторами был либо управдом, либо дворничиха, либо просто охочие почесать языки люди. По слухам выходило, что Маркиш — крупный американский шпион, что при обыске у нас обнаружили целый мешок долларов и замурованную в стене радиостанцию. Такие же слухи ходили, когда — несколькими месяцами раньше — арестовали другого жильца нашего дома, летчика-испытателя Фариха. Всегда в те времена после ареста какого-либо человека говорили, что он — американский шпион, и что у него нашли мешок долларов.
Денег у нас почти не было — кроме той суммы, что лежала на счету Маркиша в сберегательной кассе и которую он перевел на мое имя накануне ареста. Значительные деньги находились на счету Маркиша в Управлении авторских прав — но этот счет был арестован. Те же деньги, что остались, я решила не трогать — они могли пригодиться для передач Маркишу, для поездок к нему, если он будет сослан в лагерь.
Добрых людей, которые решились бы помочь нам, не нашлось. Сосед наш, живший этажом выше в бывшей квартире Алексея Толстого — кавалерийский генерал, лебезивший перед «знаменитым Маркишем», когда тот после неоднократных просьб изредка заходил к нему, перепугался чуть не до смерти: встречая меня на лестнице, где, кроме нас, никого не было, он в ужасе отворачивал голову и — Боже упаси! — не здоровался.
Как на зловещую тень глядели мы, встречаясь с ним на лестнице, на другого нашего соседа. Мы с ним знакомы, естественно, не были, но знали, кто он. То был муж знаменитой балерины Лепешинской, генерал-лейтенант МГБ, Райхман, заместитель министра государственной безопасности по особо важным делам, а затем заместитель Берия. То был высокий, холеный мужчина, ходивший всегда в штатской одежде. Ему повезло: его, правда, два раза сажали — по оба раза ненадолго. Во время второй посадки — уже после казни Берия, его бросила жена. Выйдя из тюрьмы, он был лишен звания и работал юрисконсультом в какой-то конторе. А он бы, наверняка, мог «украсить» собой скамью подсудимых на советском варианте Нюренбергского процесса, если когда-нибудь, вслед за гестапо и Эс-Эс, МГБ займет причитающееся ему место среди преступных организаций. Райхман, пожалуй, наиболее крупная фигура среди тех эмгебешных палачей, что остались в живых и здравствуют, быть может, по сей день.
Через несколько дней после ареста Маркиша я пошла на Кузнецкий мост, в приемную МГБ. Там было много таких, как я — целая очередь. В окошечке сидел немногословный майор.
— Сведений нет, — сказал майор на мой вопрос. — Ведется следствие.
— Разрешена ли передача?
— Нет.
— Деньги?
— Обратитесь в Лефортовскую тюрьму.
Лефортовская тюрьма — целый город в городе.
Кирпичные корпуса толпятся за высокой каменной стеной. Опять окошечко справочной, опять очередь. В этой очереди я как-то встретила пожилую женщину, еврейку. Первые вопросы были обычны для этой очереди:
— Вы кому — мужу передаете?
— Да. А вы?
— И я мужу…
Выяснилось, что женщина эта — ее звали Маша — родная сестра Президента государства Израиль Хаима Вейцмана. МГБ, как видно, посчитало неловким сажать в тюрьму сестру Президента суверенного государства — но мужа Маши забрали. А муж ее был сугубо русским человек — то ли Ваня, то ли Вася. Сидел он, выходит дело, лишь за то, что приходился свойственником Президенту еврейского государства. Этот парадоксальный факт, однако, не сделал его антисемитом: после смерти Сталина Маша с освобожденным из тюрьмы мужем уехала в Израиль.
В тюремной очереди роились слухи. Передаваемые с оглядкой и шепотом, слухи эти касались судьбы наших, отделенных от нас высокой каменной стеной. Ходили слухи о страшной Лубянке, о еще более страшной Сухановке, тюрьме в Подмосковье, в которой пытали и замучивали людей нередко до смерти…
Небольшую сумму денег мне разрешили передавать один раз в месяц. Можно было эту сумму разделить на четыре равные части и передавать раз в неделю. Я решила передавать раз в неделю — все-таки Маркиш почаще будет иметь от меня весточку… Наивность советского человека неистребима, подлость и цинизм тюремщиков безграничны. Я тогда не могла себе представить, что деньги Маркишу вообще могут не передавать. А в справочном окошечке майор придвигал мне книгу — расписаться в том, что деньги приняты. Даже квитанцию давали. Квитанции в получений денег для Маркиша мне выдавали до дня нашей высылки — 1 февраля 1953-го. А Маркиш был убит за пять месяцев до этого — 12 августа 1952 года.
Через несколько дней после ареста Маркиша к нам, к нашему удивлению, пришел старый еврейский писатель Давид Вендров. Ему уже тогда перевалило за семьдесят, но он сумел сохранить чувство юмора и трезвый, несколько желчный ум.
— Как это вы рискнули к нам придти? — спросила я Вендрова, после того, как мы молча обнялись.
— Меня-таки все отговаривали, — горько усмехнулся Вендров, — но я, между нами говоря, уже далеко не юноша. Так я посчитал, что в худшем случае, меня арестуют на несколько дней раньше.
Вендрова, действительно, в скором времени арестовали, и он вышел из страшной Владимирской тюрьмы только через шесть лет, в конце 1954 года.
К сожалению, в самом конце своей долгой жизни Вендров не выдержал испытаний и «сломался» под усиленным нажимом «полезного еврея» поэта Вергелиса. 90-летний Давид Вендров поставил свою подпись под письмом, содержащим клеветнические измышления в адрес Израиля. Это произошло вскоре после Шестидневной войны. Быть может, в 90 лет Вендрову хотелось жить куда сильнее, чем в 75.
Малое время спустя после ареста Маркиша мне пришлось задуматься о хлебе насущном. Переводческой работы меня, естественно, лишили немедленно. И я вспомнила о своем когдатошнем хобби — вязанье на спицах. С нашей Леной Хохоловой мы распустили все шерстяные вещи, какие только могли найти в доме, и взялись за спицы: вязать модные тогда дамские шапочки и шарфики. Вязала я и кофты, и платья, и зарабатывала неплохо. Но занятие это, было опасным — я ведь работала «налево», как частный предприниматель, а это было запрещено. Вздумай кто-нибудь донести на меня — и я могла бы очутиться за решеткой. Мне необходима была постоянная служба, которая дала бы мне официальный статус служащей и справку с места работы. Но какой отдел кадров согласился бы оформить жену арестованного Переца Маркиша?
Случайно узнала я о том, что научное общество микробиологов, эпидемиологов и инфекционистов ищет секретаря. Общество это было добровольным, а, следовательно, не было у него ни отдела кадров, ни отдела проверки кандидатов аж до десятого колена! И я рискнула обратиться к председателю Общества, профессору Виктору Николаевичу Викторову.
— Я хотела бы работать у вас, но я жена Переца Маркиша.
Викторов обреченно покачал головой.
— Я ношу девичью фамилию Лазебникова, — добавила я.
— Это другое дело, — сказал Викторов. — Запомните: вы мне ничего не говорили о вашем муже… Теперь перейдем к вашим будущим обязанностям. Я даже не могу сформулировать их определенно — столь они широки и разнообразны…
— Я готова делать все, что потребуется, — сказала я.
— Конечно, конечно, — соединив пальцы рук, сказал Викторов. — Моя жена, видите ли, инвалид — она слепа. Четыре часа вы будете читать ей вслух, гулять с ней, обсуждать с ней новости — я имею в виду успехи нашего народного хозяйства, нашей социалистической культуры. А четыре часа вы будете заниматься непосредственно делами нашего Общества — вести переписку, беседовать по телефону, составлять бюллетени и отчеты. Я имею в виду — научные отчеты…
— Но у меня нет опыта… — возразила я.
— …Вам придется его приобрести! — заявил профессор. — Вам, в сущности, придется заниматься и делами моего дома — хотя у меня, естественно, имеется домработница Феня, очень милая, простая женщина.
— Мне придется ходить за картошкой? — спросила я с некоторым вызовом.
— Ну, зачем же за картошкой! — развел руками Викторов. — За картошкой — нет. А вот за конфетками — придется.
— Я согласна, — сказала я.
Сима к тому времени также начал зарабатывать, ему было 19 лет, он давал уроки английского, репетировал по всем предметам отстающих учеников. Из Университета, куда он сообщил об аресте отца, его, к счастью, не отчислили. Но Сима прекрасно понимал, что романо-германское отделение филологического факультета — не для сына репрессированного еврея. Даже закончи наш сын это отделение — работы он не найдет… И Симон решил перевестись на «тихое» отделение — отделение классических языков. Продолжая заниматься современной филологией, он засел за латынь и древнегреческий — подальше от «идеологического фронта» и «борьбы с разлагающимся западным искусством». Переходя на отделение классической филологии, Симон, пожалуй, руководствовался не столько соображениями будущей работы, сколько ради того, чтобы не иметь отношения к современности — и не из страха, а от отвращения.
Старые знакомые постепенно все отсеялись. Последнее расставанье произошло с семьей литераторов и музыкантов, интеллигентнейших людей, евреев — с ними связывала меня многолетняя дружба. Как-то они пригласили меня к себе и объяснили, что больше не могут поддерживать со мной контакты — это грозило бы всей их семье большими неприятностями, вплоть до ареста. Они боялись встречаться со мной — и так мне и сказали. Я собралась уходить. Один из хозяев — то был литератор — поднялся проводить меня до остановки трамвая. Тогда кто-то из домочадцев сказал ему:
— Дорогой, извинись перед Фирочкой — но ты ведь не можешь сейчас проводить ее. Ты сейчас должен помочь нам кое в чем, и это займет у тебя никак не менее часа-полутора.
Я надела пальто, вышла в снежную метель. Трамвая долго не было — минут пятнадцать. И тут я увидела литератора — он направлялся к остановке, полагая, что я уже уехала. Я повернулась и побежала прочь — мне стыдно было встретиться с малодушным и, к тому же, уличить его во лжи.
Теперь я не виню этих людей. После возвращения из ссылки мы снова встретились, отношения были восстановлены. В 71-м году, когда я подала документы на выезд в Израиль и «смелые» мои друзья вновь забыли дорогу в мой дом, я решила не ставить ту семью литераторов и музыкантов, которую я очень люблю, в нелепое положение и сама отправилась к ним — снова попрощаться, на сей раз, быть может, навсегда. Но 18 лет, прошедших после смерти Сталина, изменили и эту семью.
— Ни в коем случае! — сказали мои друзья. — Мы как были, так и останемся друзьями. Вы будете бывать у нас, а мы — у вас. Вот только об одном мы вас убедительно просим: не произносите вслух слово «Израиль», говорите лучше, ну, скажем, «Эксландия»: у нас ведь домашняя работница, зачем искушать лукавого.
15. Накануне погрома
Вскоре после ареста Маркиша ликвидировали еврейскую секцию Союза писателей. Официальное закрытие было поручено еврею Александру Безыменскому, бывшему «комсомольскому поэту», о котором была написана эпиграмма
Волосы дыбом, Зубы торчком. Старый мудак С комсомольским значком.Собрав оставшихся на свободе еврейских писателей, Безыменский объявил им, что в еврейской секции писателей «окопались» враги народа и предатели родины, и секцию решено закрыть. Многие присутствующие «с воодушевлением одобрили» позорное решение. Среди них были Ойслендер и Хенкина.
Спектакль расправы с еврейской литературой должен был повториться несколькими днями спустя, в более «торжественной» обстановке — на общем собрании московских писателей. На сей раз позорная роль «запевалы» была отведена еврейскому поэту А. Кушнирову — офицеру-фронтовику, потерявшему сына на войне. Кушнирова, прекрасно понимавшего свою роль, буквально силком вытолкнули на сцену. Подойдя к микрофону, Кушниров, однако, не произнес ни слова, а разрыдался. Его увели.
После такого «провала» арест Кушнирова был неизбежен и являлся лишь вопросом времени. Судьба, однако, смилостивилась над Кушнировым — в самом скором времени после закрытия секции он умер. Жена его, однако, была арестована и попала в лагеря.
Работа моя в Обществе микробиологов шла своим чередом: я читала слепой жене Викторова Нине Борисовне, умудряясь одновременно вязать для продажи шарфы и шапочки, составляли ежемесячные отчеты-бюллетени, собирала членские взносы. Мой шеф, профессор Викторов, был человеком в высшей степени странным. Как-то он велел мне привести в порядок «картотеку друзей и знакомых», насчитывающую несколько сот имен. На карточке напечатано было имя, отчество и фамилия друга или знакомого, год и число его рождения (для поздравлений), номер автомобиля (если таковой имелся), адрес домашний и рабочий, имя домработницы и даже кличка собаки или кошки. Такая картотека являла собою поистине клад для МГБ, реши оно посадить профессора Викторова в тюрьму: Викторова немедленно подвели бы под страшную статью «контрреволюционная организация» и репрессировали бы всех людей, упомянутых в картотеке.
Другой достопримечательностью архива профессора Викторова являлась аккуратнейшим образом переплетенная в красную кожу «книга желудка». В этой «книге» подшиты были меню обедов семьи профессора за двадцать пять лет. Другие два фолианта хранились не менее бережно: «Мое здоровье» и «Здоровье Нины Борисовны». Здесь были собраны анализы крови, мочи и кала, кардиограммы и рецепты выписанных лекарств за несколько десятилетий.
По понятным соображениям я не брала на себя смелость высказываться по поводу чудачеств моего шефа.
Однажды накануне выходного дня — воскресенья — он пригласил меня к себе в кабинет и торжественно объявил:
— Я решил, уважаемая Эстер Ефимовна, возродить славу и доброе имя незаслуженно забытого русского микробиолога, профессора Габричевского…
Викторов смотрел на меня, словно бы ожидая моей реакции. Я поспешила изобразить на моем лице полное понимание Викторовской заботы, хотя, естественно, никогда не слышала ни о Габричевском, ни о его заслугах перед наукой.
— В результате кропотливых розысков, — продолжал Викторов, — я обнаружил две фотографии. На одной профессор изображен лежащим в гробу, на другой можно различить участок ограды его могилы. Вот, поглядите.
И он протянул мне ветхие, пожелтевшие от времени фотографии.
— Да, — сказала я. — Действительно… А в каком же году умер профессор?
— В 1912-м, — сообщил Викторов. — Он был похоронен на московском Пятницком кладбище. Я поручаю вам ответственное и благородное дело: завтра вы отправитесь на кладбище и разыщите могилу профессора Габричевского. Наше общество возьмет на себя уход за могилой и воздвигнет памятник.
Назавтра я, прихватив с собой Давида, отправилась на кладбище. На дворе стояла зима, и кладбище, запущенное и малоухоженное, было засыпано снегом. Проклиная на чем свет стоит благородную инициативу Викторова, я с сыном карабкалась по снежным сугробам. Возле свежевырытой могилы я наткнулась на древнего старика-могильщика, отогревающегося водкой. Этот могильщик был, несомненно, достоин литературного внимания Шекспира. Мое сообщение о поисках Габричевского, умершего почти сорок лет назад, он встретил без всякого удивления. Внимательно изучив фотографии, могильщик заявил, что он помнит день похорон профессора — ведь он, могильщик, собственноручно рыл яму для его могилы. За определенную мзду старик брался показать мне место захоронения.
Проблуждав с полчаса между могилами, старик привел меня к почти сровнявшемуся с землей холмику.
— Здесь! — заявил могильщик.
— Но где же надпись? — спросила я. — Где же, наконец, ограда?
— Украли, — объяснил лукавый могильщик. — Все украли люди добрые. Мраморную доску продали, а чугунную ограду перенесли на другую могилу.
Запомнив предполагаемое место погребения профессора Габричевского, я поехала к Викторову, несколько даже гордясь результатами своих изысканий.
Викторов выслушал меня молча, потом спросил:
— Вы, конечно, зафиксировали имя, отчество и фамилию, а также домашний адрес старого могильщика?
— Нет, — сказала я, чувствуя свое ничтожество. — Я как-то не сообразила…
— Прискорбно, прискорбно… — молвил Викторов. — Это крайне важно, это необходимо было сделать.
Все чаще Викторов посылал меня в научно-исследовательские медицинские институты в качестве своего секретаря. Ко мне привыкли там, называли «доктор Лазебникова». Только два ученых микробиолога — не считая самого Викторова — знали, кем же являлась на самом деле «доктор Лазебникова», они сочувствовали мне и не стали бы раскрывать мое инкогнито. А случись это — я, несомненно, потеряла бы работу.
Однажды по поручению Викторова я отправилась в институт особо опасных инфекций — и через несколько дней почувствовала недомогание. Вызвали врача, он ничего не смог толком определить и предписал мне лечение от гриппа. Состояние мое ухудшалось с каждым часом. Я впала в беспамятство, начался бред, И тогда наша Лена Хохлова, в семье которой многие во время гражданской войны умерли от сыпного тифа, поставила свой безошибочный диагноз:
— Да у ей сыпняк!..
Сыпной тиф я перенесла с трудом, долго потом не могла оправиться от последствий болезни. А как только поднялась на ноги, вернулась на работу.
— Как же это так, доктор Лазебникова, — спрашивали меня потом мои «ученые коллеги», — вы отправляетесь в институт особо опасных инфекций, не сделав предварительно противотифозной прививки?
Что я могла им ответить? Переадресовать их к профессору Викторову?
Денег на жизнь не хватало, и по вечерам, после работы у Викторова, я стала давать уроки вязания. Учились вязать в основном жены обеспеченных мужей — забавы ради и чтобы убить время. Учениц получала я по рекомендации, и они, конечно, не догадывались, какая «преступница» преподает им вязальное «искусство». Среди прочих групп была у меня одна в самом центре Москвы, на Садовом кольце. Я вела занятия в квартире, где собирались по вечерам жены ответственных сотрудников. Я не знала, чем занимаются их мужья, да это и не интересовало меня. Но однажды, накануне 7 ноября, я получила от этой группы «поздравительную» телеграмму — мне желали всего наилучшего в связи с годовщиной Октябрьской революции. Среди подписавших телеграмму учениц значилась Евстафеева — жена заместителя министра государственной безопасности. Я выяснила это, наведя справки через рекомендовавшую меня в качестве преподавательницы приятельницу моей подруги. Страху моему не было предела — я была уверена, что меня теперь арестуют, обвинив в попытке проникновения к заместителю министра, в попытке его убийства, в чем угодно…
Я решила, что самым правильным будет как можно скорее открыть «замше» истину и ждать своей судьбы.
Узнав, кто я такая, «замша», как видно, тоже здорово напугалась и поспешила к мужу. Узнав, что я вела занятия в соседней квартире, а не в его, Зам облегченно вздохнул. Занятия, естественно, были немедленно прекращены, вязальный кружок распущен.
В 52 году «замша» рассказала под секретом своей приятельнице, та — своей, а та — моей, что в гостях у Зама был сам Рюмин. За рюмкой водки Рюмин рассказал хозяевам, что МГБ только что закончило дело Еврейского Антифашистского комитета — трудное и ответственное дело. В Комитете, по словам Рюмина, засели сионисты, шпионы и предатели родины, поставившие своей целью отторжение Крыма от России и передачу его Израилю. Семьи предателей, по словам Рюмина, подлежали аресту и ссылке.
Но даже узнав эту весть, мы не хотели верить «дамской» информации и продолжали надеяться.
А основание для надежд не было никаких. Мы жили словно бы в колонии прокаженных, вчерашние друзья обходили нас стороной. Правда, не все.
Некоторые останавливались и заговаривали, но лучше бы уж они прошли мимо.
Как-то я встретила Финна в обществе русского писателя Николая Богданова. Спросив, не слышно ли чего нового о Маркише, Финн стал трусливо канючить:
— Нас ведь с тобой, Коля, не посадят! Ты ведь русский человек, а я великий русский писатель! Нас ведь не посадят, а?
И Богданов обронил, с брезгливостью глядя на Финна:
— От тюрьмы да от сумы никто, Костя, не застрахован!
К счастью, бывали в моей нелегкой жизни в тот период и другие встречи. Мне запомнились две из них, оставившие след в моей душе.
Однажды на улице я лицом к лицу столкнулась с Всеволодом Ивановым. Наученная горьким опытом я сделала вид, что не заметила его, избавляя его тем самым от необходимости прятать глаза, и краснеть за собственную трусость. Я быстро прошла мимо, и буквально не поверила своим ушам, услышав вдогонку:
— Фира!
Иванов догнал меня, сказал:
— Что ж это вы от меня убегаете?
Я объяснила ему, что не хотела поставить его в неловкое положение. Он горько усмехнулся:
— Напрасно вы думаете обо всех одинаково плохо. Так ведь и жить на свете невозможно… Знаете что? Возьмите-ка детей, приезжайте к нам — домой или на дачу! Идет?
Я согласилась с благодарностью, но всё же не решилась воспользоваться гражданским мужеством Всеволода. Один Бог знает, что мог принести ему наш визит.
В другой раз встретилась я с писателем Александром Борщаговским, объявленным «злостным космополитом» и изгнанным из Союза писателей. Оказавшись без средств к существованию, Борщаговский вынужден был пойти работать на завод ради куска хлеба. И тогда к нему пришли трое его друзей-писателей: киевлянин Виктор Некрасов, харьковчанин Добровольский и москвич Константин Симонов.
— Не сходи с ума, — сказали они ему: — Немедленно брось свой завод — ты уже не мальчик. Вот тебе деньги, сиди дома и пиши.
Поймав мою горькую улыбку, Борщаговский спросил:
— Друзья Маркиша приходят к вам?
— Нет…
— Но деньгами они вам помогают? Если боятся это делать открыто, можно ведь посылать по почте под чужим именем?
— Нет…
— А как же X? — Борщаговский назвал имя крупного еврейского режиссера, друга Маркиша, человека вполне обеспеченного.
— Нет…
К концу 52-го кольцо вокруг нас стало понемногу смыкаться. В ночь под «праздник» 5-го декабря — День советской конституции — арестовали трех жен еврейских деятелей: жену писателя Нохума Левина, жену писателя Персова, жену бывшего директора ГОСЕТа Рабинса. Зная любовь властей к «предпраздничным» арестам, я с вечера ушла в гости к одной из подруг моего детства и просидела у нее почти до рассвета. Возвращаясь домой, я увидела в нашем освещенном окне силуэт моей мамы — она ждала меня. Неправильно поняв мамин жест рукой, я подумала, что за мной пришли, и бросилась бежать куда глаза глядят — гонимая животным страхом, не отдавая себе отчета в бессмысленности такого бегства. Несколькими часами спустя я вернулась домой — за мной еще не приходили.
В связи с разгоном Антифашистского еврейского комитета жена одного только Фефера была арестована вскоре после ареста мужа. Чем руководствовалось МГБ в данном случае, сказать трудно. Судьба Фефера, однако, весьма показательна. В 51-м году дочери Фефера — она оставалась на свободе и была сослана позднее, вместе с нами — велено было принести передачу для отца: костюм в полоску, галстук в клетку, кое-какие деликатесы. Мы, жены арестованных, все бурно обсуждали эту новость, считая, что дело наших, может быть, пошло к лучшему. Фефер, во всяком случае, был жив — потому что только он сам мог назвать конкретный костюм, определенный галстук, «еврейскую колбасу», которую он любил, находясь на свободе.
Я узнала, зачем понадобилась эта передача, несколькими годами позже — уже после моего возвращения из ссылки. Информация исходила из вполне надежного источника, который я не могу сейчас назвать — информатор жив и живет в СССР.
В 50-м году в Москву на гастроли приехал Поль Робсон, известный американский негритянский певец, с которым Фефер познакомился во время своего турне по Соединенным Штатам во время войны. На Запад, видимо, стали просачиваться слухи о судьбе еврейских писателей, и Робсон захотел проверить их: попросил устроить ему встречу с Фефером. Такую встречу устроили: Фефера привезли из тюрьмы в гостиничный номер Робсона. Можно предположить, что Фефер не сказал своему американскому другу, откуда он приехал и куда ему предстоит вернуться. Он добросовестно сыграл роль, порученную ему МГБ. Это, однако, не изменило его участи: он был расстрелян вместе с другими 12 августа 52 года.
16 декабря 52-го года мама позвонила ко мне на работу, попросила, чтобы я постаралась пораньше вернуться домой. Я отпросилась на полчасика раньше, и, вернувшись домой, не застала моего старшего сына Симона: в 10 утра его вызвали в районное отделение министерства государственной безопасности, и от него не было никаких известий.
Симон вернулся поздним вечером. Целый день продержали его в райотделе МГБ, выспрашивая, кто не прервал с нами связи из друзей Маркиша, с кем мы встречаемся. Под конец с Симона взяли подписку о невыезде из Москвы. Мне было велено явиться в райотдел МГБ в 10 вечера.
Отозвав меня в сторонку, Симон сказал мне, что на столе у следователя, снимавшего допрос, он заметил бланк «Анкеты на члена семьи изменника родины». И мы с сыном подумали об одном и том же: двумя годами раньше «по требованию трудящихся» в СССР была введена смертная казнь для «изменников родины».
Малограмотный офицер МГБ Мухин допрашивал меня с десяти вечера до трех ночи, а потом, также как и у Симы, взял у меня подписку о невыезде.
— Для чего это? — спросила я.
— Для вашей же пользы, — объяснил Мухин, — и для пользу вашего мужа. Может быть, срочно понадобятся новые сведения по его делу, и тогда вас сразу найдут и вызовут.
МГБ, как всегда, лгало и трусило: в декабре Маркиш уже пять месяцев как был мертв.
Назавтра я продала все, что можно было продать: не было денег на теплую одежду, на необходимые, как мне казалось, медикаменты. Продала я и кое-что из описанных при аресте Маркиша вещей — выбирать не приходилось.
13 января утром мы прочитали в газетах, что наши неутомимые и доблестные органы безопасности раскрыли заговор врачей агентов сионизма и американского империализма. Врачи эти, работавшие в Лечебно-санитарном управлении Кремля и лечившие всю партийную и правительственную верхушку страны, поставили себе целью погубить, извести своих пациентов. Среди имен арестованных было одно или два русских, но подавляющее большинство — еврейские. (Впоследствии, много спустя после смерти Сталина и реабилитации врачей, я слышала от разных людей, что МГБ схватило очень многих неевреев, но для сообщения в газетах были отобраны лишь нужные имена и фамилии.) Руководителем заговора и связным между заговорщиками и их зарубежными хозяевами был назван «известный еврейский буржуазный националист Михоэлс». О том, что Михоэлс погиб ровно пять лет до этого сообщения, разумеется, не упоминалось.
Только тут мы поняли, что наш конец — вопрос дней. Наши «подписки о невыезде» не оставляли места ни для надежд, ни для сомнений: за месяц до подписки — процесс в Праге, носивший откровенно антисемитский характер, спустя месяц после подписки — еврейские врачи-убийцы, воскрешение средневековья, можно сказать, в классическом его виде.
В Москве царила предпогромная атмосфера. Евреям опасно было выходить на улицу, в школах избивали еврейских детей. Моему младшему сыну Давиду кричали в школе: «Убирайся в свой Израиль», чем он премного гордился. А одна моя соседка по дому, русская женщина, рассказала мне страшную историю: она пришла в школу за своим внуком, ждала его у школьного подъезда. Вдруг к ней подбежал еврейский мальчик и зашептал:
— Тетя, скажите, что я ваш внук! Они хотят убить меня за то, что я еврей!
Моя соседка привела еврейского мальчика домой. Она, похоже, была потрясена происшедшим.
Особенно тягостно вспоминать, как люди вполне интеллигентные, в их числе и сами евреи, готовы были принять эмгебешный кровавый навет за правду. В точности по Гитлеру: ложь должна быть настолько чудовищной, чтобы никто не посмел заподозрить в ней лжи.
Но, как и всегда, благородство, смелость, честь не умолкали намертво, и их голос значил для нас, беззащитных изгоев, больше, чем вой осатанелой своры погромщиков. Я никогда не забуду одной мимолетной встречи в коридоре филологического факультета Московского университета. Симон, который был уже на последнем, пятом курсе, решил во что бы то ни стало защитить дипломную работу после того, как у нас взяли подписку о невыезде: он понимал, что наши дни на «свободе» сочтены, а потому хотел поторопиться с защитой до того, как нас арестуют. Ему удалось уговорить заведующего кафедрой классической филологии разрешить защиту, хотя, по правилам, дипломные работы защищались в следующем, весеннем семестре. Я пришла в университет вместе с сыном: мне хотелось побывать на этом, по-видимому, последнем в нашей семейной хронике мало-мальски радостном событии. У дверей аудитории к нам подошла Жюстина Севериновна Покровская, вдова академика Михаила Покровского, классика и романиста с мировым именем, преподававшая латинский и греческий языки. Громко, на весь коридор, она сказала:
— Что же это делается! Ведь это страшнее дела Бейлиса! Тогда хоть протестовать можно было, а теперь все молчат, все молчат!
Только те, кто пережили вместе с нами черную зиму 53-го года, способны понять, какой неслыханной, фантастической смелостью были эти слова. Они тем драгоценнее, что были сказаны русским человеком.
И еще об одном смелом, благородном поступке хотелось бы мне вспомнить. У Симона был близкий друг, товарищ по университету Александр Сыркин. Его отец, известный химик, член-корреспондент Академии Наук Яков Кивович Сыркин и мать, Мариам Вениаминовна, предложили усыновить Давида, чтобы спасти его от ссылки. Мы отказались, прежде всего, потому, что не хотели подставлять под удар этих прекрасных людей.
Симина защита прошла блестяще. Восторженные оппоненты (о, эти советские парадоксы!) решили даже рекомендовать Симона в аспирантуру. И это решение тоже было — скрытый вызов, не такой-то уж и безопасный для рекомендателей: они ведь знали, что ждет рекомендуемого.
Вечером, из Университета, мы пошли с сыном в кафе и там отметили этот последний праздник на свободе. По советским университетским правилам защита дипломного проекта проводится за несколько месяцев до сдачи Государственных экзаменов, и только после этого студент получает Диплом об окончании высшего учебного заведения. О сдаче экзаменов нечего было даже и мечтать, но и сам факт защиты диплома позволял работать по специальности, правда, не в полном объеме.
Ожидая прихода незваных гостей ночью, мы со старшим сыном старались возвращаться домой как можно позже, поближе к рассвету. Усталые, с тревогой в душе, отправлялись мы после работы в гости к родственникам, чтобы как-то протянуть время. Младшего сына, пытаясь спасти его от тюрьмы (ему исполнилось тогда 13 лет), я отправила в Баку, к родне — прятаться. Это, однако, не спасло мальчика: МГБ быстро его разыскало.
Наши со старшим сыном прогнозы по поводу ночного визита не оправдались: за нами пришли не ночью.
16. «Где ваши Абрамчики?»
Последнюю ночь перед арестом, словно предчувствуя, что эта ночь последняя, мы с Симоном договорились провести вне дома. Он, по обыкновению, отправился в гости к своей подруге по университету, ставшей впоследствии его женой, разделившей по доброй воле с нами ссылку, а я допоздна засиделась у одной из своих подруг, до конца оставшейся мне верной и не боявшейся встреч со мной. Когда, открыв своим ключом дверь, я вошла в квартиру, мне навстречу выбежал Симон и по его возбужденному лицу я сразу поняла, что произошло недоброе.
— Нас вызывают завтра к десяти утра в районное отделение МГБ, — сказал Симон и протянул мне повестку. — Теперь это уже конец!
Симон не ошибся — накануне арестовали семью Бергельсона, за день до них забрали Эду Зускину с дочкой Аллочкой, а днем раньше жену Квитко. Пришла и наша очередь…
Невзирая на поздний час, мы с Симоном отправились на переговорную телефонную станцию — дозвониться в Баку моей маме, попрощаться с ней. Бедная, любимая моя мама! Сколько муки было в ее голосе, когда она спросила: «Я не успею приехать проводить вас?» Потом мы позвонили нашей Ляле в Киев. У нее уже отняли паспорт, значит, и ей не миновать ареста. Вернувшись домой, мы собрали все необходимое. Рано утром, спустившись вниз, из телефона-автомата — наш домашний телефон был отключен некоторое время спустя после ареста Маркиша — я позвонила немногочисленным близким друзьям чтобы проститься с ними… К девяти утра к нам присоединился племянник Маркиша, взрослый и самостоятельный человек двадцати четырех лет, которого также «приглашали» явиться вместе с нами в МГБ, так как он был прописан в нашей квартире а потому должен был разделить нашу участь.
Наш Юра имел работу, но не имел желанных девяти квадратных метров пола — поэтому он значился проживающим на нашей площади, хотя фактически снимал комнату у знакомых. Однако, штамп прописки, поставленный в его паспорте, указывал, что он проживает по улице Горького 64, квартира 67. Впопыхах разысканный милиционером, он явился к нам с чемоданчиком, чтобы к десяти часам утра предстать вместе с нами перед эмгебешным начальством. Итак, все вместе мы явились в уже знакомый нам, мирный с виду домик с белыми занавесками, в тихом переулке на Садовом кольце, с опозданием на несколько минут. Открывший нам на наш звонок офицер государственной безопасности строго сказал:
— Вы заставляете себя ждать. Вы опоздали на пять минут.
— А нам уже некуда торопиться, — сказала я.
Появился знакомый мне офицер Мухин, снимавший допрос в ночь на 16 декабря и взявший у меня подписку о невыезде, и с ним еще несколько военных. Окружив нас, они вывели нас во двор, где стоял небольшой автобус. Автобус доставил нас на улицу Горького, и вместе с нашей стражей мы снова очутились в квартире, в которой прожили столько лет. Начальник конвоя, полковник МГБ, заметив сложенные чемоданы, сказал:
— Вы уже успели чемоданы упаковать?
— Мы сознательные советские граждане, — сказала я.
— Тем лучше, — сказал полковник.
Оглядев комнату, он с удивлением обнаружил, что она почти пуста — ни стола, ни стульев. После того, как с нас взяли подписку о невыезде, я продала все, что могла, и последние шесть недель до нашего с Симоном ареста мы жили в пустой квартире.
— Никакой мебели, — сказал полковник. — Где же мебель?
— Я все продала, — сказала я. — Нам надо было как-то существовать.
Полковник искал глазами, на что сесть. Я указала ему на единственный табурет. Усевшись, он зачитал решение Особого Совещания, вынесшего нам заочный приговор — десять лет ссылки в отдаленные места Казахстана, с конфискацией всего имущества, как членам семьи изменника родине. В списке осужденных значился и 14-летний Давид, на отсутствие которого полковник обратил внимание и потребовал, чтобы я немедленно сообщила, где он находится — он пошлет за ним одного из офицеров конвоя. Как мне ни хотелось подводить своих родственников в Баку, у которых скрывался Давид, но пришлось дать их адрес, который и был занесен в акт, чудом сохранившийся в моем архиве. Но адреса полковнику показалось недостаточно, он еще требовал у меня фотографию Давида, дабы ему не подменили малолетнего «преступника»!
Затем, проверив, не сорвали ли мы печати с закрытых со времени ареста Маркиша комнат, он приказал нам собираться, а нашей верной Лене Хохловой собрать свои пожитки и освободить от своего присутствия квартиру. И бедная наша няня в морозный февральский день очутилась без крова, выброшенная, как ненужная тряпка, на площадку пятого этажа. У моих сыновей была кошка, которую они нарекли еврейским именем Шифра. Кошка рвалась из рук заплаканной Хохловой. В тот момент, когда полковник и его свита накладывали печати на входную дверь нашей теперь уже бывшей квартиры, кошка умудрилась вырваться из Лениных рук и проскользнула в щель. Как мы ни молили полковника подождать с опечатыванием двери, пока кто-нибудь из нас не поймает кошку, он категорически отказался выполнить нашу просьбу, и Шифра оказалась заживо замурованной в опечатанной квартире…
Спускаясь с лестницы, мы встречали соседей — в это воскресное утро многие были дома. Более смелые отваживались отвечать на наше «прощайте», другие спешили пройти мимо. Автобус тронулся с места, унося нас в неведомом направлении. Полковник торопился — у него был на сегодня длинный список осужденных Особым совещанием, а ему, видно, хотелось еще воспользоваться выходным днем и посидеть в кругу семьи.
Автобус несся по заснеженной Москве. Помню отлично этот зимний день 1 февраля 1953 года, словно это было вчера. Мальчики, Симон и Юра, глядели в окна, следя за маршрутом автобуса. «Мама, посмотри на Москву, может быть, в последний раз ее видишь», — сказал мне сын. Но я думала свою невеселую думу и, обернувшись в сторону полковника, сказала:
— А что с моим мужем? Где он?
— Вы никогда этого не узнаете, — сказал полковник.
Вдруг Симон схватил меня за руку.
— Взгляни, мама, — сказал мне сын и движением головы указал в окно. В первый раз после того, как мы отъехали от дома, я посмотрела в окно и увидела железнодорожные пути.
— Вагон для арестантов, — сказал Симон.
Этого я никак не ожидала. По наивности поверила полковнику, обещавшему нам, что мы поедем к месту ссылки в «классных вагонах»! Автобус остановился у железнодорожной насыпи, поблизости от путей. Мы вышли. Полковник и несколько офицеров повели нас к вагону с зарешеченными окнами. Тут только я поняла, что нам предстоит этап, тюрьма, а может быть и несколько тюрем на пути к месту ссылки. Начальник конвоя «тюрьмы на колесах» — первой в моей жизни, тюрьмы — наглый мальчишка с погонами младшего лейтенанта, заорал: «Королева, тащи свои вещи!» Нервы мои не выдержали. Спокойствие, дававшееся мне с таким трудом, улетучилось вмиг, и я истерически начала кричать. Меня всю трясло. Я категорически запретила сыну и племяннику исполнять приказ лейтенанта. «Сам будешь таскать наши вещи, холуй», — бросила я ему в лицо. По-видимому, взрыв гнева, охвативший меня, и отсутствие страха были настолько неожиданны для полковника, что он дал распоряжение лейтенанту доставить наш скарб из автобуса в тамбур тюремного вагона. Еще секунда, и я очутилась за решеткой — это было купе тюремного вагона, в котором, кроме меня, было еще несколько женщин. Симона и Юру увели в конец коридора, не дав им даже попрощаться со мной. Уже темнело. В камере не было света. Но, привыкнув к темноте, я увидела рядом с собой на жесткой полке Марию Юзефович, жену известного профсоюзного деятеля, члена президиума бывшего Еврейского Антифашистского Комитета, арестованного, примерно, в одно время с Маркишем. Мария держала за руку тесно прижавшуюся к ней девочку лет десяти. То была ее дочь Марина. Испуганная девочка то и дело повторяла шепотом: «Мама, за что?» И мать тихо отвечала: «За папу». «А папу за что?» не унималась девочка. «Не знаю», — отвечала мать. И так снова и снова, без конца.
«Пассажирок» в нашем купе все прибавлялось. В полной темноте я только слышала, как всякий раз звякает засов и в приоткрывшуюся дверь камеры запускают все новых и новых моих товарок по несчастью, отсчитывая их, как считают скот. Когда нас было уже, вероятно, не менее двадцати — и это в купе, рассчитанном самими тюремщиками на 14 человек! — женщины посмелее стали бурно проявлять свое недовольство (Впрочем, в соседние мужские купе набивали и до 32 арестантов; я слышала как конвойный выкрикнул: «Тридцать два!» — втискивая последнего сапогами.)
К утру, когда забрезжило, я поняла, что смелыми были уголовницы — воровки, проститутки, которых перегоняли по этапу из одной тюрьмы в другую.
В тюрьме на колесах был строгий режим: побудка в пять утра, дважды в день выпускали в туалет, а если ты болен, тебе необходимо справить нужду — ну что ж, как тебе будет угодно: хоть умри, но режим не изменят! У дверей нашей камеры круглосуточно несли караул молоденькие, еще безусые солдаты из конвойно-караульных полков Министерства внутренних дел. Один из этих солдат был очень заинтересован большими настольными часами, которые, Бог его знает каким образом, оказались у одной из заключенных. Часы мерно тикали, показывая ход времени. Мое место было у самой двери камеры (точнее — у высокой, от пола до потолка решетки, заменявшей дверь) и я, словно окаменев, глядела в вагонный коридор. Солдат то и дело обращался ко мне с вопросом: «Который час?» Я терпеливо сообщала ему время — уж очень, видимо, не терпелось парню смениться. Так вот у нас с ним установились почти дружелюбные отношения. И однажды я рискнула спросить его о моих мальчиках. Представьте себе мою радость, когда он предложил мне написать записку, которую обещал тотчас же передать. При этом он успокоил меня: «Они с политическими». На каком-то обрывке тетрадного листка, чудом оказавшегося в моей сумке, я нацарапала несколько слов, упросив солдата взять для моих мальчиков немного еды, которая была со мной. Вместо ножа для разрезания колбасы я послала им… английский ключ от бывшей нашей квартиры. А некоторое время спустя парень принес мне ответ от Симона. Сколько счастливых слез пролила я над этой записочкой! Симон и Юра бодрили меня, заверяли, что едут в условиях вполне терпимых. К концу вторых суток мы прибыли в Куйбышев. Вблизи нашего тюремного вагона ждал нас зарешеченный фургон, известный в народе под недобрым именем «черный ворон». Выводили нас поодиночке. Я с волнением и болью ждала встречи со своими дорогими мальчиками, от которых за все время этапа получила привет лишь однажды. На дворе стоял жесточайший мороз. В фургоне была кромешная тьма — зимний день клонился к концу, железнодорожный участок освещали тусклые фонари. Однако, Симон и Юра все же разглядели меня и крикнули откуда-то из глубины «воронка», что они уже здесь. Успокоившись за них, я кое-как нашла место для одной своей ноги и так простояла до того момента, когда «черный ворон» резко, со скрипом затормозил где-то в неведомом нам месте. Опять, считая по головам, нас выгрузили из фургона. Тут только впервые за все дни этапа увидела я своих. Небритые и осунувшиеся, они показались мне повзрослевшими на несколько лет. Сима, приветствуя меня на расстоянии, снял с головы шапку-ушанку и я, к своему ужасу, обнаружила, что мой сын поседел! Оглядевшись, мы поняли, что стоим у тюрьмы. Высокая глухая стена скрывала за собой здание одной из старейших тюрем старинного волжского города Самары. Ворота тюрьмы открылись перед нами и вскоре мы предстали перед начальником тюрьмы, человеком малого роста, с нервно дергавшимся жидкими рыжими усами. Он сам лично опрашивал каждого доставленного по этапу. «По какой статье?» — сказал начальник, обращаясь ко мне. «Не знаю, — сказала я. — Сослана, как член семьи изменника родине». — «Значит, без статьи», — сказал начальник. Такой же вопрос был адресован и Марии Юзефович, и моим мальчикам, и старухе с настольными часами, оказавшейся, как я потом узнала, ни слова не знавшей по-русски бессарабкой, которую вторично по этапу препровождали к месту ссылки, откуда она изловчилась сбежать в конце войны. Только теперь, вместо прежних десяти лет, она получила бессрочную пожизненную ссылку. И вот нас уже ведут в камеру. Мальчики прошли впереди меня и скрылись где-то в глубине тюремного коридора. Перед группкой испуганных женщин открылась тяжелая, на большом засове с висячим замком дверь, и резкий свет сильной электрической лампы, не защищенной абажуром, ударил в глаза. И сразу, не дав нам даже ступить через порог огромной камеры, похожей на зал ожидания какого-нибудь захолустного вокзала, накинулись на нас с криками, с обезьяньими ужимками, арестантки. «Сарочки, Сарочки! Где ваши Абрамчики?» — кричали и бесновались все эти женщины и девицы, сопровождая свои вопли непристойными жестами. Мы стояли, обалдевшие, на пороге и не смели двинуться с места. Обрушивая на нас поток брани, какую нам дотоле никогда не приходилось слышать, две самые шустрые из бесновавшихся арестанток подлетели к нам и с криками: «Поброем! Поброем!» стали изображать брадобреев, приготовившихся наголо обрить наши головы. Бедная маленькая Мариночка! Я и по сей день вижу твои глаза, прекрасные голубые глаза ребенка, испуганного насмерть и в ужасе прикрывающего своими рученками голову: у Марины были изумительные светлые косы. Мы стали стучать в дверь, звать начальника. Наконец, скрипнул засов, дверь открылась и перед нами вырос огромный надзиратель. «Чего орете?» — сказал он. «Начальника, Бога ради, начальника позовите!» — сказала, рыдая, Мария Юзефович. Женщины, под ободряющим взглядом надзирателя, продолжали вопить и гримасничать. Вскоре явился начальник. «Товарищ начальник, — бросилась к нему Мария, — пощадите мое дитя…» Но «товарищ» немедленно оборвал ее, не дав продолжать. «Товарищем не называть. Я для вас — гражданин начальник» — сказал он. «Гражданин начальник, — сказала Мария, сдерживая рыдания, — гражданин начальник, пощадите мое дитя. Ведь вы, наверно, и сам отец, вы должны понять чувства матери. Ребенок никогда не слыхал таких слов. Переведите нас в другую камеру». «У меня нет больше женских камер с отоплением. На дворе 36 градусов мороза. Что я могу предложить вам, кроме неотапливаемой камеры?» — сказал «гражданин начальник». «И при этом, — продолжал он, — я могу перевести только всех политических вместе», — и он показал на меня и старуху с часами. «Я согласна, — сказала я. — Ради девочки я пойду в холодную камеру. Мне все равно». Несчастная старуха, ни слова не понимавшая по-русски, беспрекословно последовала за нами, прижимая к груди свою единственную ценность — настольные часы.
Начальник сказал правду: камера, в которую нас перевели, не отапливалась, к тому же окна в камере были выбиты. Через полчаса мы стали замерзать, а ребенок плакал навзрыд — у нее окоченели руки и ноги. Пришлось нам смириться и вернуться к нашим мучительницам.
Мы приготовились выдержать новую бурю издевательств и нецензурной брани. Но, к нашему великому удивлению, мы были встречены ласково и участливо. С тем же темпераментом и страстью, с какими эти «девицы» обрушили на нас в первый раз весь запас низких слов и непристойностей, они ласкали замерзшую Марину, наперебой угощая ее горячим чаем и жалкими сладостями, которые можно было приобрести раз в неделю в тюремном ларьке за деньги. Объяснить столь разительную перемену в поведении «веселых девиц» — проституток и воровок — я просто не берусь.
Одна из них меня глубоко заинтересовала. Звали ее Вера. Было ей двадцать лет. Она была миловидна и чем-то даже привлекательна. Эта Вера была вожаком всей команды, она же была и заводилой в том диком спектакле, который они разыграли перед нами в первое наше появление в камере. Сейчас ее словно подменили. Тихая и ласковая, она освободила для меня место на нарах рядом с собой. Усадила, принесла кружку чая. Завела обычную для тюрьмы беседу: «За что? На сколько? В какой раз?» «За мужа» — сказала я. Тут она, не стесняясь в выражениях, стала поносить моего мужа, что он, дескать, жену не смог выгородить из «дела», что такую женщину не пощадил, и т. д. и т. п. Как могла, я рассказала ей нашу историю. Она слушала с большим вниманием и сочувствием, а потом сказала: «Ну, это уже совсем не дело, чтобы женка и дети за мужа и отца отвечали».
О себе она мне рассказала очень образно и с юмором. Сидит она, видите ли, за любовь к… географии. Любит она до невозможности эту науку, а потому и разъезжает по всему обширному и великому Советскому Союзу в поисках новых мест и открытий. А паспорт не взяла, как это положено в Советском Союзе каждому, достигшему 16-летнего возраста. И называется такое поведение «нарушением паспортного режима», за что и полагается, согласно уголовному кодексу страны, один или два года тюремного заключения. Так вот она, Вера, уже четыре года не вылезает из тюрем, нарушая раз за разом этот самый «паспортный режим», а заодно и подворовывая в поездах. «Но теперь, — сказала Вера, — все! Я „завязала“ и как этот срок закончу, так, черт с ними, возьму паспорт, уеду в свой родной город и пойду учиться на учительницу географии!» А мне она так ярко нарисовала место моей ссылки, где, по ее словам, росли огромные дыни и арбузы, где мне горя не знать никакого, так как я еще молода и меня по ее понятиям «сам начальничек выберет и будешь жить, как барыня».
Объяснить этой девушке мое горе и боль, мою тоску по Маркишу, мою ненависть к тем, кто уничтожал и ссылал ни в чем неповинных людей, было бесполезно. Но с помощью этой Веры мне удалось наладить связь с Симоном и Юрой. Вера, обладавшая большим тюремным опытом, общалась с другими камерами не по старинному методу, описанному многими арестантами, перестукивавшимися с соседями за стеной, а ставила железную кружку, из которой пила чай, на батарею и говорила в кружку: звук шел по трубам водяного отопления в соседнюю камеру. Так она и обнаружила моих мальчиков.
Однажды утром, как обычно, в нашу камеру явился начальник тюрьмы в сопровождении одного из своих помощников из числа заключенных. День этот был для меня необычным днем — то был день моего рождения, который я впервые в жизни встречала не в кругу своей семьи, а на тюремных нарах. К тому же я была совершенно разбита и на привычный вопрос начальника: «Есть ли жалобы», сказала, что я больна и прошу разрешить мне взять лекарство из чемодана, со склада, куда сложили все наши пожитки. Начальник разрешил. Вскоре пришел за мной его помощник, и я, с трудом поднявшись с нар, поплелась за ним по коридору, в конце которого, в тесном и сыром помещении, были свалены в кучу вещи заключенных.
Открыв ключом дверь, помощник ввел меня в склад. И не успела я еще осмотреться, как мне на шею бросились Симон и Юра. Оказывается, помощник побывал на перекличке и в той мужской камере, где сидели мальчики, и вызвал их под предлогом какой-то работы. А на самом деле, он просто хотел помочь мне встретиться с моими. Я не знала, как благодарить его, и спросила, чему обязана таким вниманием с его стороны. Он объяснил мне, что за день до прибытия нашего этапа отсюда, из куйбышевской тюрьмы отправили дальше семьи Бергельсона и Зускина. Ципа Бергельсон и Эда Зускина просили его передать привет семье Маркиша, которая, как они предполагали, проследует вскоре через эту же тюрьму. Мои подруги передали мне также, что их сослали в Казахстан, но, как оказалось, много севернее тех мест, куда отправили нас. Так вот, благодаря этому доброму человеку, мой день рождения скрашен был радостной встречей с моими мальчиками.
К вечеру того же дня в нашу камеры прибыли «новенькие». Среди них я обратила внимание на одну, молодую женщину, державшуюся несколько поодаль от всей группы крикливых, развязных и наглых уголовниц, встреченных объятиями и поцелуями «своих» — эти женщины, в большинстве рецидивистки, хорошо знали друг друга, ибо их жалкая судьба не раз сводила их на пересылках с товарками по «ремеслу». Я подошла к ней и предложила местечко рядом со мной. Бедняжка была без теплой обуви, в одних только калошах, надетых на старенькие шерстяные носки, а на дворе стояли лютые февральские морозы.
Расположившись на нарах, мы проговорили с моей новой знакомой почти до утра. Звали ее Сарра, была она родом из Кишинева, из бывшей Бессарабии. Девочкой вступила в молодежную сионистскую организацию и, как многие еврейские дети в диаспоре, мечтала о своей собственной родине, училась в древнееврейской гимназии, наизусть читала стихи Бялика и строила радужные планы. Но всему этому пришел конец, когда ее и всех ее земляков «воссоединили» с Советским Союзом. Сионистская организация была ликвидирована, все ее члены арестованы, а Сарру, по малолетству, эта кара временно миновала. Шли годы. Сарра стала студенткой, встретился ей в жизни человек, с которым, казалось, ничто и никогда ее не разлучит. Но однажды ночью за ней пришли и увели в тюрьму, а оттуда, после долгих и мучительных допросов, она, по решению Особого совещания, отправлена была в лагерь на 8 лет за свою сионистскую деятельность, которой занималась в школьном возрасте: тогда, в конце пятидесятого года, бурно шла ликвидация всего того, что хоть отдаленно можно было занести в рубрику «сионизм», «буржуазный национализм» и просто «еврейство»! И вот, теперь ее везли неведомо куда, после двух лет в потьминских лагерях, получивших название «женские», так как там, в основном, отбывали срок жены за своих в прошлом заслуженных мужей. В память о Сарре у меня до сих пор хранится вышитый ею воротничок — женщины в лагерях находили утешение в извечно женском ремесле — рукоделии, умудряясь использовать старые тряпочки и нитки, вытрепанные из жалких остатков «вольного» гардероба. Так навсегда, ранним февральским утром 1953 года, исчезла из моей жизни, чтобы больше никогда не дать о себе весточки, добрая ласковая девушка Сарра.
Сменялись тюрьмы на пути к месту нашей ссылки. Мелькали обитательницы камер. Ушли по этапу куда-то в другой конец Казахстана Мария с дочкой Мариной. Но оставался тот же тюремный режим, та же «параша», к которой немыслимо было привыкнуть.
И вот опять новая тюрьма. На сей раз, как оказалось, — последняя перед ссылкой. Кзыл-Орда. Областной центр. Привезли нас в кзыл-ординскую городскую тюрьму ранним утром. Доставили на сей раз не в «воронке», а на грязном грузовике-углевозе. На дворе было солнечно и непривычно тепло после морозной России. Та же тюремная процедура, с ответами на стандартные вопросы начальника, только начальник, раскосый казах, напоминал потомка Чингиз-Хана. Сходство это еще более усиливалось в моем усталом воображении длиной шашкой, почему-то гремевшей у него на боку.
Я одна в камере. Симон и Юра, помахав мне, ушли вслед за надзирателем, и до меня, в мою камеру, еще долго доносился звук их голосов — это они специально так громко говорят, чтобы я могла их дольше слышать. Голые нары из железных прутьев. Паутина во всех углах. Мне холодно, невзирая на солнечный день: камера сырая, мрачная.
Вдруг с шумом открылась «кормушка» — окно в тюремной двери, через которое заключенному подают еду, — и несколько любопытных надзирателей принялись без стеснения меня разглядывать. Я старалась не выказывать моего состояния и как могла спокойно выдерживала «обстрел». Последовали столь знакомые и надоевшие мне вопросы: «За что», «на сколько», «откуда». Вдруг один из надзирателей спросил мою фамилию. Я ответила. И тогда произошло то, чего я меньше всего могла ожидать в тюремных стенах. «Лазебникова, — с удивлением повторил за мною надзиратель-казах мою девичью фамилию. А у тебя брат Лазебников Рувим был?» И от него стала мне известна судьба моего двоюродного брата, 19-летнего сына того самого бакинского дяди, у которого прятался мой Давид. Оказывается, Рувим, считавшийся пропавшим без вести во время войны, погиб в бою под Брестом, защищая пограничную Брестскую крепость. Произошло это в первые дни войны с немцами, и сегодня стойкость и героизм защитников Брестской крепости вошли в легенду… Сколько же моих близких не вернулись с войны, скольких убила и искалечила тюрьма!
Я сидела на голых железных нарах и, словно кинолента, проходила передо мной моя жизнь. Побудка в пять утра вернула меня к действительности. Явился другой надзиратель и повел куда-то длинными, сырыми коридорами. По дороге я о чем-то громко спросила конвоира в надежде на то, что за одной из дверей, может быть, заперты мои дети, и они, услышав мой голос, отзовутся. Я не ошиблась. Они услышали меня и ответили из-за какой-то железной двери, и мне этого было достаточно — я знала, что они существуют где-то рядом со мной. В комнате, в которую меня привели, за столом сидел еще один потомок Чингиз-Хана. Вежливо и несколько смущенно он сказал мне, что должен снять у меня отпечатки пальцев — таков порядок. Мне от души было жаль бедного «Чингиз-Хана» — он так неловко взял меня за руку, отгибая каждый палец поочередно и прижимая его к примитивно закопченному осколку оконного стекла. Человек этот оказался приятным и даже приветливым. Он стал меня расспрашивать. Узнав, что я и дети получили десять лет ссылки в отдаленные места Казахстана, он сильно удивился и произнес фразу, которая по сей день жива в моей памяти: «Много же вам дали! Членам семьи больше пяти не дают! Но вы не унывайте. За десять лет многое еще может измениться. Вот, поглядите на меня — был вывезен ребенком с Дальнего Востока, когда нас, корейцев, всех до одного сослали сюда, в эти края. А сейчас, как видите, сам офицер МВД!». Утешением мне его слова служить, конечно, не могли. Видеть своих детей офицерами МВД даже в далеком будущем я не желала, но его человеческое участие все же несколько приободрило меня. Тем более, он обещал похлопотать, чтобы нас оставили в «центре», то есть в самом городе Кзыл-Орда, где есть большая нужда в преподавателях иностранных языков, а мы с Симоном вполне могли бы помочь в этом деле. Обнадежив меня, он ушел хлопотать «по начальству», оставив нас — всех троих — дожидаться результатов в тюремном дворе, на солнышке…
День уже клонился к закату, мы были голодны, устали и хотели только одного — отдохнуть после томительного ожидания хотя бы на железных нарах. И вдруг появился наш «добрый гений». По его лицу нам сразу стало ясно, что хлопоты не увенчались успехом. Единственное, чего он добился — это то, что нас отправят не на Аральское море, куда и питьевую воду привозят издалека, а в поселок на железной дороге, в 180 километрах к северу от Кзыл-Орды. Счастливые и этим, в сопровождении целого подразделения молоденьких солдат, мы погрузились в вагон поезда Ташкент — Куйбышев и поехали обратно на север. Офицер-кореец искренне был огорчен своей неудачной миссией и долго махал рукою нам вслед.
В вагоне, заняв целую секцию, — наши стражи предусмотрительно освободили его от посторонних лиц, — мы вздохнули даже с некоторым облегчением: хорошо или плохо, но мы направляемся к последнему перевалу, а там нас ждет хоть какая-то жизнь, а, может быть, и относительная свобода. Во всяком случае, за нами не будут ходить по пятам стражники и надзиратели. Так думалось нам, не ведавшим, что такое ссылка!
Поздней ночью поезд наш остановился на заснеженном полустанке — всего минуту задержится он здесь, надо успеть выгрузить наш скарб, соскочить с высокой подножки прямо в сугроб. Успели! Теперь, в кромешной тьме, мы стоим у своих жалких тюков и ждем, что с нами сделают дальше. А наши конвоиры растерялись — нет никакого транспорта, неизвестно, как доставить нас в КПЗ — камеру предварительного заключения, ибо здесь, в поселке Кармакчи, где нам предстоит отбывать наши десять лет, нет никакой тюрьмы. (Замечу в скобках, что железнодорожная станция носила иное название — Джусалы.) А куда же денешь таких преступников, как семья изменника родины Переца Маркиша?! Но наши конвоиры под командой сержанта успели расположиться к нам за время пятичасового путешествия. В вагоне они даже рискнули закусить вместе с нами, хотя вначале, помня данные им указания, были насторожены — ведь, что ни говори, а везут «политических»! И, на свой страх и риск сержант, пользуясь своей властью военного при исполнении «ответственного» задания, остановили проезжавший мимо груженый грузовик. Мы забрались в кузов и, стоя, задыхаясь от морозного ветра и быстрой езды, кое-как добрались до поселка Кармакчи.
17. Убийцы реабилитированы
В комендатуре поселка Кармакчи, в которой нам предстояло отмечаться каждые десять дней, начальник (т. е. царь и бог всех ссыльных в районе) — малограмотный майор Ахметов, с удивлением уставился на новых подопечных: таких здесь еще не видали. Хорошо одетая женщина, молодые интеллигентного вида юноши, да еще оба в добротных пальто и пыжиковых ушанках — предел мечты советского модника! Подумав, он дал нам свое высочайшее соизволение отправиться на ночь в «гостиницу».
Это громкое название носила большая комната с несколькими рядами железных коек; мужчины и женщины, приезжавшие в районный центр в командировку, находили здесь, в общей комнате, ночлег. Кровать, застланная застиранной простыней и тоненьким одеялом, показалась мне пределом комфорта. Я была счастлива, что могу расположиться одна, без случайных «товарок» по тюрьме, с которыми приходилось делить нары. За много недель мы впервые сняли с себя обувь и верхнюю одежду.
В комнате было тепло, на электрической плитке кипел большой чайник — можно было выпить стакан горячего чая, а это было для нас позабытой роскошью. Но до сна, о котором мы так мечтали, было далеко: все, находившиеся в комнате, стали засыпать нас вопросами, все теми же надоевшими нам вопросами — «откуда?», «кто такие?», «как сюда попали?» Люди были разные, молодые и постарше, мужчины и женщины. Узнав, что мы из Москвы, один из постояльцев, угадав в нас евреев, спросил: «Начали высылать евреев?» Сюда, в эту глухомань, все же доходят газеты, радио доносит известия о событиях в мире. Стало здесь известно и о «врачах-убийцах в белых халатах», хотевших «отравить и уничтожить лучших людей России». Фамилия врачей — братьев Коган стала именем нарицательным для евреев, и нам больших трудов стоило разубедить собравшихся вокруг любопытных, что наша фамилия не Коган и что мой муж не врач и не «вредил в Кремле».
В эту первую ночь в ссылке мы познакомились с чудесным человеком, молодым евреем, по доброй воле разделившим ссылку с любимой девушкой. Изя Тубис жил в Кзыл-Орде, часто приезжал в Кармакчи по служебным делам. Еврейский мальчик из Кишинева, он отлично говорил на идиш, знал литературу на этом языке, имя Маркиша было им любимо и уважаемо. Стихи Маркиша он изучал в еврейской гимназии в бывшей Бессарабии и, узнав, что мы семья Переца Маркиша, со слезами на глазах обнял нас. Он же разъяснил нам обстановку в ссылочном поселке. «Свобода» наша, увы, будет «на коротком поводке» — мы находимся под неустанным и бдительным контролем местной комендатуры, подчиняющейся начальнику РОМГБ — районного отделения Министерства государственной безопасности. Завтра же начальник, «гражданин» Галлиулин, разъяснит нам наши «права» и обязанности… А пока что наш новый друг угостил нас белым хлебом — в Кармакчах его и в помине нет, это он из города привез — и пообещал помочь нам подыскать какое-нибудь жилье и подсказать ходы и выходы в новой нашей жизни.
Я мечтала о возможности помыться без свидетельниц. Тюремная баня осталась у меня в памяти диким кошмаром: унизительный осмотр надзирательниц, нецензурная брань и непристойные жесты уголовниц. Но и здесь, в Кармакчах, была только общая баня, напоминавшая средневековую гравюру из учебника по психиатрии.
После бани нашей первой заботой было найти газеты, чтобы узнать последние или хотя бы относительно свежие новости «с воли». Конечно, о газетном киоске и мечтать было нечего. Но недалеко от гостиницы расположился «красный уголок» — нечто вроде читального зала и библиотеки. Во всяком случае, там можно было получить московские газеты. И мы все втроем отправились туда, прежде чем явиться в комендатуру к грозному начальству.
Газеты оказались довольно свежими — недельной давности. В юмористическом журнале «Крокодил», нас ожидал очередной антисемитский фельетон писателя Василия Ардаматского, известного недоброй черносотенной славой. Разнузданный тон его очередного опуса под названием «Пиня из Жмеринки» свидетельствовал, что погромная волна не схлынула в столице, а, стало быть, держится и на периферии, где неукоснительно выполнялись указания из центра. Еще в одном из номеров «Крокодила» прочли мы столь же гнусную статью Николая Грибачева о врачах-убийцах и их пособниках из Джойнта, разоблаченных бдительными советскими людьми, «верной» дочерью народа доктором Лидией Тимащук. Удрученные, вышли мы из «красного уголка», со стен которого глядели на нас вожди в золоченных рамах.
Знакомство с начальником РОМГБ оказалось менее страшным, чем нам думалось. Еще довольно молодой офицер, казанский татарин Галлиулин, не пытаясь нас запугивать, объяснил нам, что мы находимся под гласным надзором комендатуры, обязаны приходить отмечаться каждые десять дней, не имеем права отлучаться более чем на пять километров от места поселения, работой не обеспечиваемся, жильем — также. Короче — на все четыре стороны, и умирайте, коль вам угодно, с голоду. Однако, уже в неофициальном порядке, Галлиулин советовал не унывать, попробовать поискать работу на единственном в поселке промышленном предприятии — захудалом заводике, оставшемся здесь со времен войны и выпускавшем дробь для бурения. Наш новый знакомый и покровитель Изя Тубис ждал нас неподалеку от комендатуры, чтобы накормить и напоить нас горячим чаем, а затем вместе с нами поискать для нас жилье. Сопровождаемые толпой любопытных, мы ходили по широким улицам степного поселка. В каждом глинобитном домишке была своя жизнь, в каждом жили ссыльные. Необычайная пестрота населения поразила нас. Кого-кого только не забросило сюда «советское правосудие» и Особое совещание — чечены и ингуши, которых по приказу Сталина переселили с Кавказа в 1944 году якобы за то, что они вышли встречать немцев хлебом-солью, корейцы, греки с Черноморского побережья Кавказа и из станицы Белореченской. Позднее, когда мы познакомились с нашими соседями поближе, мы узнали много страшного.
Грек Давиди (он занимался производством газированной воды, о которой до появления греков в Кармакчах знали только понаслышке) рассказал нам об их этапе: люди отказались выходить из вагонов, когда увидели, куда их привезли. Тогда начальник конвоя заявил, что будет считать до трех, после чего откроет огонь. Но мужественные греки решили выстоять. Они держались сутки, потом была вызвана воинская команда из областного центра и, под пулеметную очередь, прикрывая собою детей, они выскакивали из вагона, потеряв в суматохе последние пожитки. Многие оказались разлучены со своими родными — одних отправили вглубь степи, других оставили здесь. В передвижении мы, ссыльные, были ограничены пятью километрами, а потому несчастные греки годами не видались со своими близкими: муж — с женой, сын — с матерью, брат — с сестрой! Но люди, как говорится, крепче железа. Боль разлуки постепенно притуплялась, повседневные заботы о хлебе насущном заслоняли все другие думы.
И мы тоже старались, как могли, приспособиться. Мы нашли приют у добрых русских людей, Серафимы Петровны и Сергея Васильевича Устюговых, ссыльных крестьян. Их «раскулачили» за то, что отец Сергея Устюгова, один во всем селе, собственными силами, своими руками вырастил сад. А когда «кулаков» сослали, сад засох… Мне казалось, что жить в этом позабытом и заброшенном Богом краю можно только с закрытыми глазами — так страшна и неприглядна была картина. Но пришлось мне открыть глаза пошире, чтобы лучше видеть происходящее и лучше осмыслить свою и чужую жизнь.
В первую очередь нужно было подумать о работе. Мы отправились на завод, куда нам рекомендовал обратиться Галлиулин. Главный инженер завода, фамилию которого я запамятовала, оказался прожженным антисемитом, и наше еврейское происхождение вызвало в нем такую ярость, что он даже не пожелал с нами разговаривать и буквально выставил нас вон. В отчаянии мы решили предложить свои услуги на железной дороге, где требовались разнорабочие. Но и там уже наслышаны были о том, что в поселок прибыли «евреи», отец и муж которых «вредил в Кремле». Разубедить этих отравленных страхом и антисемитской пропагандой малограмотных людей было не в наших силах. Усталые, удрученные, с ненавистью в душе, вернулись мы домой. Там нас встретили с улыбкой и участием наши хозяева, пытаясь утешить рассказами о своей нелегкой в прошлом жизни: теперь они уже привыкли, приспособились и даже по-своему полюбили этот край.
Так как весть о том, что в поселке появились евреи, разнеслась с быстротой молнии, к нам с визитом пожаловали две женщины, до тех пор единственные в Кармакчах представительницы нашего народа. Одна из них оказалась юристом, или, как ее здесь называли, «защитницей». Циля Гилькина была еще не старая женщина с обветренным лицом, изборожденным преждевременными морщинами, и светлыми, как небо, голубыми глазами. Сухонькая и подвижная, она была необычайно весела и остроумна. В Кармакчах она застряла с войны, когда ее с двумя малолетними детьми эвакуировали в Казахстан из Одессы. Муж погиб на фронте, и она не решалась вернуться в свой город, где, как она знала, процветал пышным цветом послевоенный антисемитизм, и устроиться на работу еврейке было очень трудно. Так она и жила здесь, уважаемая местным населением, ведя судебные дела, разъезжая по степи верхом на верблюде — самом надежном транспорте в тех краях. Циля посоветовала нам снова пойти на завод, но уже не к инженеру, а к директору, слывшему отзывчивым человеком.
Евгения Исаевна, сопровождавшая Цилю, была, как и мы, ссыльной. Сюда ее привезли еще в сороковые годы, до войны. Отбывала она ссылка за мужа, приехавшего в СССР из Китая — там он работал бухгалтером в кинотеатре, принадлежавшем Китайской Восточной Железной Дороге, которая была в свое время собственностью России, а затем СССР уступил ее Китаю. Многие работники КВЖД вернулись в Россию, а в тридцать седьмом году были арестованы и расстреляны или посажены в лагеря. Муж Евгении Исаевны погиб, она с детьми очутилась в Кармакчах. Дети после войны уехали, устроились как смогли где-то в России, а она так и осталась здесь, в услужении у начальника финансового отдела завода. Она тоже обещала переговорить о нас со своим хозяином.
Наутро мы отправились к директору. Фамилия его была Бородай. Это был украинец, добродушный, располагавший к себе. Узнав, что мы семья писателя, что предстоит нам здесь прожить десять долгих лет, он очень сочувственно отнесся к нам, даже усомнился в правильности и справедливости такого приговора. «Да разве же должны дети за отца отвечать?» Только очень смущался, как же он может предложить «черную работу таким образованным людям».
Симону он предложил место ученика строгальщика, Юре предстояло сколачивать ящики в тарном цехе. Мне же никакой работы не нашлось. По наивности и простоте своей Бородай считал, что я вполне справлюсь с занятиями в кружке самодеятельности, где его рабочие и работницы занимаются пением и танцами. Но мне было не до танцев и песен, и я, конечно, отказалась от такого «поста». В дальнейшем Бородай с большим участием относился к Симону, спрашивал о здоровье, предлагал денег взаймы. Останавливаясь у станка, глядя, как мой сын трудится, спрашивал: «Ну, как дела, Маркс?» Симон в горе и заботах перестал бриться, и у него отросла густая и длинная борода, вот он и заслужил у Бородая прозвище «Маркс». Вернувшись в Москву, я много раз пыталась разыскать Бородая, чтобы отблагодарить его за все, что он для нас сделал, но так и не смогла его найти: он уехал из Казахстана вскоре после нас.
Грошéй, которые зарабатывали Симон и Юра, с трудом хватало на пропитание — зимой нет никаких овощей, все втридорога, и если бы не неустанная забота моей мамы, посылавшей нам продуктовые посылки, нам бы никогда не выжить. Я постепенно приспособилась — вязала кофточки и шапочки местным модницам, женам начальства; связала шапочку даже жене того главного инженера-антисемита.
Мысли мои неустанно были с Маркишем. Что с ним? Жив ли он? Где Ляля? А что будет с Давидом, если его найдут в Баку? Как умудряется моя мать жить одна, без сына и дочери? Но вот пришло письмо от мамы — Давид вернулся в Москву, ему приказано немедленно отправляться в ссылку. С ним едет наша верная няня, неизменный друг Лена Хохлова, мы можем ждать их прибытия со дня на день. Сколько было передумано, пережито, пока мы увидели нашего «юного преступника»! Он вырос, возмужал, но по-детски, с восторгом рассказывал о своих приключениях, был даже несколько горд, что приобщился к страданиям взрослых, разделил с нами нашу участь. Так же по-детски воспринял он и ссылку — как нечто экзотическое, любопытное. Может быть, это позволяло ему не видеть всего безнадежного убожества нашей новой жизни, всей ее жестокости и несправедливости. Теперь предстояло устроить его либо в школу, либо на работу. Я, конечно, хотела, чтобы он продолжал учиться, — ведь даже здесь, в глуши, ему могут понадобиться знания. Школа была самая примитивная, дети, предоставленные самим себе, учителей не уважали, более того, учителя побаивались этих распущенных и грубых детей. Однако, были среди них и добрые, хорошие души.
Давида вначале встретили в штыки — «столичная штучка», еврей к тому же, отец в «Кремле вредил». За это не раз получал он камни в спину. Я жила в вечном страхе. Но однажды торжествующий Давид сообщил мне, что отныне я могу быть спокойна: есть у него верный страж и защитник, мальчик несколькими годами постарше, чечен по имени Калу. Верный друг обладал крепкими кулаками, и ребята побаивались его.
В начале марта 53-го Симон вернулся с ночной смены и сказал: «Сталин тяжело заболел». Мы притихли, на секунду нам стало страшно — что будет с нами, если он умрет? Но только на секунду. События развивались стремительно. Мы не отходили от радио, ожидая вестей. И вот, на рассвете шестого марта, радио принесло весть о смерти Сталина. Стоя у репродуктора, мы все, вместе с Серафимой Петровной и Сергеем Васильевичем — нашими хозяевами, слушали Москву и ее «осиротевших» правителей. Речь Молотова, глотающего слезы страха (или радости?), новое назначение Берия, перемещения в «верхах» — все свидетельствовало о том, что в столице растерянность. Хозяйка наша рыдала навзрыд. «Чего же Вы плачете? — сказала я раздраженно. — Или вам жаль его, или вам мало того, что он с вами сделал?» — «Я боюсь, что будет еще хуже» — сказала, захлебываясь слезами, несчастная, запуганная Серафима Петровна. Теперь, более четверти века спустя, я понимаю, что и наше состояние было скорее не мужеством, не бесстрашием, а отчаянием — будь что будет! Этот день — 6 марта — как на грех, совпал с днем рождения Симона: ему исполнилось 22. И в то время, как из тарелки громкоговорителя неслись рыдания и траурные марши, почтальон приносил телеграмму за телеграммой — от родственников, от друзей: «Поздравляем», «Поздравляю, надеюсь лучшее будущее». Мы были почти уверены, что Симону не миновать беды: наша почта, разумеется, перлюстрировалась. А потому я выложила на стол свидетельство о рождении Симона, чтобы сразу показать эмгебешникам, когда они придут за злополучным юбиляром. Но, как видно, деятелям из райотдела МГБ было в тот день не до нас.
Комендатура тем временем усиливала свою бдительность: не зная, как отзовется новое положение в стране на «политических», комендант отдал распоряжение приходить на отметку каждые пять дней, на дом к нам в самое непредвиденное время являлся посланец комендатуры — проверить, на месте ли мы. Среди ссыльных усиленно поговаривали о том, что нас всех собираются перегнать по этапу куда-то вглубь, подальше от железной дороги. А тут еще на все мои письма «на высочайшее имя» приходили ответы, не оставлявшие никакой надежды. Один из них я привожу полностью, как наиболее циничный из всех:
Лазебниковой Э.Е.
Сообщаю, что Ваша жалоба по делу Маркиша Переца Давидовича, адресованная в Президиум Верховного Совета СССР, передана для разрешения в Прокуратуру.
Произведенной проверкой установлено, что Маркиш П. Д. осужден Военной Коллегией Верховного Суда Союза ССР за совершенные им тяжкие государственные преступления.
Установлено также, что принятое в отношении Вас решение является правильным и основания к его отмене или изменению не имеется.
Ваша жалоба оставлена без удовлетворения.
Военный Прокурор Отдела ГВП
Капитан Юстиции
(КОЖУРА)
Только ласковые, бодрящие письма нашей «палочки-выручалочки», нашего доброго гения — моей мамы, были нашей единственной отрадой.
В апреле пришла еврейская пасха. Мы решили справить ее по всем правилам. С трудом разыскала я в поселке курицу — весна в казахстанских степях голодная, без овощей, без мяса. Наши новые друзья, Циля и Евгения Исаевна, которых я пригласила к первому ужину-седеру, принесли с собой мацу, которую выпекали в Кзыл-Орде в молельном доме, созданном небольшой еврейской общиной, главным образом из евреев-бессарабцев. Московская посылка, собранная заботливыми руками мамы украсила наш праздничный стол невиданными яствами — селедкой, сухими фруктами и кое-какими сладостями. Пришли разделить с нами праздник и заведующий школой, в которой учился Давид, кореец Пак с женой — учительницей географии, и ссыльный врач грузин Тимур Долидзе, женившийся на «вольной» женщине — враче еврейке Зине Берштейн, попавшей в это захолустье после окончания медицинского московского института.
4 апреля страну потрясла очередная сногсшибательная новость: врачи-убийцы реабилитированы! Они, оказывается, ни в чем неповинны, вся эта история от начала до конца — дело рук вредителей во главе с самим Рюминым, заместителем Министра Государственной Безопасности. Когда по радио начали передавать это сообщение правительства, я стояла в сенях у плиты, торопясь приготовить поесть моим кормильцам — Симон и Юра должны были прийти на перерыв. Вдруг до меня долетела столь ненавистная мне фамилия «Рюмин»! Ведь Рюмин был непосредственно причастен к делу Маркиша. Это он, Рюмин, в сопровождении группы офицеров КГБ приходил к нам в квартиру спустя год после ареста моего мужа — искать «вещественные доказательства» виновности Переца Маркиша. Потрясенная, слушала я голос диктора, повторявшего несколько раз один и тот же текст сообщения. Боже мой! Надо бежать скорее в комендатуру. Ведь я располагаю сведениями о «деятельности» Рюмина: я припомнила все, рассказанное мне в Москве одной из моих учениц по вязанию. Я спасу Маркиша, спасу его друзей и коллег!
Я выбежала на улицу — скорее, скорее в командатуру, к Галлиулину. По дороге мне встретились Симон и Юра. Они тоже уже слышали радио. Но их реакция была более сдержанной, они охладили и мой пыл, однако мы решили все вместе обсудить спокойно ситуацию и подумать, как мне следует действовать. Ночью я написала письмо, которое решила назавтра утром, минуя комендатуру (без разрешения которой мы не имели права отсылать официальные письма — жалобы), опустить в почтовый поезд, проходивший через станцию Джусалы. Измученная бессонной ночью, я рано утром прочитала письмо своим детям и отправилась на станцию.
У самой железной дороги находилась средняя школа Ташкентской железной дороги. Была перемена, на школьном дворе прыгали и шумели дети. Завидев меня и узнав ссыльную еврейку «Коган», — так и утвердилась за нами фамилия профессора Когана, одного из «убийц в белых халатах», они побежали за мной с криками «жид, жид, на веревочке висит». Я не выдержала и — где только хватило у меня сил — как клещами ухватила за шиворот двух малолеток-школьников, кривлявшихся и показывавших мне язык. Как они ни рвались из моих рук, я все же оказалась сильнее и притащила их в учительскую, где пораженные учителя уставились на «знаменитую» вредительницу! «Вы, что, радио не слушаете? — крикнула я им. — Хватит вам издеваться! Вы за все мне ответите, за все!» Меня так трясло, что они перепугались, стали заверять, что разъяснят своим подопечным, что врачи, а значит, и евреи — не виноваты, и так далее и тому подобное. На ватных ногах, обессиленная, доплелась я до станции и, дождавшись поезда, бросила в почтовый ящик свое письмо на имя Президиума ЦК коммунистической партии Советского Союза, а копию — моей матери. Копия эта сохранилась, и я привожу ниже письмо целиком:
поселок Кармакчи, 5 апреля 1953
Многоуважаемые товарищи!
Я, Лазебникова Эстер Ефимовна, жена известного еврейского поэта Переца Маркиша, умоляю вас прочитать мое письмо и не оставить его без внимания.
О судьбе моего мужа, арестованного в январе 1949 года, мне до сегодняшнего дня ничего неизвестно. Все долгие годы следствия (с января 1949 по декабрь 1952) он находился в Москве в Министерстве Государственной Безопасности. Мои неоднократные письменные и устные обращения оставались без ответа. Мои попытки найти следы его дела, а равно и получение решения оказались безрезультатными.
1 февраля 1953 года я и вся моя семья были сосланы в Кзыл-Ординскую область Казахской ССР сроком на десять лет с конфискацией имущества, как члены семьи изменника родины. Это жесточайшее решение было вынесено кликой Рюмина с ведома и согласия бывшего министра Государственной безопасности Игнатьева. Сейчас, когда разоблачена предательская «деятельность» авантюриста Рюмина, цель которого была разжигать национальную ненависть, арест и осуждение моего мужа являются ярким доказательством этих подлых целей. В каких страшных преступлениях должен был обвиняться Перец Маркиш, какими нечеловеческими методами должны были быть добыты его показания для того, чтобы спустя почти 4 года следствия вынести ему страшный приговор — ИЗМЕННИК РОДИНЫ! Не пощадив самого Переца Маркиша, Особое совещание при бывшем министре Игнатьеве, никогда не видавшее в глаза ни одного из членов нашей семьи, заочно решает нашу судьбу и, нарушая советскую законность и уголовный кодекс Советского Союза, где срок наказания семьям изменника родине определяется 5 ГОДАМИ ССЫЛКИ, с зоологической ненавистью оголтелых расистов щедрой рукой подписывает ни в чем неповинным людям 10 ЛЕТ ССЫЛКИ В КАЗАХСКИЕ СТЕПИ. Здесь местное УМГБ не считает возможным оставить нас в областном городе, где мы могли быть полезны, как специалисты и направляет нас в поселок Кармакчи в 165 км. от города. Здесь мы попадаем в атмосферу враждебности со стороны населения и недоверия со стороны местного начальства. Наше еврейское происхождение решает нашу печальную судьбу — нас принимают за семью одного из врачей, объявленных еще в ту пору убийцами и шпионами. Это вызывает звериную ненависть детей местного населения — нас преследуют дикими криками «Абрам, еврей, чтоб ты сдох скорей». Нас забрасывают камнями, не принимают на работу. Мы обречены на моральное и материальное умирание. Мы просим вас, уважаемые товарищи, помогите нам. Заинтересуйтесь судьбой Переца Маркиша и сообщите нам, как бы страшна она ни была. Помогите узнать, где он и жив ли?
Э. Лазебникова
Мучительно долго тянулось время. Мы ждали чуда, которому не суждено было свершиться. Но мама писала нам, что она не перестает хлопотать, что «говорят» о переменах к лучшему, что унывать ни в коем случае не следует. Человек так устроен — он верит. И мы хотели верить, что жизнь наша еще не окончательно погублена. Редкие друзья, оставшиеся нам верными, помогали нам посылочками — кто пришлет крупы, кто сахару. Были и такие, которые помнили, что я еще не старая женщина, что любила в прошлой своей жизни приодеться, и баловали меня новеньким платьем, кремом для лица, духами. И я по сей день благодарна моим друзьям, не давшим мне опуститься, помогшим сохранить веру в себя.
Нашу Лялю мы обнаружили благодаря ее другу по институту, прекрасному, благородному Николаю Рапаю, молодому и одаренному украинскому скульптору, поехавшему вслед за Лялей в Красноярский край, куда она была сослана после того, как ее арестовали 19 февраля 1953 года прямо на занятиях в Киевском Художественном институте. Ляля писала из Долгого моста — деревни, куда она была сослана, — что Николай Рапай приехал к ней и предложил разделить с ней ссылку, жениться на ней. Они поженились и Николай уехал, чтобы добиться академического отпуска на год, а потом вернуться к Ляле.
Но после реабилитации врачей я с новой упрямой настойчивостью писала во все инстанции, запрашивала о Маркише, добиваясь пересмотра его и нашего дела, — а главное, понимая, что этого легче будет добиться, — просила разрешить всей семье Маркиша соединиться в одном месте. Просила я разрешить и моему брату Александру Лазебникову отбывать свою бессрочную ссылку рядом со своей единственной сестрой. Тщетно ждали мы ответа.
Однажды в начале мая за мной пришел из комендатуры посыльный и велел немедленно явиться к майору Ахметову. Обычно, вызов в комендатуру не предвещал ничего доброго. С тяжелым сердцем отправилась я туда в сопровождении Симона и Давида. Войдя в комнату, громко именовавшуюся «кабинетом» Ахметова, я сразу же по гневному выражению лица вершителя наших судеб поняла, что ничего приятного мне этот визит не сулит. И, увы, я не ошиблась. Ахметов, набросившийся на меня чуть ли не с кулаками, орал и бесновался больше обычного. Из всех его воплей и криков я с трудом поняла, что речь идет о Давиде. Оказалось, что мой младший сын, не спросив у меня разрешения, вместе с одним из своих товарищей переправился на лодке на другой берег Сыр-Дарьи и удил там рыбу. Ссыльным не разрешалось отлучаться далее чем на 5 километров, а ребята нарушили это правило. Так вот, за преступление несовершеннолетнего сына, в случае повторного нарушения им установленных правил, я буду осуждена на 25 лет каторжных лагерей!
Впервые за все время ссылки я была испугана настолько, что не осмелилась даже возразить Ахметову и подписала акт и обязательство отвечать в дальнейшем за поступки сына. Когда я вышла к дожидавшимся меня сыновьям, они, слышавшие истошные крики Ахметова, кинулись ко мне, счастливые уже тем, что все-таки на этот раз все обошлось относительно благополучно. По дороге домой я и дети молчали — у всех было тяжело на душе.
Дома я попыталась, как могла, объяснить Давиду, что он человек подневольный, обязан подчиняться требованиям комендатуры и что его непослушание может обойтись мне очень дорого. Мне больно было за мальчика — в его возрасте очень трудно отказывать себе в мальчишеских удовольствиях, сознавать свою ущербность. Давид, не слишком разговорчивый от природы, и вовсе умолк. Улегшись на сундук, служивший ему постелью, мальчишка пролежал, отвернувшись к стене, весь долгий день и всю ночь, до самого утра. Больше мы к этой теме не возвращались, избегая травмировать мальчика.
Все меньше оставалось надежды на скорое освобождение, все труднее было мириться с мыслью, что полковник, сказавший мне, что мы никогда ничего не узнаем о Маркише, может оказаться прав… Как-то жарким летним днем, когда мы уже меньше всего ожидали перемен, меня снова вызвали в комендатуру. Там, кроме ненавистного мне Ахметова, сидел какой-то незнакомый человек, по облику русский. Ахметов на сей раз был почти любезен. По вопросам, которые он задавал мне, я начала догадываться, что вызов этот связан с моим письмом, которое я писала в Центральный комитет назавтра после реабилитации врачей. Первой мыслью моей было, что мне не избежать теперь лагери, — ведь я отправила письмо, минуя комендатуру! Но тут в разговор вступил незнакомец, сказал, что он приехал из «центра», что письмо мое, направленное в Москву, внимательно изучалось, что он интересуется условиями нашей жизни, нашим трудоустройством. Я просила его только об одном — разрешить нам переехать в районный центр, в Кзыл-Орду, где мы сможем применить свои знания, начать работать по специальности, преподавать иностранные языки.
Окрыленная, мчалась я домой, скорее поделиться надеждами со своими. А тут еще и новое событие: вопреки официальному указу об амнистии, вышедшему вскоре после смерти Сталина и распространявшемуся только на уголовных, нам вдруг объявили в той же комендатуре, что срок нашего наказания сокращен наполовину. Мы приободрились, еще с большей энергией стали писать во все инстанции, разыскивая Маркиша, добиваясь пересмотра дела.
Лето шло к концу. Тяжелое, мучительное, не только потому, что нам, жителям средней полосы России, невмоготу было справляться с жарой, доходившей в этой голой степи до 40° по Цельсию, а потому что впереди нас опять ждала холодная, беспросветная зима, без надежд на перемены в нашей судьбе. Однако постепенно стали доходить из Москвы вести о каких-то сдвигах к лучшему — кого-то освободили, кому-то заменили лагерь ссылкой, поговаривают, будто начала работать комиссия Центрального Комитета по пересмотру дел заключенных в лагерях.
Однажды, в августе, прибежала к нам взволнованная Евгения Исаевна. Она получила вызов в комендатуру, где ей сообщили, что она свободна и может ехать к своим детям. Это была действительно ошеломляющая новость. Значит, «оттепель» началась. Правда освобождение Евгении Исаевны, путавшей Маленкова, первого заместителя Сталина, с маршалом Малиновским и называвшей Сталина — «Сталиновым» еще ни о чем не говорило: она ведь была сослана в 38 году, ни разу не осмеливалась просить о пересмотре своего «дела» и, по-видимому, комиссия начала свою деятельность со старых списков. И все же мы, хотя и старались не слишком себя обнадеживать, повеселели. Мы даже устроили вечеринку, созвав весь наш кармакчинский «бомонд», судили и рядили о переменах, начавшихся после падения Берия (он был арестован еще в мае). Я снова написала в Москву, напомнив о нашем тяжелом положении, о нашей просьбе — перевести нас в Кзыл-Орду, где мы могли бы работать по специальности.
К этому времени в жизни моего старшего сына Симона произошли серьезные перемены — к нему приехала его университетская подруга. Она закончила учебу, получила диплом преподавательницы английского языка и попросила назначение в Кзыл-Орду. Перед самым началом учебного года, буквально за несколько дней, нам разрешили, наконец, перебраться в областной центр.
18. Вавилонская башня в Казахстане
В первый раз мы увидели Кзыл-Орду без конвоя за полтора месяца до переезда.
В нашем поселке не было рентгеновского аппарата, а Симон в первую половину лета дважды болел воспалением легких (при жаре свыше 40 для непривычного человека — это явление очень частое), и ему необходимо было сделать рентген легких. Наш друг, доктор Теймураз Долидзе выдал Симону (а заодно и мне) соответствующие медицинские свидетельства для комендатуры, и нас отпустили на неделю в «областную столицу».
После полугода в глуши, в пустынной степи, город поразил нас забытыми прелестями цивилизации — двухэтажными домами, мощеными улицами, хорошей баней, кино, магазинами, рынком. Но самой счастливой была встреча с деревьями — громадными чинарами, тянувшимися вдоль арыков, по которым бежала вода. Мы с завистью глядели на прохожих, скорее всего — таких же ссыльных как мы, но одаренных от начальства несравненными преимуществами жизни в этом зеленом раю.
Теймураз Долидзе дал нам письмо к врачу областного туберкулезного диспансера Эди Похис. Эди была вольная, а ее муж — ссыльный. Йекутиэль (или «Ксил», как звали его родные и знакомые) Похис попал в Кзыл-Орду в 1940 году, восемнадцатилетним юношей. Его отец владел лавкой в бессарабском городке — в Бельцах, в том самом местечке Бэлц, о котором поется в одной из самых популярных еврейских песен (Beltz, main shtetele Beltz), и, когда Красная Армия, по приказу Сталина и с благословения Гитлера, оккупировала часть Румынии, отправился, вместе с десятками тысяч других «буржуев», в сибирские концлагеря, где и сгинул бесследно. А семью сослали. Ксил работал кем придется и как придется, чтобы прокормить мать и младших братьев. За тринадцать лет он сделал «прекрасную карьеру» — стал заместителем заведующего оптовой базы Облторга (областного отдела торговли); заведующим базой был, разумеется, вольный, партийный и нееврей, но он только получал жалованье, крал и брал взятки, а работал — день и ночь — Ксил Похис.
Ксил был совершенно новым для меня типом человека и еврея, таких людей мне прежде встречать не доводилось. Он принадлежал к «классу эксплуататоров» (пусть в прошлом), к той местечковой буржуазии, которую так пламенно и так искренне ненавидел Маркиш и вся еврейская революционная поэзия. Но он был сама доброта, сама тактичность и деликатность, сама готовность помочь другому в беде. Он торговал, а стало быть, по нашим, советским понятиям, принадлежал к самой низменной профессии, неотделимой от грубости, тупости и мелкого мошенничества. Ксил Похис не успел кончить ничего, кроме средней школы, и жизнь в ссылке не способствовала накоплению интеллектуального багажа. Но это был подлинно интеллигентный, хорошо образованный человек, с широким кругозором и ясным, четким взглядом на мир, человек с идеями и мировоззрением. Последнее было особенно поразительно. Советское общество, неумолчно кричащее о высокой идейности, на самом деле — самое безыдейное в мире: место убеждений давно заняли либо сегодняшний газетный лозунг, либо — намного чаще — равнодушие или страх; этот урок за годы после ареста Маркиша, я успела усвоить прочно. Ксил же, повторяю, был цельной натурой с цельными и твердыми убеждениями. Ядром их была идея еврейства, но совсем не такая, какую несли и лелеяли Маркиш и его друзья. Я не знаю, насколько глубоко верил Ксил в Бога (быть может, и вовсе не верил), но иудаизм с его обрядами и традициями был для него необходимой, неотчуждаемой частью еврейской жизни и еврейской идеи. Не фанатизм, не истерические требования верности каждой букве древнего Закона, но спокойное, я бы сказала, почти физиологическое ощущение: без встречи субботы, без торжественного праздника Пасхи, без «страшных» осенних праздников, без радости Хануки и Пурима нашему национальному самосознанию не уцелеть, не выстоять.
На Йом-Кипур (Судный день) я была в синагоге — чуть ли не впервые в жизни и, во всяком случае, впервые — всерьез. Всерьез — потому, что я пришла не полюбопытствовать на чужие молитвы и чужое покаяние, но почувствовать себя среди своих, среди тех, кто необходим мне, и кому, в свою очередь, необходима я, ибо судьба наша — общая. Мы разделяем муки, кровь и скитания прошлого и настоящего, но мы разделяем и свет будущего. Конечно, каждый волен выйти из этой общности (впрочем, Советская власть такой воли не дает), но каждый уходящий уносит с собой частичку будущего света — и он меркнет.
Тесный, приземистый дом, всего две комнаты, разделенные коридором, — вот и вся кзыл-ординская синагога. В одной комнате — «бессарабцы» (т. е. все европейские евреи), в другой — «бухарцы» (такое разделение, объяснил мне Ксил Похис, неизбежно: бухарские евреи не только говорят на своем языке — диалекте персидского, но и обряды у них не совсем те же; однако, разделенные коридором, мы чувствовали себя одной общиной, одним народом). Здесь, глядя на ветхого, сильно за 80 раби в белом, похожем на саван облачении, глядя на лица вокруг, такие разнообразные, такие несхожие друг с другом, разглядывая исподтишка, после окончания службы, «бухарцев» — величественных седобородых стариков, юношей, словно с персидской миниатюры, неправдоподобно красивых девушек и столь же неправдоподобно тучных женщин, — я почувствовала и поняла, что такое ЖИВОЕ еврейское общество с его сплочением и взаимопомощью, не интеллигентная верхушка (писатель, актеры, художники), отделенная от народа и уже в силу одного этого отчужденная от него, несмотря на всю свою любовь к народу, но сам народ, объединяющий ученых и малограмотных, зажиточных и неимущих, благочестивых и далеких от религии (таких, как я).
Но это было много позже, в октябре, а теперь, в конце июля, мы с Симоном сидели в гостеприимном доме Похисов, смотрели в доброе лицо Эди, в кирпично-красное, обожженное и обветренное всеми зноями, морозами и ветрами Казахстана лицо Ксила, в его маленькие, спокойные голубые глаза и буквально ловили каждое его слово. Ничего особенно нового и занятного он, казалось бы, и не говорил, но речь его подтверждала наши тайные мысли, придавала робким догадкам силу окончательной истины, а нашей растоптанной и раздавленной жизни — смысл и значение. И все потому, что, казалось, нам, устами этого человека говорил народ, «кол Исраэль» — «весь Израиль», частицу которого составляем и мы: в его истории есть место и нашему «эпизоду», и кровь Маркиша — строка в его мартирологе. Это понимание, эта, поистине, вековая и тысячелетняя еврейская мудрость, звучавшая в голосе Ксила Похиса, были для нас важнее и дороже всего.
Теща Ксила, «баба Либэ» (так все ее звали, и я, с некоторым смущением, должна признаться, что не удосужилась спросить о полном ее имени), утешала и подбадривала нас на свой лад. Мешая русские слова с украинскими и еврейскими, она внушала нам, что все обойдется, устроится, наладится. Но нужно терпенье. «Памэйлах — не сразу!» — это было любимое поучение «бабы Либэ». (Происхождение слова «памэйлах» продолжает оставаться для меня загадкой и по сей день.) Еще «баба Либэ» очень любила вспоминать свои молодые годы в Киеве. В ее памяти они остались образцом культурного времяпрепровождения:
— Мы часто собирались, — с гордостью рассказывала «баба Либэ», — пили чай с вареньем и говорили по-русски.
Так же, как мудрый Ксил, наивная «баба Либэ» внушала нам почему-то предчувствие некоего будущего, если и не счастливого, то, по крайней мере, неизмеримо более благополучного, чем наше прозябание в Кармакчах. И предчувствие нас не обмануло: год без малого в Кзыл-Орде навсегда остался светлым пятном в памяти всей нашей семьи.
Стемнело по-южному быстро, и Ксил отправил нас на ночлег: в этой общине, возникшей на краю света по злой воле Советской власти, сохранялись добрые правила бессарабских, украинских, литовских и иных местечек — пришельцу всегда давали ночлег, строго чередуясь в гостеприимстве. На этот раз была очередь портного, фамилии которого память, к сожалению, не сохранила. Портной, долговязый, худой и на редкость молчаливый, явился за нами к Похисам вместе с женой, которую звали Клара и которая, в отличие от мужа, говорила не умолкая. По дороге домой Клара успела рассказать нам не только историю собственной семьи (разумеется, ссыльной), но и с полдюжины чужих историй. Наконец, мы вошли в какой-то двор, поднялись на несколько ступенек и остановились перед запертой дверью. Портной пошарил в карманах и вдруг выкрикнул резко и скрипуче:
— Клярэ, ви из дос шлисл? (т. е. «где ключ?» на идиш).
Это были первые слова, которые мы от него услышали.
Комната была совсем маленькая, и меня уложили на кровать дочери, которую отправили ночевать к родственникам, а Симона — на пол, под стол: другого места не нашлось. Не успели мы уснуть, как в открытое окно прошмыгнула тень и прыгнула на супружеское ложе. Клара, уже похрапывавшая, закричала дурным голосом:
— Кошка!
Кошка перепугалась не меньше Клары и кинулась назад, к окну. Портной безмолвствовал. Минут через 15 вся история повторилась снова, с тою лишь разницей, что на этот раз закричал Симон, которого кошка стегнула хвостом по носу. Обиды, нанесенной гостю, хозяин стерпеть не мог. Он поднялся с постели, совершенно голый (жара и ночью стояла жестокая), и произнес вторую и последнюю в нашем присутствии фразу, причем интонация была совершенно та же, что и в первый раз:
— Клярэ, ви из майн хэмд? («где моя рубашка»?)
Неторопливо облачившись в длинную, до пят ночную сорочку, портной в потемках и опять-таки весьма неторопливо обследовал свои владения, выволок кошку, которая притаилась под моей кроватью, раскрутил ее над головой, как пращу, — эта операция, естественно, сопровождалась неистовым кошачьим визгом, — и вышвырнул в окно с неимоверною скоростью. Полет, видимо, отбил у кошки охоту к дальнейшим проказам, и остаток ночи прошел спокойно.
Утром мы отправились на рынок — не за покупками, а просто полюбоваться изобилием овощей и фруктов, какого мы не видывали и в Москве. Кзыл-Ординский рынок напомнил мне детство: Баку, Тбилиси, Константинополь. Но облик азиатского базара ему сообщили не коренные жители, не казахи. Казахи, еще в недавнем прошлом кочевники, не знают традиций огородничества и садоводства, а кухня их не знает ни фруктов, ни овощей. Основу кзыл-ординского базара заложили корейцы — первая этническая группа, отправленная Сталиным в ссылку целиком, не за преступление, а за национальную принадлежность. В 1937 (или 6) году, опасаясь войны с Японией, Сталин приказал ликвидировать Корейский национальный округ с центром в Посьете (к юго-западу от Владивостока), а корейцев, как потенциальных японских шпионов, переселить подальше от японской угрозы — в Среднюю Азию и Казахстан. Результаты такого переселения легко себе представить: влажный морской климат сменился резко континентальным, одной этой перемены было бы довольно, чтобы погубить немалую долю старых и малых, слабых и недужных, но к ней нужно прибавить многонедельный этап в вагонах для скота, жизнь под открытым небом или, в лучшем случае, в землянках, жестокое и бессмысленное унижение людей, ни в чем не повинных.
Советская власть не признает никакой иной статистики, кроме статистики собственных успехов (подлинных или мнимых — безразлично). Нет и статистики погибших корейцев. Но те, кто уцелел, считают, что вымерло от 40 до 50 % всех переселенных, преимущественно — от туберкулеза. Оставшиеся в живых создали самые богатые и процветающие колхозы во всем Казахстане и Средней Азии, главным образом — рисовые и овощеводческие, жертвовали во время Второй мировой войны громадные деньги в Фонд обороны и заслужили прощение в несодеянных грехах.
После 1950 года корейцам дали «паспорта» (т. е. удостоверения личности), разрешили селиться, где угодно, и даже просить о переселении в Северную Корею. Но посьетские корейцы не только явили пример трудолюбия, упорства, воли к жизни.
Они были, по сути дела, первой большой группой интеллигенции в Кзыл-Орде, куда попал Посьетский педагогический институт, сделавшийся Кзыл-Ординским педагогическим. Даже в 1953 году чуть ли не половина преподавателей в пединституте были корейцы. Корейские учителя работали и во многих средних школах области. Конечно — в русских: корейские школы для вольных были такою же недосягаемой мечтой, такою же утопией, как чеченские, греческие и т. д. школы — для ссыльных. В этом случае, как и во многих иных, сталинский режим не делал различия между вольными и ссыльными. А может быть, в этом как раз и заключалось торжество сталинской национальной политики?
Что же до огородничества и садоводства, то в 1949 году неугомонная Советская власть прислала на подмогу и, отчасти, на смену корейцам… турок из Закавказья. Говорили, что это те турки, которые, проживая на территории Грузии, сохранили турецкое гражданство. Правда это или нет, я не знаю, но настоящих турок в настоящих турецких фесках видела на кзыл-ординском рынке собственными глазами. Они торговали отличной морковью, капустой, яблоками и даже грушами, успешно конкурируя с корейцами.
Первыми покинули Кармакчи Симон с женой. Разрешение на переезд в Кзыл-Орду пришло в последних числах августа, до начала учебного года оставались считанные дни, и жене Симона следовало поскорее представиться будущему начальству: она получила в Москве назначение в так называемую «железнодорожную школу», т. е. школу, подчиняющуюся не городскому или областному отделу народного образования, а особому, школьному отделу Министерства путей сообщения; такие школы давали своим сотрудникам разные льготы. Да и Симон, не слишком полагаясь на слухи, будто преподаватели иностранных языков в Кзыл-Орде нужны позарез, не хотел опаздывать к началу учебного года. Жену Симона, действительно, встретили с восторгом, с распростертыми объятиями. Симона ожидал прием менее восторженный. Заведующий городским отделом народного образования Крикбаев, молодой, неглупый и потому в меру циничный казах, сперва объявил сыну, что кзыл-ординские школы в его услугах не нуждаются, но затем прибавил, что, если бы инструктор обкома партии товарищ такой-то (и Крикбаев назвал фамилию) оказался иного мнения, то работы для Симона было бы невпроворот. Вот, например, в главной мужской школе города, школе имени Ленина, нет учителя английского языка.
Эту противоречивую информацию товарищ Крикбаев выдал ровным и даже равнодушным тоном, но в заключение подмигнул и щелкнул пальцами. Все было ясно: требовалась санкция (или, как говорят в Советской России, «добро») обкома.
Симон не стал терять времени даром и прямо из ГорОНО направился в обком. Инструктор, к которому его послал Крикбаев, выслушал его с полным участием (среди прочего Симон сказал: «Если ссыльные не лишены права голосовать на выборах, то почему нас лишают права на труд?»), и тут же позвонил Крикбаеву. «Добро» было дано и получено. Крикбаев немедленно назначил Симона в школу Ленина, стоявшую, как и можно было предполагать, на улице того же имени.
Надо сказать, что возможность как-то существовать в условиях сталинского террора была связана, прежде всего, с российским неведением системы и порядка. Мне кажется, что именно это выгодно отличало советский тоталитаризм от гитлеровского. Если бы к «социалистической» кровожадности прибавилась немецкая пунктуальность и методичность, жизнь была бы совершенно непереносима.
Места ссылок столько же отличались друг от друга климатическими условиями, сколько правилами, запретами и открытыми возможностями. Казахстан слыл между ссыльными раем, особенно — Южный Казахстан, на краю которого мы и оказались милостью счастливого случая. Здесь не только были такие неслыханные, скажем, для Сибири или далекого севера Европейской части России блага, как картофель и редька, арбузы и дыни, но, — что гораздо существеннее, пожалуй, — ссыльный здесь не чувствовал себя изгоем и отщепенцем, каждый миг помнящим о том, что он отброс общества, существо низшего порядка по сравнению с любым «вольняшкой». Это было особенно важно для людей интеллигентных профессий.
В Сибири, в Красноярском крае, куда попала наша Ляля, ни один ссыльный не имел права заниматься никаким интеллектуальным трудом. В селе Долгий Мост, где очутилась Ляля, для нее не нашлось иной работы, кроме телятницы, а потом — штукатура. И это было в порядке вещей: в том же селе жил профессор математики, который работал плотником. Мало того, даже вольные родственники ссыльных, приезжавшие к ним по собственному почину, подпадали тому же запрету: никакой работы, кроме физической. В наших же краях я бы, пожалуй, не могла назвать человека с образованием, который был бы вынужден копать землю или класть кирпичи. Сколько я могу припомнить, в том же положении находились семьи всех «подельцев» Маркиша, сосланные одновременно с нами в разные районы Казахстана.
Вскоре вслед за Симоном и его женой прибыли в Кзыл-Орду и мы все. Симон снял целый дом (3 комнаты) у бессарабца, человека богатого, по кзыл-ординским масштабам и понятиям: он владел тремя домами (записанными на разных его родственников) и два из них отдавал внаем. Когда мы впервые встретились с хозяином, племянник Маркиша, несмотря на свои 25 лет, представился по-детски, уменьшительным именем: «Юра». Пораженный такой непосредственностью, наш хозяин, громадный и тучный еврей лет 60 с гаком, тоже назвался уменьшительным именем да еще исказил его на свой лад: «Вулодя». Так он и остался в наших семейных преданиях «рэб Вулодей».
Дом «рэб Вулоди», как видно, долго пустовал, и собаки со всей округи облюбовали большой двор за домом как место для своих свадеб и поединков. Что ни ночь, под окнами начиналась дикая кутерьма, вой, лай, грызня: распугать и разогнать свору, а главное, отвадить ее от привычного места не было никакой возможности. Помучавшись с неделю, мы стали искать другую квартиру.
Так на карте моих житейских странствий появилась еще одна веха — Казахская, 46: две комнаты и коридор (он же кухонька) в солидном, добротно и надежно построенном одноэтажном доме на высоком фундаменте. Здесь мы прожили больше девяти месяцев, вплоть до возвращения в Москву.
Учительствовать Симону было непросто, особенно — на первых порах. Русские школы в Кзыл-Орде были доподлинно Ноевым ковчегом: социальная и национальная политика великого Сталина, отца всех народов, смешала здесь все языки и племена. Первое, что сказал Симону директор школы Юрьев (о котором мой сын сохранил самые лучшие и благодарные воспоминания), было:
— У нас работать трудно. Не Москва. Двадцать две национальности. Да к тому же все больше ссыльные.
Действительно, национальный состав школы послушно зафиксировал все волны репрессий, вернее было бы сказать — все опыты геноцида, которые кремлевский дьявол ставил на земле Казахстана. Корейцы, молдаване, бессарабские евреи, немцы, чечены, ингуши, карачаевцы, балкарцы, греки, турки — одних только «опальных народов» я насчитала уже десяток, и я далеко не уверена, что припомнила всех. К ним надо прибавить детей из разных уголков Советского Союза, детей, чьи родители волей, а гораздо чаще неволей очутились в Кзыл-Орде. Дух шовинизма и национальной розни, который усердно насаждался пропагандой с первых дней войны и буйно разросся в послевоенные годы, не мог не отравить и детского общества. А дух (или, вернее, тление, трупный яд) ссылки деморализовал ребят и обезоруживал учителей. В 6-м классе, например, сидел «злостный второгодник» — чечен без малого 18 лет от роду. Он вообще ничего не делал (быть может, и читать толком не умел) и оставался в школе, переходил все же из класса в класс лишь потому, что этого требовал карикатурный (как многие советские законы) закон о всеобщем обучении: каждый гражданин СССР до 18-летнего возраста обязан получить неполное среднее образование (7 классов). Хочет он этого или нет, может или нет — неважно! 18-и лет нет? семи классов нет? — сиди в школе! Чечен и досиживал свой последний год. Он не только не желал учиться, но и вел себя ужасающе, терроризируя и одноклассников, и преподавателей.
Однажды после уроков Симон попытался потолковать с ним по душам:
— Послушай, ты ведь взрослый человек и совсем не дурак, твои знания нужны тебе, а не мне и не директору.
Парень нахмурился.
— Вы ведь тоже ссыльный? — спросил он вместо ответа.
— Да.
— Ну, так чего ж вы мне сказки рассказываете! На что ссыльному, чечену знания, учение? В армию нас не берут, учиться в другой город не пускают. Здесь живи, здесь подохни! Если б у меня талант был, тогда, может, учителем бы стал. А я обыкновенный. А обыкновенному куда дорога? Канавы рыть или на мясокомбинате баранов резать.
Что можно было на это возразить? Симон промолчал. И чечен оценил его молчание: на уроках английского языка он больше не безобразничал.
Дети, с момента рождения официально поступавшие под гласный надзор МГБ, с первыми шагами усваивавшие первые уроки социальной несправедливости и безудержного, фантастически наглого советского лганья и лицемерия, первые уроки национального унижения, не могли отвечать учителю (т. е. начальнику!) ничем иным, кроме настороженности и вражды, не могли упустить случая поддеть его, поиздеваться над ним. Нужно было обладать истинным педагогическим талантом и бесконечной любовью к этим несчастным детям, чтобы завоевать их признание и ответную любовь. Симон этими качествами не обладал, к тому же он и сам был еще совсем мальчишка. Однако первые битвы с учениками он выиграл, и результатом было корректное перемирие, в общем соблюдавшееся исправно.
Предметом этих первых битв было отчество Симона — Перецович.
Когда Симон, знакомясь с классом, писал на доске свое имя и отчество, ликованию учеников не было предела. Они вопили на все лады: «Перцович», «Горчицевич», «Чеснокович», «Солевич» и т. д. (Была, несомненно, в этих воплях немалая доля антисемитизма.) Но сын сохранял спокойствие, и, хотя первый урок, как правило, бывал сорван, встревоженный директор не сумел уговорить Симона назваться каким-нибудь не столь вызывающе еврейским отчеством, например, «Петровичем» или «Павловичем». На третьем или четвертом по счету уроке с «Перецовичем» смирились даже самые буйные классы.
В школе Симон познакомился с преподавательницей немецкого языка Лоттой Раутенберг. Судьба ее и ее мужа, врача-рентгенолога, заслуживает того, чтобы на ней остановиться. Луи Раутенберг, немецкий коммунист, бежал из Германии после прихода Гитлера к власти. Сперва он с женою попал в Голландию. Организация, занимавшаяся устройством беженцев, предложила им на выбор Мексику или Советский Союз, и они выбрали «родину социализма». Получив вначале место в одной из лучших больниц Москвы, Луи вскоре, в первые месяцы 1937 года был арестован и осужден Особым Совещанием на 8 лет заключения в лагерях. Лотта преподавала в Московском институте иностранных языков. После ареста мужа она попала в категорию «социально-опасных элементов» (существовала в Советском Союза и такая разновидность политических преступлений) и в начале войны оказалась в Сибири, на принудительных работах. После войны, освободившись, но не имея права жить в Москве, супруги Раутенберг приехали в Кзыл-Орду, куда Луи был направлен рентгенологом в областную больницу, и здесь, совершенно для себя неожиданно, превратились в ссыльнопереселенцев. Дело в том, что, получая, после выхода из лагеря, удостоверения личности и плохо понимая, что такое «национальность» по советским представлениям, они назвались немцами. А кзыл-ординская милиция, привыкшая к «советским» немцам, вывезенным на вечную ссылку в Казахстан в первый месяц войны, тут же изъяла у Раутенбергов «паспорта», поданные для прописки, и передала обоих супругов в ведение спецкоменданта. В течение долгих лет Раутенберги безуспешно пытались доказать, что они евреи, обращаясь в столь несхожие одна с другой инстанции, как архив бывшего города Кенигсберга и Комитет по делам религиозных культов при Совете Министров СССР в Москве. Человек старается доказать, что он еврей, — в начале 50-х годов это казалось бессмысленной и безвкусной шуткой! Раутенберги вернулись в Германию (Восточную, конечно) в 1956 году — реабилитированные Советской властью, но так и не убедившие ее в том, что они евреи.
Бездетные Раутенберги привязались к моим сыновьям. Очень скоро простое знакомство перешло в дружбу; Лотта и Луи стали желанными завсегдатаями в нашем доме. У них уже был собственный домик, приобретенный с помощью сестер Луи, живших в далекой Америке, но не забывавших своими заботами брата. Лотта, изумительная кулинарка, баловала нас пирогами своего изготовления.
В Кзыл-Орде жил также Михаил Давидович Ромм, известный в свое время спортсмен и спортивный журналист, первый вратарь первой русской футбольной команды, выступавший в международных матчах еще до Первой мировой войны. (Он приходился двоюродным братом кинорежиссеру Михаилу Ильичу Ромму, осмелившемуся отказаться принимать участие в антиизраильских пресс-конференциях «дрессированных евреев», столь часто проводимых в свое время в Советском Союзе. Ромм заявил, что ненавидит фарс как жанр, а потому играть какую бы то ни было роль в фарсе, поставленном Драгунским и Дымшицем, категорически не согласен.) Судьба Михаила Давидовича Ромма тоже примечательна в своем роде. Этот человек огромного роста и очень незаурядной внешности работал юрисконсультом на мясокомбинате — одном из самых важных в Кзыл-Орде предприятий. Жена Ромма, избежавшая ареста, отреклась от него, и одинокий, всеми позабытый, он женился на простой, малообразованной женщине, у которой снимал комнату. Дуся была человеком необыкновенной доброты и большого природного ума; несмотря на отсутствие образования и воспитания она понимала своего мужа куда лучше его первой жены-актрисы. После реабилитации, где-то уже в конце 50-х годов, Ромм не захотел расставаться со Средней Азией и заново начинать жизнь в столице, за место в которой надо было еще бороться, а сил на борьбу уже не было: Михаилу Давидовичу шел восьмой десяток. Так и закончил он свои дни в южноказахстанском городе Чимкенте, где Союз писателей дал ему квартиру.
19. Прощай «Ехil[3]-Орда»!
В ноябре 1953 года получила, наконец, разрешение перебраться к нам наша Ляля. Она ехала через всю огромную страну — от Красноярского края в Сибири до Кзыл-Орды на пороге Средней Азии. Ехала одна, без сопровождающих, но с так называемым «отпускным билетом», предъявляя его при каждой проверке документов в поездах. И вот уже почти вся наша семья в сборе. Ляля устроилась на работу в детский дом для подкидышей и детей, брошенных матерями в родильных домах; такие заведения называются в СССР «домами младенца». Должность ее громко именовалась «художник-декоратор», но платили ей гроши. Тем не менее, все вместе мы могли жить безбедно. Ляля ждала ребенка; вскоре приехал и ее муж.
Новый 1954 год мы встречали у себя на Казахской, в большом обществе новых, но уже близких и верных друзей. Несмотря на непроницаемый по-прежнему мрак, окутывавший судьбу Маркиша, несмотря на собственную нашу неволю, эта встреча Нового года была без сравнения более спокойной и даже счастливой, чем прошлогодняя. И не только потому, что мукам ожидания настал какой-то конец, но и потому, что уже первый год без Сталина принес свет и надежду всей измученной стране, в том числе — и нам. Вдобавок мы чувствовали себя великими удачниками: город, работа, круг интеллигентных, умных, доподлинно близких людей. В глубине души мы уже твердо верили, что наступающий год будет годом нашего освобождения. Но высказывать это вслух не смели — даже самим себе.
Зима в Кзыл-Орде суровая, со страшными, почти ураганными ветрами. При таком ветре и слабый мороз — грозный враг: можно обморозиться в считанные минуты, даже не заметивши этого. В конце января Симон, в дополнение к урокам в русской школе, получил часы в казахской школе: учительница немецкого языка ушла в декретный отпуск, и заменить ее было некому. Казахская школа находилась не более, чем в четверти часа ходьбы от школы имени Ленина, и за большую перемену сын успевал добраться из одной в другую. Как-то раз, в очень ветреный, но сравнительно теплый день (на дворе было всего —7 °C), он, по обыкновению пришел прямо в класс, не снимая пальто: топили плохо, ни дети, ни учителя не раздевались. Нос и уши у него совершенно побелели, но впопыхах, торопясь начать урок, он этого не почувствовал. В казахских же школах — не в пример русским — ученики были очень почтительны и не посмели прервать учителя, приступившего к объяснениям. Симон спохватился только в середине урока, но было уже поздно: нос раздулся картошкой, а уши — толстыми оладьями.
Дисциплинированность маленьких казахов вызывалась, понятно, не национальными достоинствами или недостатками, а… жестокими побоями. Приводя малыша впервые в школу, отец низко кланялся учителю и произносил традиционную, почти сакраментальную фразу: «Мясо твое, кости мои», т. е. бей, как вздумаешь, только костей не ломай. И просьба эта выполнялась неукоснительно. (Били, впрочем, и в русских школах, но с оглядкой, украдкою, опасаясь родителей, в особенности таких, как обкомовские бонзы или начальник тюрьмы со знаменательной для российского уха фамилией Палюга; опасались, но били, потому что юный Палюга, намного более годный для заведения, возглавлявшегося его папашей, чем для общеобразовательной школы, не признавал никаких иных доводов, кроме тяжелого кулака преподавателя физкультуры).
Главным бичом казахской школы были противозаконно ранние замужества. Женские классы (раздельное обучение, введенное Сталиным в середине войны, ограничивалось в большинстве казахских школ разделением на мужские и женские классы) пустели чуть не вполовину на четвертом и пятом году обучения, т. е. когда девочки достигали 11—12-летнего возраста. И тут уже никакие законы не помогали: обычай был сильнее советских законов.
Я так много и подробно говорю о школьных порядках и беспорядках потому, что рассказы сына хорошо сохранились в памяти и еще потому, что уклад школьной жизни, как мне представляется, хорошо и верно отражает уклад жизни за пределами школьных стен и школьного двора. Позволю себе рассказать еще о двух учениках Симона.
В середине февраля, когда мы уже отметили первую годовщину нашей ссылки, а снег на улицах уже стаял и грязь подсохла, наши окна стали предметом внимания неизвестных злоумышленников. Часов около восьми вечера начинался стук в стекло, сперва слабый, потом все громче, сильнее, и наконец, разбитое стекло осколками осыпалось на землю. В первый вечер мы выскакивали на улицу раз десять, но так ничего и не поняли, не сообразили. На другой вечер глазастый Давид углядел над опустевшею рамой веревочку с камушком, заброшенную на сук соседнего дерева: дергая за конец веревки, чьи-то руки в темноте постепенно раскачивали камушек, пока он не разбивал стекла. На третий вечер мы устроили засаду. Юра, Симон и, само собой, разумеется, Давид, караулили во дворе, у калитки, поджидая моего сигнала, Едва раздался первый, еще робкий стук, я подала знак, мои мальчики опрометью ринулись к деревьям у обочины и вытащили из тени на свет двух подростков лет по пятнадцати. Один из них оказался учеником Симона, другого никто не знал. Обоих торжественно повели в милицию. Ученик Симона плакал и просил прощения, второй же, напротив, держался спокойно и даже несколько развязно. В милиции все объяснилось. Незнакомец был тут же отпущен с миром, и «акт о хулиганстве», составленный дежурным сержантом, упоминал лишь одного хулигана. На изумленные и негодующие вопросы Юры и Симона милиционер, не стесняясь и не таясь, ответил:
— Так это же сын секретаря обкома! Мы на него уже сколько раз папе жаловались, а он все балуется, озорник этакий!
Внук возчика и сын советского гаулейтера били стекла вместе, но первый — хулиган, малолетний правонарушитель, а второй — всего лишь озорник, безобидный шалунишка. Недурной пример равноправия, справедливости и правосудия по-советски. И недурной урок на будущее обоим подросткам.
Второй ученик, о котором я хотела рассказать, был ни много, ни мало, как начальник отдела спецпереселенцев и спецпоселенцев областного управления МВД майор Бикинеев, царь и бог всех ссыльных Кзыл-Ординской области. («Специальными поселенцами» назывались высланные на определенный срок, вроде нас, и те, кто получил вечную ссылку после лагерного срока; «специальными переселенцами» назывались сосланные народы.) Майор Бикинеев учился в 8-м классе заочной средней школы и встречался с Симоном раз в неделю, сидя за партой. Он никогда не пропускал занятий, был неизменно вежлив и даже доброжелателен. Несколько лет спустя после освобождения мы с Симоном случайно встретили его в одном из центральных московских универмагов. Он был в штатском, и мы не сразу узнали его, но, когда узнали, бросились к нему, как к старому другу. Он тоже был явно рад встрече, с интересом и участием расспрашивал, как мы живем.
Отношения между жертвами режима и его агентами далеко не всегда складывались по инструкциям московского начальства и по формулам классовой борьбы с «врагами народа». В этом тоже, как мне представляется, отличие и бесспорное преимущество советского тоталитаризма против гитлеровского.
Весна быстро набирала силу; среди прочих ее примет были и летучие мыши, замелькавшие в вечерних сумерках. Однажды летучая мышь, Бог весть каким образом, залетела к нам в дом. Быть может, она и сама испугалась не меньше моего, но я перепугалась почти насмерть, когда в темноте (мы уже легли спать) что-то холодное быстро скользнуло подле моей щеки. С отчаянным криком я вскочила с постели, зажгла свет и увидела летучую мышь, метавшуюся под потолком. Мой крик разбудил весь дом. Племянник Юра, полуодетый, натянув на голову шапку-ушанку, чтоб мышь не вцепилась в волосы (в России верят, что летучая мышь садится на темные волосы), а на руки перчатки, долго гонял незваную гостью из угла в угол, пока она не нашла отворенного окна и не выпорхнула наружу. Наутро мы вспоминали забавные детали ночной суматохи, и вдруг кто-то вспомнил примету: летучие мыши — к добрым вестям:
— Ну, Юрка, жди повестки из комендатуры, ведь ты возился с летучей мышью больше всех!
И правда, примета не подвела. Несколько дней спустя Юру вызвал начальник спецкомендатуры лейтенант Гавриков (знаменательная фамилия: «гавриками» в России невесть с каких пор звали агентов тайной полиции) и сообщил ему, что он освобожден: Верховный Суд СССР принял в рассуждение его доводы, что он никогда не был членом семьи Переца Маркиша и никогда не жил с ним вместе, а был только прописан в его квартире. И в начале марта Юра уехал. Расставаться с ним было невесело — мы очень сжились за этот год ссылки, — но мы были счастливы за него. К тому же мы прекрасно понимали, что Юрина «реабилитация» (я ставлю это слово в кавычки, потому что оно было бессмыслицей и в этом случае, и в сотнях других, ему подобных: Советская власть объявляет невиновным, «за отсутствием состава преступления», человека, которого никогда ни в каких преступлениях не обвиняла, но упрятала за решетку или загнала в ссылку за вымышленные преступления другого человека, с которым первый находится в родстве, свойстве или просто знакомстве!) — еще один признак новых веяний, которые не могут не коснуться всей нашей семьи, не исключая и самого Маркиша. Какая-то искра надежды, что он жив, все еще тлела во мне.
Примерно в ту же пору приехал к нам мой брат, которому разрешили отбывать свою вечную ссылку вместе с нами. Опять-таки добрый знак в общем плане, но все-таки, в первую очередь, радость встречи, радость соединения после стольких лет разлуки: ведь брат был арестован весной 1938 года, пятнадцать лет назад! Для Шуры путешествие с Крайнего Севера в Казахстан, путешествие почти вольное, было событием необыкновенным, сказочным. Сказочно прекрасной показалась ему и наша Кзыл-Орда с ее солнцем, арыками, свежей зеленью и пивом, которое на Севере было недоступною роскошью. (Замечу в скобках, что, освободившись в 1956 году и вернувшись в Москву, Шура долго, больше года не мог пройти мимо лотка с мороженным, чтобы не купить брикета волшебного лакомства, о котором он мечтал и грезил в тюрьмах, лагерях и ссылках.)
Да, начиналась «оттепель». Слово это еще не было сказано. Его придумал Эренбург: так называлась его повесть, первое литературное произведение о первых шагах десталинизации. «Оттепель» Эренбурга была напечатана в журнале «Знамя» в мае 1954 года. Но еще до того, если память мне не изменяет, я прочитала в журнале «Новый мир» статью, которая прозвучала как удар грома. Это была невинная по теме и по названию рецензия Михаила Лифшица на книгу Мариэтты Шагинян «Путешествие по Советской Армении». Михаил Лифшиц — философ и эстетик, ученик знаменитого Георга Лукача (как известно, Лукач прожил в Москве с 1933 по 1945 год). До войны он занимал высокие посты в литературном, аппарате, но затем попал в опалу — и как еврей, и как слишком принципиальный, твердокаменный марксист, не соглашавшийся на уступки требованиям сталинской эпохи в развитии марксистской мысли. Я не знаю, с какой стороны, справа или слева, ненавидел он Сталина и сталинизм (понятия «правого» и «левого» в сегодняшнем российском понимании часто как раз противоположны одноименным западным понятиям), но всю силу ненависти, всю страсть оратора и публициста, вынужденного молчать и не год, и не два, а едва ль не десяток лет, Лифшиц вложил в удар по взбалмошной старухе Шагинян, в свое время заигрывавшей со всеми модными литературными, философскими, богословскими течениями подряд, а затем «образумившейся» и «перешедшей на твердые пролетарские позиции».
Названная мною выше книга Шагинян вышла в 1950 году. В 1951 автор получила за нее Сталинскую премию. Вдохновленная лаской вождя (все премии своего имени Сталин распределял самолично), Шагинян мгновенно подготовила второе издание, оперативно дополнив свои путевые впечатления невероятно холуйским даже по тем временем панегириком последнему гениальному творению вождя и учителя — брошюрке «Экономические проблемы социализма в СССР». Возможно, проворная старушка отхватила бы еще какое-нибудь поощрение бойкому и повадливому своему перышку, но, поскольку «нетленный гений» все же оказался и тленным, и бренным, Михаил Лифшиц воспользовался экономической и философской безграмотностью панегиристки, чтобы аккуратно смешать ее с навозом, а главное — чтобы косвенно, не называя священного еще имени, поставить под вопрос и предсмертные откровения самого гения. И это было главным в статье, которая переходила из рук в руки и зачитывалась буквально до дыр. Все понимали, что безответственная, как всегда, болтовня Шагинян — только повод, предлог. Впрочем предлог был удачный. Шагинян, как говорили в ту пору, «достойно представляла» целое поколение литературных мерзавцев, ревностно (и небескорыстно) поклонявшихся каждому из идолов, которых воздвигало начальство.
Между тем жизнь шла своим чередом, со всеми своими повседневными заботами и радостями. У меня родились внучка и внук. Внучка — в ссылке, внук на воле (жена Симона уехала рожать в Москву). А через две недели после рождения сына уехал в Москву и Симон. Вот как это получилось.
Еще осенью 1953 года дочь Вениамина Зускина, которая была сослана одновременно с нами, но в другую область Казахстана, получила из Москвы разрешение переехать в Караганду, чтобы продолжить занятия в строительном техникуме. Она сообщила нам об этом, и мы, все вместе, решили, что надо и Симону обратиться по тому же адресу и примерно с той же просьбой. И вот Симон написал на имя Хрущева, прося разрешить ему сдать государственные экзамены в любом университете, где есть отделение классической филологии, ссылаясь на то, что весь университетский курс был им успешно пройден, дипломная работа написана и защищена и лишь заключительные три экзамена, которые укладываются в какую-нибудь неделю-другую, отделяют его от законченного высшего образования. Ответа не было очень долго, и мы почти забыли об этом письме, тем более, что моя мама, которая увезла беременную жену Симона в Москву, рожать, сообщила нам, что наше «дело» пошло на пересмотр и что разные чины в разных инстанциях очень ее обнадеживают. Легко понять, как мы были взбудоражены и с каким нетерпением ждали новых вестей, уже не думая о прежних планах и надеждах.
В таком состоянии ожидания мы и находились, когда однажды, поздним вечером, вернее сказать — ночью (дело было после 12), к нам постучался сам спецкомендант Гавриков и объявил Симону, что его вызывает майор Бикинеев — на завтра, к самому началу рабочего дня. Ясно было, что случилось нечто необыкновенное, исключительно важное, раз роль курьера принимает на себя начальник спецкомендатуры собственной персоной да еще в такой неурочный час. До рассвета мы не смогли уснуть, прикидывая и так, и этак, за какою же все-таки надобностью вызывает Симона всесильный Бикинеев.
В 8 утра Симон был уже на втором этаже областного управления МВД, перед кабинетом Бикинеева, а я осталась у входных дверей: меня майор не звал, и часовой у входа меня не пропустил. Нет нужды объяснять, что я передумала и перечувствовала, пока ждала Симона. Он вышел через полчаса, и вид у него был растерянный и разочарованный.
— Ну? — бросилась я к нему.
Он протянул мне небольшой листок гербовой бумаги в разноцветных разводах. Это был печатный бланк, на котором значилось следующее:
«Отпускной билет
Выдан настоящий ссыльнопоселенцу Маркишу Симону Перецовичу в том, что Министерством Внутренних дел Союза ССР ему разрешен выезд в город Москву на 48 суток для сдачи Государственных экзаменов в Московском государственном университете».
Затем следовала дата и подпись Бикинеева.
Я поняла Симона без слов.
— Ничего. Не огорчайся. Езжай непременно. Дай Бог здоровья Бикинееву: не задержал тебя ни на миг. А пока ты будешь сдавать экзамены, нас освободят, вот увидишь!
Но у Симона были еще и другие экзамены — в школе, и эти экзамены надо было принимать, а не сдавать. К счастью их было немного, и вдобавок директор, стараясь помочь Симону, чем только возможно, поставил их в самое начало экзаменационного расписания. В последних числах мая Симон сел в поезд Ташкент — Москва. В одной руке он держал тощий и легкий чемодан, в другой — «Историю ВКП (б)»: единственным предметом, которого он опасался, была история партии — непременная участница всех государственных экзаменов во всех без исключения высших учебных заведениях Советского Союза. А про книгу, которую вез с собою Симон, говорили, что это самая удивительная книга на свете. Сколько ее ни читай, результат всегда один и тот же: раскрывая первую страницу, чувствуешь, что знаешь все наизусть, и это ощущение сохраняется до конца, но, едва перевернешь последнюю страницу, как мигом рождается уверенность, что ты ничего не помнишь.
Потянулся последний месяц нашей ссылки, быть может, самый тягостный из всех. Тяжелее были лишь первые несколько дней после реабилитации «врачей-убийц» в апреле 1953 года, когда мы были абсолютно уверены, что нас вот-вот повезут обратно в Москву — с извинениями, с почетом и уважением. Но та иллюзия быстро рассеялась, как ни печально было с нею прощаться. А теперь я знала почти точно, что конец близок, и каждый новый день в ссылке казался мукой. Июнь в Кзыл-Орде очень жаркий, и, по свойственной человеку неблагодарности к судьбе, я уже не видела тени деревьев, не слышала плеска арыков, так очаровавших меня меньше года назад, а замечала лишь этот изнурительный зной да азиатскую пыль, клубившуюся над улицами и дворами. Ничто не радовало, не отвлекало: ни заботы брата, ни его удивительные рассказы о пережитом (таких потрясающих рассказов я не слышала и не читала никогда впоследствии, даже у самых знаменитых мастеров лагерной темы), ни письма Симона о его трагикомических скитаниях по университетским и министерским приемным, где чиновники никак не могли поверить своим ушам и глазам (ссыльный в Москве! и не беглый, а наоборот — Лубянкой отпущенный и, вроде бы, благословленный сдавать экзамены в университете!), ни двухмесячная внучка Катя — ничего! Лишь позже я поняла, как эгоистично, как бессердечно вела я себя в эти дни по отношению к брату. Ведь его-то не свобода ждала, а возвращение на Север: в случае нашего освобождения ему предстояло вернуться к прежнему месту ссылки.
И наконец — развязка: вызов в комендатуру, справка об освобождении, милиция, новенький «паспорт» в руках. Все это было как в тумане, деталей я просто не помню. Помню только одно: Ксил сказал, что Симону не придется возвращаться специально за «паспортом», Кзыл-Орда — не Москва, здесь меньше волокиты и бюрократии, здесь люди больше доверяют друг другу. Мне выдали «паспорт» и для Симона. В Москве такие вольности, такой «либерализм» в милиции и вообразить невозможно.
9 июля мы уезжали. Ляля с мужем задержались еще на несколько дней; они ехали прямо в Киев, минуя Москву. Мы с Давидом поднялись в вагон. На перроне была настоящая толпа. Я подумала: «Нас сослали, чтобы изолировать, отделить от людей, замучить одиночеством. А мы были среди людей всегда, и люди были добры к нам. Может быть, потому, что и мы не испугались, не ожесточились, не замкнулись, но всегда шли к людям с доверием, с открытым сердцем?»
Прощай, Exil-Орда! Так шутили многие ссыльные. И многие — я уверена! — оставили здесь частицу своей души.
20. Илья Эренбург
В начале августа 1954 мы вышли на досчатый перрон московского Казанского вокзала. Жизнь пропыленной, блеклой Москвы нисколько не изменилась — словно бы не было в ней вовсе крови, произвола, смерти Сталина.
Жить нам, как выяснилось, предстояло в одной-единственной маминой комнатке: наша квартира была заселена. В двух комнатах жил с дочерью старик-врач — пенсионер, бывший служащий одной из больниц МГБ, одну комнату занимал преподаватель физкультуры с женой, дочкой и тещей, а четвертая комната была отдана военному прокурору. Прокурор даже и побелить ее успел — но, узнав «по своим каналам» о нашем предстоящем возвращении, не въехал. Мы туда въехать также не могли — предстояла томительная бюрократически-судебная процедура.
Таким образом, мы оказались у мамы.
Маркиш не был реабилитирован, мы ничего не знали о его судьбе. В Военной прокуратуре мне сообщили, что «по его делу ведется расследование» — и все. Другими данными Прокуратура, якобы, не располагала.
За время нашей ссылки мой шеф по обществу микробиологов — профессор Викторов — умер. Умерла и его слепая жена, и он в коротком промежутке между ее смертью и своей успел жениться на своей домработнице Фене… Преемник Викторова принял меня обратно на работу в качестве секретаря, и я занялась привычным уже делом.
В первые же выкроенные на работе несколько свободных дней я поехала в Ленинград — немного отдохнуть и навестить родню. Туда, в Ленинград, мне позвонил Симон и сказал:
— Мама, не возвращайся в Москву. У нас опять отобрали паспорта и собираются снова сослать.
Сказал он мне это, конечно, «закрытым текстом» — в СССР подобные сведения предпочитают в открытую, да еще по телефону, не говорить — на всякий случай…
В ту же ночь я вернулась из Ленинграда в Москву. У всех наших — жен и детей арестованных еврейских деятелей — были отобраны паспорта. Всем им было сообщено в милиции, что жить в Москве им не разрешено. Запрещено также проживать в Ленинграде, столицах союзных республик, городах-героях и портовых городах. Итак, нам была уготована вторая ссылка — на сей раз бессрочная. Следовало предпринимать какие-то меры, и немедленно: всем нам было дано 48 часов на сборы к отъезду. Последующее наше пребывание в «столице социалистической родины» расценивалось бы как незаконное и вело бы в тюрьму «за нарушение паспортного режима».
И я поехала в подмосковный писательский поселок — Переделкино, к Секретарю союза Александру Фадееву. Фадеева я не застала — он был в какой-то поездке. Выбираясь с огромного участка его дачи, я заблудилась и забрела на соседний участок. На открытой террасе уютной дачи я увидела Всеволода Иванова, его жену Тамару, их детей. Я хотела свернуть с тропинки в заросли — Маркиш был не реабилитирован, я не знала, как Ивановы прореагируют на мое внезапное появление. Но меня уже заметили, и Всеволод спешил мне навстречу…
Я рассказала им все.
— Что я могу сделать, чем могу помочь… — задумался Всеволод. — Я ведь, сами знаете, не имею большого влияния… Напишу-ка я письмо Генеральному прокурору Руденко — он сидел рядом со мной на Нюрнбергском процессе, может, еще не забыл меня.
Всеволод тут же написал письмо и передал его мне. И посоветовал зайти к «маститому» Леонову — он жил по-соседству. Тот с его связями и положением — мог бы помочь мне.
Тамара считала, что визит к Леонову не даст ничего. Я тоже так считала — вспомнился мне чистопольский военный эпизод на базаре, когда Леонов, уплатив вдвое, купил бочку меда, оставив наших детей без сладкого. Но мы с Тамарой собрались, пошли. У высоченного Леоновского забора Тамара остановилась, и я продолжила мой путь одна.
В ответ на мой звонок в калитке появилась горничная.
— Я к Леониду Максимовичу, — сказала я.
— Как доложить? — спросила горничная. — Он в саду.
Леонов возился над кустом роз. Вокруг него суетилась челядь.
— Ах, это вы! — узнал меня Леонов. — Какими судьбами?
— Нас снова хотят сослать, — сказала я. — Помогите нам!
Леонов посерьезнел:
— Приходите ко мне на прием — завтра, скажем, или послезавтра.
— Это невозможно, — сказала я. — Выслушайте меня!
— На прием, на прием! — повторил Леонов.
Я повернулась, пошла по дорожке, посыпанной золотым песком.
— А муж где? — крикнул мне вдогонку Леонов.
— Нет мужа! — выдохнула я, сдерживая слезы.
Леонов снова склонился над розовым кустом. Молча шли мы с Тамарой по переделкинским улицам. Писательские дети весело катили на велосипедах, за высокими заборами торчали крыши роскошных писательских особняков.
Я решила поехать к Суркову во Внуково, соседний с Переделкино писательский дачный поселок, — терять мне было нечего.
Суркова тоже не оказалось — он был в Индии. Его жена Соня встретила меня сердечно.
— Приедет Алеша — что-нибудь придумаем, — сказала Соня. — А пока, знаешь что, Фира — оставайся-ка ты у нас ночевать. Тебя здесь никто искать не будет — а то ведь сорок восемь часов кончаются, мало ли что может случиться!
Я поблагодарила от души, но оставаться не стала. Уехала в Москву.
Ночевать у мамы уже было нельзя: истекли двое суток, данных нам на сборы. И я, и дети разошлись по знакомым — приходилось скрываться. Наутро я отправилась в приемную Генеральной прокуратуры с письмом Всеволода Иванова.
В приемной, в обязательной очереди, меня окликнула какая-то женщина.
— Вы меня не узнаете! — сказала женщина. — Мы ведь познакомились, когда передачи в тюрьму носили, вы — мужу, я — дочери.
Теперь я вспомнила. Эта женщина была матерью молодой девушки, студентки Московского университета. Однажды девушка с приятелями и приятельницами поехала на прогулку за город и, увидев чахлую березку, девушка пошутила:
— Смотрите! Это контрреволюционная березка — она завяла под солнцем сталинской конституции!
В компании девушки оказался доносчик, и девушка получила за свою шутку 25 лет лагерей.
Теперь она была реабилитирована, и ее мать пришла в Прокуратуру за какими-то бумагами.
Я рассказала этой женщине нашу историю.
— Я дам вам номер одного телефона, — сказала женщина. — Вы его на всякий случай не записывайте — лучше запомните. Это — крупный цековский начальник — он занимается реабилитациями и прочими такими делами. Позвоните ему — может, он вам захочет помочь.
Написав заявление, я пришла к зданию, где располагалась контора «цековского начальника», и позвонила ему по телефону-автомату, снизу. Начальник выслушал меня, сказал:
— Напишите заявление, приходите завтра.
— Заявление со мной…
— Тогда ждите — я пришлю секретаршу, она заберет у вас заявление. И позвоните ко мне через пару дней.
Через два дня — я с детьми провела их в «подполье» — вернулся из-за границы Сурков. Я пришла к нему в Союз писателей.
— Мы тебя отхлопочем, — сказал Сурков, выслушав меня.
— Я не одна, — сказала я. — Нас много — все семьи…
Сурков стал звонить куда-то по «вертушке» — правительственному телефону, а меня попросил подождать в приемной. Я из приемной позвонила маме, и она закричала в трубку:
— Все уладилось! Звонили из милиции — ссылка отменена!
В этот миг выбежал из кабинета Сурков:
— Все в порядке, Фира! Я звонил Руденко — там, оказывается, было уже письмо Всеволода Иванова. Это был просто очередной перегиб!
Назавтра всей нашей группе, обреченной на новую ссылку, вернули паспорта и оставили нас в покое.
В эти же трудные, опасные дни я побывала и у Ильи Эренбурга.
Он был стар, даже дряхл. Верно написала о нем поэтесса Юнна Мориц — «серебряная обезьяна». Эренбург выслушал меня, задумался, перечисляя людей, которым он будет звонить в связи с нашим отчаянным положением. Потом вдруг, без перехода, начал рассказывать:
В феврале 1953 ему позвонили от имени главного редактора «Правды», предложили срочно приехать. Редактор читает ему письмо-обращение в газету «Правда». Письмо напоминает призыв к погрому — даже незавуалированный. Речь идет о «врачах — убийцах в белых халатах», о коллективной ответственности еврейства за «это преступление».
— Это письмо подпишут деятели культуры — евреи, объясняет редактор. — Вы, я надеюсь, тоже подпишете.
— Я хотел бы повременить, — говорит Эренбург.
— Ну, что ж, день-другой мы можем подождать…
Вернувшись домой, Эренбург позвонил секретарю Сталина — Поскребышеву, и попросил о встрече со Сталиным или о телефонном разговоре с ним. Поскребышев обещал разузнать о такой возможности, но два дня ожидания не принесли новостей. На третий день Эренбурга снова вызвали в «Правду».
Редактор опять предложил Эренбургу подписать письмо.
— Сталин знает об этом письме? — спросил Эренбург.
Тогда редактор молча передал Эренбургу текст с рукописной правкой. Эренбург узнал почерк Сталина.
— Письмо должно быть опубликовано завтра, — сказал редактор.
— Я не подпишу, — сказал Эренбург. — Не могу…
Вернувшись из «Правды», Эренбург попросил жену сложить вещи, необходимые при аресте. Ночь, однако, прошла спокойно. На рассвете Эренбург, не дождавшись почты, спустился за газетой — письмо опубликовано не было.
Эренбург не рассказал мне тогда ни о содержании письма, ни о том, чьи подписи уже стояли под ним. Однако теперь, сопоставляя события, можно прийти к выводу, что речь, по всей видимости, шла об известном обращении (подписанном без колебаний, в частности, поэтом Евгением Долматовским, и, быть может, композитором Матвеем Блантером), где говорилось о необходимости применить к «еврейским врачам-убийцам» самую страшную казнь.
— Я не утверждаю, что своим отказом подписать это письмо предотвратил его опубликование, — закончил Эренбург, — но, быть может, все же содействовал этому.
Попутно приведу рассказ умершего уже театрального деятеля Игоря Нежного, который до войны был директором Московского художественного театра. Рассказ этот я слышала от Нежного на Рижском Взморье летом 1959 года. Нежный был арестован в феврале 1953 года, когда «дело врачей» было уже готово к процессу. Его однажды допрашивал Рюмин. Рюмину не понравился какой-то ответ Нежного, и он его ударил всего раз и вроде бы не сильно, но Нежный оглох навсегда. Нежный шел по делу «сионистского центра», возглавлявшегося пианистом Григорием Гинзбургом. Все, взятые по делу, были из среды художественной интеллигенции.
План был такой: 6 марта 1953 года (составители плана, разумеется, не предвидели внезапной смерти Сталина 5 марта) в Колонном зале Дома союзов открывается процесс «врачей-убийц». «Убийц», осужденных всем советским народом, в том числе и всеми честными евреями, которых, разумеется, подавляющее большинство, приговаривают к повешению и вешают публично — новый важный вклад в советское законодательство и пенитенциарную систему. Но вскоре выясняется, что сионисты не унялись, не прекратили своих происков: навербовали музыкантов, артистов и других деятелей искусства, которые должны отравить советскую культуру. (Тут уже прямая связь с космополитами, «разоблаченными» еще в 1949-м, сразу после ареста наших).
Новый процесс — в начале мая, снова в Колонном зале. Снова приговоры к повешению, но на этот раз народ (не толпа, а именно народ!) в справедливой, хотя и противозаконной ярости вырывает осужденных из рук конвоя прямо у выхода из зала суда и линчует их.
Тогда должно появиться второе письмо евреев в «Правду»: гнев советского народа справедлив и неудержим, но, поскольку подавляющее большинство евреев — истинные советские патриоты и их необходимо защитить, гарантировать их безопасность, видные деятели еврейской национальности просят партию и правительство поместить советских евреев в «безопасные условия» Восточной Сибири… Бараки в Магаданской области начали строить еще при жизни Сталина.
Этот сценарий примерно отвечает и сталинской садистской психологии и его практике: он почти никогда не действовал сразу, а всегда постепенно, по этапам (примеров уйма, хотя бы ликвидация всех политических соперников, начиная с троцкистов).
Едва ли не самая поразительная деталь в этом рассказе, что вместо грандиозного спектакля — ритуального процесса, который Сталин и его подручные готовились поставить в Колонном, зале в конце первой декады марта, история поставила спектакль несравненно более грандиозный — похороны одного из самых страшных преступников нашего страшного века — Иосифа Сталина.
Впоследствии я еще несколько раз встречалась с Эренбургом — в частности, в связи с его работой над книгой мемуаров «Люди, годы, жизнь», где он писал о Маркише. На одной из этих встреч Эренбург рассказал мне о том, как его пытались привлечь к участию в «малаховском» процессе конца 50-х годов — тогда была под Москвой, в Малаховке, сожжена еврейская синагога. Сотрудник МГБ приехал к Эренбургу и предложил ему быть экспертом в процессе.
— Я ничего не знаю об этом деле, — сказал Эренбург, — в прессе ничего о нем не было.
Тогда эмгебешник предложил Эренбургу познакомиться с некоторыми следственными документами. Среди них были листовки антисемитского, погромного содержания, подписанные «БЖСР».
— Что это за подпись? — спросил Эренбург.
— Бей Жидов Спасай Россию, — разъяснил посетитель.
— Я могу выступить в процессе как общественный обвинитель, но не как эксперт, — сказал Эренбург.
— Ну, что ж, мы свяжемся с вами, — сказал посетитель.
Дальнейшей связи, однако, не последовало, и сам процесс, как известно, не состоялся.
Настойчиво, несколько раз возвращался Эренбург к тем слухам, которые связывали его с гибелью Маркиша и других членов еврейского антифашистского комитета. Он опровергал эти слухи, говорил, что ничего не знал о судьбе наших. Эренбург был слишком умен, чтобы не понимать той роли, которая была ему отведена. В пору погрома 1949–1952 годов, в то время, как антисемитизм в СССР приближался по размаху к национал-социалистическим образцам, Эренбург, постоянно подчеркивавший свое еврейское происхождение, разъезжал по всему свету и произносил речи в защиту «сталинской политики мира», опровергая «клеветнические вымыслы» об антисемитской кампании в СССР самим фактом своего появления на международных трибунах.
Кстати говоря, Эренбург, хоть и нехотя, сквозь зубы, но все же признался в своей трусости. Я имею в виду его мемуары «Люди, годы, жизнь», книга 6, глава 15 (впервые напечатано в «Новом мире» 1965, № 2). Он начинает с явной лжи: в 1949 году он, дескать, ничего не понимал, Сталин умел многое маскировать. Но что тут было не понять прошедшему огонь, воду и медные трубы Эренбургу, когда в воздухе уже пахло еврейской кровью, а по масштабу репрессий страна уже перешагнула пороги 36–38 годов, когда были депортированы целые народы — «предатели», лагеря набиты битком, а жертвы довоенных чисток, оставшиеся в живых и вышедшие на волю, возвращались за колючую проволоку?
Потом он рассказывает о Конгрессе защитников мира в Париже, куда он не хотел ехать, потому что слишком тяжело было на душе. Но все же поехал и сказал речь о том, как отвратительна расовая и национальная спесь, о том, что народы должны и всегда будут учиться друг у друга. Он выбрал такую тему в знак протеста против антисемитской, шовинистической кампании по борьбе с «космополитизмом» (читай: жидовством), бушевавшей в советских газетах, начиная со 2 февраля 1949 года. Его речь просмотрел сам Сталин и написал на полях «Здорово!», как раз против самых антишовинистических фраз. Я не верю, что умнейший и во всех водах мытый Эренбург не узнал в этом всегдашней сталинской тактики: ведь в разгар «чисток» больше всего говорилось о демократии, о правах, гарантированных советскому народу новой конституцией! Так и теперь: дома ликовала и всем распоряжалась черная сотня, а за границу, на экспорт, еврей Эренбург вез манифест интернационализма. Как же не «здорово»? Конечно, здорово! Браво!
Арагон и Триоле спрашивали его: что происходит? Что это вдруг за «космополиты» такие? Почему в газетах раскрывают старые псевдонимы, подчеркивая, что космополиты — люди с еврейскими фамилиями? «Это были свои люди, — пишет Эренбург, — я знал их четверть века, но ответить им не мог».
Кто знает, как сложилась бы судьба Маркиша и его товарищей, если бы Эренбург «смог» тогда, сказал бы правду? Ведь он сам признается дальше, что всю ночь после того ему мерещился Маркиш!
Эренбург называет это своею страшною платой за «верность людям, веку, судьбе». Зачем такие высокие слова? Я не упрекаю Эренбурга задним числом. Я только не хочу, чтобы трусость рядилась в тогу доблести.
Нам, наконец-то, разрешили занять в нашей бывшей квартире одну комнату — ту самую, в которую не успел въехать дальновидный прокурор. Врач с дочкой встретили наше водворение спокойно, зато коренастый физкультурник ярился вовсю: он, возможно, таил надежду захватить со временем незаселенную прокурорскую комнату.
Как я уже говорила, физкультурник жил в бывшей нашей столовой вместе с женой, дочерью и матерью жены, сухой старушкой. Старушке, всю жизнь проведшей в коммунальной квартире, в ее склоках и скандалах, было скучно. Время от времени она выливала на пол общей кухни свое подсолнечное масло или сыпала песок и землю в собственные кастрюли — а потом обвиняла в этих действиях Давида. Деятельный физкультурник и его жена подключались к скандалу, грозившему перерасти в рукопашную.
Старушку было даже немного жалко. Остаток жизни ей, как видно, предстоял незатяжной, и ей решительно нечем было его заполнить. Ни дочь, ни физкультурник за все время, прожитое нами вместе, ни разу не обращались к ней с какими-либо словами. Физкультурника старуха боялась как огня и тихо ненавидела. Четыре раза в неделю старуха выходила вечером на кухню и сидела там до поздней ночи, подпирая голову сухим кулачком и клюя носом, — пока неутомимый физкультурник удовлетворял свои сексуальные запросы. Старухину внучку из комнату в эти часы не выдворяли — она спала, ей было не более восьми лет. Старуха же, торча в кухне, вздыхала тоскливо и обреченно.
Эта семейка прожила с нами недолго, но крови попортила нам много. Наконец, по решению суда, они выехали, и наша столовая снова вернулась к нам. Врач же с дочерью остались жить в нашей квартире: эта семья выселению не подлежала. Они так и остались там после нашего отъезда из CCCР. Наша борьба за выезд, несомненно, доставила им немало беспокойства: их, коммунистов, наверняка таскали в КГБ, расспрашивали о нас и наших знакомых.
21. «За нами должок»…
25 ноября 1955-го исполнилось 60 лет со дня рождения Маркиша. Я с детьми и несколько ближайших знакомых сидели за столом в нашей комнате на улице Горького. Симон, наш старший, поднял бокал вина:
— Я не знаю, пью я за здоровье отца — или за его память…
27 ноября меня вызвали в Военную коллегию Верховного суда. В приемной я встретилась с женами — или вдовами? — Бергельсона, Квитко, Гофштейна, Лозовского, Шемилиовича. Там же была старая, сгорбленная Лина Штерн — единственная в ту пору в СССР женщина-академик.
Меня принял генерал Борисоглебский. Стены голого и холодного, как прозекторская, кабинета украшали портреты в аляповатых казенных рамах: Ленин, Сталин.
— Вы, наверно, догадываетесь, зачем я пригласил вас… — сказал генерал.
— Нет, — сказала я, — я пришла выслушать вас.
— Могу сообщить вам, — сказал генерал, — что ваш муж реабилитирован.
— Где он?
— Ваш муж расстрелян врагами народа, — сказал генерал привычную для него фразу и придвинул ко мне стакан воды.
— Дайте мне дело, — сказала я. — Я хочу прочитать его дело.
— Ну, вы ведь не юрист! — развел руками генерал. — Вы не сумеете разобраться в деле!
— Я хочу видеть дело моего мужа, — повторила я.
— Это невозможно, — сказал генерал.
— Когда он погиб?
— Где-то в августе пятьдесят второго, — на миг задумался генерал.
— Я хочу знать точную дату.
— Но зачем вам это? — спросил генерал с некоторой досадой в голосе.
— Это нужно мне и моим детям. Где его могила?
— У него нет могилы.
— Я хочу знать точную дату гибели моего мужа, — настойчиво повторила я.
Тогда генерал позвонил по телефону и на его звонок явился офицер, неся тоненькую папку, на которой было написано — «Маркиш, Перец Давидович».
— Двенадцатого августа 1952 года, — сказал генерал, заглянув в папку. — Может быть, у вас есть какие-нибудь просьбы, пожелания?
— Ускорьте пересмотр дела моего брата, Лазебникова Александра Ефимовича, — сказала я. — Он ни в чем невиновен, его реабилитация — только вопрос времени.
Через три дня мой брат был реабилитирован.
Я не знаю, кто судил Маркиша и его товарищей.
Я не знаю, кто еще сидел в зале суда по ту сторону «скамьи подсудимых».
Я не знаю, откуда известно людям о том, что говорил Маркиш в своем последнем слове.
По требованию прокурора все подсудимые были приговорены к 25 годам заключения. Приговор, однако, показался кому-то «наверху» — скорее всего, Сталину — недостаточно суровым, и приговор был пересмотрен Военной коллегией Верховного суда. 18 июля эта инстанция приговорила обвиняемых по процессу Еврейского Антифашистского Комитета к расстрелу. Одна Лина Штерн получила 5 лет.
По сей день многие соучастники этого преступления на свободе.
Там, в приемной, Лина Штерн сказала мне:
— Зайдите ко мне, я кое-что вам расскажу.
Я пришла к ней с детьми — я понимала, что речь пойдет о Маркише. Лина Штерн была единственной, кто уцелел на процессе членов президиума еврейского антифашистского комитета. Она получила пять лет ссылки и выжила. Другие женщины, проходившие по процессу: Мира Железнова — секретарь Ицика Фефера, журналистка Чайка Ватенберг, бывшая американская гражданка, работавшая переводчицей в Комитете, и член президиума Комитета, историк, фамилию которого я запамятовала, были расстреляны 12 августа.
Лина Штерн — крупный ученый-физиолог — приехала в Россию из Швейцарии в конце тридцатых годов. За ней пришли в начале 1949-го, сказали, что министр государственной безопасности приглашает ее на «собеседование».
Не успела Лина Штерн пересечь порог кабинета министра Абакумова, как тот заорал:
— Нам все известно! Признайтесь во всем! Вы — сионистка, вы хотели отторгнуть Крым от России и создать там еврейское государство!
— Я впервые это слышу, — сказала Лина Штерн с сильным еврейским акцентом.
— Ах ты, старая блядь! — выкрикнул Абакумов.
— Так разговаривает министр с академиком… — горько покачав головой, сказала Лина Штерн.
До мая 1952 Лина Штерн не видела никого из наших — кроме Фефера. С ним у нее была очная ставка.
Фефер выглядел больным, жалким, раздавленным.
— Ну, признайтесь, Лина Соломоновна, — сказал Фефер. — Вы ведь состояли в нашей подпольной сионистской организации…
— О чем вы говорите?! — воскликнула Штерн. — Какой организации?
— Признайтесь, признайтесь! — твердил Фефер.
В мае 1952-го начался процесс при закрытых дверях. Вернее было бы назвать это карикатурой на процесс. Обвиняемых привозили в здание Верховного суда — там заседал военный трибунал. Защиты, конечно, не было.
Лина Штерн видела окровавленного Шемилиовича, полубезумного Зускина, немощного старика Бергельсона. Видела Маркиша.
Никто из обвиняемых не признал себя виновным — кроме одного: Фефера. Выступая с последним словом, бывший заместитель министра иностранных дел Лозовский называл Фефера «свидетель обвинения».
Лина Штерн сказала нам, что Маркиш выступил на процессе с яркой, взрывчатой речью. Его не прерывали — ведь слушали его только судьи и обвиняемые. А судьи были уверены, что никто никогда не узнает, о чем говорил Маркиш. В своем последнем слове он обвинил своих палачей и тех, кто направил их руку. Штерн не могла вспомнить речь Маркиша в деталях — она помнила только, что то была речь не обвиняемого, а обвинителя… Вскоре после встречи с нами Лина Штерн умерла, и мне неизвестно, с кем еще она делилась воспоминаниями о процессе. Однако впоследствии, уже после смерти Лины Штерн, я встречала немало людей, рассказывавших мне об обвинительной, обличительной речи Переца Маркиша. И никто из этих людей не смог объяснить мне толком, откуда они об этом узнали.
После реабилитации убитых писателей, как правило, создавались комиссии по литературному наследству. Таких комиссий при Союзе писателей работало (или хотя бы значилось) уже немало. Не было никакого сомнения, что будет создана и маркишевская комиссия, и я не сомневалась, что секретарем ее назначат меня, вдову. Это значило, что, если я хочу увидеть новые издания книг Маркиша, я должна посвятить все свое время и все силы подготовке этих будущих изданий и «проталкиванию» их сквозь издательские частоколы. Поэтому я оставила служба в Обществе микробиологов и, не дожидаясь постановления Правления Союза писателей о создании комиссии, занялась архивом, черновой текстологической работой, планами будущих публикаций. Часто я приглашала уцелевших друзей Маркиша — для консультаций, советов и небольших совещаний. Во время одного из таких совещаний раздался телефонный звонок.
— Говорят из финансового отдела КГБ. За нами должок остался, — услышала я.
— Какой должок? Ведь мне вернули все деньги, которые я передавала мужу. (Выше я уже писала, что из денежных передач, которые у меня принимали в Лефортовской и Лубянской тюрьмах, Маркиш за все годы заключения не получил почти ни копейки).
— Нет, вам еще причитается за зубы.
— Какие зубы?
— За золотые коронки.
Я закричала не своим голосом. Друзья выбежали в коридор и подхватили меня — я была в обмороке. А телефонная трубка болталась и раскачивалась на шнуре, и голос счетовода смерти продолжал сотрясать мембрану сердитым бурчаньем. Кто-то схватил трубку и крикнул в нее:
— Будьте вы прокляты! Оставьте ее в покое!
Назавтра я поехала к Суркову. Выслушав мой рассказ, он пришел в ужас. Я же просила его только об одном — чтобы не было таких звонков моим более пожилым подругам по несчастью: ведь, например, Циля Бергельсон, которой уже перевалило за шестьдесят, могла бы заплатить инфарктом за беседу о коронках, вырванных подручным палача изо рта у ее убитого мужа.
Впоследствии, когда я слышала или читала о том, что не надо, дескать, ворошить беды прошлого, бередить старые раны, что лучше поставить крест и забыть я всегда говорила себе: «Зубы!»
Наконец, комиссия под председательством Петра Ивановича Чагина, бывшего директора Государственного издательства художественной литературы и друга Сергея Есенина («Шаганэ ты моя, Шаганэ!»), была сформирована.
От имени комиссии я обратилась ко многим крупным поэтам с просьбой принять участие в работе над переводами стихов Маркиша на русский язык. С благодарностью откликнулась на мое письмо Анна Ахматова. С полной откровенностью молодой Евтушенко сказал мне, что Маркиш слишком могуч и мощен для него, он не справится с переводом. Отважное и страшное письмо прислал Борис Пастернак в ответ на мое обращение:
31 Дек. 1955
Глубокоуважаемая Эстер Ефимовна!
Преклоняюсь перед непомерностью Вашего горя. Помимо своего художественного значения Маркиш был слишком необыкновенным явлением самой жизни, ее улыбкой, ее лучом, который прикосновением красоты, радующим знаком ложился всюду, куда он являлся.
Я очень хорошо помню его посещение, наш разговор и содержание подстрочника его замечательных стихов памяти Михоэлса. Но в противоположность мнению Вашего соредактора, Е. Пермяка, который пишет мне, что память у меня точнее фотографических снимков, я не только не помню своего перевода, но не помню даже, переводил ли я их. Думаю, что я только обещал и собирался, откуда и возникло это заблуждение.
Никто, ни Вы, ни кто-либо другой никогда не поверят, насколько не по-писательски устроен мой обиход, без книг, без переписки, без следов написанного, без авторского архива, с уничтожением писем и рукописей, с хранением только в душе и сердце самого необходимого.
Стихи надо перевести вновь (а может быть впервые). Это должен сделать кто-нибудь другой, Петровых или Мартынов, у нас немало превосходных переводчиков, из них одни не хуже, а другие — лучше меня.
Меня отовсюду теснят просьбами о переводах. Есть случаи, такие же высокие, достойные и страшные, как Ваш. Но если бы люди относились ко мне хорошо и внимательно, они должны были бы предостерегать и удерживать меня от переводов, а не поручать их мне. Пора мне заняться собой.
Ваш сын, очаровательный мальчик, говорил со мной о переводах, между прочим и о Шелли и Эдгаре По. Я все ему рассказал. Пусть он меня перед вами защитит.
А что наши годы наполнены были чудовищным и страшным и неисчислимыми примерами мученичества, я догадывался давно, и неспособность мириться с этим, давно, около сорока лет тому назад, определила мою жизнь и связала мне руки.
Не сердитесь на меня.
Ваш Б. Пастернак.
Стихотворение «Михоэлсу — вечный светильник» перевел на русский язык прекрасный поэт-переводчик Аркадий Штейнберг. Стихотворение это вызвало резкие возражения Николая Лесючевского — директора издательства «Советский писатель», где готовилась к изданию первая послереабилитационная книга стихов Маркиша. Лесючевский — одна из самых реакционных и мрачных фигур советской литературно-пропагандистской машины. Рассматривая макет книги Маркиша «Стихотворения и поэмы», он сказал мне, указывая на титульную фотографию:
— Что это вы мне фотографию убиенного подсовываете! И цвет обложки подобрали с умыслом — кроваво-красный! Нет, этого я не допущу… И «Михоэлсу — вечный светильник» — стихотворение националистическое. Кто это вам сказал, что его убили? Всем известно, что он попал под грузовик!
Понадобилось вмешательство Алексея Суркова для того, чтобы поставить на место фашиста Лесючевского. Книга вышла такой, какой мы хотели ее видеть. «Оттепель», однако, скоро миновала, и из всех последующих изданий Маркиша цензура вычеркивала стихотворение «Михоэлсу — вечный светильник». Что же касается Лесючевского, то он и впоследствии делал все, чтобы помешать изданиям Маркиша. В течение нескольких лет он оттягивал издание его романа «Поступь поколений», обвиняя автора в буржуазном национализме и сионизме. В этом деле он нашел себе немало сторонников, в их числе — автора грошевых детективных романчиков Тевекеляна, бывшего сотрудника МГБ и чуткую партийную ищейку. Оба клялись положить на стол свои партийные билеты, если роман Маркиша увидит свет. «Герой романа — ярый сионист! — кричали эти двое. — Он погибает, завернувшись в талес! Это религиозно-националистическая пропаганда!» Понадобилось специальное решение правления Союза писателей, чтобы роман был запущен в производство… Такие люди со стерилизованной совестью, как Лесючевский и Тевекелян, во многом определяли лицо московской литературы.
Вспоминается такой случай:
Я приехала по какому-то делу, связанному с литературными делами Маркиша, в Переделкино — на дачу Афанасия Салынского, одного из Секретарей Союза писателей. Салынский — наиболее честный человек среди всех Секретарей — жил по соседству с Тевекеляном, на одном большом земельном участке. В один прекрасный день, по словам Салынского, он обнаружил забор, разгородивший участок пополам. Тевекелян, оказывается, заподозрил детей Салынского в том, что они обирали малину с тевекелянских кустов. Забор, естественно, был воздвигнут за счет Литературного фонда, одним из начальников коего являлся «толкаемый» по партийной линии бездарный как полено Тевекелян.
— Это — герой нашего времени, — посмеивался Салынский, — кто ему цены не знает… Проходимец, ничтожество! Руку ему нельзя подавать — вернее, не хотелось бы.
Через четверть часа мы с Салынским садились в его машину — он собирался подвезти меня к станции железной дороги. И вдруг на дороге показался Тевекелян. Грустно и, как мне кажется, немного виновато взглянув на меня, Салынский шагнул навстречу «могучей бездарности», сердечнейшим образом приветствовал его, пожал ему руку.
Предисловие к первому после реабилитации сборнику Маркиша написал наш проверенный друг, крупный русский писатель Борис Лавренев. Тогда, в 1956 году, еще можно было позволить себе написать и опубликовать:
«Маркиш был в расцвете своего мощного таланта и, наверно, создал бы еще более прекрасные произведения, но жизнь его оборвалась на подъеме. Он пал жертвой врагов, оклеветанный невинно. Враги отечества физически уничтожили замечательного поэта, но не смогли убить песню».
Спустя несколько лет, после окончания «оттепели», цензура вырубала даже самый легкий намек на то, каким трагическим образом закончил свою жизнь Перец Маркиш.
А в 1969 году я увидела то, что запрещено видеть «простому советскому человеку»: Цензорскую правку в гранках последней в СССР книги Маркиша. Красный цензорский карандаш подчеркнул по всей книге встречающееся там неоднократно слово… «еврей». Редактору было предложено цензурой заменить это «запретное» слово такими словами, как «человек», «гражданин», «прохожий». Само же слово «еврей» было объявлено табу. Кроме того, цензор выбросил из состава книги стихотворения «Иерусалим», «Галилея», некоторые главы из поэмы «Война» — как еврейские националистические, и, конечно же, «Михоэлсу — вечный светильник».
По правде говоря, я больше всего беспокоилась за судьбу поэмы «Сорокалетний», переведенной на русский язык Давидом. Давид также не скрывал своих опасений по этому поводу. Мы рассчитывали только на полную темноту и дремучесть цензуры — и мы оказались правы в своих расчетах. Не поняв в сложной поэме ровным счетом ничего, цензура дала свое «добро» — и увидели свет такие стихи, как «Красные монахи»:
Не видно церквей, и псалмов не поют — Но толпы монахов в долине снуют. От каждого шага их гноем смердит. Закона фитиль в их кадилах чадит. Они появляются из темноты — Глаза их косят, перекошены рты. За каждый вопрос, за улыбку, за грусть — Главу из закона прочтут наизусть. Их плечи покаты, их лица — как мел. Им злобными быть их устав повелел… Но рот в лихорадке. Сквозь бурю, сквозь мрак К Тебе я взойду и скажу Тебе так: — Пусть ночь отступила от белых ворот — Но красная темень курится, ползет. Звезда — в рукаве, а за пазухой — ночь, — И шепчут монахи — молчать им невмочь. Они обещают убить темноту — И так засыпают в холодном поту. Любовью слепой свою веру любя, В экстазе они оскопляют себя. Они вездесущи. Вошедши во вкус, Мстят людям за смех, а клопу — за укус. Но день побеждает, но даль — весела — И солнце сжигает монахов дотла.Многое можно рассказать о всех тех треволнениях, что связаны были с выходом шести книг Маркиша после его реабилитации. Но человеческая атмосфера вокруг этих книг представляется мне более существенным фактором, чем переписка с издательствами. Эта атмосфера характеризуется той двойственностью, что так присуща современной советской интеллигенции. В частных встречах вещи, как правило, назывались своими именами: антисемитизм именовался антисемитизмом. Но в официальных беседах, связанных с работой над литературным наследием Маркиша, даже самые «смелые» интеллигенты не решались употребить это слово. А ведь именно оно определяло поведение Лесючевского, Тевекеляна и иже с ними.
Оставив службу и целиком уйдя в работу над литературным наследием Маркиша, я лишилась и тех скромных доходов, которые с грехом пополам помогали мне справиться с нуждой. Чтобы вернуться к прежним занятиям — переводу — и начать жить литературным трудом, нужна была поддержка «высоких особ». Как ни мало хотелось мне обращаться с просьбами к кому бы то ни было, пришлось все же снова идти в Союз писателей. На сей раз я отправилась к Борису Полевому, возглавлявшему Иностранную Комиссию. Я рассказала ему о своих трудностях и, в заключение, попросила прощения, что вынуждена его беспокоить.
— Что вы, что вы, — воскликнул Полевой, — это мы должны просить у вас прощения!
Он тут же написал директору Гослитиздата А. К. Котову, и я получила заказ на свой первый после ареста и гибели Маркиша перевод — часть дневников Ромэна Роллана, опубликованных позже в одном из последних томов собрания его сочинений. С тех пор и почти до конца моей жизни в СССР я занималась художественным переводом и перевела немало книг разных французских авторов. Разумеется, подав просьбу о выезде из Советского Союза, я подвела черту под своей переводческой карьерой: после этого подступ к издательствам или журналам был мне закрыт наглухо.
А с Полевым я очень скоро встретилась снова, но на сей раз — по его инициативе. В Москву приехал американский журналист Шошкес, который хотел встретиться с еврейской общественностью или с тем, что от нее осталось. Перед этой встречей Полевой пригласил меня к себе.
— Минувшего не вернуть, — сказал он. — Как это ни страшно, как ни печально, но мертвых не воскресишь. Теперь наша общая задача — не допустить того, чтобы наше общее горе стало оружием в руках наших общих врагов. Вами многие будут интересоваться, искать встречи с вами. Мне кажется, вы не должны говорить людям из-за границы всего, что вы знаете. Я бы считал, что, если вас будут спрашивать о судьбе Маркиша, лучше всего отвечать, что он умер от разрыва сердца.
— Нет, — сказала я, не задумываясь, — этого не будет. Ведь люди из-за границы могут быть настойчивы, или любопытны, или искренне расположены к Маркишу и его семье, и они захотят побывать на могиле умершего от разрыва сердца. Куда же мне тогда их повести? К фотографии на стене, над полкой, где я всегда ставлю вазу с цветами?
Полевой не настаивал и уступил…
22. Мои первые израильтяне
Поздним осенним вечером 1955-го в нашей квартире раздался телефонный звонок. Звонили из ЦК КПСС, сказали:
— Вы должны принять у себя генерального секретаря коммунистической партии Израиля — Микуниса. Он сейчас к вам приедет.
Я, откровенно говоря, испугалась. Шутка ли сказать — иностранец, да к тому же израильтянин! Так ведь завтра можно снова оказаться в Казахстане.
Микунис приехал около двенадцати ночи и просидел у нас до пяти утра. Оказалось, что он родом из того же местечка, что и Маркиш — из Полонного — и хорошо помнит молодого Переца. Микунис, часто посещавший Москву, пытался разыскать нас еще в 1952-ом, но ему сказали, что следы наши затерялись.
Беседа наша была довольно свободной, но недостаточно откровенной: спрашивать, как бы нам выбраться из СССР у коммуниста Микуниса — умного и симпатичного человека, я не решалась. О земле Израиля, о кибуцах и городах он рассказывал интересно и с любовью, зато, когда дело касалось политики — словно бы читал наизусть выдержки из передовиц «Правды».
Впоследствии Микунис бывал у нас всякий раз, как приезжал в Москву. От раза к разу он становился все более откровенным, все более, я бы сказала, печальным. Назревал разрыв с кремлевскими коммунистами, но не это, мне кажется, огорчало Микуниса: просто правда стала открываться ему слишком поздно.
Тем временем в СССР — в основном под нажимом западных либералов — была сделана попытка гальванизировать труп еврейской культуры. Возобновили концертную деятельность несколько коллективов еврейских певцов и чтецов, открылся под руководством Арона Вергелиса еврейский (на идиш) журнал «Советиш геймланд». Но не в силах певцов — даже таких прекрасных, как Нехама Лифшиц и Беньямин Хаятаускас — было возродить еврейскую культуру. Их заслуга — к полной неожиданности коммунистической власти — выразилась совсем в ином: в возбуждении национального чувства российского задавленного еврейства. Люди, приходившие на еврейские концерты, бросали тем самым в лицо ассимиляторам свое «нет!». Евреи желали оставаться евреями в коммунистической империи, задумавшей осуществить «сплав» разнородных наций в единое безликое и послушное целое. А появление на еврейских концертах сотрудников израильского посольства было подобно добавке дрожжей в тесто: евреи воочию видели евреев, не только пожелавших стать свободными, но и добившихся своей свободы.
Наша встреча с «настоящими» израильтянами произошла за несколько лет до начала еврейских концертов — в 1959 году. Осенью этого года в московском Литературном музее состоялся торжественный вечер, посвященный творчеству Шолом-Алейхема. То был совсем особенный вечер — ведь вечера, посвященные творчеству еврейского писателя, не устраивались уже много лет. Мы были приглашены на вечер — Давиду предложили прочитать стихи о Шолом-Алейхеме.
За час до начала вечера перед музеем уже стояла густая толпа «безбилетников» — преимущественно еврейской молодежи и людей пожилого возраста. Небольшой зал музея не мог вместить всех желающих.
В первом ряду сидело пять-шесть израильтян, на лацканах их пиджаков светились значки с национальным гербом Израиля. Среди евреев немедленно прошел слух, что на вечер приехал сам Посол.
Я волновалась за Давида — как пройдет его выступление. Вот он уже объявлен председательствующим на вечере Ильей Эренбургом, вот он начинает читать.
В стихах явно слышались «ближневосточные нотки» — обращение к пальмам, к пустынному приморскому берегу. Я видела, как переглянулись израильтяне, как зааплодировали. И весь зал аплодировал — ведь Давид говорил в своих стихах о том, что теперь евреи могут больше не смеяться сквозь слезы, что они стали сильны.
После окончания вечера израильтяне прошли за кулисы, поздравили участников, потом попросили у Давида его стихи. Давид, конечно, отдал с радостью. А как только он спустился в зал, к нему подошел «почитатель в штатском» — сотрудник КГБ.
— Мне очень понравились ваши стихи, — сказал он. — Дайте мне их на память.
— У меня их нет, — сказал Давид.
— Как нет? Вы же только что читали их с листа!
— Я их потерял, — сказал Давид. — В толчее, знаете, немудрено.
— А что, в президиуме разве нет запасного экземпляра? Президиум, наверно, ознакомился со стихами прежде, чем вы их прочитали!
— Нет, — сказал Давид старательному стукачу. — Президиум не ознакомился. У меня был оригинал, я его потерял, а наизусть стихов не помню.
Даже в самый разгар так называемой «оттепели» идеологическая служба КГБ держала ухо востро и с «еврейских мероприятий» глаз не спускала. Тем более, если на них присутствовали израильские дипломаты. КГБ не доверял «своим» евреям, и правильно делал.
Много неприятностей советским «блюстителям политической нравственности» доставил юбилейный вечер Переца Маркиша, посвященный 65-летию со дня его рождения. Вечер состоялся в большом зале Клуба писателей и привлек великое множество людей. Вечером 25 ноября 1960 людские толпы запрудили улицу Герцена и приостановили движение транспорта. Для «установления порядка» была вызвана конная и пешая милиция. Желающие попасть на вечер «безбилетники» рвались в здание Клуба. Зал был переполнен — люди устраивались по двое в креслах, стояли в проходах. Представителей израильского посольства администрация клуба сначала отказалась допустить в зал, ссылаясь на какие-то таинственные формальные обстоятельства. С большим трудом удалось мне провести израильтян в зал и устроить им места.
В фойе была экспонирована большая выставка, посвященная творчеству Маркиша. На вечере выступали Анна Ахматова, Павел Антокольский, Семен Кирсанов, Вильгельм Левик, другие поэты и переводчики. А в зале сидела преимущественно молодежь — и это радовало и внушало надежды.
«Гвоздем» вечера явилось, безусловно, письмо, посланное Ильей Эренбургом, который из-за болезни не смог выступить на вечере. Вот текст его письма, оригинал которого хранится в моем архиве:
Мне горько, что в этот вечер я не могу быть с друзьями, которые соберутся, чтобы преклониться перед неизвестной могилой известного поэта Переца Маркиша. Мне хотелось бы припомнить его молодым и непримиримым в Киеве, где горе и надежды заволакивали туманом его прекрасное лицо и сужали зрачки его мечтательных глаз. Я хотел бы также восстановить мои встречи с ним в Париже, где он вдохновенно говорил о революции и о поэзии, о Маяковском и о Гийоме Аполлинере, о древних легендах хасидов и о начале новой эры. Я хотел бы рассказать и о последней встрече, о последней короткой беседе, о последнем рукопожатии на улице Воровского, в тех кулуарах, где многие из нас тоже глазами прощались друг с другом. Я хотел бы сказать о прекрасном поэте. Но сейчас всего этого не выскажешь и я надеюсь, что мне удастся это сделать за рабочим столом.
Наверно на вечере памяти Переца Маркиша будут много говорить о его живых стихах. Мне хочется сказать о том, что меня связало с убитым поэтом — кроме преданности искусству, кроме давних дружеских встреч. Пожалуй, лучше всего это высказал польский поэт Юлиан Тувим, стихи которого Перец Маркиш любил. В 1944 году Тувим объяснял, почему он с гордостью называет себя польским евреем: «Из за крови. Стало быть, расизм? Нет, отнюдь не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что течет в жилах и та, что течет из жил. Первая — это сок тела, ее исследование — дело физиолога… Другая кровь это та, которую главарь международного фашизма выкачивает из человечества, чтобы доказать преимущество своей крови над моей, над кровью замученных миллионов людей. Кровь евреев (не „еврейская кровь“) течет глубокими, широкими ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, вспененную реку и в этом новом Иордане я принимаю святое крещение — кровавое, горячее, мученическое братство с евреями»… Перец Маркиш знал эти слова. Он провел над ними такие же часы горя и гордости, как многие другие. Потом не стало Переца Маркиша… Что может быть бессмысленнее такой смерти при всем ее глубоком, трагическом смысле?! Остались стихи, они звенят. Остался образ чистого, смелого и доброго человека. Он многих приподымает, согревает в минуты одиночества, молодит на склоне жизни. Да, стоило так писать и так прожить жизнь.
И. Эренбург
Пять лет спустя, в 1965, состоялся еще вечер памяти Маркиша. На сей раз он проводился там, где родился поэт — в украинском местечке Полонное. Устройство вечера «знатного земляка» было сопряжено с рядом трудностей подчас анекдотического характера.
Примерно за год до вечера я приехала в Полонное — познакомиться с местами, где родился Маркиш. Полончане — а евреев среди них осталось после войны немного — относили Маркиша к разряду «знатных земляков». Однако, когда я заговорила в Горсовете о каких-либо мемориальных мероприятиях, городское начальство сильно напугалось.
Увековечить в каких-либо формах память еврейского поэта — это было бы непозволительным риском для городского начальства. Поэтому председатель горсовета Майстерчук согласился предпринять что-либо, например, отвести уголок в городском музее — только в том случае, если последует недвусмысленное указание от киевского начальства.
Я поехала в Киев. Киевское начальство вело себя более «интеллигентно», чем неотесанный, безграмотный Майстерчук. Киевляне в принципе согласились помочь организовать юбилейный вечер, посвященный 70-летию со дня рождения Маркиша. Об этом было сообщено областным партийным руководителям в город Хмельницкий, а те, в свою очередь, поставили в известность Майстерчука. Теперь Майстерчук мог действовать, не беря на себя никакой ответственности.
В конце ноября 1965-го я с детьми приехала в Полонное. «Безответственный» Майстерчук во главе своей горсоветовской команды торжественно встречал нас на вокзале. Нас отвезли в гостиницу, а оттуда — обедать в городское кафе. Стол был сервирован в отдельной комнате — «кабинете», и посетители кафе, сквозь зал которого мы прошли, пялили на нас глаза: в «кабинете» кормилось областное и республиканское начальство, и отпирали его не часто.
Мы попросили, чтобы нас обслужили в общем зале, и это было сделано, хотя и неохотно.
На свеженькой, только что отпечатанной карточке меню значилось: «золотой бульон», «жаркое из куриных пупков», «фаршированная рыба». Я увидела, как у Давида, хорошо знавшего страну, глаза буквально полезли на лоб: в заурядном кафе городка типа Полонного такого изобилия продуктов быть не могло.
— Сколько стоит бульон? — спросил Давид у официанта.
— 15 копеек, — не моргнув, ответил официант.
— А жаркое из пупков?
— 20 копеек!
Это выглядело уже полной фантастикой — хоть переезжай в Полонное навсегда: подобных цен, столь низких, не существует в природе.
Спустя день выяснилось — под большим секретом — что «специальное меню» и «специальные цены» введены на те три дня, что нам предстояло провести в Полонном. После нашего отъезда повеселевшие было полончане вновь перешли на ржавые щи и осклизлые макароны.
Выяснилось и другое: откуда горсовет раздобыл деньги на такое приятное облегчение жизни своих граждан. Оказывается, за несколько дней до вечера Маркиша Майстерчук собрал в горсовете около десятка «граждан еврейской национальности» — активистов предстоящего торжества. Произошел такой примерно разговор с каждым из приглашенных в отдельности:
МАЙСТЕРЧУК: Хочешь, чтобы юбилей Маркиша прошел показательным образом?
ЕВРЕЙ: Конечно, хочу.
М: А деньги у тебя для этого есть?
Е: Денег нет…
М: Тогда пиши заявление: «Прошу выдать мне безвозвратную денежную ссуду в размере пятисот рублей». Написал? Давай, я подпишу.
Деньги, организованные таким образом и полученные евреями, тут же возвращались в городскую казну и использовались на «культурные мероприятия» и «специальное меню по специальным ценам».
В итоге торжеств было оглашено решение — присвоить одной из улиц Полонного имя Переца Маркиша. Мы, естественно, захотели познакомиться с этой улицей — но добились такой экскурсии с большим трудом. «Улица» оказалась пустырем, планируемым к застройке. Мы были, естественно, подавлены, а сладкие речи Майстерчука о прекрасном архитектурном будущем пустыря нас не утешали.
Тогда писатели, приехавшие на юбилей из Киева, сели за телефон и принялись звонить в Хмельницкий и Киев. После продолжительных телефонных дебатов решение Горсовета было изменено: именем Переца Маркиша назвали застроенную набережную. Я сомневаюсь в том, что набережная носит это имя и сейчас — после нашего отъезда из СССР.
С этим юбилеем связано у меня еще одно воспоминание. Я пришла к главному редактору «Литературной газеты» Александру Чаковскому, еврею-антисемиту, за жирную похлебку продавшему свое национальное достоинство и гражданскую совесть.
— Я хочу предложить вам напечатать главу из романа Маркиша.
— Почему именно в «Литературной газете»? — досадливо спросил Чаковский. — У национальных писателей есть свой орган — журнал «Дружба народов»… (этот журнал кстати сказать, возглавлял в то время один из самых ярых, патологических российских антисемитов — Василий Смирнов, утверждавший, что Солженицын «такой плохой», потому что он еврей и настоящая его фамилия — Солженицер).
— А почему же в «Литературной газете» печатаются национальные писатели Расул Гамзатов, Чингиз Айтматов и многие другие? — спросила я.
— Я вам откровенно скажу, — сказал тогда Чаковский. — Я не люблю евреев…
— И я вам скажу откровенно, — сказала я. — Евреи вас тоже не любят.
На том мы и расстались с «видным русским писателем и общественным деятелем» Александром Чаковским, ехавшим в эвакуацию в Ташкент на третьей полке нашего железнодорожного купе.
А вечер в Центральном доме литераторов в Москве, в декабре 1965 года стал, как мне кажется, важным событием не только в нашей семейной истории. Не в том дело, что, как и пять лет назад, зал был набит битком и за входными дверями писательского клуба, охранявшимся милицией, остались сотни не сумевших пройти внутрь. Главный смысл этого вечера был в том, что в каждом выступлении звучали: «Убили! Убили! Убили!» И этот призыв помнить, отринуть соблазн забвения, не примириться и не прощать, а стало быть — не «объединяться в борьбе с общим врагом», как хотелось бы Полевому, — этот призыв был страшен литературным властям, сидевшим в президиуме, и находил необыкновенно, необычайно чуткий отклик в зале.
В этот вечер мы были все вместе, вся наша семья: Симон, оставивший редакторскую службу в Гослитиздате и принятый в Союз писателей (он переводил с древних и новых языков, писал об античной литературе и о Возрождении), Давид, пошедший по отцовскому пути, пытающий свои силы и в поэзии, и в прозе, и в журналистике, Ляля с мужем Николаем уже успевшие приобрести доброе имя среди украинских скульпторов (Ляля — в области малой пластики, как фарфорист и керамист, Коля — в монументальной скульптуре), мой брат Шура, вернувшийся после 18-летнего перерыва к профессии журналиста. В зале были и моя мама и наши с Маркишем внук и внучка, уже взрослые, двенадцатилетние, Лена Хохлова. А я с обоими сыновьями сидела в президиуме. Рядом с нами сидел Николай Тихонов, талантливый некогда поэт, ставший столпом литературного режима и первым в ряду «борцов» за чистоту русской культуры против «не помнящих родства». (Я писала выше о его статье против Нусинова в первом номере газеты «Культура и жизнь», порожденной ждановским погромом 1946-го года.) Конечно, будь моя воля, я не села бы с ним за один стол, но воля была не моя. Зато, слушая слова боли и укоризны, упорства и непрощения, слетавшие с трибуны, я думала, я чувствовала, что слова эти нацелены и брошены в эту красную физиономию под седой шевелюрой. Вот что говорил мой старший сын (у меня сохранилась стенограмма всего вечера):
«Нынешний вечер не только юбилейный — это вечер памяти поэта. Слово о памяти я и хочу сказать.
Перефразируя Мандельштама, скажем: память — наше мучение и наше богатство. Человеку свойственно желание забыть — трусливо спрятаться от воспоминаний, зажмуриться, зажать уши, прикинуться перед миром и перед собой, будто прошлого не было. Но еще страшнее, еще мучительнее, когда воспоминания тускнеют и отступают, и уже не слышишь самого дорогого на свете голоса, не слышишь горького запаха редеющих завитков на макушке, не видишь рук с крупными, ребристыми ногтями, и чувствуешь себя изменником, предателем. Нужно собрать все силы, все мужество и вернуть прошедшее, чего бы это ни стоило. Одиссей возвращал теням преисподней голос и подобие жизни, напоив их овечьею кровью. Но не кровью черной овцы, а собственной кровью и болью оживляем мы наши воспоминания.
Последние годы память все настоятельнее вступает в свои права и гонит прочь предательское забвение и бесчестную полупамять, такую же подлую, как полуправда. Это происходит повсюду, во всех странах, во всех уголках жизни и искусства. Пусть наш вечер будет еще одним взносом и долею в этом великом Исчезнувшим бесследно — сгоревшим, утонувшим в море, пропавшим в пустыне, греки ставили на родине кенотафы — пустые гробницы. У Переца Маркиша нет могилы и нет памятника. Но ему не нужен кенотаф, потому что он не исчез без следа, как хотели и надеялись те, кто его убил. И памятник его — не книги, старые и новые, но единственно и только наша память, справедливая и полная. Память о его красоте, таланте, бурной и пестрой жизни, прозрениях и заблуждениях и о страшном его конце. Она не может быть вечной, но долгой она будет».
Как-то вернувшись домой под вечер, я была встречена соседкой:
— Тут к вам иностранка какая-то приходила, записку оставила…
Советский человек всегда распознает иностранца, даже если он и говорит по-русски без акцента. Разговор с иностранцем — дело рискованное, могущее повлечь за собой всяческие неприятности. Визит же иностранца в частный дом — это уже нечто из ряда вон выходящее! Десятилетия шпиономании сделали свое дело: в каждом иностранце советский гражданин склонен видеть шпиона и диверсанта. Те же, кто поумней и поразвитей, те, кто понимают, что не обязательно американец должен носить в жилетном кармане пистолет, а итальянка — кинжал и шпионский фотоаппарат в сумочке — те просто, во избежание неприятностей, иностранцев избегают. Наша соседка относилась ко второй категории советских граждан. Она была уверена, что встречи с иностранными гражданами доведут меня рано или поздно до большой беды.
В записке, оставленной мне, значилось, что внезапная посетительница — жена друга молодости Переца Маркиша, еврейского писателя Ойзера Варшавского, что зовут ее Мария Варшавская, что она парижанка, в Москве с туристской группой и нынче же вечером покидает Москву. В записке был указан номер телефона отеля, где остановилась Мария.
Я позвонила ей, сказала, что сейчас же приеду. Захватив какой-то московский сувенир, я достала из архива несколько копий фотографий, на которых Маркиш был изображен с Варшавским: я не знала, есть ли такие у Ойзера и полагала, что он будет рад получить такой подарок. И через полчаса я стучалась в дверь ее гостиничного номера.
Мария отворила мне. Она держала в руках фотографии… те же самые, что я привезла ей.
Мария Варшавская оказалась прекрасным человеком, настоящим другом. Многие годы мы поддерживали дружескую связь, и она неизменно ободряла меня в самые трудные моменты моей жизни — после того, как началась наша борьба за выезд из СССР.
Тогда же — в эту первую нашу встречу — Мария рассказала мне о судьбе Ойзера: он был схвачен гитлеровцами и погиб в Освенциме.
Мои деловые и дружеские связи с зарубежными западными центрами и издательствами, проявляющими интерес к творчеству Переца Маркиша, росли. Я регулярно получала еврейскую прессу — «левую», конечно: «правая» изымалась почтовой цензурой — в основном из США, Франции. Маркиш печатался в США, Аргентине, Израиле, Франции. У меня завязалась удивительно интересная, глубокая переписка с одним из руководителей ИКУФа[4] Нахманом Майзелем — виднейшим исследователем еврейской литературы на идиш. Эта переписка, насчитывающая около сотни писем, продолжалась до самой смерти Майзеля и касалась многих аспектов творчества Маркиша. Большим событием был для нас приезд туристки из Израиля — литератора и критика Гитл Майзель, родной сестры Нахмана. С Гитл мы могли говорить откровенно, могли делиться нашими планами и надеждами. От этой женщины высокой души и серьезных литературных знаний мы получили ценнейшую информацию о состоянии идишистской культуры в Израиле.
Контакты с израильтянами, с людьми Запада помогли нам определить наше будущее в реальных чертах. Вопрос «Ехать ли в Израиль» не ставился нами. Существовал другой вопрос: «Как нам вырваться в Израиль?» С каждым месяцем этот вопрос становился все острей, все мучительней.
И тут-то грянула Шестидневная война.
23. Июнь 1967: «Голос Израиля»
Шестидневная война на Ближнем Востоке все расставила по своим местам в психологии российского еврейства. Шесть дней понадобилось для этой расстановки — столько же, сколько понадобилось израильтянам, чтобы разбить арабские армии в Синае, на Голанских высотах и на Западном берегу Иордана.
Война не была неожиданностью для наблюдателей и политиков. Она была завершением длительной, многотрудной подготовки. Результаты войны, столь удивительно сказавшиеся на судьбе российского еврейства и приведшие к массовому исходу евреев из СССР, также нельзя назвать внезапным. Им предшествовал относительно благополучный период, последовавший за смертью Сталина: пресловутая «оттепель», возвращение из лагерей и тюрем уцелевших сионистов. Потом наступило подавление возникшего было свободомыслия.
Национальная проблема, приговоренная к смерти и расстрелянная Сталиным, вновь возникла в грозном масштабе. Толстокожий великорусский шовинизм столкнулся с национализмом окраин: Украины, республик Прибалтики и Закавказья. Даже апатичные среднеазиатские республики стали проявлять гонор, и в них были выявлены несомненные симпатии к Китаю. За всеми этими тревожными событиями кремлевской верхушке было не до горстки евреев, выразивших желание выехать в Израиль. Кремлевские «стратеги», вне всякого сомнения, проглядели ту грозную опасность, которая таилась в этой самой горстке. До них, собственно, всерьез-то и руки не дотягивались — но в нужный момент можно было напугать их, посадить, ликвидировать. К ним, к этим евреям, весь государственный аппарат снизу доверху относился с нескрываемой издевкой и насмехательством: «жиды распоясались». Но никто не мог предвидеть, что еврейское движение разбудит прибалтов, украинцев да и самих русских. «Почему им (евреям) можно, а нам нельзя?» — этот вопрос в 1967 даже и не намечался. И кто мог предугадать, что американские инъекции в русскую экономику будут поставлены в прямую зависимость от положения еврейского вопроса СССР?
Начиная с 6 июня 1967 мы не отходили от приемника ни днем, ни ночью. Советские газеты кричали о «победоносном наступлении» арабских армий, но, зная почерк «отечественной» прессы, этим сообщениям мало кто верил. Первый же намек о «выравнивании» линии фронта сигнализировал о том, что арабы побежали. Евреи открыто ликовали, говорили друг другу: «Наши там наступают!» Когда над Израилем нависла военная угроза, очень многими среди российского еврейства был сделан категорический выбор: «Израиль — это родное, Россия — это в лучшем случае двоюродное, а то и вовсе чужое». Так рассуждали не только те евреи, которые уже тогда решили свою судьбу: вырваться в Израиль. Так рассуждали и те, кто на работе утверждали обратное, а вернувшись домой прилипали ухом к своим радиоприемникам, говорящим шепотом, — чтобы соседи не услышали.
Позже в России завоевал популярность такой анекдот:
«Самый могущественный еврей СССР — заместитель Косыгина Дымшиц — проводит очередную конференцию „дрессированных евреев“, клеймящих израильских агрессоров. Вдруг, взглянув на часы, Дымшиц начинает заметно нервничать, спешить. Он быстро заканчивает конференцию, садится в свою машину, велит шоферу гнать домой. Дома Дымшиц запирается в самой дальней комнате, опускает шторы на окнах, залезает под одеяло, укрывается с головой и… включает транзисторный приемник, настроенный на волну „Голос Израиля“».
Слушая «Голос Израиля», рассказывающий о ходе военных действий, евреи — а особенно еврейская молодежь — испытывали невиданную гордость, испытывала прекрасную причастность к судьбе своего народа.
Но говорить о демонстрациях у здания ЦК КПСС, о стычках с милицией, о голодных забастовках на московском центральном телеграфе было еще рано. Следовало решиться на первый, самый «страшный» шаг — получить вызов из Израиля, где жили далекие остатки семей, спасшиеся от гитлеровских и сталинских погромов. Фотографии израильских теток, дядек, троюродных братьев и сестер хранились в самых дальних ящиках, об этих родственниках предпочитали громко не говорить и в анкетах их не упоминать: родственники за границей ничего, кроме неприятностей, никогда не приносили советскому человеку. Советский человек, если он хочет преуспеть в жизни, должен быть стерилен, как операционная салфетка. А какая речь может идти о «стерильности», если у тебя родственники за границей, да к тому же в Израиле?
У нас тоже были родственники в Израиле: двоюродные сестры Маркиша и моя родня по материнской линии. Семейные легенды сообщали, что двоюродная или троюродная сестра моей мамы была замужем за родным братом президента Хаима Вейцмана и знаменитый генерал Эзер Вейцман является, таким образом, моим в весьма отдаленной степени кузеном. Фотографий Эзера у нас не было, мы видели его только на злобных карикатурах, помещаемых в советской прессе. Да мы и верили-то в это родство не больше, чем в то, что далекий предок Маркиша был португальским адмиралом и в его честь — «Лоренцо Маркиш» названа теперь столица португальского Мозамбика. Сведениями о двоюродных сестрах Маркиша мы также не располагали, знали только, что они в Израиле, куда уехали еще до Октябрьской революции. Для начала этого было вполне достаточно.
Начало, собственно, было положено задолго до победоносного исхода Шестидневной войны.
После гибели Маркиша, после нашего возвращения из ссылки переезд в Израиль представлялся нам прекрасной, но неосуществимой мечтой. Мы отдавали себе отчет в том, что, убив Маркиша, Советы сделают все, чтобы не выпустить нас из своей страны. Живым свидетелям Советы предпочитают мертвых.
Общение с израильтянами, однако, не давало угаснуть нашей надежде: мы были не одни в мире со своей мечтой.
Первым израильтянином, с которым мы встретились, был, как я уже писала, Самуил Микунис. При всем его обаянии мы не решались говорить с ним открыто: он был коммунистом. Но после возобновления дипломатических отношений, прерванных в связи с Синайской войной 1956 года, в Москве вновь появились израильтяне. Они приходили на еврейские концерты, мы видели их, иногда разговаривали с ними, носившими на лацканах пиджаков значок с гербом нашей страны, страны евреев. Давид, еще в 1958 году предпринявший неудавшуюся попытку уехать в Израиль через Польшу, установил «таинственные» знакомства с израильтянами. Он не снимал с шеи цепочки с серебряным «щитом Давида» — это было по тем временам немалым мужеством. После каждой встречи с израильтянами он получал новый заряд энергии, Израиль словно бы перекочевывал с обратной стороны Луны на ее освещенную половину. Зачастую я ничего и не знала об этих встречах — Давид не хотел волновать меня: он знал, что такие контакты могут кончиться для него и всех нас плачевно. В это же время (60 год) Давид начал печатать в Израиле свои стихи-сиониды под псевдонимом Д. Маген. Об этом я тоже долго ничего не знала.
С 63–64 года мы стали бывать на приемах в Посольстве Израиля в Москве. Уходили мы оттуда подавленными: словно бы покидали родину и возвращались на чужбину. Связь с Израилем стала, однако, реальным фактором, и это укрепляло нас.
Война 67 года окончательно взломала наслоения пятидесятилетнего страха. Израиль постоит за нас, Израиль не бросит нас, евреев, в беде! Нужно только получить вызов из Израиля — и начинать. Нам не предстояло шагать в темноте — начало пути было открыто и освещено такими, как поэт Иосиф Керлер, певица Нехама Лифшиц. Им было трудно — они были одними из первых. Они-то шагали в темноте по этому новому, невиданному пути — пути борьбы с Советской властью за свои права, которых эта самая власть их начисто лишила.
И в один прекрасный день мы вынули из почтового ящика продолговатый плотный конверт с вызовом от двоюродной сестры Маркиша. Первый шаг был сделан, и мы не сомневались в том, что КГБ в курсе наших дел: цифра «7» на конверте, заключенная в кружок, означала, что цензура ознакомилась с содержимым конверта. Кроме того, нам доподлинно было известно, что этот вызов — отнюдь не первый, отправленный нам из Израиля. Все предыдущие, однако, не были нам доставлены.
Итак, мосты были сожжены — или, если угодно, наведены: государственный документ государства Израиль — с гербом, печатью и красной шелковой лентой — был помещен в запирающийся ящик письменного стола, как величайшая ценность. В именной список, обозначенный в вызове, входил, естественно, и мой сын Симон, и моя мама. Нам предстояло закончить некоторые дела — и подавать вызов в соответствующие инстанции. Мы предполагали две возможности: или, не желая «связываться» с семьей Маркиша, нас отпустят сразу, или борьба наша затянется надолго, быть может, навсегда. Мы также понимали, что подача нами документов подтолкнет к дверям ОВИРа немало колеблющихся. И это последнее предположение придавало нам силы.
Ликвидация дел, однако, затянулась и отняла немало времени. Во-первых, у нас не было денег для оформления документов и виз, если бы таковые были нам выданы. Во-вторых, моя мама, достигшая уже своего восьмидесятилетия, была серьезно больна. И, наконец, в-третьих, Симон собирался жениться на венгерской гражданке, и, подай мы документы немедленно, оформление этого брака представило бы собой серьезнейшие трудности (в СССР брак с иностранным подданным — весьма сложная процедура).
Первая проблема не представляла собой особой сложности. В Ленинграде, после многолетних усилий, вышла в свет книга стихов Маркиша, и нам должны были перечислить значительную сумму денег. В производстве находилась книга Армана Лану «Мопассан» в моем переводе на русский. Деньги за эту работу должны были стать нам значительным подспорьем. Кроме того, по сценарию Давида снимался кинофильм, а книга его рассказов и повестей была принята московским издательством «Советский писатель». И фильм, и книга должны были также принести свои финансовые плоды.
21 апреля 1970-го Cимон, наконец, оформил свой брак. В этот день в нашей квартире на улице Горького собралось несколько самых близких друзей и родственников. Приехала моя мама — женить любимого внука. Она выглядела неважно — но шутила вместе со всеми, смеялась… А день спустя она слегла в постель, и больше не встала. 2 мая она умерла от рака легких. Приехавший 1 мая крупный специалист-реаниматор, наш друг, осмотрел ее и сказал: «Ей 83 года. Она обречена. Дайте природе сделать свое дело…»
В то время разрешения на выезд в Израиль были одиночными, а отказы — массовыми. Симина жена заканчивала работу в России и должна была возвращаться в Венгрию. И мы на семейном совете, скрепя сердце, решили еще повременить с подачей наших документов: Симон возбудил ходатайство о выезде в Венгрию на постоянное жительство вместе с женой. Если бы мы подали наши документы одновременно с Симоном, на его ходатайстве можно было бы немедля поставить большой крест: ему бы неизбежно отказали. Я не могла, не имела право поставить под удар его судьбу. Симон возбудил свое ходатайство. И мы стали ждать решения.
В начале сентября из ОВИРа пришел ответ: просьба Симона удовлетворена. Он собирался уехать в начале октября. И после этого могли начинать и мы…
Подошел день отъезда Симона. Мы расставались с ним, не зная, придется ли нам когда-либо свидеться вновь.
В эти дни евреи России с ужасом и надеждой следили за ходом Первого антиеврейского ленинградского процесса. Подсудимые обвинялись в попытке угнать самолет, и перелететь в Швецию, а оттуда — в Израиль. Мы все понимали, что власти попытаются посредством этого процесса запугать евреев, отбить у них «охоту к перемене мест». Наша семья лучше других знала, что такое советские «показательные процессы», как они фабрикуются, чем они заканчиваются. И если подсудимые сумеют уйти от «вышки» — значит, действительно, Советы вынуждены оглядываться на Запад. А тогда, даст Бог, будет и на нашей улице праздник — мы добьемся своего, мы доберемся до Израиля.
Смертный приговор Кузнецову и Дымшицу подействовал на евреев как удар тока. Ненависть скапливалась в наших душах — ненависть к власти, распоряжающейся нами, навязывающей свою волю людям, рожденным свободными. Люди ненавидели — и ненависть укрепляла их силы. Я не знаю ни одного случая, когда — в связи с варварским приговором на Ленинградском процессе — кто-либо отказался бы от своего намерения вырваться из России и уехать в Израиль. Наоборот: сотни евреев осаждали ОВИРы страны, подавая заявления на выезд. Советы не запугали евреев Ленинградским процессом — они добились обратного.
Но достойная представительница «самой древней профессии» — советская пресса — вовсю трубила об «успехе» процесса, о «справедливом возмездии» и о «происках международного сионизма». Многие евреи — одни под воздействием принуждения, а другие по собственной инициативе — писали в газеты письма, в которых обливали помоями свой народ, Израиль, лизали пятки погромщикам. Газеты, как видно, «выполняли план, спущенный сверху» и наращивали подобные публикации день ото дня. Мы уже привыкли к этому — только брезгливо морщились, обнаруживая среди авторов писем недавних знакомцев. Наиболее омерзительное впечатление произвело на меня, однако, письмо американки Лидии Л. Шапиро, опубликованное в газете «Известия». Вот это письмо с некоторыми сокращениями:
«Причиной, побудившей меня взяться за перо, послужило известие о приезде в город Нью-Орлеан делегации советских журналистов и появление в местной прессе клеветнических измышлений о внутренней политике Советского правительства. С чувством глубокого возмущения читала я в нью-орлеанских газетах обвинения в адрес советского правительства в плохом обращении с евреями и другие нелепые обвинения подобного рода. …У меня вызывают боль эти необоснованные обвинения еще и потому, что среди мошенников, выступающих в роли „защитников евреев“, встречаются и люди с еврейскими именами. …Я часто задумываюсь над тем, как могло случиться, что Гитлер, родившийся, как и все мы, невинным ребенком, превратился в Гитлера — убийцу 6 миллионов евреев. Быть может, среди тех, кто сделал его таким, были и некоторые нечестные евреи? Кто знает…
Лидия Л. Шапиро,
Форт-Уэйн, штат Индиана, США».
Быть может, это письмо — фальшивка от начала до конца. А, быть может, живет в штате Индиана Лидия Л. Шапиро. Мне она казалась садисткой наподобие Эльзы Кох. Ведь не видит в нашем мире только тот человек, который не желает видеть. А зрячие слепцы типа Лидии Л. Шапиро — соучастники преступлений, творящихся открыто.
Получение денег из издательств и из киностудии затягивалось. Давид торопил меня с подачей документов, и мы начали собирать необходимые бумаги, коих требовалось множество. Деньги, наконец, были частично получены, бумаги собраны. В первых числах февраля мы с Давидом приехали в Колпачный переулок, к небольшому двухэтажному дому, где располагался ОВИР — Отдел Виз и Регистрации. «С чего начинается родина? — шутили евреи. — С ОВИРа». Но документы у нас с первого раза не приняли — не хватало каких-то справок. Справки мы достали, пришли снова в ОВИР — снова не принимают: не достает других справок. Чиновники ОВИРа, ведающие приемом документов, делают суровые лица, говорят так, словно бы перед ними сидят закоренелые преступники. Но нам-то на это наплевать — нам бы сдать документы. С третьего раза, наконец, документы приняты. Это было 23 февраля — в снежный, ветреный, промозглый день. Выйдя из дверей ОВИРа, мы с Давидом обнялись: теперь мы чувствовали себя почти свободными. Мы осмелились вслух, громко сказать режиму: «Мы евреи, и мы хотим домой».
В ОВИРе мы провели почти целый день. Множество людей толпилось в ОВИРе, преимущественно евреи. Процесс подачи документов — длительный процесс, и евреи приходят в ОВИР рано утром — занять очередь. Милиционеры, неизвестно от кого и зачем охраняющие ОВИР, дежурят по очереди: сегодня — один, завтра — другой. Оба они поглядывают на евреев — а их в приемной не менее сорока-пятидесяти человек — с большим неодобрением. Особенно груб один — его грудь украшают многорядные орденские планки. «Не курите!» — то и дело требует страж порядка. — «Не толпитесь! Сядьте, а кому места не хватает — освободите помещение!»
Через час ожидания в приемной мы уже знали в лицо и охранников, и заместителя начальника Золотухина, по прозвищу «Золотая задница», и инспекторов Кошелеву и Израилову. Израиловой — она, как видно, татарка — немало хлопот доставляет ее фамилия, указанная на дощечке. Надо же, действительно, — документы от евреев, ходатайствующих о выезде в Израиль, принимает старший лейтенант советской милиции Израилова! Лейтенант Кошелева — молодая, привлекательная женщина. О ней известно евреям, что к высоким мужчинам она относится с большим пониманием, чем к низкорослым. Поэтому коротышки стремятся попасть к Израиловой, которой, как будто все равно, какого еврей роста. Дирижер Юра Аронович, не рассчитав, попал к Кошелевой. Юра чуть длинней 160 сантиметров, он на голову короче красотки Кошелевой. Кошелева мерит его уничижающим взглядом и начинает придираться.
— Вот вы тут пишете, — говорит Кошелева, указывая в анкету, — что ваш отец похоронен на еврейском кладбище. Это почему?
— Разрешите, гражданин лейтенант, задать вам один вопрос? — находится остроязыкий Юра.
— Ну!
— Не сочтите за бестактность, но вы кто по национальности?
— Как это кто? — с нотками негодования в голосе изрекает Кошелева. — Русская, конечно!
— И ваша мама — русская?
— Естественно!
— Так вот, когда она скончается, — подытоживает Юра, — ее похоронят на русском кладбище! Вы же не станете хоронить ее на еврейском кладбище, не так ли?
Кошелева сердится, не знает, что ответить.
А вот спускается со второго этажа старший инспектор Акулова. Характер этой дамы вполне соответствует ее фамилии. Евреи рассказывают, что в день 8 марта кто-то из отказников прислал ей по почте подарок — собачий намордник. С евреями Акулова разговаривает презрительно и властно — как с низшими существами. Неважно, кто к ней обращается, — рабочий или профессор. Прежде всего к ней обращается еврей.
Майор Фадеев — заместитель начальника ОВИРа по работе с иностранцами. Этот майор — работник КГБ, облаченный в милицейский мундир. Как можно «доверить» работу с иностранцами не кагебешнику! Фадеев — откровенный хам с лицом вешателя. В связи с тем, что поток еврейских заявлений все увеличивается, «Золотая задница» не справляется, и на евреев все чаще «спускают» Фадеева.
И, наконец, начальник ОВИРа Смирнов. Этот искренне опечален наплывом евреев, которые все время чего-то требуют, от которых сплошные неприятности… Год назад в подвластном Смирнову ОВИРе было тихо как в больнице: документы для поездки за рубеж оформляли считанные люди. А теперь эти толпы буйных евреев, осаждающих ОВИР с самого рассвета! Смирнов запретил пускать евреев к себе на второй этаж, и номер телефона меняет каждый месяц — ничего не помогает. Кончилась спокойная жизнь, неизвестно, какие неприятности впереди. Ах, эти евреи! Кто бы мог ждать от них такого подвоха!
В графе анкеты «Что вы желаете сообщить по существу вашего ходатайства» мы с Давидом пишем «Считаем Израиль своей исторической родиной…» Это — открытый вызов, но мы делаем его с легким сердцем: мы понимаем, что не эта истина в царстве лжи определит нашу судьбу.
Томительно тянется ожидание. В первых числах марта к нам домой вдруг является милиционер. Вначале он делает вид, что зашел просто так, поинтересоваться, как мы живем. Потом вдруг спрашивает:
— Вы к себе не ждете гостей из-за границы?
— Нет, не ждем.
— Может, сами собираетесь уезжать?
— Мы подали документы на выезд в Израиль…
— Да… — мямлит милиционер, словно бы услышал от нас что-то неожиданное. — Мебель-то с собой повезете? Мебель у вас хорошая…
— Нет, — говорим мы, — мебель не повезем.
Отметив что-то в своем блокноте, милиционер уходит. Мы расцениваем его визит как положительный фактор — может, есть уже решение по нашему делу? Иначе, зачем бы посылать к нам дурака-милиционера, играющего в Ната Пинкертона?
Второе событие за время ожидания: «зарубили» книгу Давида в издательстве «Советский писатель». Там ему прямо так и сказали:
— Это правда, что ты… как бы это сказать… собираешься…
— Да, — сказал Давид. — Это правда. Я собираюсь уезжать в Израиль.
— Тогда, сам понимаешь, с книжкой ничего не получится.
— Но она ведь включена в план изданий?
— Мы тут ни при чем — это все начальство. Так что тебе лучше рукопись забрать…
Само собой получилось, что многочисленные наши прежние знакомые рассеялись, и их место заняли другие — такие же как мы «подаванты», живущие под знаком трех «В»: вызов, виза, выезд. С ними мы находили общий язык, с ними могли часами подряд говорить об Израиле, ловить передачи «Голоса Израиля», обсуждать их, пытаться делать прогнозы на будущее. Не веря в положительное решение нашего дела мы, тем не менее, приготовились к отъезду: продали мебель и лишние вещи, приготовили к упаковке книги. Давид унес куда-то из дома свою охотничью винтовку и коллекцию кинжалов: он считал, что власти могут воспользоваться случаем и посадить его в тюрьму за «незаконное хранение оружия». Он был не так-то уж и неправ: завели же от начала и до конца сфабрикованное уголовное дело против кинорежиссера Михаила Калика, подавшего документы на выезд в Израиль. Спустя несколько месяцев дело прекратили за отсутствием состава преступления, но нервов Мише Калику попортили немало.
Мы по-новому сблизились с давним другом моих сыновей Михаилом Зандом — человеком мощного ума и трогательной души. Благодаря своему знанию иудаики, иврита и некоторым другим качествам Занд вскоре стал одним из лидером «московских израильтян». К нему приходили за советом, за помощью. Авторитет его еще более вырос после того, как он сорвал сборище «дрессированных евреев» в московской синагоге. Это представление было организовано для зарубежных простаков — раввин Левин подрядился объяснить им, что евреи прекрасно живут в Советском Союзе, они вовсе не лишены национальной культуры и никто из них, кроме кучки отщепенцев, не желает ехать в Израиль. Гнусный этот спектакль был шит белыми нитками, и Левин, выступавший в нем от имени российского еврейства, играл гнусную роль. Занд, с трудом проникнув в оцепленную милицией синагогу, бросил в лицо Левину на глазах у изумленных иностранных гостей и журналистов обвинение в предательстве. Занда тут же арестовали, но сажать его было не за что: он не сопротивлялся аресту. КГБ рассчиталось с ним несколько позднее: ему дали пятнадцать суток за «нарушение общественного порядка». Все пятнадцать суток Занд проголодал в тюрьме. На двенадцатый день голодовки в тюрьму прибыла «медицинская» бригада для насильственного кормления. Разбойник в белом халате спросил Занда:
— Будете сопротивляться кормлению?
— По мере сил, — спокойно ответил Занд.
— Я предупреждаю вас, — сказал «врач», — что вы, возможно, умрете, и тогда мы просто спишем вас как издержки производства.
Привязанный к скамье, с сидящими на нем верхом надзирателями — Занд оказал сопротивление. Кормление решено было отменить, и Занд закончил голодовку лишь по истечении пятнадцати суток. Такие примеры мужества заставляли и самых нерешительных, самых забитых евреев смотреть в глаза своим притеснителям с дерзкой отвагой. Среди русских это сопротивление вызывало нечто вроде уважения.
Первое наше ожидание окончилось в середине мая. С вечерней почтой пришла открытка, в которой сообщалось: «Позвоните в ОВИР инспектору Акуловой». И номер телефона. Больше ничего.
Эти открытки из ОВИРа всегда приходят вечером, а чаще всего вечером в пятницу, накануне выходного дня — чтобы помучить человека неизвестностью. Казалось бы, чего проще: написать в той же открытке «вам разрешено», или «вам отказано». Но нет, это было бы слишком большой роскошью. Пусть еврей не спит ночь, пусть мерит до утра комнату из конца в конец. Пусть в миллионный раз задает себе вопрос: «Разрешили или отказали?»
Как правило, звонок к Акуловой не предвещал ничего хорошего. Бывали, правда, исключения — Акулова сообщала о разрешении, но это случалось крайне редко. В случае разрешения человека обычно вызывали явиться в ОВИР. Но законов ведь нет в этой игре: вы являетесь в ОВИР, ждете с замиранием сердца у двери — и вам объявляют отказ.
Мы позвонили в ОВИР ранним утром, после бессонной ночи.
— Вам отказано, — сообщила Акулова.
— На каком основании?
— Я объявляю вам отказ, — повторила Акулова. — А об основаниях справляйтесь в соответствующих инстанциях.
Надежда на то, что семью Маркиша не станут мучить, рухнула подобно замку из песка. Мы утратили зыбкую надежду — и обрели взамен стальную веру: мы своего добьемся. Вера ведь куда сильней надежды — а жить на свете и без того, и без другого просто невозможно.
Верные друзья — «московские израильтяне» утешали нас: первый отказ — это только «боевое крещение». Счастливчики получают разрешение с первой попытки, но не все ведь в мире счастливчики… Вечером к нам пришли Володя и Маша Слепаки, Витя Польский, Калики — они уже успели получить отказы, они были как мы. Мы сидели за грустным столом, вспоминали тех, кто вырвался — Нехаму Лившиц, Иосифа Керлера, молодежь. Отрадно было сознавать, что получение разрешения стало теперь фактом отнюдь не сверхъестественным. Вспоминали «мартовские события» — первую сидячую забастовку евреев в здании Приемной Верховного совета СССР, в самом центре Москвы. Эта «сидячка» привела к выезду почти тридцати человек. Забастовка явилась чувствительным ударом по властям — власти не предполагали, что евреи способны на такой отчаянный шаг. Да и вообще — кто в России может позволить себе нечто подобное?! Но повторная забастовка привела не к отъезду, а к арестам. Следовало изыскивать новые формы протеста.
Сразу же после получения отказа мы опротестовали решение и потребовали пересмотра нашего дела. У входа в ОВИР мы как-то увидели тех, пробиться на прием к которым не было никакой возможности: комиссара милиции Шутова и «штатского» кагебешника Георгия Минина (по слухам генерала, начальника еврейского отдела Лубянки). Евреи, собравшиеся у ОВИРа, обступили эту пару, продвигавшуюся к автомобилям. «Дядя генерал, отпусти меня в Израиль!» — закричала какая-то маленькая девочка. По-барски ухмыляясь, облаченный в мундир Шутов и холеный Минин пробирались к машинам. Я протиснулась к Минину, остановила его. Давид был рядом со мной.
— Мы — Маркиши, — сказала я. — Быть может, эта фамилия говорит вам о чем-то.
— Ну, конечно… — ухмыльнулся Минин.
— Мы получили отказ и просим, чтоб вы нас приняли.
— Хорошо, — сказал Минин. — Я вам позвоню.
— А может, лучше, мы вам позвоним? — спросил Давид.
— Я найду ваш телефон по справочнику, — пошутил генерал, отходя к машине.
Мы долго ждали звонка Минина, и ждали напрасно. Тогда, найдя генеральский телефон — и отнюдь не по справочнику (телефоны сотрудников КГБ засекречены в СССР) — мы позвонили Минину. Минин назначил нам встречу в помещении ОВИРа — он не рекламировал свою принадлежность к пресловутым органам.
Мы с Давидом явились в ОВИР утром, многого ожидая от встречи с генералом КГБ. Мы хотели объяснить ему, что наше насильственное удержание в СССР неминуемо привлечет внимание международной общественности, и проявление такого внимания ничего не принесет Москве, кроме неприятностей. Мы никогда еще не встречались с генералом КГБ — и нервничали. Может ведь и посадить, по старой памяти…
Сверкая вставными железными зубами, Минин принял нас актерски-радушно.
— Я советую вам отложить все ваши хлопоты до осени, — сказал Минин. — А пока отправляйтесь-ка отдохнуть. У нас такое чудесное море — в Крыму, на Кавказе.
— У нас тоже очень хорошее море, — возразил Давид. — Средиземное, Красное… Так что мы хотим отдыхать там, у нас.
— Ну что вы знаете об Израиле? — ухмыльнулся генерал. — Знаете, сколько там театров? Один! А у нас хоть каждый день театры меняйте. И билеты в театр там очень дорогие. А медицинское обслуживание! У нас чуть приболел — вызывайте на здоровье скорую помощь по телефону. А там — врача не допроситесь, а если и придет — денежки ему подавай.
— Мы пришли не для того, чтобы обсуждать с вами положение в Израиле, — сказала я. — Почему нам отказали?
— Это сложная проблема, — развел руками генерал. — Официальное объяснение — недостаточная степень родства.
Генерал смотрел на нас с явной издевкой.
— Итак, я не рекомендую вам предпринимать какие-либо шаги до осени, — закончил Минин аудиенцию.
Я не хотела отказать себе в малом развлечении и спросила:
— А что — осенью дальние родственники превратятся в близких?
— Мы еще увидимся с вами, — вежливо улыбнулся генерал, подымаясь из-за стола.
Люди вокруг нас получали разрешения, уезжали. Мы провожали их — ездили на аэродром Шереметьево, глядели, как закрываются за ними двери. По эту сторону оставалось насилие, издевательство над человеческой личностью, КГБ, тюрьмы и лагеря. По ту сторону открывалась свобода, достойная жизнь, родина, отделенная от нас несколькими часами полета — и вечностью. Чем больше мы провожали людей, тем светлей и горше становилось у нас на душе: едут евреи — значит, уедем и мы. Только — когда? Доживем ли мы до этого дня? Выдержим ли? Не расправится ли со всеми нами «родная советская власть и родная коммунистическая партия»? Никто из нас не сомневался, что, не будь сдерживающего фактора в лице Запада, мы все давным-давно гнили бы в земле.
24. Последнее сражение
Летом мы получили второй отказ, восприняли его спокойно, в тот же день опротестовали. А 12 августа — в 19-ю годовщину гибели Маркиша — мы с Давидом решили устроить демонстрацию. Долго обсуждали место демонстрации — и остановились на Приемной Верховного совета, не в самом здании, а против входа в него, в самом центре Москвы, у самой Красной площади. После некоторых колебаний мы решили демонстрировать протест с желтыми шестиконечными звездами на груди — такие звезды на грудь евреям навешивал Гитлер. Надеть в Москве желтые звезды — дело в высшей степени рискованное: власти очень не любят, когда им напоминают о тоталитарной основе их режима. Мы, однако, рассчитывали на то, что, будь мы арестованы именно 12 августа — это привлечет к нашему несчастью мировое общественное мнение, это заставит Советы отпустить нас. Сам Маркиш помог бы нам в день своей гибели.
Операция была нами тщательно продумана. Мы должны были явиться в Приемную к открытию, вручить дежурному письмо. В письме сообщалось, что мы собираемся демонстрировать в знак протеста против насильственного удержания нас в СССР, а желтые звезды — напоминание о том, какие чудовищные жертвы принес еврейский народ фашизму и антисемитизму. В письме указывалось также, что мы избрали для демонстрации это место и этот день, потому что у Маркиша, погибшего девятнадцать лет назад, нет могилы, куда бы мы могли придти.
О демонстрации было сообщено накануне иностранным корреспондентам. Было составлено нечто вроде плана дежурств молодых ребят — активистов братьев Кримгольд, Виктора Яхота, некоторых других. Они должны были находиться невдалеке от нас, и после нашего ареста тут же дать знать об этом.
Нас, однако, не арестовали — КГБ, как видно, сочло, что это было бы слишком.
Ровно в десять утра подали мы письмо дежурному Приемной.
— Это письмо — коллективное? — с подозрением спросил дежурный, признавший, по-видимому, в Давиде, подававшем письмо, еврея.
— Нет, — сказал Давид.
Он не хотел, чтобы письмо было распечатано и прочтено немедленно — это могло привести к задержанию нас здесь же, в помещении приемной. А коллективные письма принимаются советскими чиновниками с большой неохотой, либо вовсе не принимаются, либо прочитываются на месте — и не принимаются после прочтения.
Выходя из приемной, мы прикололи желтые звезды. Сделать это до вручения письма мы, естественно, не могли — нас бы задержали немедленно. Мне неизвестен случай демонстрации с желтыми «звездами Давида» до 12 августа 1971-го, и у нас были все основания полагать, что советские власти отнесутся к появлению в самом сердце Москвы людей с «желтыми заплатами» весьма болезненно.
Тем временем среди московских евреев-«израильтян» пошел слух о том, что мы вышли на демонстрацию. Мы с Давидом стояли на обочине узкого тротуара, и мимо нас шла нескончаемая толпа пешеходов. Среди них мы замечали то и дело знакомые лица: то были знакомые и друзья, пришедшие проверить справедливость разнесшегося слуха.
Сразу же после того, как мы вышли из Приемной, к нам подошли иностранные корреспонденты — представители западных газет и телеграфных агентств. Мы передали им копию письма Подгорному и дали интервью. Дело наше, собственно, было сделано — теперь можно было со спокойной душой дожидаться ареста.
Следом за журналистами появились кагебешники. Их было много, они стояли за ближайшим углом, ходили мимо — в своих дурацких черных очках, с газетами подмышкой. Некоторых из них мы уже знали в лицо — то были агенты, «работавшие» с евреями, появлявшиеся то в Шереметьево, то близ ОВИРа, то около синагоги. Гебешники подослали к нам милиционера, дежурившего у входа в Приемную.
— Что это вы тут торчите с самого утра? — грозно спросил милиционер. — А ну, проходите!
— А что, — спросил Давид, — разве здесь запрещено стоять?
«Мудрый» блюститель порядка не нашелся, что ответить — стоять здесь, действительно, не возбранялось законом.
— Мы будем стоять здесь до шести вечера, — продолжал Давид. — А почему — об этом написано в письме, которое мы передали в Приемную.
— Документы! — потребовал милиционер.
Мы протянули ему паспорта, и он проверил их.
— Уходите, — повторил милиционер. — А не то я вызову сейчас наряд, и вас живо отсюда уберут!
— Пожалуйста, — сказала я как можно спокойней. — Вызывайте.
Тем временем наши друзья во главе со Слепаком отправили телеграмму в три адреса: Подгорному, Брежневу и Косыгину. Авторы требовали дать нам разрешения на выезд. Телеграмма заканчивалась словами: «Фараон, отпусти мой народ!»
После двух часов дня агентов КГБ стало меньше — видимо, они ушли обедать. Мы изнывали от жары, стоя под лучами палящего солнца. Люди, проходившие мимо нас по тротуару, с изумлением и испугом всматривались в наши желтые звезды, ведь советская пропаганда преподносит шестиконечную звезду евреев как символ фашизма. Однако в толпе мы не видели недоброжелательных лиц. Некоторые смотрели на нас с любопытством, другие — с участием. Евреи реагировали особенно остро: либо убыстряли шаг, либо останавливались, как громом пораженные.
Мы намеревались демонстрировать до шести часов вечера, а приемная закрылась в пять. Убедившись, что мы не ушли сразу после закрытия Приемной, агенты КГБ усилили свою активность: они, как видно, не могли предугадать наши планы, и это тревожило их. Вновь подослали они к нам милиционера — с угрозами, с грубостями.
Не добившись от нас ничего, милиционер прогнал наших еврейских ребят, со стороны наблюдавших за ходом демонстрации.
Ровно в шесть, после восьмичасового голодного и безводного стояния (у меня сильно отекли ноги, и я чувствовала себя неважно), Давид сошел с тротуара на мостовую, чтобы остановить такси.
— Ты куда полез на проезжую часть?! — заорал, бросаясь к нам, милиционер. — Я вас сейчас арестую за нарушение правил уличного движения!
Мы сели в такси и уехали домой, где нас ждали с волнением и тревогой наши друзья.
Как и можно было ожидать, демонстрация наша не принесла немедленных результатов.
Мы, однако, не унывали и изобретали новые методы сопротивления. Приближались очередные выборы, и жителям нашего района было объявлено, что нам предстоит отдать свои голоса за Косыгина. Мы к тому времени получили уже третий отказ, и среди адресатов, которым направляли мы наши безответные жалобы, Косыгин занимал не последнее место.
За две недели до дня выборов мы написали и отправили Косыгину очередное письмо. В нем мы просили «нашего кандидата» похлопотать по нашему делу. В случае получения ответа от Косыгина, писали мы, наши голоса будут отданы ему. Поскольку других кандидатов не было, то, выходит дело, при неполучении ответа голосовать за Председателя совета министров мы не пойдем.
Следует заметить, что попытки уклонения от голосования нередки в СССР. Всем гражданам доподлинно известно, что их участие или неучастие в голосовании ни в коей мере не повлияет на политическую судьбу назначенного властями кандидата, что как сами выборы, так и подсчет голосов — пустой блеф и фикция. Уклоняющихся, однако, всеми средствами гонят к избирательным урнам. Тех же, кто упрямо не является в избирательный участок, берут на заметку органы КГБ и районный психиатр.
Ответа от Косыгина мы, естественно, не получили. В день выборов мы сидели дома, ожидая развития событий. Часов в двенадцать дня к нам пожаловали помощники избирательной комиссии — «добровольцы» из студентов.
— Вы еще не проголосовали?
— Нет, — сказали мы. — И не пойдем.
— Как не пойдете?
— А так, — сказали мы. — У нас есть на то свои соображения. Передайте председателю избирательной комиссии, что мы эти соображения изложили в письме нашему кандидату Косыгину.
— Но вы войдите в наше положение, — сказали студенты. — Если мы вас не приведем — нам здорово нагорит. Ну, что вам — трудно, что ли, дойти до избирательного участка? Здесь же два шага!..
Мы пожалели студентов-«добровольцев», но остались тверды.
Через какое-то время явился председатель избирательной комиссии.
— Если кто-нибудь из вас болен, — сказал председатель, — мы это дело поправим — принесем урну. Так что можете проголосовать дома.
— А мы голосовать не будем, — сказали мы. — Это дело решенное.
— Это почему же? — посуровел председатель.
Тогда мы показали ему копию письма к Косыгину.
Прочитав, председатель и вовсе помрачнел.
— Такие, как вы, портят нам всю отчетную ведомость по району, — сказал председатель.
Нам ничего не оставалось, как только посочувствовать ему.
На следующих выборах — в районный совет, в народные судьи и еще куда-то — нас больше не тревожили. Видно, махнули рукой.
Чтобы не терять времени и как следует подготовиться к переезду в Израиль, мы решили начать заниматься ивритом. Десяток-полтора нелегальных курсов — ульпанов возникли в то время в Москве, и власти ничего не могли с этим поделать: люди собирались у кого-либо вроде как бы в гости, открывали тетради и занимались языком. Подкопаться под такие «вечера» властям было трудно — разве что посадить всех учеников вместе с преподавателем. Но на такие крайние меры КГБ не решалось.
Нашим учителем был молодой человек Яша Чарный, выучивший язык самостоятельно. Яша работал — после того, как его уволили с инженерной должности после подачи документов на выезд в Израиль — грузчиком в булочной. В той же булочной — только в другую смену грузил хлеб и Давид. Он работал 24 часа, а потом 48 часов отдыхал. Работа была тяжелая, но зато давала Давиду возможность в свободные дни заниматься своими делами.
Два ульпана в Москве были легальными — благодаря недосмотру властей всеми силами боровшихся с распространением иврита.
Преподаватели этих ульпанов явились в Министерство финансов, в отдел налогообложения, и заявили:
— Мы преподаем иностранный язык, хотим платить налоги.
— Заполните карточки, — сказали им.
Карточки были заполнены немедля.
— А что это такое — иврит? — спросили чиновники отдела, регистрируя карточки.
— А это такой иностранный язык, — лаконично сообщили преподаватели.
— Вот ведь! — удивились чиновники. — Сколько, все-таки, языков на белом свете — у нас такой иврит даже не зарегистрирован.
Легальные ульпаны, однако, продержались недолго — начальство разобралось, что к чему, и потребовало у преподавателей дипломы об окончании курсов иврита. Поскольку в СССР таких курсов не существует, то и дипломы, естественно, взять было негде. Утверждения, что знания учителей вполне удовлетворяют учеников, не удовлетворили, однако, чиновником Министерства финансов.
А Яша Чарный, дав нам десять уроков, получил разрешение на выезд и уехал. После Яши один урок дал нам Володя Зарецкий, отказник — и тоже вдруг получил разрешение. Тогда среди «московских израильтян» пошла шутка: «Для того, чтобы уехать, надо сначала попреподавать Маркишам иврит».
22 октября в дом родителей жены Давида, Ирины, явился милиционер и потребовал, чтобы она срочно прибыла в ОВИР. Дело было вечером, Ирина оказалась у родителей случайно. Она немедленно села в такси и помчалась в ОВИР.
В ОВИРе Ирине сообщили, что ей дано разрешение на выезд в Израиль, что она должна покинуть пределы СССР в течение одной недели.
— А как же мой муж? — спросила Ирина.
— Он должен сам навести справки, — ответили ей.
Наутро Давид позвонил по телефону заместителю заведующего административными органами ЦК КПСС Пристанскому, курирующему работу московского ОВИРа, и объяснил ему положение вещей. Это был не первый наш звонок Пристанскому, он прекрасно знал нашу фамилию и наше дело.
— Через несколько дней, — сказал Пристанский, — вы получите ответ, который, как я думаю, удовлетворит вас, и вы будете выезжать.
— Я могу расценивать ваши слова как официальное заявление? — спросил Давид.
— Вам ведь прекрасно известно, с кем вы говорите, — отвечал Пристанский.
Несколько дней, однако, не принесли ничего нового, и Давид решил, что Ирине следует ехать одной: срок ее визы иссякал. Мы еще надеялись на то, что слова ответственного сотрудника ЦК имеют какой-то вес. Давид же придерживался того мнения, что любой еврей, получивший разрешение, должен уезжать, и как можно скорее: случаи аннулирования виз были не так уж и редки.
В который раз ехали мы в Шереметьево к рейсу Москва — Вена! Но на сей раз мы провожали члена нашей семьи. Я пыталась уговорить себя, что мы расстаемся ненадолго — быть может, на дни, в худшем случае на неделю, и Ирина, скорее всего, дождется нас в Шенау, — но разум подсказывал иное: «Что стоят обещания советских властей — будь то КГБ, МВД или ЦК?»
Через две с половиной недели мы получили очередной официальный отказ. Теперь он мотивировался «государственными соображениями». Пристанский, которому Давид позвонил сразу после получения отказа, заявил:
— Вы меня, наверно, неправильно поняли, гражданин Маркиш…
Ирина была уже в Иерусалиме, она звонила нам из своего ульпана «Этцион».
Из всех событий того долгого года ожиданий мне кажутся наиболее значительными два: попытка выхода из советского гражданства и демонстрация у здания ливанского посольства после кровавых событий на Мюнхенской Олимпиаде.
После очередного отказа — то ли пятого, то ли шестого — мы с Давидом решили отказаться от советского гражданства. К тому времени мы имели уже израильское гражданство и знали номера соответствующих решений Министерства внутренних дел Израиля. Документы, посылаемые нам из Израиля по почте, само собой разумеется, конфисковались КГБ. Наша постоянная связь с внешним миром была прервана: КГБ отключил наш домашний телефон. Давид бывал дома урывками: его преследовала милиция и военные власти, решившие забрать его в армию. В армии он мог чистить уборные — но в расположении ракетной части, а это механически закрывало ему дверь из Советского Союза еще на три года как минимум. Взвесив все «за» и «против», Давид решил «уйти в подполье» — скрыться. Он колесил по стране, нигде подолгу не задерживаясь.
Это последнее путешествие Давида по Советскому Союзу было бы захватывающим — если бы не было столь опасным. Вначале я сопровождала его — мы скрывались на даче у родителей жены Давида. Эта дача, в сорока километрах от Москвы, представляла собою легкую деревянную постройку без отопления и электричества. С внезапным снегом наступили лютые холода, и керосиновую лампу можно было зажигать, только плотно занавесив окна домика: сторож или соседи могли заметить свет в окне и донесли бы в поселковый совет или в милицию. Приехав за несколько дней до снега в легкой одежде, мы не могли добраться теперь до станции железной дороги, в метель, не обратив на себя внимания. Так мы и сидели в нашем досчатом укрытии, укутавшись в одеяла и скатерти… Спустя несколько дней приехал один из друзей Давида и привез нам пальто и сапоги. И, когда стемнело, мы благополучно добрались до станции.
Не заходя домой, Давил сел в поезд и уехал в Ленинград. Останавливаться у моей тетки-ленинградки было рискованно — она жила в коммунальной квартире, ее соседка, возможно, слушала иностранное радио и знала кое-что о наших делах: «Голос Израиля», «Би-Би-Си», другие станции передавали о том, что группа еврейских активистов, в их числе Давид, скрываются от преследования армейских властей… Давид отправился в Карелию, снял комнатку в глуши Карелии и дописывал там свой роман. С тоской провожал он взглядом туристские автобусы финских компаний, уходившие на Выборг и дальше, за рубеж.
Следующей остановкой его была Рига. Оттуда он позвонил жене — она в то время была в Париже — и КГБ наткнулось на его следы: на телефонной станции у него потребовали паспорт перед тем, как соединить его с заграницей. Ему удалось ускользнуть и, благополучно уйдя от поездного контроля КГБ (евреев в те дни не пускали в Москву, снимали их с поездов и самолетов), он явился в Москву.
Посоветовавшись, мы решили сделать следующий шаг, рискованный и опасный: отказаться от советского гражданства. Шаг этот имел, прежде всего, значение демонстративное: лишение гражданства советские власти считают своей привилегией, нисколько не принимая во внимание желание самого гражданина. Однако, удовлетвори власть нашу просьбу, мы могли быть выселены на сто первый километр от Москвы, я бы лишилась пенсии, а в худшем случае нас ждало превентивное заключение в лагерь. Мы, правда, имели уже израильское гражданство, и советские власти знали об этом. И израильское гражданство внушало нам веру в благополучный исход нашего предприятия.
Для этой процедуры необходимо получить специальные подробнейшие анкеты — без них у вас просто-напросто не примут заявления. Анкеты эти могут быть выданы только в Московском ОВИРе, а ОВИР категорически отказывается их выдавать. Для получения пустых бланков необходимо подать специальное заявление, с просьбой выдать вам эти самые пустые бланки. Такое заявление рассматривается три месяца, полгода, год — срок рассмотрения не установлен.
Мы, к счастью, раздобыли окольными путями один экземпляр анкеты и сняли с него три точные копии. Выход из гражданства стоит пятьсот рублей, и мы вдвоем с Давидом должны были внести в казну целую тысячу — из тех неприкосновенных денег, что отложены были на отъезд. Сдать такие крупные деньги через сберегательную кассу — а другого хода нет — дело непростое: сберкасса может заподозрить «неладное», снестись с соответствующими органами и деньги попросту не принять. Без чека же о внесении денег в казну заявление о выходе из гражданства считается недействительным.
Нам удалось деньги сдать — мы сказали в сберегательной кассе, что эта операция — пустая формальность, связанная с оформлением зарубежных паспортов. Загипнотизированная суммой, служащая сберкассы проштемпелевала квитанцию, на которой в графе «вид услуги» Давид вывел: «За выход из советского гражданства». Анкеты, квитанцию и заявления мы вложили в большой конверт и отправили ценным письмом с уведомлением о вручении в Президиум Верховного Совета, в адрес Подгорного. Теперь следовало набраться терпения — и снова ждать.
Полгода спустя в ответ на наш телефонный запрос нам было сообщено (конечно, устно — документы в таких случаях не выдаются), что решение по нашему делу еще не принято и что документы отправлены в МВД «на проверку». «Добровольный союз гражданина и государства», как выяснялось, разорвать было чрезвычайно трудно.
Несколько недель ушло на то, чтобы разыскать концы нашего дела в МВД. Безликий полковник Клычков, согласившийся общаться с нами только по телефону, сказал:
— Так вы же хотите выезжать в Израиль. Вот как дадут вам разрешение — так мы вас из советского гражданства и выведем!
— Мы не связываем выход из гражданства с выездом в Израиль, — разъяснила я. — Просто мы больше не хотим быть советскими гражданами. Это ведь наше право.
— Да как вы не понимаете! — вспылил телефонный полковник. — Я ж вам русским языком твержу: как будете уезжать — так и лишитесь гражданства!
— Значит, пока что нам отказано в выходе из гражданства?
— Значит, отказано… — сказал полковник.
— Это вы так решили?
— А то кто же? — удивился полковник, не подозревавший в вопросе подвоха. — Конечно, мы!
— Так ведь решение о выходе из гражданства выносит Президиум Верховного Совета!
Полковник не нашелся, что ответить, а мы поняли, что выйти из гражданства нам тоже не дадут.
На беседе с полковником Клычковым мы, конечно, не успокоились. Мы написали в Президиум Верховного Совета такое письмо: «В течение срока, установленного законом — полугода — мы не получили ответа на наше заявление о выходе из советского гражданства. Ставим вас в известность что, в случае неполучения просимого ответа в течение последующих двух недель, мы будем считать себя выведенными из советского гражданства».
Казенный стиль заявления был отвратителен, но мы уже научились разговаривать с советскими чиновниками на их родном языке.
Ответ на это наше письмо, конечно, не пришел — и две недели спустя мы стали называть себя иностранными подданными. А если бы нам ответили официальным документированным отказом — мы располагали на этот случай готовым планом действий. Мы подали бы в суд, требуя вернуть нам нашу тысячу рублей — ведь бессмысленно оплачивать услугу, которая не была совершена. Первая инстанция — районный суд — наше заявление о возбуждении судебного дела против Президиума Верховного Совета бесспорно не принял бы. Тогда мы обратились бы с жалобой на районный суд в суд городской, и там должны были рассмотреть нашу жалобу в гласном порядке — прежде, чем нам отказать. В городской суд на слушание жалобы были бы привлечены нашими усилиями корреспонденты западных газет, и дело получило бы огласку. Это был бы прецедент — а советский бюрократизм так не любит прецедентов…
Борьба за выход из советского гражданства продолжалась по день нашего отъезда из СССР: власти не хотели допустить прецедент, поскольку он мог повлечь за собой массовые отказы от гражданства, и притом не только еврейские. Мы лишились советского гражданства автоматически — вместе с получением выездной визы.
Этот период, пожалуй, был самым тяжелым и беспросветным за все время нашего столь долгого ожидания. Нам не хотелось никого видеть, не хотелось никуда ходить. Только один дом в Москве был нам по-прежнему приятен — дом моих добрых друзей Люси и Жана Каталя.
Жан Каталя — французский журналист и писатель, много лет проведший в СССР. В Москве, в его уютной квартире на улице Сивцев Вражек, собирались французы, англичане, американцы — свободные люди свободных стран. Бывая у Каталя, я словно бы вырывалась на один вечер из тюрьмы. Умный и обаятельный пессимист Каталя, его отзывчивая и добрая жена Люся — они, возможно, и не догадывались, какую зарядку надежды и бодрости получала я от общения с ними и их гостями.
Зная о нашем тяжелом, черном настроении, Каталя пригласили меня и Давида на обед. Кроме нас и хозяев, никого не было в тот вечер в доме Каталя.
Говорили о большой и малой политике, о перспективах.
— Ожидание не должно быть бесконечным, — сказал Давид. — Мы сделали уже почти все, что в наших силах. Надо определить срок — два-три месяца — и заканчивать. Наше самоубийство, в конце концов, может принести пользу другим.
Каталя сделался желт как лимон.
— Ты что, — спросил он, — прежде всего, думаешь о других?
— Нет, прежде всего я думаю о себе.
— Почему же тебе тогда не взять пистолет и не застрелить хотя бы одного из тех, кто тебя мучит?!
Мне кажется, Давид тогда согласился с Каталя. В доме у милых Каталя я познакомилась с обаятельным, умным Жоржем Бортоли и его женой Катюшей — дочерью русских белоэмигрантов, прекрасно владеющей русским языком, каким говорили интеллигентные русские накануне революции. Мы почувствовали с четой Бортоли взаимное расположение, они пригласили меня с Давидом в гости. Бартоли, представлявший в России французское телевидение, был человеком широких взглядов, наблюдательным и точным в нравственных и политических оценках. Посещения его гостеприимного дома — он жил недалеко от нас в «доме для иностранцев», охраняемом неизвестно от кого милицейскими часовыми — были для нас маленькими праздниками. Оглядываясь на «слышащие» стены, на внимательную прислугу, присланную для подслушивания и подглядывания из Управления по делам дипломатического корпуса — мы все же могли говорить, обмениваться мнениями в атмосфере относительной, контролируемой свободы.
К сожалению, обстоятельства сложились так, что Бортоли прожил в Москве недолго. Мы встретились с ним уже после моего освобождения, в Париже. И он, и Катюша были рады мне и разделяли мою радость, и я благодарна им за это: только те, кто хоть немного знают сегодняшнюю Россию, могут понять чувства человека, вырвавшегося оттуда.
Сразу же после убийства наших спортсменов арабскими террористами на Мюнхенской Олимпиаде мы решили провести демонстрацию протеста. Действовать следовало быстро и решительно — все предыдущие попытки официальных демонстраций евреев срывались советскими властями. Было срочно написано письмо председателю Моссовета. В письме не излагалась просьба — излагалось намерение провести демонстрацию у здания ливанского посольства. Предполагалось также вручить послу Ливана письмо протеста. Обращение к председателю Моссовета подписали трое: профессор Александр Лернер, профессор Владимир Маш и мой сын Давид. Втроем они отправились в Моссовет.
Их принял один из заместителей председателя.
— Мы все сожалеем о случившемся и разделяем вашу печаль, — сказал заместитель. — Но по поводу такой демонстрации вы должны связаться с Комитетом по спорту. И почему именно — перед посольством Ливана?
— Потому что именно на территории Ливана базируются штабы диверсантов, — ответили ему наши.
Стало ясно, что власти не хотят запретить демонстрацию — это было бы открытым вызовом — но сделают все, чтобы не допустить ее.
Из Моссовета Лернер, Маш и Давид отправились в Комитет по спорту. Там, естественно, развели руками, а потом сильно напугались.
— Мы не пришли просить у вас разрешение, — сказали наши. — Если вы хотите, вы можете принять участие в нашей демонстрации.
— Дайте нам посоветоваться, — сказало спортивное начальство, — дайте нам созвониться… Давайте встретимся завтра.
Было ясно, с кем собирается созваниваться спортивное начальство.
— Мы проведем демонстрацию сегодня, — сказали наши. — Можно отложить праздник. Траур не откладывают.
Договорились на том, что наши позвонят в Комитет по спорту в конце рабочего дня.
Звонок этот, конечно, ничего не дал.
— Мы не примем участие в демонстрации, — сказало спортивное начальство. — И вам не советуем.
Около шести часов вечера более ста евреев — в одиночку и малыми группами — стали подходить к ливанскому посольству. Посольство уже было оцеплено нарядами милиции и армейским подразделением.
Невдалеке от посольства мы обменялись неприметными кивками с корреспондентом одной из французских газет, оповещенным нами о демонстрации. Потом мы вместе с уличной толпой прошли сквозь первую — редкую — милицейскую цепь. Возле самых стен посольства была расставлена вторая милицейская цепь, и солдаты выстроились у своих воинских грузовиков.
— Расходитесь! — закричал, подбегая, милицейский полковник.
Мы не двигались с места. К нам присоединялись все новые люди.
На лестнице, ведущей к подъезду посольства, метался агент КГБ в штатском, кричал что-то полицейскому полковнику. Полковник махнул рукой, и к тротуару подъехали автобусы. Милицейское оцепление стало теснить нас к автобусам. Началось стихийное сопротивление. Большая толпа прохожих молча наблюдала с противоположной стороны улицы за происходящим. Советские граждане — к какой бы национальной категории они ни относились — очень любят смотреть на сопротивление милицейским силам.
В воздухе замелькали поднятые руки, кулаки. Некоторые уже были брошены в автобусы, остальных тащили. Проволокли доктора физико-математических наук Бориса Мойшензона. Мойшензон оглядывался по сторонам — у него выбили из рук какую-тo математическую книгу.
В автобусе, куда втолкнули меня и Давида, случилось комичное происшествие. В автобусе этом оказался отчаянно сопротивляющийся и кричащий молодой человек с незнакомым нам лицом. Он так бушевал, что озлобленный милиционер впрыгнул в автобус вслед за ним, продолжая наносить ему удары. Наконец, избиваемый ухитрился выхватить из кармана красную книжечку — удостоверение МГБ — и замахал ею перед носом опешившего милиционера. Оказывается, милиционер в толчее принял кагебешника за еврея и потащил его в автобус.
Как только автобусы были набиты до отказа, милицейский полковник дал сигнал — трогать. Мы проехали через центр города, направляясь к Ленинградскому шоссе. Те из нас, кто уже бывали задержаны на демонстрации, определили: нас везут в Войковский вытрезвитель: по каким-то непонятным соображениям КГБ именно туда свозит еврейских демонстрантов.
Пьяниц в этот вечер вытрезвитель не принимал — не то не хватило бы места для евреев. Не успели нас рассортировать и рассовать по комнатам, как привезли запоздавшего демонстранта, схваченного у ливанского посольства последним. Этим демонстрантом оказался академик Андрей Сахаров, пришедший вместе с евреями выразить свой гнев по поводу мюнхенского убийства.
Столь долгое, столь мучительное наше ожидание свободы закончилось утром 3 ноября 1972 года. Мы с Давидом были вызваны в ОВИР — конечно, накануне вечером. Еще одна бессонная ночь — разве мало было их за этот год и девять месяцев?
В ОВИРе нам было объявлено, что просьба наша удовлетворена, что в течение трех суток мы должны покинуть пределы СССР. Я хотела было возражать — как можно уложиться в такой короткий срок? — но Давид надавали мне на ногу.
— Мы выиграли войну за шесть дней, — сказал он мне, когда мы вышли из кабинета. — Так неужели мы не управимся за три дня с нашими делами?
Три дня промчались как один — я даже не могу сейчас вспомнить, кто пришел проститься с нами. Нужно было получить и оформить визы, сдать государству квартиру (одно это занимает иногда до недели), купить билеты, упаковать и отправить багаж.
Я помню только, как мы поехали на кладбище и постояли у могилы моих родителей.
6 ноября на рассвете мы отправились в Шереметьево в последний раз — в один конец. В Шереметьево собралось свыше ста человек наших родных и друзей, но нам не дали с ними проститься. Многие из них сейчас с нами, здесь, в Израиле. Многие — но не все.
Два с половиной часа спустя наш самолет приземлился на бетонной полосе Венского аэродрома, и мы очутились в объятиях наших новых друзей, приехавших встретить нас.
Перелет из Вены в Израиль на нашем самолете компании «Эль-Аль», встреча в аэропорту имени Бен-Гуриона, первые метры по нашей земле… Но вот уже прошли два года в Израиле, и можно написать об этом новую книгу: материала хватит. И все же здесь, заканчивая эту книгу, мне хочется сказать несколько слов о моей новой жизни на старой Родине.
Я вернулась сюда, в Израиль, зная об этой стране чуть более, чем о чужой планете: информация, которой располагала я о Стране евреев в СССР была либо ошибочна, либо преднамеренно лжива. Эти мои «знания» подверглись за два года трансформации — это естественно. Одно чувство, привезенное мной из России, не подверглось изменению — любовь к моему народу, к моей земле. Нынче много говорят и пишут в мире о «трудностях абсорбции» евреев из Советского Союза в Израиле, о «несовместимости психологии» бывших советских граждан — и израильтян. Есть сложности с внедрением, вживанием взрослых и старых людей в новую почву жизни — в первую очередь для тех, кто не привез вовсе или растерял по дороге любовь к этой земле, к своим братьям и сестрам, построившим здесь Еврейское государство. «Без любви и дерево не растет» — говорит русская поговорка. Поговорки верны не только в среде тех народов, где они возникли.
Счастье быть евреем на земле Израиля — нелегкое счастье. И дается оно не тем, кто ставит превыше всего на свете блеск материальных благ. Оно дается людям сильного духа и устойчивых нравственных убеждений. А те, кто лишены этих качеств — обеднены, и не будут они счастливы нигде. Есть среди вчерашних «московских израильтян» такие, которые предпочли богатую и могущественную Америку воюющему Израилю. Но нет на свете армий без дезертиров, и не дезертиры определяют лицо армий.
1974
Фотографии из книги Эстер Маркиш «Столь долгое возвращение»
Отец Переца Маркиша — Давид.
Мать Переца Маркиша — Хая.
Перец Маркиш. Местечко Полонное, 1911 г.
Ссудо-Сберегательное товарищество. Местечко Полонное, 1912 г.
Перец Маркиш, конторщик Ссудо-Сберегательном товариществе. Местечко Полонное. 1912 г.
Перец Маркиш в доме своего первого издателя Идидия Локшина. Екатеринослав, 1918 г.
Эстер Маркиш с матерью Верой Марковной и братом Александром Константинополь. 1922 г.
Перец Маркиш с группой халуцим. Палестина, 1923 г.
Перец Маркиш, рисунок Манэ Каца. Париж, 1923 г.
Перец Маркиш. Париж, 1924 г.
Перец Маркиш. Париж, 1924 г.
Перец Маркиш и Ури-Цви Гринберг. Варшава. 1922 г. (?)
Перец Маркиш. Вильно, 1919 г (?)
Перец Маркиш с еврейскими писателями. Сидят слева направо — Лейвик, Иосиф Опатошу. Стоят: слева направо — Мейлах Равич, Перец Маркиш. Варшава, 1925 г.
Перец Маркиш (в середине) с еврейскими писателями: слева — Мойше Бродерзон, Алтер Кацизна. Варшава, 1925 г.
Перец Маркиш и Мойше Надир. Отвоцк (Польша). 1926 г.
Перец Маркиш с группой еврейских писателей. Сидят: слева направо — Лейб Квитко, Дер Нистер, Шахно Эпштейн, Перец Маркиш. Стоят слева направо — Абрам Каган, Фельдман, Меир Даниэль. Киев. 1927 г.
Перец Маркиш на 1-ом совещании еврейских писателей. Сидят: слева направо — Ицик Фефер, Изи Хари, Александр Фадеев, Перец Маркиш, Яков Бронштейн. Стоят: слева направо — Годинер, Нотэ Лурье, Моисей Литваков, Меир Даниэль, Арон Кушниров, Мойше Кульбак. Москва. 1929 г.
Эстер Маркиш с сыном Симоном. Москва. 1931 г.
Перец Маркиш (первый слева), Давид Бергельсон, Изи Харик, Соломон Михоэлс. На заднем плане — редактор еврейской еженедельной газеты «Дер Эмес» Моисей Литваков. Москва. 1935 г.
Перец Маркиш (в середине). Слева Михаил Мильнер, справа Иехескель Добрушин. Москва, 1937 г.
Перец Маркиш и Моисей Гольдблат в роли Арье-Летописца на премьере пьесы Переца Маркиша «Калнидрэ». Киев, апрель 1941 г.
Перец Маркиш на одном из первых заседаний Еврейского Антифашистского Комитета. Сидят: (слева направо) Самуил Маршак, Перец Маркиш, Давид Бергельсон, Илья Эренбург. Стоят: (слева направо) пианист Яков Флиер, скрипач Давид Ойстрах, Исаак Нусинов, Соломон Михоэлс, пианист Яков Зак, Вениамин Зускин, художник Александр Тышлер. Москва, 1942 г.
Перец Маркиш с женой Эстер и сыном Давидом. Черновицы, 1946.
Перец Маркиш читает свое стихотворение «Михоэлсу — неугасимый светильник» на вечере памяти Соломона Михоэлса. Крайний справа — Вениамин Зускин. Москва, февраль. 1948 г.
Сыновья Переца Маркиша Симон и Давид с Еленой Хохловой. Москва, 1950 г.
Симон, Юрий (племянник Переца Маркиша) и Давид в ссылке. Кармакчи, 1953 г.
Дочь Переца Маркиша Ляля в ссылке. Долгий Мост, 1953 г.
Эстер и Давид Маркиш. Демонстрация с желтыми звездами. На заднем плане — Александр Кримгольд и Виктор Яхот. Москва, 12 августа 1972 г.
«Московские израильтяне». Сидят: Эстер Маркиш, Татьяна Левич. Стоят: Александр Лернер, Вениамин Левич, Александр Маш, Давид Маркиш. Москва, 1972 г.
Проводы поэта Иосифа Керлера в аэропорту Шереметьево. Среди провожающих: Виктор Некрасов, Михаил Калик, Олег Чухонцев, Григорий Левин, Эстер и Давид Маркиш.
Эстер и Давид Маркиш. Аэропорт им. Давида Бен-Гуриона. Первые минуты в Израиле. 8 ноября 1972 г.
Примечания
1
Общество землеустройства евреев-трудящихся.
(обратно)2
Юридическая формулировка в законах царской России, ограничивавшая права евреев.
(обратно)3
Exil (англ.) — ссылка.
(обратно)4
Идишер культур фарбанд — Союз еврейской культуры.
(обратно)


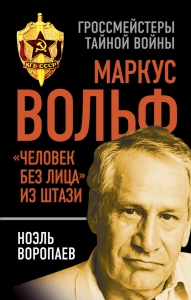




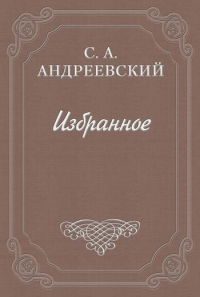
Комментарии к книге «Столь долгое возвращение… (Воспоминания)», Эстер Маркиш
Всего 0 комментариев