ООО «Издательство Киновия»
Рославль, 2006 г.
-
Об авторе
Родился в 1933 году в г. Брянске. Жил в Дубровке, Брянской области. В 1951 году окончил среднюю школу и поступил в Криворожский горнорудный институт, откуда ушел, не поладив с некоторыми преподавателями. В 1952 году поступил на геологический факультет Харьковского госуниверситета, который окончил в 1957 году, и по просьбе Красноярского геологического управления был направлен туда на работу. Работал на геологической съемке и поисках месторождений полезных ископаемых. В 1964 году переехал на Украину, где работал в геофизических партиях, участвовал в открытии Петровского железорудного месторождения. В 1967 году вернулся на север Красноярского края, где открыл месторождение золота «Кварцевая гора», а позже вел разведку Курейского месторождения графита. С 1970 по 1988 годы — старший научный сотрудник, и заведующий лабораторией научно-исследовательского горнорудного института в Кривом Роге. Кандидат геолого-минералогических наук. Имеет более 80 научных работ, большинство которых опубликованы.
С 1988 по 1993 годы — вновь на Севере, в Новом Уренгое, занимался повышением продуктивности нефтяных и газовых скважин.
С 1993 года на пенсии.
«… И места, в которых мы бывали» (из записок геолога)
В названии все правда: как в известной песне, люди действительно иногда отмечали на картах, если не мира, то нашей страны, места, в которых мы бывали по своим служебным обязанностям, так как мы находили нечто, что следовало отметить, а перед вами действительно записки полевого теолога, позже ставшего научным работником и в этом качестве завершившего карьеру.
Жизнь подарила автору множество интересных встреч с людьми, событиями, а иногда явлениями, даже камнями и структурами земной коры, а то и просто животными, растениями, горами, реками и т. и. Об этом здесь и рассказано, хотя местами есть и умолчания — и людей, и, тем более, державу сильно задевать не стоит.
Главное же — встречи с людьми. Их было великое множество. И с министрами, и с их заместителями, и с академиками, художниками, писателями, актерами, режиссерами, и с самыми «обыкновенными» людьми, которые порой куда интереснее всех так называемых крупных фигур.
Первый академик
Первая встреча с настоящим живым академиком произошла вскоре после моего поступления в Криворожский горнорудный институт. Директором, тогда еще не ректором, как теперь называют всех глав ВУЗов, был, по-моему, единственный в те годы на весь СССР академик-горняк, действительный член Академии Наук УССР Георгий Михайлович Малахов. Внешне он ничем особенным не выделялся. Был среднего роста, сухощав, светловолос и голубоглаз. К студентам он относился с легким презрением, строгостью, а иногда и жестокостью, когда ему приходилось снисходить до них. В отличие от других профессоров, часть которых носили горную генеральскую форму с большими звездами в петлицах и синими лампасами на брюках, он всегда ходил в цивильном. В теплые дни на нем были серый костюм, того же цвета велюровая шляпа и сияющие коричневые туфли, а в прохладные — добавлялся еще зеленовато-серый габардиновый макинтош. Выглядел он превосходно, ничего не скажешь. Ходил он всегда пешком, хотя и как директор академик, имел право на персональную машину. И она была у него — сверкающий черным лаком «ЗИМ». Но это было вполне логично: жил он на той же улице, где находился институт.
Студенты во время его променадов старались на глаза ему не попадаться. Он мог придраться к нарушению формы одежды, полагавшейся тогда и студентам. Не дай Бог, если под тужуркой с контрпогонами с вензелем института будет не черный галстук или белая рубашка окажется недостаточно свежей. Тогда гроза, разнос, а то и выселение из общежития, у входа в которое эти сцены обычно и разыгрывались.
И студенты каким-то непостижимым образом узнавали о выходе директора на улицу и мгновенно исчезали, хотя только что толпились у входа или перед крошечным магазином на первом этаже общежития. Я, первокурсник, не имеющий еще формы и именуемый на студенческом жаргоне «васюк» — это примерно то же, что на флоте «салага», то есть ничего не знающий и не умеющий новичок, изо всех сил тянулся к старшекурсникам. Хотел набраться нужного понимания, знания порядков и обычаев, необходимого для нормальной жизни в коллективе. И, что греха таить, очень хотелось стать одним из них, лихих и озорных хлопцев, а не «паршивым (гнусным, негодным) васюком». Ребята с моего геолого-обогатительного факультета для этой цели казались мало подходящими. Их называли «интеллигенцией на босу ногу», «шибко умными», что, в общем, было правдой: конкурс на наш факультет был в два-три раза выше, чем на другие. Потому более привлекательными были парни с основного, горного факультета. В них было много от гоголевских бурсаков.
Такими были и горняки-третьекурсники, к которым я пристроился. Они ходили в тужурках, надетых на морские тельняшки или прямо на голое тело. Особым шиком считалось в таком виде пройти под носом у директора. Для «васюков» существовало что-то вроде наставничества. На мою долю достался некто Ёган. Именно так он именовался, а иногда из озорства и подписывался. Это было не имя, звали его Виктор. А происхождение странно, по-немецки звучавшей клички было скрыто в детстве этого красивого, очень сильного и ловкого парня. Кажется, так почему-то назвал его немец-оккупант в Скадовске, откуда Ёган был родом. Он был неплохим боксером и с гордостью носил на тужурке значок перворазрядника. Мой жалкий третий разряд по легкой атлетике рядом с ним «не звучал». Даже как предмет для шуток.
Он ежедневно бегал в парк и там купался в заброшенном карьере, хотя на дворе стоял октябрь. Правда, октябрь в Таврии, к которой относится Кривой Рог, был весьма теплым, пожалуй, даже жарким и очень сухим. Пирамидальные тополя под окнами общежития шелестели жестяными листьями и раскачивались под порывами суховея.
Эти тополя были похожи на новогодние елки — столько на них было навешано всякой дряни. Студенческая братия, не стесняясь, выкидывала на них из окон разный ненужный хлам. Там были фуражки, кепки, полукеды, тогда называвшиеся просто спортсменками, и даже чей-то черный прорезиненный плащ. Кое-где блестели консервные банки, повесить которые на сучки, не уронив на асфальт, требовало особой меткости и ловкости.
В комнате моих «учителей» на пятом этаже, когда я зашел туда, был один Ёган. Он рылся под кроватью, перебирая какое-то имущество. Не вылезая, он сказал:
— Садись за стол, пей квас.
На столе стояли глечик и глиняная кружка. Пить сладковатую бурду, именуемую в Кривом Роге хлебным квасом, у меня не было ни малейшего желания. Поэтому, не тронув его, я стал смотреть в окно на раскачивающиеся верхушки тополей. Ждал, когда Ёган вылезет из своего закрома. Он не торопился, и я подошел к окну. На улице, вопреки обыкновению, никого не было. Я вспомнил, что в тот день был футбольный матч. Играли горняки с маркшейдерами, еще одним «интеллигентским» факультетом. Вот где были соседи Ёгана по комнате. Вот почему пусто было и во всем общежитии. Я обернулся, чтобы спросить хозяина, что ж он не пошел на стадион, но именно в этот момент Ёган выполз на свет Божий, а на улице появилась фигура академика. Он шел, сдвинув на глаза шляпу, спокойным, размеренным шагом и уже поравнялся с первым в ряду тополем. Ёган подошел ко мне и задал вопрос, на который не могло быть ответа:
— На хрена они мне?
В руках у него была пара драных галош. Он повертел их, взял двумя пальцами за задники, широко размахнулся и запустил в окно обе сразу, даже не глянув, что происходит внизу. А там шел академик и вскоре должен был поравняться с окном. Галоши описывали траектории, назначенные законами физики. Одна из них прервала полет и повисла на суку, чего и хотел Ёган. А вторая вопреки его желанию продолжала полет, быстро вращаясь и неотвратимо сближаясь со шляпой академика.
Желая предупредить Ёгана, я крикнул:
— Эк! — показав пальцем вниз, присел у окна и уловил все же момент сочного шлепка галоши по шляпе.
Остальное наблюдать не стоило. Нужно было «делать ноги». Ёган дернул меня за руку и метнулся к двери. В коридоре я успел шепнуть ему:
— Замкни комнату.
А на лестнице уже слышался топот — снизу бежали «деды» — вахтеры, сплошь отставные шахтеры. Дежурили они обычно по трое, так что было кому ловить озорников. По другой лестнице, не имевшей выхода на пост вахтеров и на улицу, мы сбежали на второй этаж и заскочили в девчачью комнату. Давясь от смеха, долго отбивались от вопросов девчат.
На следующий день о происшествии от «дедов» стало известно всему институту. Девчата поняли, конечно, кто были их смешливые гости, но в целом все прошло без последствий.
После Малахова жизнь сводила меня с добрым десятком других академиков, включая героя Антарктики О. В. Вялова, министра геологии СССР А. В. Сидоренко и многих украинских академиков. С некоторыми из них знакомство было довольно коротким, порой переходившим в дружбу. Но эта история самая памятная.
Через много лет мы с Георгием Михайловичем работали над одной научной темой по заданию криворожских властей. Но, естественно, мне и в голову не пришло рассказать ему об этом случае.
Министр на камне
Настоящего, «живого» министра, правда, бывшего, я впервые увидел, когда уже работал в горах Енисейского кряжа в Тасеевской поисково-разведочной партии, занимавшейся поисками титана. Эта задача вместе с названием партии была передана в Казачинскую геолого-поисковую экспедицию из Ангарской геолого-разведочной.
Мы мыли пески по мелким речкам и ручьям, притокам Енисея и, надо сказать, небезуспешно. Россыпи титана мы нашли довольно быстро, и с неплохими запасами. Но что-то не устраивало начальство экспедиции, да и нашей партии. Титан был, так сказать, «неправильный»: в других местах он образует россыпи вблизи «основных» горных пород, а тут — около гранитов, чего по теории не должно быть.
Чтобы разрешить это противоречие, а заодно определиться, правильно ли работаем, решили пригласить самого крупного тогда специалиста по титану в стране И. И. Малышева. Он, бывший министр геологии, после своей добровольной отставки возглавлял один из НИИ Министерства геологии. Наше начальство откуда-то знало, что Илья Ильич, бывший полевой геолог, на такие приглашения откликается с удовольствием и просит только, чтобы его принимали без особого ухаживания и заискивания.
В один прекрасный день в берег у нашей базы уткнулся катер-ярославец, с которого по крутой сходне сбежали двое. Один, высокий и худой, — главный геолог нашей экспедиции К. В. Боголепов, в недавнем прошлом зэк по знаменитой 58-й статье, а впоследствии член-корреспондент АН СССР и лауреат всяческих премий. Второй — человек среднего роста и такой же толщины в зеленой штормовке и «геологических» сапогах со множеством ремешков и пряжек. За плечами у него был большой полупустой рюкзак. Это и был ожидаемый нами И. И. Малышев.
Я встретил их первым, так как стоял на берегу и, пользуясь предоставленным отдыхом после долгого маршрута, ловил ельцов в Енисее.
Гости, похоже, не предупредили заранее о прибытии, и для встречи уже в «пожарном» порядке с обрыва сбежали начальник партии Борис Лапшин и старший геолог Трофим Корнев.
После церемонии представления, в которую втянули и меня, все поднялись в поселок и уселись в камеральном помещении за столами с расстеленными картами.
А на них на розовом фоне гранитных полей часто и довольно густо были рассеяны мелкие зеленые пятна «основных» пород. Это дало повод Малышеву сразу отмести исповедуемую Корневым «гранитную» гипотезу происхождения титана в россыпях. Не помогли и образцы гранитов с крупными кристаллами ильменита (главного титанового минерала). Малышев посчитал, что титан в этом случае перешел в граниты из переплавленных ими основных пород. Корнев, человек очень упрямый, все не соглашался и что-то ворчал себе под нос.
В конце концов решили посмотреть на месте, а для того утром следующего дня выехать на речку Кимбирку. Там на участке геолога Леонтия Сухорукова работала бутара — устройство для промывки больших проб песков, которые подвозились вьюками на лошадях. Там же были и большие «обнажения» (выходы коренных пород).
Приказали собираться и мне. А сборов-то: взять пробные мешочки для образцов, сменить рыболовные болотные сапоги на легкие кирзовые да сунуть в карман коробочку патронов для малокалиберного карабина-«тозовки».
Утром завхоз Игорь Зорин подал к конторе заседланных лошадей под началом молодого парнишки-конюха. Поехали вчетвером: Малышев, Корнев, я и этот парнишка.
Первые четырнадцать километров ехали по старой приисковой дороге в густом смешанном лесу, уже частично сбросившем листву. Только отдельные березы не пожелали расстаться со своим парадным осенним золотым нарядом. Да редкие рябины и кусты черемухи пламенели пурпуром. Зато пихты, ели да редкие там кедры берегли свою зелень. Ярко-зеленой была и трава на болотинах. Дорога все время шла в гору — взбиралась на высокие террасы Енисея. И он проглядывал местами через лощины стальной полосой, окаймленной пестрой тайгой. На дороге кое-где сохранились настоящие полосатые верстовые столбы.
Я ехал замыкающим в кавалькаде на своей любимой монгольской лошадке Маруське. Любил я ее за способность пробираться по самым труднопроходимым местам — болотам, каменным ручьям-курумам и лесным чащобам, не цепляя за деревья и кусты. Не пугалась она и когда приходилось стрелять с седла прямо над ее ушами. Единственным недостатком ее была крайняя вороватость. Как ни прячь вьючную суму или мешок с сухарями либо хлебом, хоть камнями заваливай, найдет и распотрошит. Такое добро приходилось держать у себя в палатке, а ночью просыпаться от дыхания непрошеной гостьи, всунувшей голову иод полу палатки, или от неистового трезвона ее ботала, извещавшего, что вожделенная сума украдена и идет потрошение.
После часа езды где трусцой, а где и рысью, мы оказались на большой поляне, где виднелись развалины большого дома. Па карте это место было обозначено как «зимовье Перевальный». Отсюда дорога шла на закрытый прииск Кузеевский, а нам нужно было сворачивать влево на тропу, ведущую на Кимбирку.
Тропа не дорога, по которой Малышев и Корнев ехали рядом и тихо беседовали. Здесь попадались валежины в добрых полметра толщиной, толстые корни, крупные глыбы камня, рытвины и промоины. Лошади перешли на шаг, стали часто спотыкаться и скользить на глинистых «зеркальцах» тропы. Вдруг Корнев тихонько свистнул и показал рукой на стоявшую у тропы пихту. По ее пушистой ветке разгуливал хорошо видный рябчик в серебристо-сером оперении с яркими красными бровями и двойной черно-белой полосой поперек хвоста.
Я сдернул с плеча свой легонький карабинчик и потянул пуговку курка затвора. Щелчок курка нисколько не напугал дичину. Я остановил Маруську и прицелился. Выстрел хлопнул, как сломанный сучок. Рябчик свалился на землю. Мне не пришлось даже спешиваться. Это сделал мальчишка-конюх. Он поднял добычу и подал мне, а я затолкал ее в рюкзак, притороченный к передней луке седла.
Корнев, когда я подъехал к нему, сказал:
— Давай вперед, добудь еще штук несколько.
Мне только того и надо было — тащиться в хвосте удовольствие небольшое. Пустил Маруську рысью, а за мной потрусил парнишка.
Метров через триста из-под копыт Маруськи выпорхнул целый выводок рябчиков и расселся на ветках, как мишени в базарном пневматическом тире. Тогда, да и позже, настрелять рябчиков не было проблемой, они почти совсем не боялись людей. Даже выстрелы из ружья их не очень пугали — перепорхнут на другую ветку и все. Я сшиб трех из выводка и счел, что этого достаточно: каждому по рябчику. Обед будет вполне приличный.
В этот момент конюх остановил свою лошадь и указал рукой вниз на очередное грязевое «зеркальце», еще не засыпанное опавшей листвой:
— Посмотри-ка, здоровенный какой. Я таких еще не видал.
На грязи поверх старых следов лошадиных копыт и сапог был хорошо различим оттиск, похожий на след очень большой босой человеческой ноги, только значительно более широкой. Перед пальцами хорошо были видны длинные черточки — отпечатки когтей. Медведь! И, судя по свежести следа, прошел он совсем недавно, не больше, как полчаса назад. Размер следа говорил, что это огромный старый матерый зверь.
Встреча с таким радости не сулила, поэтому я перезарядил «тозовку», вытащив из патронташика, пристегнутого на шейке приклада, патрон с усиленным зарядом пороха и надрезанной крест-накрест пулей. Говорили, что такой заряд при хорошем попадании может убить медведя. Надрезанная пуля летит недалеко, но дыру делает, как добрый жакан, выпущенный из ружья.
Следовало, конечно, предупредить поотставшее начальство. Но, во-первых, оно само увидит след и оценит его, а во-вторых, нападения зверя в эту пору можно не опасаться: он сыт — ягод и кедровых орехов кругом полным-полно. Если его не спровоцировать, сам он на рожон не полезет, постарается тихо удалиться.
Рассуждение логичное. Но как рассудит сам медведь, неведомо. Поэтому я решил оставить парня до подъезда важных персон. Сам же потрусил вперед — уже начался спуск к Кимбирке. Скоро должна была открыться поляна на ее берегу. Я вроде бы все оценил и сделал правильно, но тут-то и подстерегла неожиданность.
Маруська, до сих пор безукоризненно послушная, вдруг встала, уперлась — и ни шагу дальше. Не кобылка, а ослица упрямая. Я дергал, дергал поводья — результат нулевой. Тогда протянул руку и сорвал с подвернувшейся рябинки ветку, переложил «тозовку» в левую руку и совсем невежливо стегнул Маруську этой веткой. Она захрапела и рванула вперед галопом. К этому аллюру я не был готов и чуть не свалился с седла. Хворостина отлетела, но карабин я удержал, а освободившейся рукой вцепился в луку. А по бокам «только кустики мелькали». Тут я увидел впереди густую пушистую пихту. Тропа огибала ее справа. Маруська в два прыжка достигла ее и опять встала, как вкопанная. Я чуть не перелетел через ее голову, но удержался за луку. А из-под пихты на тропу вывалилось нечто бурое и лохматое. Это нечто рявкнуло густым басом и понеслось вниз по тропе. Я перехватил карабин в правую руку, но стрелять не стал. Толку от моей пукалки чуть, не глядя на «особый» патрон, а сзади у Корнева боевой револьвер.
Да и стрелять было трудно — тряслись руки и ноги от неожиданности. Даже усидеть в седле было трудно, хотя Маруська успокоилась. Вынув ноги из стремян, я спрыгнул на землю, достал из кармана кисет и с трудом скрутил цигарку. Я не успел докурить ее и до половины, когда раздалось позвякивание удил и тихий разговор.
Мой рассказ выслушали спокойно, только посмеялись немного. Малышев сказал, что такое с ним не раз бывало на Урале, где он начинал свою работу геолога-полевика. Я тоже совершенно успокоился, влез в седло и поехал вниз по склону. Вскоре открылась и долгожданная поляна. Она представляла собой правильный овал, заросший довольно высокой травой. С той стороны, где была речка, рос густой таловый кустарник, а по другим краям — тоже густой смешанный лес из осины и древовидного тальника, то есть обычной ивы с редкими кедрами и елями.
У приречного края поляны горел костер. Возле него стояла небольшая группа людей, а чуть в стороне к кустам были привязаны четыре заседланные лошади. Подъехав ближе, я узнал начальника Кимбирского участка Л. Ф. Сухорукова и еще одного, точнее, одну — геолога Г. А. Пасашникову, жену начальника партии Бориса Лапшина. Выйдя за него замуж, Галина Александровна сохранила девичью фамилию, а наш народ присвоил им обоим комбинированную — Лапсашниковы. Они к ней вроде бы привыкли и не обижались, когда их так именовали.
Галина приветствована меня:
— Здравствуйте, непромокаемо-непросыхаемый проспектр! Каким ветром в эти края?
Это прозвище по сути я дал себе сам: несколько маршрутов подряд я провел под проливными дождями по бурным горным речкам на резиновой лодке. А по возвращении неосторожно пошутил. Шутка прилипла.
Галина продолжила:
— И чего это вы наших медведей пугаете? Перед вашим появлением выскочил с тропы здоровенный. Как угорелый промчался через поляну и махнул на ту сторону речки. Коней наших до истерики довел. Вон их успокаивают.
Я рассказал, почему здесь оказался, сказал и о встрече с медведем. А на краю поляны показались тем временем и мои спутники. Сухоруков, который, пока мы беседовали с Галиной, был возле лошадей, подошел к нам и проявил особый интерес к подъезжавшему экс-министру.
— Послушаем, послушаем, что нам сей министр и спец скажет.
Развивать эту тему ему было уже некогда, так как Корнев с Малышевым приблизились к костру и слезли с коней. После обычного обряда приветствий и представлений, во время которого Корнев удивил меня несколько не вязавшейся с его простецкими грубоватыми манерами тонкостью: он не Галину представил Малышеву, а наоборот, но не уязвляя никого. Просто сказал:
— Прошу любить и жаловать — Илья Ильич Малышев, главный титанист Союза.
Малышев спорить не стал, но заметил:
— Насчет «любить» не знаю, а жаловать придется, такая договоренность у нас с Боголеповым и Аладышкиным.
Последний из названных был тогда главным геологом Управления. Затем обсудили целесообразность обеда здесь, а не у сухоруковской бутары. Решение было общим — здесь, благо и сам Сухоруков с нужными бумагами был в наличии.
Я не без удовольствия сдал своих рябчиков двоим сухоруковским парням, сопровождавшим его и Пасашникову. Возиться с ощипыванием и разделкой совсем не хотелось. Из «парней» обращал на себя внимание маленький худенький мальчишка с высоким голосом. Как выяснилось позже, это был вовсе не мальчишка, а восемнадцатилетняя девчонка и более того — новая молодая жена Сухорукова, которому тогда уже было под сорок. Он и ехал-то, чтобы узаконить свои отношения с ней в ближайшем сельсовете.
Мы, геологи, уселись в кружок неподалеку от костра, развернули карты.
И пошел очень профессиональный разговор, из которого непосвященный ровно ничего бы не понял. А содержание его сводилось все к тому же — откуда титан. Корнев, Пасашникова, да и Сухоруков, хоть последний и не очень азартно, доказывали гранитную природу. А Малышев спокойно, но непреклонно гнул свое.
Корнев кричал:
— Смотрите, Кимбирка течет по сплошным розовым полям. Ни одного зеленого пятнышка. Какие основные породы?
В перепалку включился, наконец, и Сухоруков:
— Я каждый день на склонах по гранитам и мигматитам из делювия отбираю по двадцать проб, и каждая показывает не меньше двенадцати килограммов на кубометр.
Галина поддержала:
— Это правда. А бывает и больше, особенно по распадкам, где порода перемыта.
Малышев отбивался:
— Ну, до украинских восьмидесяти килограммов вы все-равно не дотянете, как ни пузыритесь, а насчет розовых карт… Во-первых, не каждый камень на картах показывают, да и ошибаются немало, а во-вторых, сами говорите — мигматиты, а это вполне могут быть переработанные гранитами основные: базальты или диабазы какие-нибудь. Трофим Яковлевич, амфиболиты на площади есть?
— Есть на западе пластовые тела.
Сухоруков решил добить министра:
— Нина, принеси мой рюкзак.
Та с готовностью выполнила распоряжение. Леонтий пошарил в рюкзаке и вытащил небольшой мешочек с образцом. Видимо, хорошо знал его на ощупь. Он развязал мешочек и протянул камень Малышеву:
— Вот, смотрите, это же настоящий пегматит!
Поясню, что пегматит, или письменный гранит, он же «еврейский камень», самая «кислая» разновидность гранита, что и хотел подчеркнуть Сухоруков. И добавил:
— Видите, сколько в нем кристаллов ильменита. Какие уж тут базальты.
Но упрямый «спец» не сдался:
— Эго довольно часто встречающееся исключение, которое только подтверждает правило. Но такого у меня нет. Если подарите, буду очень благодарен. Великолепные правильные кристаллы. Тоже, кстати, доказательство того, что ильменит здесь чуждый. Он кристаллизовался раньше всего остального.
Леонтий великодушно буркнул:
— Пожалуйста, берите. А мы этого добра наберем сколько угодно. Да и что ильменит! Девчата на бутаре золота граммов по сто намывают за день. И себе на зубы да на кольца самородочки по ногтю выбирают. Знаю, что не положено, но разве удержишь. Нина, покажи.
Та полезла в карман брюк и вытащила крохотный мешочек.
Развязала его и высыпала себе на ладонь с десяток бесформенных комочков-золотин по сантиметру размером. Пасашникова сказала:
— Нашли чем хвастаться. Только милиции нам здесь не хватало. Основной их намыв, золотой песок, наши минералоги взвешивают и приходуют, как положено.
Малышев только пожал плечами:
— Ваше дело, сами и разбирайтесь.
Беседа иссякла. Пора было обедать, но что-то заело у поваров. Сухоруков заругался на них и приказал Нине взять все в свои руки. Она пообещала через десять минут подать супчик картофельный и тушеных рябчиков с черемшой.
Малышев уже давно косился на выглядывавшие из прибрежных кустов темно-серые камни. Он достал из своего рюкзака геологический молоток и пошел к камням. Молоток был заграничный, с небольшой, обтянутой пупырчатой резиной металлической рукояткой, не чета нашим грубым изделиям экспедиционного коваля. Мы сами их насаживали на почти метровые березовые ручки. Я, честно говоря, позавидовал ему белой завистью, ведь хороший инструмент — залог хорошей работы.
Изящный молоток вскоре застучал по камням, а потом послышался голос его владельца:
— Трофим Яковлевич, будьте добры, пожалуйте сюда.
Несмотря на супервежливую форму, это приглашение звучало категорическим приказом. Корнев, хотя и был грузноват, легко подскочил и помчался, как говорится, на полусогнутых. Из кустов послышалось какое-то бубнение с явным преобладанием голоса Малышева. Затем Корнев вылетел из кустов с осколком камня в руках. А Малышев перешел на выступающий в нашу сторону камень и уселся на него верхом, благо форма камня располагала к этому — он был похож на большую бордюрную плиту.
Вид у министра был торжествующий, и он кричал вслед Корневу:
— А вы говорите «граниты»!
Трофим подошел поникший и протянул нам кусок почти черного камня:
— Смотрите, габбро.
Это действительно было габбро, то есть темноцветная кристаллическая основная порода. Особенностью же именно этого габбро было то, что оно было полным-полно ильменитом, но не в кристаллической форме, как в сухоруковском образце, а в виде сливного фона. А в нем сидели кристаллики полевых шпатов и пироксенов. Малышев оказался целиком прав, и уже в начале зимы прямо на берегу Енисея в упоминавшихся Корневым амфиболитах мы нашли богатую ильменитовую руду.
Розка
«Нас было трое на челне», но, в отличие от известной юмористической повести Дж. К. Джерома, считая собаку, поскольку она, как вы дальше увидите, была главной героиней этой истории.
А получилось все так. В 1955 году наш поисковый отряд работал на востоке Красноярского края на реке Тасеевой, которая впадает в Ангару слева, а сама образуется от слияния двух рек — Чуны (она же Уда и на ней стоит город Нижнеудинск) и Бирюсы (она же Она, а на этой стоит Тайшет). Задачей нашей было найти месторождение титана, но это было, как и все тогда, строго секретно. Нашли мы алмазную трубку, первую в этом районе, но ни орденов, ни даже «большого спасиба», как сказал один из нас, не получили.
Но вернемся к собаке. Она принадлежала к известной всем породе «надворный советник», проще говоря, дворняжка. Приблудилась на одной из остановок, пока мы плыли по Ангаре и Тасеевой на барже. Баржу буксировал теплоход «Геолог» под командованием капитана Железняка.
Так вот, кличка собаки была точно по ней — Розка. Это было рыжее существо с удивительным розовым оттенком в окрасе. Возраст, как определили наши знатоки, — месяца четыре. И, как все щенки, озорна и страшно любопытна, что, собственно, и привело ее на нашу баржу.
Когда пришли на место высадки и выгрузились, ее уже нянчили почти все, особенно горняки, которые и хотели взять ее в тайгу. Однако эту задачу разрешила она сама: стала ходить с моей группой. В группе были: старый ангарец Валентин Зиновьевич Кулаков, или просто дядя Валя, в качестве промывальщика, да я, студент-практикант на должности коллектора. Работа наша состояла в промывке песков по речкам и ручьям на лотке, каким старатели моют золото. Нам же нужно было намывать, если, конечно, он попадется, минерал ильменит. Предполагалось, что потом уже на базе его подробно исследуют.
До мест работы по большим рекам мы добирались в лодке с таким порядком размещения: на носу, на специально сделанном дядей Валей сиденье, — Розка, в середине на веслах — я, а на кормовой сидушке с рулевым веслом в руках наш шкипер, дядя Валя. Такой же порядок сохранился, когда мы шли бичевой вверх по реке. Дядя Валя оставался на руле, я впрягался в бичеву и тащил лодку со всем, что в ней было, а Розка бежала впереди и удовлетворяла свое ненасытное любопытство.
В рабочих походах, когда мы вели промывку, тот же порядок был уже просто обязательным: Розка проверяла, нет ли истинных или мнимых врагов впереди, я с картой и компасом следил, где мы есть, и выбирал места промывки проб, а дядя Валя с лотком и лопатой набирал и промывал эти пробы. Поскольку в геологии принято, что головным идет руководитель, получалось, что наш начальник — Розка. Посмеивался над этим весь отряд, пока мы не влипли в Моктыгину.
Это речка размером с дубровскую Сещу, только с поправкой на гористую местность: скальные берега у устья, выложенное гальками и валунами дно и местами бешеное течение.
Задание на этот маршрут мы получили, находясь в поселке Большой Прилук, километрах в 30 выше устья Моктыгиной. В поселке живут по преимуществу староверы-охотники. С советской властью у них были довольно сложные отношения: детей они учили в школе до 4-х классов, не более, их мужчины служили в армии, государству сдавали пушнину в обмен на соль, сахар, спички и т. д. Узнав о нашем задании, они долго качали головами: «Однако, паря, место худое там — голодное. Зверя (так они именуют лося) почти нет, птицы (а это — глухарь) совсем нет, одни медведи собираются туда со всей тайги». Мы подумали и решили: медведей бояться — в тайгу не ходить, и если не мы, то кто же? Хотя, конечно, понимали, что охотники не шутят.
Набрали малость харчей и поплыли вниз по течению. Охотники сказали, что в 10 километрах от устья Моктыгиной есть охотничье зимовье: «Пользуйтесь, только не нагрезьните чего и не спалите».
Пришли мы на устье Моктыгиной часов в семь вечера. Напротив нашей стоянки была белая песчаная коса. Прежде, чем стать на ночевку, зашли на нее и обнаружили свеженькие следы медведицы с медвежонком. Розка долго и тщательно обследовала их. Когда мы поставили палатку и сидели у костра, она вдруг прислушалась и поплыла к противоположному берегу. Дядя Валя прокомментировал: «Поплыла знакомиться с мишками…» Весь вечер мы звали ее, стучали ложками в котелок, на что рефлекс у нее был хорошо отработан. Приплыла она только к полуночи, за что получила выговор от дяди Вали: «Будет тебе по гулянкам-то шастать, молодая ишшо, однако».
Ночь прошла относительно спокойно, если не считать того, что под утро нас посетили, невзирая на Розкин отчаянный лай, чужие собаки. Дядя Валя оценил это так: «Староверы-то сказали про избушку и пожалели, а теперь кто-то пошел следы заметать». Так оно, видимо, и было, потому что днем мы увидели след болотного сапога на полдороге к избушке. Утром мы сварили завтрак, съели его, потом уже в Моктыгиной затопили лодку, нагрузили рюкзаки продуктами и пошли искать избушку.
Задача эта была не из легких: место нам указали приблизительно, точных примет не дали, и без Розки мы бы ее ни за что не нашли. А она, когда мы потеряли тропу, вдруг залаяла в густом ельнике. Мы пролезли туда и увидели избушку.
Бегло осмотрев зимовье, мы нашли в нем то, что и должно было быть: печку, набитую дровами с подложенной берестой, хороший медный котелок, а на полке у окошка — мешочки с перловкой, пшенкой и мукой — всего примерно по полкилограмма. Там же лежали спички, баночки с солью, сахаром и с десяток сухарей в берестяном туесе. Не было только ложек и кружек. Зато под нарами из толстых плах лежал солидный запас сухих кедровых и березовых дров. Исследуя все это богатство, я достал было из кармана кисет, но дядя Валя сказал:
— Не вздумай. Об этом нас и предупреждали. Они на дух табака не переносят и сразу учуют, как придут. А может, кто-то и сейчас смотрит, что мы тут делаем. А разговор у них короткий: о прошлом годе беглые из чуноярских лагерей плыли на плоту через их деревню. И что-то нагрезили (напакостили, значит). Так если до того проход им был свободный, а на каждом подоконнике милостыня лежала — хлеб там, кусок мяса али сала, то теперь ловят и сдают. А тех, кто нагрезил, я спрашивал одного здесь, на Стрелке (устье Ангары километрах в 300) догнали…
— И что?
— А ничего. Говорят не знаем, куда они делись. Так что, если не хочешь неизвестно куда деться, будь с ними поаккуратнее.
Впрочем, отношение к табаку было не единственным бзиком больше-прилукских староверов. Отсутствие ложек и кружек — из того же бзика: чужим нельзя давать свою посуду, прикосновение чужих уст опоганивает ее. Для этих целей держат «поганую» посуду. Поэтому как оказался доступным нам котелок, до сих пор загадка для меня.
Через час мы шагали обратно на Чуну, и Розка, весело помахивая хвостом, бежала впереди. Спокойно переночевали в палатке, а Розка опять сплавала к своим друзьям-медведям и под утро вернулась. Когда взошло солнце, мы отнесли палатку и все, что не требовалось в маршруте, на островок возле затопленной лодки, хорошенько замаскировали ветками, взвалили на плечи рюкзаки и пошли знакомым уже путем.
Впереди шныряла по кустам и скалам Розка, за ней с геологическим молотком на длинной ручке вышагивал я, считая для привязки шаги, а в хвосте процессии с лотком под мышкой и лопатой в руке плелся дядя Валя. Я пробовал взять у него что-нибудь, но натыкался на крутой отпор: «Ты, паря, это кинь, я ишо о-го-го, двух молодых стою. Я ж у тебя карту и компас не отнимаю. И ты меня не шаволь…»
Моктыгина оказалась богатой речкой: каждый лоток давал три-четыре мешочка шлиха (отмытой пробы, тяжелой части руслового песка). К зимовью, где и собирались заночевать, пришли хорошо загруженными. Стало ясно, что легкой прогулки маршрут не сулит. Вечером, пока дядя Валя шаманил с костром, а Розка носилась по тайге, я внимательно изучал под лупой намытые шлихи. В отличие от Чуны и других речек здесь, кроме постоянно присутствовавшего магнетита (иначе его называют магнитный железняк), частенько в черной массе мелькали жирные блестки ильменита. Изредка попадались и угловатые обломки кристаллов рутила. Все это настораживаю и давало надежду на успех, так как ильменит — сложный окисел железа и титана, а рутил — чистый титановый окисел. А в них-то и нуждалась промышленность, для которой мы «шарились» по тайге, как говорил дядя Валя.
После ужина мы прикинули свои запасы и определили, что берем с собой и что оставляем в зимовье. Выходило не очень богато: мало было «обезьяны», как прозвали наши ребята аргентинскую говяжью тушенку, мало было и сгущенки, зато в достатке серых макарон. Но хуже всего, что практически вышли все боеприпасы к ружью, которое мне дал в эту поездку отец. Осталось всего пять патронов, из них два с пулями — на случай обещанных нам встреч с медведями, и три дробовых — на добывание подножного корма. То есть уток, рябчиков, а если подвернется, то и глухаря. Была у нас еще сухая картошка, дружно ненавидимая всеми, кто был в отряде, и три брикета гречневого концентрата. Не густо. Но более или менее терпимо — ведь только что закончились голодные первые послевоенные годы. Хотя дядя Валя откомментировал ситуацию довольно мрачно:
— Хватим мы лиха… Голодом идти будем, паря.
Я решил для облегчения «лиха» отбирать пробы не через 500 метров, а через километр, соответственно в два раза сокращалась загрузка наших рюкзаков, и времени на весь маршрут должно было уйти меньше. Это отклонение от проекта работ было в моих правах. Спорить со мной никто не стал. И шагали мы по пойме, плотно выложенной валунами, похожими на обыкновенный в те годы дорожный булыжник, почти легко и весело.
На подходе к первой после зимовья точке мы услышали звонкий лай Розки. Она занялась кем-то в редком кедраче, примыкавшем к пойме. Сначала хотели не обращать внимания («а, опять бурундук»), но потом дядя Валя сказал:
— Сходи, погляди. Если бурундук, поддай ей вицей (прутом).
Я сбросил рюкзак, засунул в оба патронника дробовые заряды и прошел на Розкин голос. Она вертелась в мелком темнозеленом пихтаче, ярко выделяясь своей розовой шкуркой, и лаяла на стоявший в пихтаче огромный кедр. Лаяла так, как старые опытные восточно-сибирские лайки — редко и не очень азартно. А на большом суке, отходившем от кедра метрах в десяти над землей, на фоне неба был ясно виден здоровенный черный глухарь. Подняв ружье, я сделал еще несколько шагов, но глухарь не обратил на меня внимания: он был целиком поглощен Розкиной суетой. Она вертелась и подпрыгивала, не касаясь кедра, но все с тем же редким звонким лаем. Глухарь что-то бормотал на нее.
После выстрела глухарь глухо бухнулся на землю, а Розка подбежала и придавила ему горло — опять-таки, как опытная лайка. Подошел дядя Валя. Он долго хвалил Розку, говорил ей «приятности», гладил по шерстке, а закончил так:
— Ну, она молодец, свое дело делает, а мы-то с тобой? — и засунул глухаря в свой рюкзак. А было в нем добрых полпуда. За день мы взяли двенадцать проб и к вечеру довольно далеко углубились в выгоревший когда-то лес. Над лугом поймы там и сям высились обгорелые и высушенные солнцем ели и пихты с растопыренными сучьями. Кое-где они были повалены ветрами, и в таких случаях образовывали огромные валы, пролезать через которые не было никакой возможности. Поэтому там, где речка вплотную подходила к таким валам, мы просто влезали в нее и шли бродом по колено или по пояс в воде, как приходилось.
На ночевке дядя Валя устроил два костра. Один обычный, для приготовления ужина, а другой ночевочный — в ногах тщательно устроенной постели. Последняя была сделана из трех слоев пушистых пихтовых «лапок», уложенных в рамку из тонких обгорелых бревнышек. Над постелью возвышался пихтовый же навес — «балаган», как его тут по-сибирски наименовал дядя Валя. Балаган он делал из тонких жердочек, аккуратно выкладывая из них решетку на кольях с рогатками. Он добрый час гонял меня за жердями и пихтой, которая успела-таки нарасти по берегу, хотя и в не свойственных ей стелющихся формах: ведь вообще-то пихта красивое, стройное, высокое дерево, а тут только отдельные темно-зеленые мягкие «лапы» в траве.
С самого начала этой возни над «ужинным» костром был подвешен котелок с глухарем, разрубленным на три части по числу едоков. Котелок кипел себе и кипел, только временами дядя Валя подливал в него воду по мере выкипания. А мы старательно устраивались на ночлег, и даже Розка притащила в балаган кем-то давным-давно брошенную кепку. Дядя Валя оценил ее старания, Розку похвалил, а кепку закинул в речку.
Увенчались все эти старания тем, что мы свалили здоровенный кедровый пень высотой метров пять, а толщиной больше полуметра, разрубили его пополам, в одной из половин высекли топором паз вроде того, что делаются при строительстве изб, и приволокли оба бревна к балагану. Положили вниз круглое бревно, а наверх то, которое с пазом, аккуратно уложив его на нижнее и при этом засунув в паз немного щепок и небольшой кол — «регулятор», как определил его смысл дядя Валя.
Затем дядя Валя подытожил:
— Ну, теперь только одно осталось…
Отошел немного в сторону и отрубил длинную сухую ветку от горелой лесины. На мой вопрос, что это, ответил коротко: «Прикуриватель» и пояснил:
— Вставать-то ночью лень будет, а курить захочется. Ты ж дымишь не меньше моего. Сунешь кончик в огонь и дыми сколь хошь.
После этого он уже всерьез заинтересовался котелком. Долго щупал ножом содержимое и заключил:
— Сырой, не хочет вариться. Надо было сначала обжарить на вертеле. Да и старый он. Вишь, веса-то полпуда почти, а такого только в русской печке упаришь. И то не всегда. Так чо делать будем? Ишшо варить, али…
Я высказался за «али», а Розка только хвостом старательно виляла, но ее мнение и так было ясно. Дядя Валя вывалил мясо на кусок бересты, захваченной им из живого леса для «чуманца» — кормушки для Розки, мне он выделил пол-тушки и одно бедро, себе точно такую же долю, а Розке крылья и кое-какие внутренности: пупок, сердце и печень, которые только и выглядели сварившимися.
Сколько я ни пытался дожарить мясо на палочке, оно так и осталось жестким, не поддающимся зубам. В общем, мы с дядей Валей поужинали последней банкой «обезьяны», а Розке достался весь глухарь, что ее совсем не обескуражило. Живот ее стал похож на волейбольный мяч и даже слегка звенел, когда по нему похлопывали.
На ночь Розка улеглась рядом со мной и время от времени скулила и взлаивала во сне тонким щенячьим голосом.
Утром мы спрятали вчерашние пробы на месте ночевки и двинулись дальше. Днем мы погнали по речке перед собой большую стаю уток-крохалей, которые обычно до поздней осени не поднимаются на крыло и несутся перед пешеходом, как маленькие глиссеры, быстро перебирая лапками и помогая себе крыльями. Попасть в этих скоростников на ходу довольно трудно, и я истратил два последних дробовых патрона, а добыл одного птенца размером со скворца. Теперь у нас из боеприпасов, или «провианта», как называл их дядя Валя, оставались только два пулевых патрона, коими и было заряжено ружье на случай встречи с медведями. Пока мы их не видели, Бог миловал, как говорится, но присутствие этих хозяев тайги мы ощущали постоянно: то измятая и объеденная малина, которой мы сами подпитывались понемногу, то здоровенные кучи свежего помета, то недальнее верещание медвежат по направлению нашего хода. Розка пока тоже не проявляла беспокойства — бегала впереди, и поскольку мы сняли ее с довольствия, пыталась ловить мышей — мышковала, как лиса, часто небезуспешно, что было видно по ее довольной и иногда окровавленной морде.
Вечером, перед остановкой на ночлег, она опять принялась мышковать и потому пропустила самое интересное событие: на очередной точке мы услышали, как кто-то идет по речке, шлепая ногами по воде, как уже давно шли и мы. Похоже было, что идет человек. Мы покричали, но ответа не последовало, а потом опять послышатся плеск воды и стук камней под чьими-то ногами. Так прошло минут десять. Шаги приблизились и из-за поворота речки прямо к нам вышел большой и красивый лось, или, по-сибирски, сохатый. Он был очень хорош в своей рыжеватой шубе, золотистой в лучах заходящего солнца, и с роскошной короной рогов на голове.
От неожиданности мы все застыли. Потом я начал медленно поднимать ружье, на которое опирался, а дядя Валя шагнул вперед, толкнув меня и пробурчав в ухо:
— Не надо, не дури, что мы с ним делать будем, только медведей собирать…
Обращаясь к сохатому, он спросил:
— Откуда, бродяга, идешь? С Сахалина, да? И что, паря, скажешь?
Сохатый, стоя метрах в десяти от нас, только переводил глаза с одного на другого, редко моргал, а с губ его в воду звонко падали капли, видно, только что попил.
В этот миг с лаем примчалась Розка и бросилась в воду к ногам сохатого. Тот помотал головой и поднял одну ногу, готовясь ударить собачонку, которая плясала перед ним. Дядя Валя решил, что рандеву пора заканчивать. Он махнул на сохатого лопатой:
— Ну, иди себе, бродяга!
Я поддержал:
— Шагай своей неведомой тропою.
Но сохатый не двигался, и это становилось уже рискованным. Лось ведь опаснее медведя, особенно в период гона. Причем его оружие — острые передние копыта, которыми он может убить человека с одного удара. Такие случаи в тайге известны, а этот бродяга уже угрожал Розке, которая тем не менее не испугалась, а только пуще наскакивала на зверя.
Мы с дядей Валей заорали хором:
— Пошел прочь, что стоишь!
Дядя Валя что было сил зазвенел лопатой по камням, а я угрожающе поднял ружье и сдвинул предохранитель, как будто сохатый мог оценить эти действия. Он повернулся и не спеша зашлепал к сильно подсвеченному солнцем западному берегу, не обращая ни малейшего внимания на лай и визг Розки.
Вечером в очередном балагане после ужина, состоявшего из сухаря и кружки горячего малинового компота, мы долго еще обсуждали подробности этой встречи:
— А хорош трехлетка…
— ?!
— Да на рогах у него по три отростка, значит, трехлетка.
— Что ж он так неосторожен? А если б у нас карабин был…
— Просто он, скорей всего, человека никогда не видел и не знает, чего от него ждать можно. Но если б и был карабин, я не дал бы тебе стрелять — не дай Бог подранил бы, он изрубил бы нас в куски. А Розка, хоть и молодец, не струсила, но держать зверя не может еще. Эх, нет моей Ветки.
Его Ветку я видел перед отъездом с базы. Это была действительно отличная промысловая лайка. По рассказам друзей дяди Вали, она могла одна держать не только лося, но и медведя, и очень хорошо работала по птице.
Прошло еще два дня. У нас кончился сахар. От сухарей оставались тоже только крошки на дне брезентового пробного мешка. Словом, пора было думать о возвращении, а это было совсем не просто: заложенные на хранение пробы нужно собрать и тащить на устье, иначе вся работа теряла смысл. А мы изрядно подотощали и начали уже терять понемногу силы. Давно голодавшая Розка превратилась в маленький скелетик, обтянутый розовой шкуркой. Видимо, мыши попадались ей на зубы не так часто, хотя она продолжала энергично раскапывать их норы, едва обнаруживала. Но, похоже, «пустая» тайга и в этом смысле была пустой. Мы, конечно, очень жалели собачонку, но, во-первых, в ангарских таежных деревнях летом собак практически никто не кормит, а во-вторых, при малейшей возможности мы делились с ней нашим небогатым продовольствием.
Наконец, однажды вечером мы решили возвращаться. Правда, я все же притормозил это стремление — в пробах появился новый для этих мест минерал гранат, отчего они приобрели красноватую окраску. Чтобы дать возможность разобраться с этим минералогам, я решил взять еще три пробы, а уж потом — полный назад. И вот на второй из этих дополнительных точек, где речка текла в берегах, густо поросших высокой, почти в рост человека осокой, я уселся на небольшой, сантиметров сорок, обрывчик и начал описывать долину. Дядя Валя нагрузил лоток песком с галькой и начал промывку. В это время в траве вдруг послышалась какая-то возня, рычание, хлопки. Я откинул в сторону сумку и полевую книжку и схватил ружье. Дядя Валя оставил лоток в воде и взялся за лопату, готовый отразить нападение. По тревога была напрасной. Из осоки на воду вывалился здоровенный серый гусь и, не обращая на нас внимания, поплыл к противоположному берегу. За ним с рычанием в воду плюхнулась Розка и погналась за гусем, торопливо работая лапами. Я вскинул ружье, но в стволах-то были пули, а их надо было беречь. Потому я бросился за Розкой с желанием схватить нахала. Гусь был линный и летать не мог, а оттого только плавал по плесу с гоготом. Дядя Валя добавил переполоху, метнув в гуся лопату, как копье. Конечно, не попал, но страху ему добавил.
Гусь совершил роковую ошибку — попытался выбраться на берег и укрыться в траве, но Розка уже переплыла и пресекла эту затею, схватив его за шею. Через пару минут все было кончено: гусь задушен и с отрубленной головой уложен в рюкзак, а Розка получила новую порцию ласковых и благодарных слов от нас, свидетелей ее геройства. Еще через полчаса прямо тут же гусь был ощипан и опален, а потом и сварен. И опять добыча была разделена строго на три части, причем Розке выделены самые лакомые куски: ведь это была ее добыча.
До избушки мы добрались за два дня. Там хорошо поели, отдохнули и в два рейса вынесли пробы. Рюкзаки, правда, были килограммов по пятьдесят, но дело было сделано.
Когда мы вернулись на базу и рассказали о Розкиных подвигах, один из охотников взял Розку к себе. Она приобрела надежного и доброго хозяина.
Танькин лог
Телеграмму мы получили поздней осенью 1957 года, уже в октябре, когда в тех местах обычно уже лежит снег. Телеграмма удивила нас своим текстом, хотя в конце концов мы поняли ее содержание. Она гласила: ПРОВЕРЬТЕ ЗАЯВКУ ЖИТЕЛЯ ДЕРЕВНИ ЮДИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗНУЮ РУКУ ТАНЬКИНОМ НОГУ ТЧК ДОБРОВОЛЬСКИЙ. Мы, конечно, вволю похохотали над таким странным анатомическим заданием, но выполнять его надо было без всякого смеха. Мавр Николаевич Добровольский был начальником геологического отдела Красноярского Геологического управления и хотя слыл большим шутником, но не до такой же степени. Переврали телеграмму на почте то ли при передаче, то ли при приеме. Привез ее нам верховой нарочный из соседней татарской деревни, каких много в центре Красноярского края. Потом я лет пятнадцать хранил этот уникальный документ, пока он не потерялся при одном из многочисленных переездов.
Немного пошевелив извилинами, мы расшифровали загадочный текст так: ПРОВЕРЬТЕ ЗАЯВКУ ЖИТЕЛЯ ДЕРЕВНИ ЮДИНКА ИВАНОВА ЖЕЛЕЗНУЮ РУДУ ТАНЬКИНОМ ЛОГУ. Учитывая время года, а также то, что Юдинка находится на правом берегу Енисея, а наша база — в полузаброшенной деревне Самарка на его левом берегу, задачка предстояла не из легких. И досталась она мне. Правда, начальник партии Борис Лапшин и главный геолог Трофим Корнев всячески старались облегчить ее выполнение. Но все равно предзимье в среднем течении Енисея — не самое лучшее время для таких проверок.
Мне подчинили целую бригаду горняков (проходчиков шурфов и канав), возчика с пятью лошадьми, а из экспедиции, где то же задание получили по радиосвязи, прислали целый геофизический отряд с инженером-геофизиком Гришей Скубицким. Отряд сей включал оператора магнитометриста («рука»-то железная), техника-топографа и двух рабочих. Всего вместе со мной получалось десять человек. Плюс пять лошадей под водительством возчика дяди Степы, о котором я уже рассказывал.
Серым утром под моросящим дождем, временами переходящим в снежную крупу, мы начали переправу на правый берег. На большой лодке-илимке перевезли сначала инструменты горняков и снаряжение — на всякий случай, хотя работать предстояло возле деревни, взяли с собой две шестиместных палатки и, разумеется, спальные мешки. И у Скубицкого были ящики с приборами, треноги к ним. А еще личные вещи, по рюкзаку на каждого. Плюс фураж для лошадей. Набралось больше полутонны, почти полная илимка.
Потом наступила очередь лошадей. Мы соорудили дощатый настил на дне илимки и такие же сходни, но они оказались узковаты. Лошади никак не хотели идти на них. Не помогали ни крики, ни затягивание веревками, ни заманивание хлебом, посыпанным солью. Кто-то из геофизиков предложил: — А может, загоним в воду и пусть плывут своим ходом, чего мучиться-то?
Но дядя Степа рекомендовал сказавшему это самому попробовать искупаться, самый сезон, мол, для таких горячих голов. Взял за повод свою любимую Карьку и повел ее на илимку, накинув на голову свою куртку. За Карькой пошли и остальные. В илимке он перед каждой постелил по мешку и насыпал по две пригоршни овса «для успокоения нервов». Тем временем разобрали и погрузили сходни, а там и отчалили. Пока плыли поперек реки, нас снесло много ниже места выгрузки. Пришлось разворачиваться и огромными веслами выгребать против течения. Кое-как справились и с этим. Когда причалили, собирать сходни не пришлось: лошади сами выпрыгнули на прибрежную отмель. Ребята в болотных сапогах, выскочившие раньше, сразу переловили их и сдали довольному дяде Степе. Приданный нам на время переправы кормщик погнал илимку обратно.
А мы, точнее, мои горняки и геофизики Скубицкого, принялись седлать и вьючить лошадей. Через полчаса мы двинулись по узкой, извивающейся, как змея, тропке вверх на известную нам по карте гужевую дорогу.
Юдинка, как и наша Самарка, расположена в «Предивинской Швейцарии». Так кто-то окрестил действительно очень живописное место в теснине Енисея, расположенное пониже поселка Предивинск с его лесоперерабатывающим и баржестроительным заводами. Здесь Енисей прорезает вдоль западный отрог Енисейского кряжа. Оба берега, особенно правый, скалистые, но по правому идет почти непрерывная полоса удивительно красивых скал, похожих то на крепостные стены, то на древние замки с башнями и контрфорсами. Подножья их поросли хвойной тайгой, то сосновой, то чисто кедровой, то еловой, с редкими отдельными березами и осинами. Красотой этой любуются в основном путешествующие на белых теплоходах по реке. Для нас же эта красота выливалась в дополнительные трудности. Попробуйте карабкаться по тридцатиградусному уклону, целясь между двумя высокими башнями. А взобравшись, поищите еще неизвестно кем и когда проложенную дорогу.
Дорога, правда, оказалась давно заброшенной и изрядно захламленной упавшими лесинами, а кое-где и выросшими на ней кустами, но к этой напасти мы были готовы. Поверх вьюков были приторочены топоры и даже поперечная двуручная пила. Я распорядился, чтобы горняки, вооружившись этим добром, шли впереди и по возможности расчищали дорогу. Ведь предстояло еще и возвращаться. Потому на месте выхода на дорогу мы сделали большой, издалека видный затес на елке.
Шли мы неторопливо, предоставляя возможность передовым готовить путь, не торопясь. За сезон нам пришлось столько исходить, что такое движение было похоже на прогулку. Немного портила настроение только погода: дождик с крупой то утихал, то снова принимался осыпать нас холодной влагой. Скоро промокли брезентовые плащи. Только клеенчатая куртка дяди Степы блестела в сумраке, создаваемом елями и пихтами на высокой шестидесятиметровой гряде. Мы стали зябнуть в этой бесконечной сырости и поневоле прибавили шагу.
В результате быстро догнали передовых с их топорами. Им-то холодно не было. Произошла смена рубщиков-пильщиков. Теперь ими стали люди Скубицкого. А остальные разожгли костер и передохнули возле него. Как кто-то из нас сказал — «перекур без дремоты, но с удобствами». «Удобствами» были два бревна по сторонам костра да угольки для разжигания цигарок.
Но вскоре мы услышали сигнал к выступлению (звон топоров один об другой) и двинулись в дальнейший путь. От места остановки дорога пошла почти без завалов. Поэтому передовым работы было немного. Вскоре мы заметили, что рельеф, до того очень резкий — пологая плоскость слева, на востоке, и почти вертикальный обрыв справа, вдруг начал сглаживаться и мягчать, округляться.
Дорога зашла в выемку, скорее, просто попутный ложок, и оказалась засыпанной пестрыми листьями. Еще через сотню метров сквозь оголившиеся кусты тальника, сменившего хвойный лес, стала просвечивать большая поляна, а затем мы увидели и серые избы на пригорке над довольно большим распадком-логом. Скубицкий не утерпел:
— А не это Танькин лог?
— Подожди, спросим у туземцев.
Юдинка встретила нас петушиным криком и мычанием коров, разбредшихся по логу, поросшему довольно свежей зеленой травой. Удивительно, но обычного при входе в деревню собачьего лая не было слышно. Похоже, охотники уже ушли на свои зимовья и забрали с собой собак.
Мы подошли к старику, надзиравшему за стадом. Я сказал:
— Здравствуйте, отче. А где тут живет Иванов? И чего собак не слышно? Ушли уж охотники в тайгу?
— А вон изба с красной трубой над самой вершиной лога. Он нынче печку перекладывал, Ванька-то. А сейчас его дома нет. Праведно говоришь, и он, и другие мужики в тайгу подались готовиться охотничать. Зима-то нонче где-то застряла. А зачем Ванька вам нужен?
— Заявку на руду он прислал. Вот мы и приехали посмотреть, что за руда. А скажи, отец, где тут у вас Танькин лог?
— А тут они все вроде Танькины.
— Как так?! И этот тоже?
— А так… И этот в первую голову. И вон тот за порядком, — он показал на ряд изб над логом, — тоже. Так вы геологи… Понятно, — протянул он.
Пока шел этот странный разговор, я внимательно присматривался к логу. Он мог представлять интерес: в его бортах там и сям выглядывали гряды коренных скальных пород. Есть чем заняться, пока Иванов в тайге бродит. А пока надо определяться, где мы эти дни жить будем. И мы двинулись к указанному дому.
На стук в ворота на крыльцо избы вышла белокурая, дородная молодуха, кое-как обернутая в затрапезный, когда-то зеленый байковый халат. На наш вопрос о хозяине она ответила, что да, он писал в геологоуправление о железной руде, а теперь он в тайге и когда придет, она сказать не может — ему там нужно избушку поправлять да дров на зиму заготовить. Опять же надобно новые кулемки (ловушки на соболя и колонка) делать. Пошел он с другом и дальним родственником. Нет, это один человек, зовут его Василий. Он собирался остаться на зимовье, а Ваня сказал, что придет «за остатними продуктами и провиянтом» (боеприпасами). Насчет Ваниной находки она ничего не знает, только он наткнулся на нее, когда по весне выходил из тайги. Про Танькин лог она повторила слова деда о множестве таковых, а ночевать мы можем и у нее, места хватит, а постели, поди, мы с собой возим. Бабочка была весьма разговорчивая.
Приглашение мы, как говорится, с благодарностью приняли. Она же скользнула в избу и тут же возникла за воротами, кои распахнула настежь, впуская наш караван. Ребята под командой дяди Степы принялись развьючивать коней и складывать в углу двора свои гремучие инструменты — лопаты, кайла, топоры, ломы, геофизики свою нежную аппаратуру вместе с треногами затаскивали в сени, где хозяйка освободила угол и даже стол. На нем и сложили ящики с магнитометром, теодолитом и прочей хрупкой мелочью. Мы с Гришей зашли в избу. Она не была разгорожена и представляла собой одну большую комнату. Справа у входа высилась большая русская печь, а слева под окном стоял стол, покрытый клеенкой, за которым виднелась застеленная самотканой дорожкой лавка. У стола стояли еще две табуретки. В углу возле двери висели разделочные дощечки, скалки и прочие кухонные принадлежности.
Внутренность избы не блистала меблировкой. Собственно, всю мебель составлял уже упомянутый стол с лавкой и табуретками у входа да высокая пышная кровать у противоположной стены. Еще рядом с кроватью стояла детская кроватка-качалка с дугообразными основаниями, в которой спал маленький ребенок. В простенке между окнами висело большое зеркало с резным обрамлением. Напротив него на пустой бревенчатой стене висел какой-то сельскохозяйственный плакат с изображением дородной не то доярки, не то свинарки, очень похожей на нашу хозяйку. Она вошла в избу вместе с нами и сразу прошла к ребенку.
Вынимать дитя из кроватки она не стала, только поправила постельку и широким жестом обвела избу:
— Хватит места? В крайнем разе можно будет кому-то разместиться у Ваниных отца с матерью. Они живут через два дома в этом же порядке.
Я ответил:
— Мы ненадолго. День-два от силы. Посмотрим, что за руду ваш Ваня нашел, и обратно. Так что пока разместимся у вас. Только боюсь, что обеспокоим вас. Все-таки ребенок, а тут такая толпа.
— Не беспокойтесь. Он у нас спокойный. Почти не кричит. И чужих не боится.
— Сколько ж ему?
— На той неделе годик исполнился. Уж большой мужик. Сам ходит. Отец научил, пока дома был.
— Скоро ж он придет? Как думаете? Женщины такие вещи хорошо чувствуют.
— Думаю, не сегодня — завтра. Долго ему там возиться не с руки.
Мы с Гришей прикинули, как разместить в просторной горнице нашу публику. Выходило, что, если покатом на полу, то места всем хватит, да еще узкий проход от кровати останется.
Гриша задал вопрос, который и у меня на языке висел:
— А как же звать тебя, хозяйка?
— Как положено, Марьей. Можно просто Машкой, как все на деревне зовут.
Так что ответ был вполне ожидаемым.
Я решил, пока суд да дело, обследовать верхнюю часть лога, насколько хватит светлого времени. Позвал с собою одного из горняков, Колю Розниченко, велев ему захватить кайло и пустой рюкзак да пробные мешочки, подхватил свой молоток и отправился.
Первое обнажение обнаружил в полусотне метров от дома Ивановых. Ничего особенного в нем не обнаружил. Те же слюдяные гнейсы, что и на берегу. И, конечно, никаких признаков оруденения. Как говорят в таких случаях геологи, пустые, как бубен. Следующая гряда была в том же правом борту лога через десять метров от первой, но она была красновато-коричневой от налета окислов железа. Молоток от нее отскочил после первого удара со звоном. Порода была очень крепкая и вязкая. С трудом отбив небольшой кусочек, я убедился, что это не осточертевшие гнейсы, а темно-зеленые амфиболиты, сильно окисленные с поверхности, потому и коричневые издали. В них в лупу разглядел примесь какого-то рудного минерала с сильным жирноватым блеском. Скорее всего это был такой дорогой для нас ильменит. Но на руду эта порода никак не тянула. Слишком мала была примесь рудного компонента. Впрочем, завтра геофизики скажут поточнее.
Мы с Колей шарили по логу часа три, пока не начало смеркаться. И только в самом низу лога, почти над Енисеем, обнаружили длинное обнажение темно-серых крупнокристаллических пород с обильной вкрапленностью все того же ильменита. В них выделялись, кроме того, светлые, вытянутые, как щепки, кристаллы полевого шпата. Анортозиты, определил я и сказал Коле:
— Все. На сегодня шабашим.
Он собрал заготовленные образцы, взвалил рюкзак за плечи, и мы пошли к дому, где нас давно уже ждали товарищи.
В избе было многолюдно. Народ сидел вокруг стола, а хозяйка хлопотала около топящейся печи, в которой возле горящих дров пузырился большой черный чугун с подгоревшей сверху картошкой. Рядом с ним виднелась такая же черная сковорода с крупно нарезанным салом и луком. Мария взяла ухват с длинным черенком и с натугой вытащила чугун. Обвила его большой тряпкой и, ухватившись за край, слила воду в приготовленное ведро. Потом задвинула чугун опять в печь — подсушить картошку, догадались мы, брякнула на стол коричневую обгоревшую дощечку, схватила чипелу и на дощечку водрузила сковороду с салом и луком. На стол хлопнулась еще одна доска, а на нее с царственным видом встал упомянутый чугун. Мария выбежала в сени, а через минуту вернулась, держа у груди пышный круглый каравай черного хлеба в добрых полметра в диаметре. Потом опять метнулась за дверь и возникла уже с несколькими мисками в руках. В одной золотились соленые огурцы, в другой белела квашеная капуста, а в третьей серебром отливала мелкая рыбка, похожая на хамсу.
Гриша, восседавший во главе стола, возгласил:
— О-о-о! Что я вижу! Настоящий тугун! Такая закуска да без выпивки…
Это действительно был тугун, удивительно вкусная, почти совсем лишенная внутренностей енисейская килька, по гастрономическим качествам уступающая только туруханской селедке.
Мария отреагировала на Гришин вопль:
— А у нас выпивку гости сами с собой носят.
Пришлось вмешаться:
— Обойдемся без выпивки. Сначала дело.
Через четверть часа с яствами было покончено. Общее внимание привлек бродивший у наших ног малыш, Иван Иваныч маленький, как его тут же нарекли наши горняки. У них в карманах нашлось немало кубиков сахара, который мать быстренько изъяла у малого («сладкое ему вредно, золотуха будет»), но нашедшийся в сумке у Гриши шоколад и добрых полбанки сгущенки, предложенной дядей Степой, он благополучно слопал. Золотухи при этом на его толстощекой рожице не обнаружилось.
Пообедав-поужинав за хозяйский счет, мы под руководством хозяйки начали готовиться к ночлегу. Натаскали со двора огромные кучи соломы, более-менее разровняли ее по полу, потом раскатали спальные мешки. Нам с Гришей как инженерам (начальству!) выделили места поперек избы у печи. Остальные расположились изголовьями к кровати. Иван Иванович с удовольствием ползал и кувыркался по соломе и мешкам и весело щебетал, то и дело попадая в сильные руки мужиков, которые тоже веселились, перебрасывая его по воздуху с одного края соломенного настила на другой. Потом Мария строго сказала:
— Все. Будет ему. А то не заснет.
Она подняла малыша на руки и уселась на свою пышную кровать, упершись ногами в детскую кроватку и закинув за спину одну из многочисленных подушек. Не стесняясь нас, расстегнула халат и приложила дитя к груди. Послышалось аппетитное чмоканье. Гриша, единственный из нас, у кого уже было двое детей, поинтересовался:
— До сих пор кормите? А давно прикармливать начали?
— Да с полгода. Он мужик крепкий, любит поесть, вот и приходится…
Она замурлыкала какую-то песенку, отдаленно напоминающую колыбельную, а через четверть часа затихла, запахнула свой халат и осторожно положила Иван Иваныча в кроватку.
Поскольку изба освещалась только семилинейной керосиновой лампой, мы тоже не стали затягивать приготовления ко сну и дружно полезли в свои мешки. Скоро шорох соломы под мешками утих и послышался храп утомившихся за день тружеников. Тогда скрипнула кровать, с которой спрыгнула Мария, по оставленному проходу прошлепали босые ноги. Мария дунула в стекло, и наступил полный мрак.
Утро началось с негромкого хныканья Иван Иваныча, видимо, промокшего в своей постельке. Мать на ощупь перенесла его к себе, что-то тихонько бормоча, потом, судя по чмоканью, дала ему грудь, и все опять стихло. Я нашарил в изголовье фонарик, глянул на часы. Было семь с минутами. Толкнул Гришу:
— Подъем. Хватит дрыхнуть, пора искать «железную руку». Сегодня основная роль твоя.
Мы поднялись, скатали мешки, умылись во дворе ледяной водой из бочки на углу дома. Потом вошли в него и увидели, что Мария растапливает печь. На чисто выскобленном столе горит лампа, к которой мы тут же присоседились, расстелив карту. Гриша потребовал отчета о результатах моей вчерашней прогулки по логу:
— Ну, и что ты вчера нашел, рассказывай.
— Ничего серьезного. В вершине лога давно надоевшие гнейсы, в середине амфиболиты с какой-то рудной минерализацией. Скорее всего ильменитовой. У устья анортозиты с ильменитом. Это уже точно. И нигде не видно магнетита или других минералов железа, которые тянули бы на руду. Но гарантий полной пустоты нет. Обнажения-то не сплошные. Между выходами может быть что угодно. Тем более, есть анортозиты, а это ультраосновные породы. Где-то рядом вполне могут быть и дуниты, и пироксениты, а в них магнетитовое оруденение не редкость. Возможно, и хромитовое, а оно поценнее. Так что запрягай свою команду и прощупайте ложок. Может, вам больше повезет.
— Лады, пройдем профилек. Костя, — позвал он топографа, — иди получай задание. Прямо от крыльца вниз по логу разбей профиль. Пикетаж через десять метров.
Мы убрали карту со стола и вышли во двор. Уже почти рассвело. День обещал быть таким же, как вчерашний, пасмурным и сырым, но явно похолоднее. Вместо дождя с неба то и дело пролетали снежинки. В двери сеней появилась Мария и спросила:
— Завтракать будете? Я картошки сварила.
— Будем, конечно, но ты такую толпу не прокормишь.
Я позвал дядю Степу, которого на время этой проверки назначил завхозом отряда, и сказал, чтобы он половину нашего продовольствия отдал Марии. Соответствующее распоряжение сделал и Гриша, после чего мы зашли в дом и сытно позавтракали. Мария была явно очень довольна нашим решением и быстренько убрала куда-то банки и бумажные пакеты с харчами.
Я распорядился, чтобы горняки ждали, пока за ними не придут. Они были весьма довольны и попросились сходить в лес поискать рябчиков. Пришлось разрешить, договорившись о сигнале сбора. Мы с Гришей и его людьми всласть покурили махорочки на крылечке.
Потом Костя прямо перед крылечком установил треногу теодолита и послал вниз, в лог, одного из своих рабочих с полосатой вешкой. Двое других принесли смотанный на палку черный телефонный провод и связку звенящих проволочных шпилек, а также оструганные колышки, которые будут обозначать пикеты — точки через десять метров, где будет измеряться относительная величина магнитного поля. И работа началась.
Помощники Кости размотали провод, на котором через каждые десять метров были завязаны узлы, и протянули его к уже установленной вешке. Возле узлов они втыкали колышки с обозначением «пикетов», будущих точек наблюдения магнитного поля. Это было сделано привычно быстро, Костя подхватил свой теодолит вместе с треногой и пошел к вешке, а на месте, где тот стоял, воткнул вторую такую же полосатую вешку с окованным железом острием. На новом месте он опять установил теодолит и взял замер на эту вторую вешку, а затем послал парня с первой вешкой дальше вниз по логу. И вся операция повторилась. На сцену выступил оператор-магнитометрист, который на месте задней вешки у крыльца установил свою треногу, а на ней — желтенькую коробочку магнитометра. К нему подошел Гриша и заглянул в торчащую вверх трубочку окуляра. Он подозвал меня и сказал:
— По опыту знаю, что полевые геологи в нашем деле ничего не смыслят. Поэтому начнем с ликбеза. Перед тобой полевой магнитометр М-1, по назначению — для измерения вертикальной составляющей магнитного поля. По типу работы — магнитные весы. Внутри размещена магнитная рамка, которая поворачивается под воздействием магнитного поля Земли. На рамке укреплено зеркальце, которое, поворачиваясь вместе с рамкой, отбрасывает «зайчик» на сетку окуляра, что и позволяет измерить угол поворота рамки, а следовательно, и величину напряженности поля. Это все очень упрощенно, но тебе, надеюсь, понятно.
— Почти. А почему «весы»?
— Потому что рамка, о которой я говорил, устанавливается в приборе точно как коромысло в лабораторных весах с помощью стеклянной призмы. А остальное сейчас на кулаках растолкую. Горный компас при себе? Давай его сюда.
У меня на поясе висел чехольчик из коричневого кожзаменителя, а в нем алюминиевая призмочка горного компаса сафоновского производства. Он мне не очень нравился из-за маленькой шкалы собственно компаса. Зато он имел и преимущества: встроенный эклиметр с отвесом и визиром-прицелом. Плюс миллиметровая линейка на скошенной длинной грани. Гриша взял компас в руку, придал горизонтальное положение и стрелке, и ее оси и нажал кнопку, освобождающую стрелку. Она опустила свой северный конец наклонно к земле.
— Видишь? Вот это и есть вертикальная составляющая напряженности магнитного поля.
— Какая ж она вертикальная, если стрелка установилась наклонно? Сколько я помню, это называется «наклонение» и есть лишь часть полного вектора напряженности.
— Да-а, с тобой надо ухо востро держать. Кто вам читал геофизику?
— Специалист по палеонтологии и мастер спорта по волей-болу. Это все равно, если в школе математику преподает учитель литературы. Но мы и сами, как видишь, с усами. Кое-чего читали, и не только в учебниках. Так что не трать время и не вешай лапшу. Лучше скажи — аномалии нет?
— Загляни сам. Зайчик практически на нуле. А если бы хоть что-нибудь поблизости было, знаешь, куда бы он уехал. Долго искать бы пришлось.
Я заглянул в окуляр. Световое пятнышко стояло там, где сказал Гриша — на нуле. Магнитометром занялся оператор. А Гриша, проглотив пилюлю с неудавшейся лекцией, почти побежал вниз по логу. Я попросил оператора при обнаружении хотя бы слабой аномалии позвать меня и пошел вслед за Гришей, который догнал топографов и что-то им втолковывал. Оказалось, что Гриша распекает их за расточительство — слишком много колышков разбросали по дороге. Костя почти вежливо поинтересовался:
— Что, в тайге лес кончился?
— Так их же еще наколоть и обстругать нужно.
Гриша был педант во всем, что касалось его работы. Я не стал вмешиваться в их проблемы, отошел к выходу амфиболитов, оказавшемуся в этом месте, и присел на камень, желая посмотреть, что здесь покажет магнитометр. Гриша вскоре утихомирился и подошел ко мне. Достал из кармана какую-то геофизическую коробочку, в которой были махорка и свернутая по размеру будущей цигарки газета, и протянул мне:
— Угощайся. Чего ты тут уселся? Что за камни? Я вижу, ты тут вчера основательно поколотился — кругом осколки.
— Амфиболиты с ильменитом. Вот и хочу посмотреть, что магнитометр покажет. Магнитная восприимчивость ильменита, сколько я помню, очень мала, хоть он и содержит железо.
— Все-то ты «сколько помнишь», трудно с таким клиентом, но приятно…
Мы стали ждать приближения оператора, неторопливо переходившего от пикета к пикету. Вскоре он подошел к нам, установил прибор, сориентировал его по меридиану, взял отсчет и… не проявил никаких эмоций. Гриша вскочил, подбежал к магнитометру, заглянул в окуляр:
— Ты прав. Почти ничего.
— Что и требовалось доказать…
С такими же результатами мы двигались почти до выходов анортозитов. И вот здесь оператор Женя вдруг проявил активность:
— Григорий Ильич! Есть аномалия, правда, небольшая, гамм двести, но есть.
Мы бросились к нему наперегонки.
Картина в окуляре резко отличалась от той, что мы видели у крыльца, — вместо нуля появились какие-то другие цифры, между которыми повис зайчик. Женя записал отсчет в свою книжку, потом на последней странице пересчитал его и торжественно сообщил:
— Точно, плюс двести двадцать гамм.
Гриша скривил губы:
— Не бог весть что, но с паршивой овцы… По сравнению с тем, что было на Подкаменной Тунгуске, откуда мы приехали, это — семечки. Что будешь делать?
— Вызову горняков, они, наверное, уже наохотились, пройдем канавку и посмотрим, что тут такое. В бортах лога ничего подозрительного нет.
Я вынул из сумки ракетницу, вложил в нее патрон с красной головкой и выпалил в небо. Потом записал номер пикета и пошел с Гришиной компанией дальше. Но больше даже под самыми линзами ильменитовой руды в анортозитах магнитометр ничего не отметил.
Горняки пришли минут через двадцать. Принесли свои инструменты и свалили их, где я показал. Гриша с Женей тоже вернулись к тому пикету и прошли поперечный профилек с пикетами через пять метров. Но ничего нового не обнаружили.
Коля Розниченко, бригадир проходчиков, поинтересовался, какой глубины будет канава. Я этого и сам не знал, но, посмотрев на склоны и под ноги, где из грунта выглядывала какая-то щебенка, сказал наугад, что максимум метр — полтора. Через полчаса этот прогноз подтвердился. На семидесяти сантиметрах от поверхности под лопатами заскребли крупные глыбы камня уже практически в коренном залегании. Правда, они были покрыты коричневой рыхлой массой гидроокислов железа. Но первый же удар молотка выявил их суть — довольно обыкновенные там диабазы с редкой мелкой вкрапленностью магнетита. Так что магнитометр не обманул.
Я распорядился засыпать канаву, чтобы в нее не попала скотина, и вместе с Гришей, тоже дожидавшимся результатов, отправился к дому. Там нас ждал сюрприз: за воротами рычали и лаяли собаки. Ясно, вернулся хозяин. Это улучшало ситуацию и упрощало нашу задачу. Он, крепкий мужичок лет тридцати с красным обветренным лицом, наполовину скрытым светлой рыжеватой бородой, вышел на крыльцо и весело приветствовал нас:
— Слава Богу, приехали. А я думал уже, что мое письмо потерялось.
— Ничего не потерялось, плохо только, что у вас тут все лога Танькины. Сколько ж у вас тех Танек было? У каждой, значит, свой лог?
— Да так только говорится. А на то место завтра утром сходим. Там, если правду сказать, и лога никакого нету. Так, низинка и все. Я, когда весной выходил из тайги, вроде блуданул чуть-чуть. Достал компас, посмотрел, а он куда-то непонятно показывает. Я вроде помню, что север там, а по компасу получается, что он на запад переехал. Я и написал в геологоуправление. Сам года три тому назад в разведке работал. Знаю, что сообщать надо о таких делах.
Такая «аномалия» была у меня на Немкиной, а еще раньше на Ангаре, когда я почти заблудился на околице деревни. Поэтому рассказ Иванова меня больше насторожил, чем успокоил. Человек вообще неохотно верит приборам, когда их показания расходятся с его представлениями. «Тому мы тьму примеров знаем». Но проверку заявки никто не отменял, и мое недоверие здесь уже никакой роли играть не могло.
Иван пригласил нас в дом, где вся расцветшая Марья позвала к столу, на котором в тот же миг явилась большая миска щей, заправленных тушенкой, а в придачу известная уже огромная сковорода жареной картошки, мисочки с огурцами, капустой и тугуном. А кроме того, здесь же красовался кувшин медовухи (медовой браги), как мы определили по запаху. Мужа Марья встречала по высшему разряду. Ели по крестьянскому обычаю — все из одной миски отличными новенькими деревянными ложками, ловко разбросанными хозяйкой по едокам.
На крыльце затопали своими тяжеленными сапогами несколько отставшие горняки. Поскольку Гришина команда сидела за столом, я спросил Марию:
— А этих, опоздавших, покормишь?
— Как договорились. Я уж и Ване о нашем условии рассказала. Он одобрил.
Пока суд да дело, я решил выяснить все же, где ж его Танькин лог. Он махнул рукой куда-то на восток.
— Завтра увидите.
— А где твой охотничий участок?
Последовал такой же взмах:
— Да на Посольной мне промхоз выделил. Участок так себе — наполовину старые гари, а теперь, значит, березняки. Целый
день бегаешь, а толку… Даже нормального путика не устроишь. Там кулемка, а через две версты капкан. Одна пустая беготня.
Я знал, что на прямой вопрос ни один охотник не ответит, поэтому зашел, что называется, сбоку:
— Орех нынче на Посольной хороший? Белка есть?
— Орех ничего, только уж сильно кедровка безобразит, почти все спустила. А белки много. И еще проходная откуда-то, с Якутии, что ли, идет.
Поясню смысл этого диалога: раз есть орех, значит, есть и белка, а она — основной корм наиболее ценных пушных хищников — соболя и его двоюродного брата колонка. Не откажутся от нее и норка, и куница. Впрочем, в эту пору соболь еще балуется вегетарианством — не хуже белки лущит кедровые орешки, запасая на зиму жир. То же проделывает и медведь, который не всегда рассчитывает свою массу и прочность кедровых веток, а потому нередко рушится с высоченного дерева, заливая все вокруг продуктами «медвежьей болезни».
Обговорив охотничьи проблемы, мы уступили место за столом припоздавшим горнякам, а сами вышли на крыльцо покурить. На этот раз угощал Иван, вытащивший из кармана пачку всеми курцами ценившегося ленинградского «Беломора» фабрики им. Урицкого. На мой немой вопрос сказал, что это в местном магазине случайно уцелел ящик. Продавщица, родственница Ивана, предложила ему этот «дефицит», и он набрал его на всю зиму, благо продтоварами промхоз снабжает своих охотников в долг под будущую пушнину.
Мы еще спросили, лег ли снег на горах над Посольной. Иван коротко ответил, что по колено, и уже больше недели лежит. Так что там уже зима, да и здесь недолго ее ждать придется. Вышла Мария и позвала нас в избу.
Вечер был повторением вчерашнего, только в играх с Иван Иванычем главная роль принадлежала его отцу, который сначала качал малыша на ноге, потом подбрасывал к потолку, затем демонстрировал успехи сына в ходьбе по полу. Но тут помешала солома, и дальше пошли особо понравившиеся ребенку перебрасывания под общий гогот. На этот раз развлечение было пресечено отцом, хотя и не без требования матери. Малыша настолько забросали, что он даже срыгивать начал, чем сильно напугал Марию и… Гришу.
Но вот Иван Иваныч засопел в своей кроватке; мы втиснулись в свои спальники, Мария прошлепала к столу и обратно, довольно шумно перелезла через супруга. В наступившей кромешной тьме с соломы раздались чьи-то тяжкие вздохи; и опять наступила мертвая тишина. А в ней послышался едва заметный скрип.
Вскоре мы поняли, что скрипит кровать. Звук этот сверлил уши, лез в душу и, главное, становился все громче и все ритмичнее. Через несколько минут к нему примешались женские стоны и шепот. Хозяева наши не утерпели и наверстывали упущенное за время нахождения Ивана на зимовье. Каково было нам, за исключением дяди Стены, совершенно молодым людям, слушать эту симфонию любви, они принять в расчет не пожелали.
Гриша до половины вылез из спальника, обхватил мою голову руками и зашептал:
— Вот идиот, не мог полчаса потерпеть. Ты представляешь, что сейчас ребята чувствуют? Как бы кто-нибудь не пошел ему помогать. Я и сам не прочь включиться в это хорошее занятие.
Я только фыркнул в ответ на эту тираду, хотя, как недавний молодожен, понимал его страдания и думал примерно то же. Положение почти губернаторское, лежать и слушать все это было страшно неловко, но вставать и выходить — еще хуже. Наконец, хозяева наши вроде успокоились. Я толкнул Гришу, а он опять приткнулся к моему уху:
— Не волнуйся, сейчас повторять будут.
И, как в воду смотрел, вскоре все началось сначала. Все же примерно через полтора часа этого эротического аудиошоу мы (во всяком случае я) заснули и спокойно проспали до шести часов, когда Иван, пробравшись к двери, заорал:
— Па-а-адъем, геологи! Зиму вы уже проспали, как медведи. А она пришла. Подумайте, как назад пробираться будете, а то река шугой отрежет, тогда останетесь с нами зимовать.
Мы с Гришей выбежали во двор. Там все было покрыто ровным, примерно пятисантиметровым слоем снега. Небо сияло густой россыпью звезд. Стоял довольно ощутимый морозец, пятнадцатиградусный, как сообщил Гриша, в коробках которого нашелся и точный ртутный термометр.
Иван был прав. И хотя оба были сердиты на него за почти бессонную ночь, мы решили прислушаться к его предупреждению. Гриша послал одного из своих ребят посмотреть на Енисей — нет ли на нем шуги. Вскоре паренек возвратился с сообщением, что шуги пока нет, река несет только «сало», ледяную кашицу, которая серьезным препятствием для переправы не является. Тем не менее было решено уходить сегодня же.
Поэтому я приказал всем скатать спальники и вынести их во двор, а дяде Степе завьючить горняцкий инструмент. Его нужно было доставить на то место, какое укажет Иван, чтобы там пробить шурф или, если будет необходимо, канаву. Были уложены и личные рюкзаки, вынесена из избы солома.
После довольно плотного завтрака мы выступили. Впереди шел Иван, за ним дядя Степа с лошадьми, проминая надежный след по хрустящему свежему снежку, под которым чувствовался вчерашний ледок. За конями шагали мы с Гришей и тихо беседовали. Он спросил:
— Что-то ты не горишь желанием найти руду, как я вижу.
— Не веришь ему?
— Да, появилось такое чувство, что все это «липа». Я такие вещи видел.
— Но проверить и убедиться все равно надо…
— Я точно такого же мнения. Иначе что докладывать Добровольскому?
Вскоре мы вышли на широкую поляну, действительно производившую впечатление понижения в рельефе. Только на западном краю ее было видно подобие ложка, уходящего к Енисею. Там же просматривались выходы каких-то скальных пород, едва притрушенных снежком. Выйдя на середину поляны, Иван топнул ногой. Потом сделал два шажка в сторону и еще раз топнул.
— Здесь! Тогда тоже солнце было видно. Смотрю, а стрелка куда-то туда показывает, — махнул он рукой на северо-восток. — А должна-то туда, — и он махнул действительно на север.
Гриша подозвал своих и распорядился:
— Через эту точку разбить два профиля. Один меридиональный, другой широтный. Женя, а ты устанавливай прибор прямо на том месте, где стоит Иван, и бери замер. Ты первичный перед крыльцом сделал?
— Конечно. Обижаешь, Ильич. Не первый день замужем, как Иванова Марья. Все сделано, как в аптеке.
Он установил треногу, прикрутил к ней магнитометр и начал выводить его уровень на середину. Тем временем топографы потащили свой провод на север. Ко мне подошли Коля и дядя Степа. Первый попросился опять поохотиться, вон, мол, сколько рябчиков вокруг пересвистывается, а второй сообщил, что захватил с собой полмешка овса и хочет подкормить коней. Им сегодня предстоит непростой день. Я разрешил и тому, и другому. Скоро в центре поляны захрустели овсом кони, а на опушках защелкали выстрелы из «тозовки». Я решил подстраховаться и сказал Ивану:
— Компас-то с тобой? Давай проверь, есть твоя аномалия или нету.
— Какие дела, начальник, сейчас посмотрим.
Он полез в карман и вытащил простенький школьный компас. Долго выравнивал его на ладони. Потом оттянул желтый латунный фиксатор; стрелка закружилась, а лицо охотника вытянулось:
— Ничего, начальник, показывает, как положено. Что ж за чертовщина?
Я уже начал понимать происходящее, но промолчал. Хорошо, что Гриши рядом не было, он стоял в нескольких шагах за магнитометром и пытался что-то увидеть в его окуляре. Потом проворчал на украинский лад:
— Дулю з маком вам, а не аномалию.
— А маку богато? — поддержал я на его родном языке.
— Та досыть (достаточно).
— Буде ще бильше, — пообещал я, подхватил свой молоток и пошел к видневшимся камням. Там отбил несколько кусков и стал рассматривать их в лупу. А увидел то, чего никак не ожидал.
Передо мной был розовато-серый, сильно измененный песчаник. Полтора миллиарда лет назад его прокалила и пропитала разными расплавами масса окружающих вулканических пород, и теперь он сам казался гранитом. Как и следовало ожидать, никаких признаков железорудных минералов в нем не было. Зато было другое. В одном из кусков я разглядел крохотное, не больше полмиллиметра, желтенькое, ярко блестевшее зернышко — золото! Я извлек из сумки иглу и, положив обломок на большой камень, прямо под лупой придавил зернышко. Оно расплющилось. Сомнений не оставалось — золото. Хорошо, что Иван его не видел, а то была бы нам работа не на неделю, а на добрый месяц в лучшем случае.
Подойдя к геофизикам, я услышал воркотню Гриши:
— Нет тут ни хрена, и никогда не было. Одни выдумки.
— Не совсем так. Я кое-что нашел, но к железу это не имеет касательства. Потом расскажу. А пока будем доделывать, что начали.
Костя по знаку Гриши снял магнитометр с треноги и пошел к середине поляны, где вернувшиеся с охоты горняки устроили большой жаркий костер, совсем не лишний на таком морозце. Возле костра рядком лежали штук семь рябчиков с красными бровями. Гриша констатировал:
— Одни самцы. Нормально. А чай сегодня будет?
Ответил ему Иван:
— Давайте ведерко. Сейчас принесу воды. Тут недалеко ключик есть.
Он удалился с выданным дядей Степой оцинкованным ведром. Гриша долго смотрел ему вслед, а потом сказал негромко:
— Мучается парень. По-моему, он уже горько пожалел о своей заявке. Жил бы себе спокойно.
— Ничего. Будет знать, как письма начальству писать. Да и ночь сегодняшняя должна же быть вознаграждена.
— О, а я думал, ты забыл об этом спокойненько.
— А я не человек?
Диалог иссяк. Мы стали ждать Ивана. А топографы и геофизики продолжали «гнать» меридиональный профиль. Но вот топографы вернулись к центру поляны и погнали широтный профиль на запад к обследованным мной песчаникам. Вскоре вернулся Иван, установил две вилки с перекладиной над костром и повесил на огонь ведро. Еще через полчаса вода закипела, Иван всыпал в ведро пачку чая, снял с огня и поставил настаиваться возле костра.
Чай был превосходен. Тем более, что Иван пошарил в своей котомке и извлек несколько румяных аппетитных шанег. Поскольку Марии их испечь было некогда, а мы вопросительно уставились на это чудо, Иван счел долгом прояснить это дело:
— Мать настряпала и утром вместе с молоком для Ванюшки занесла. Они с отцом знают, куда мы собрались. Да вот еще гостинец — медку маленько. Как раз к чаю.
Он выложил на расстеленную вьючную суму пол-литровую банку меду и пять чайных ложечек. Гриша, известный в экспедиции гурман и чаехлеб, радостно проурчал:
— Ну, ублажил, хозяин. За это семь грехов простится тебе. В том числе и ночной, — не забыл кольнуть он.
Я не дал разгореться дискуссии на неприемлемую тему.
— Хватит трепаться. Зови лучше своих умельцев, пусть и они погреются у костра и чайком побалуются.
«Умельцев» дважды звать не пришлось. Через пару минут они сидели вокруг костра с кружками и по очереди совали чайные ложечки в банку, а потом старательно обсасывали их.
К часу дня работа на профилях была закончена. Конечно, никакой аномалии не нашлось. Нам с Гришей надо было писать протокол проверки заявки, но перед тем по возможности выяснить, откуда же взялась злополучная «аномалия». Мы оба не думали, что это чистое вранье. Скорее всего какое-то недоразумение. Но какое? И я начал пристрастный допрос Ивана:
— Ну, ты сам утром видел, что не врет твой компас. Правильно показывает на север. Как же это все вышло? Давай рассказывай подробно все, что было тогда.
— А ничего особенного и не было. Шли мы с Васькой с зимовья на лыжах. Нагружены под завязку. В котомках шкурки еще сырые — последняя добыча, да по глухарю. Ну и, конечно, остатки провиянта — дробь там, гильзы, пистоны и прочее. Как сюда подходить стали, тропу потеряли. Замело ее, затесы плохо видны, а место вроде знакомое. Поляна эта. Сто раз на ней были. Но все одно, мерещится, что не туда идем. Я и решил проверить. Достал компас, глянул, а он вон туда показывает, — махнул он рукой опять на северо-запад. А в этот момент солнце на минутку выглянуло. Все стало на место. Солнце не компас, врать не будет. Мы быстро дошли до дому. А потом, уже летом, я сел и написал в геологоуправление, как нам советовали. Адреса не знал и написал просто «Красноярск, геологоуправление, начальнику». Сначала думал, что не дошло, потерялось мое письмо, но вот вы здесь. Значит дошло. А почему так вышло, сам не понимаю.
— Зато я, кажется, понимаю. Обрядись, как в тот день. Все, как было, нацепи на себя.
— Не получится. Лыж-то нету. И на ногах не кисы, а сапоги.
— Это неважно, давай обряжайся, как сказано.
Иван послушно встал, продел руки в лямки пустой своей котомки, нахлобучил огромную росомашью шапку, повесил на плечо ружье и встал в полной готовности. Смотрелся он великолепно. Упомянутая черная шапка, черный же нагольный полушубок, подпоясанный тоже черным кожаным патронташем с поблескивающими шляпками патронов и подвешенным сбоку большим ножом, похожим на латиноамериканский мачете… Из картины только несколько выпадали обыкновенные кирзовые сапоги да на руках вместо охотничьих собачьих рукавиц, лохмашек, обыкновенные шерстяные перчатки, видимо, Марьиного производства. А на левом плече тульская курковая двустволка. В общем, юдинский Тартарен. Портила эту воинственную фигуру сморщенная пустая котомка за плечами. Но меня интересовала не живописность Иванова облика. Хотя…
Я пару минут полюбовался на него и сказал:
— Теперь проделай все, как в тот день, когда у тебя компас забарахлил.
Иван зачем-то сделал два шага вперед, снял ружье с плеча, поставил его перед собой, извлек из кармана компас, установил его на обрезе стволов и потянул фиксатор. Он удивленно посмотрел на компас и заорал:
— Ну, вот, опять! Только теперь он показывает вон туда! — протянул он руку на юго-восток.
Гриша, наблюдавший эту сцену от костра, одним прыжком подскочил к нему и размахнулся:
— Щас как дам по роже, идиот. Будешь знать, как писать дурацкие заявки.
Не скрою, у меня было похожее желание, но надо было не только разъяснить охотнику, в чем его ошибка, но и предупредить на будущее, потому что сегодняшняя комедия в других условиях может и трагедией обернуться. Я взял из руки Ивана компас и потребовал:
— Дай твой нож.
Он вытащил нож из ножен и протянул мне. Я на ладони от-горизонтировал компас, подождал, пока успокоится стрелка, и взял нож. Поднес его к стеклу компаса. Стрелка сразу прилипла к нему. Описал концом ножа круг по стеклу, потом другой. Стрелка послушно вертелась следом.
— Видишь, Иван? Компас реагирует на любое железо. Когда ты поставил его на ружье, стрелка так же прилипла к донцу компаса, а ты решил, что это аномалия и устроил все это. Теперь знай, что железо от компаса надо подальше держать.
— А компас от железа, — добавил Гриша. — А вообще-то учиться надо, понял, дундук?
«Дундук» горько вздохнул и кивнул своей роскошной шапкой. Я подозвал дядю Степу и Колю, сказал им, чтобы шли в деревню, полностью завьючивали коней и готовились к возвращению. Сам же вместе с Гришей уселся за протокол.
Когда мы уходили, Иван остался на поляне. Все стоял с компасом в руках и водил над ним и под ним ножом.
Маршрут на Немкину
К этому маршруту мы готовились большую часть лета. Во всяком случае, стоило мне зайти в камеральное помещение, где сидели над картами и полевыми книжками геологи, как тут же начинался разговор о том, какая работа нам предстоит. Чаще всего упоминались две речки: нижнее течение Весниной и речка Немкина, которая впадает в реку Кан. Это была южная граница нашего района работ. И если о других речках у нас была какая-то информация, то о Немкиной мы не знали почти ничего.
Только по карте могли судить, что она почти такая же, как Веснина: метров тридцать — пятьдесят в ширину с крутыми, часто скалистыми берегами, и, вероятно, довольно рыбная — ведь на ней нет населенных пунктов, даже в устье. Мне, конечно, очень хотелось попасть на нее, но это вряд ли светило. С самой весны ее «застолбил» за собой старший геолог партии Трофим Яковлевич Корнев, который в рядовые маршруты не ходил. Считалось, что он оставляет для себя самые важные и, следовательно, самые интересные. Правда, мы заметили одну особенность его работы: он очень не любил ходить по местам нехоженым, а паче всего не хоженным им самим. Но о Немкиной он просто мечтал вслух. Всякого, кто хотя бы близко возле нее бывал, будь то охотник, рыбак или старатель, Корнев усаживал, поил чаем и подробнейшим образом расспрашивал. В результате все население нашего поселка, а также ближайших окрестностей, знало, что он собирается на Немкину и вот-вот отправится туда с небольшим отрядом и проводником из местных жителей.
Я в августе оказался свободен со своим помощником-промывальщиком, а Корнев все продолжал «готовиться» к Немкиной: вел переговоры с туземцами, выбирал проводников, намечал состав отряда, отбирал нужные листы топографических карт. В начале сентября Корнев вызвал меня и сообщил, что на Немкину придется идти мне: у него нет на это времени — вызывают в Красноярск для доклада. Вслед за этим распоряжением он усадил меня за приставной стол, разложил на нем топографические карты и стал уточнять задание:
— Слушай, работа эта непростая. Выйдешь на Немкину, сделай полное геоморфологическое описание (его у нас нет) и только после этого начинай шлихтовать. Пробы бери побольше, не меньше двух лотков — нам ничего нельзя пропустить там. А по работам Кузнецова, моего учителя, там много монацита и других радиоактивных минералов. Есть редкие гранаты и еще много чего. Так что повнимательнее. Слушай, осмотри и задокументируй все, какие попадутся, скальные выходы не только на самой речке, но и на водоразделе при подходе к ней. Бери побольше образцов, не стесняйся. Ты ж с конями будешь, не на плечах тащить.
Я прервал его монолог:
— Все это хорошо и правильно, наверное, но как я туда попаду? Выход с Весниной на водораздел, судя по карте, либо сплошные скалы, либо чернолесье. С конями не разгуляешься.
— Слушай, не волнуйся. С тобой пойдет проводник, а может, и два. Я обговаривал этот маршрут с Лупиняками с Кузеевского прииска. Старик сказал, что его сыновья туда ходили и даже тропу рубили. Правда, тропу они вели на Богунай по каким-то золотарским надобностям лет восемь назад, но что-то от нее должно было остаться. Во всяком случае, на водораздел выведут, а дальше ты и сам разберешься. Лады?
— Попробую, но гарантий дать не могу — место темное. Смотря кто пойдет с конями возчиком.
— Слушай, не бузи. Возчика даем самого надежного — Степана Ивановича.
Что ж, это была сама правда: Степан Иванович действительно был самым надежным из наших возчиков. Он проходил с конями везде: по болотам, скалам, самой захламленной тайге, если надо, переплывал с конями глубокие, но не широкие речки. А был он прямо героем одной из песен Высоцкого — ссыльным, бывшим старателем из Бодайбо, которого «два красивых охранника повезли из Сибири в Сибирь». Теперь он был реабилитирован, но на родину ехать было незачем — там у него никого не осталось. Ему было уже за шестьдесят, мы, молодые, звали его дядей Степой не без юмора, так как был он ростом под два метра. Он обладал ко всему недюжинной силой, совсем не лишней в его деле. Опытный старатель, он мог при нужде заменить промывальщика, обязательного члена такого отряда, какой мы сейчас формировали.
Я решил взять своего обычного промывальщика — семнадцатилетнего паренька-ангарца Гошу, с которым ходил уже второй год. Он был немного ленив, очень любил поспать, но все эти недостатки искупались его старательностью и готовностью в любую минуту броситься с голыми руками хоть на медведя, хоть на рысь.
Я позвал обоих своих спутников, или «свяшшиков», как говорят на Ангаре, рассказал о предстоящем маршруте и предложил подумать о снаряжении и продовольствии, которое возьмем с собой. В отличие от сразу обрадовавшегося и загоревшегося Гоши дядя Степа выразил не восторг, а сомнение:
— Все быват, быват, что и палка стрелят. А ишшо как ни-то туда нельзя добраться?
— Можно на моторке, но только до устья, а нам нужно пройти ее всю.
— Ну, нужно, так нужно. Было б сказано, а наше дело маленькое. Пройдем.
Сказано это было уверенно и решительно, так что можно было не сомневаться — обязательно пройдем. Весь следующий день мы готовились: были проверены одежда, вьючные седла, четырехместная палатка, которую мы брали в расчете на проводников, самим хватило бы и двухместной. Запаслись пробными мешочками, этикетками проб, потом пошли к завхозу Игорю Зорину за продуктами и фуражом. Все было выдано по первому разряду, даже колбасный фарш в жестянках и болгарские помидоры в собственном соку. И (в это даже трудно верилось) вместо обычных сухарей — свежий белый печеный хлеб. Правда, по этому поводу дядя Степа выразил некоторое сомнение:
— Заплесневет, однако. Надобно все же и сухарей взять.
Взяли, конечно. Не на себе же нести, с конями идем. Вечером дядя Степа занялся ремонтом вьючных седел, а я пошел к Корневу за «планшетами», как называют полевики топографические карты. Там уже все было готово. Только оказалось их много больше, чем я предполагал. Корнев выдал мне их не только на сам маршрут, но и на все смежные территории, включая даже населенные места вдоль речки Мурмы. В нашем районе работ, кроме нашей базы да прииска Кузеевского, никаким жильем и не пахло.
Поскольку каждый планшет был украшен грифом «секретно», впору было тащить с собой сейф или брать вооруженную охрану. Ни того, ни другого, конечно, не было, поэтому начальник партии Борис Лапшин вручил мне свою собственную «тозовку» — малокалиберный однозарядный карабин ТОЗ-11 и коробку патронов.
— Вот, бери, так тебе спокойней будет. Ну, у дяди Степы есть одностволка-ижевка, а что еще?
— Гоше я дам ракетницу с полдесятком ракет. Хватит от медведя отбиться в случае чего.
— Ну, медведь не самый страшный зверь в тайге. Дай вам Бог удачи, парни.
Затем мы обговорили сроки работы. Контрольный срок установили на пятнадцатый день после начала маршрута. Договорились, что выходить мы будем по тому же пути, что и заходить. Чувствовалось, что Лапшин чем-то обеспокоен, и перед прощанием он сказал:
— Мне передали, что к Лупинякам пришел младший сын Женька. Он отмотал большой срок за убийство. Какая-то скверная история. Вроде из-за часов убил человека. И про старших братьев нехорошо говорят. Будто ходят они на Мурму и там скотину угоняют.
Корнев ехидно хмыкнул:
— Волков бояться — в лес не ходить. Не робей, слушай, три к носу — и все пройдет.
Я внутренне согласился с ним — не отменять же такой маршрут из-за невнятных опасений и подозрений. Тут же решили, что выход завтра в двенадцать часов. Я передал это распоряжение своим людям и спокойно улегся спать. В половине двенадцатого у конторы стояли заседланные лошади. Мы с Гошей таскали спальные мешки, брезентовые вьючные сумы и рюкзаки, а также кули с хлебом и овсом, а дядя Степа все это навьючивал на лошадей. Скоро они выглядели как большие кучи защитного цвета, из которых торчали разноцветные головы и хвосты.
К двенадцати было завьючено все, и дядя Степа спросил:
— Двинули, что ли?
Я сказал:
— Подожди, еще напутствие будет.
Из конторы вышел Лапшин и произнес:
— Ну, хорошей погоды вам! С Богом, как говорится.
Дядя Степа взял за повод свою любимую Карьку и зашагал в сторону старой приисковой дороги. Мы с Гошей пристроились за конями — так было принято в наших караванах: если что свалится с вьюка, сзади идущие подберут и вернут на место. Вскоре мы шли уже по приисковой дороге. Строилась она еще до революции для гужевого транспорта. В 20-е–50-е годы не раз, конечно, ремонтировалась, а с закрытием пять лет назад Кузеевского прииска стала просто никому не нужна, ведь наша база и до появления на ней геологов так и называлась — База, только принадлежала она некогда очень богатой организации — «Золотопродснабу», а обслуживала лишь этот прииск.
С закрытием же его закрылись склады и магазины в приисковом поселке, большинство населения разбрелось, тем более что и старательство запретили. Вот и стала ненужной старая дорога, несмотря на то, что она и сейчас хоть куда. На дороге дядя Степа остановил караван и стал проверять вьюковку: проверил и подтянул подпруги, пощупал, не ослабли ли шнуры обвязки. Потом набил махоркой, которая у нас считалась лучшим куревом, чем любые папиросы и сигареты, свою старенькую изогнутую трубочку, задымил и дал сигнал двигаться дальше.
Мы с Гошей тоже использовали остановку для проверки своей сбруи, хотя и совсем не одинаковой по весу и габаритам: у Гоши только нож на поясе да ракетница в кармане брюк, а на мне — массивный нож в самодельных берестяных ножнах, обмотанных сыромятным ремешком, горный компас, битком набитая планшетами полевая сумка с комплектом карандашей и луп, через плечо — лапшинская «тозовка» да в руке пятисотграммовый геологический молоток на почти метровой березовой рукоятке.
Легче всех был «обряжен» дядя Степа: на нем не было даже ножа, правда, я знал, что в кармане у него лежит здоровенный складень с пилкой и гвоздодером. А так он даже свою «ижевку» пристроил на Карьку, заткнув ружье под шнур увязки. Мы передохнули, покурили и двинулись дальше спорым «средне-геологическим» шагом, которым ходят опытные таежники — вроде бы без малейшего напряжения, мягко ступая, а скорость не меньше шести километров в час. А тут еще и идти было легко: день стоял солнечный, с ветерком. Начавшиеся утренние заморозки поубавили прыти комарам, а крупный гнус — пауты и слепни — исчез совсем. Только перед глазами мельтешила сетка мошки, но ветерок и тут помогал — отгонял нечисть.
Через два часа после выхода с базы, как и положено, мы достигли срединного пункта сегодняшнего пути, бывшего «зимовья» Перевального, название коего соответствовало его положению: от Енисея дорога шла только на подъем. Перевальный же находился уже на водоразделе Кузеевой и Енисея. Потому здесь полагалось отдыхать, а поскольку от строений остались одни развалины и поблизости не было источников воды (когда-то был колодец, но он обвалился), большого смысла задерживаться тут не было. Мы решили идти до первого ручья, где стать и чай варить, как говорят сибиряки. По-моему, не возражали даже лошади, хотя их развьючивать не предполагалось.
Остановка-то на пятнадцать минут всего. Долго ли развести костерок и подвесить над ним котелок. Привал, правда, продолжался двадцать пять минут, причем дядя Степа пустил лошадей пощипать свежую зеленую травку прямо под вьюками. Сами мы съели по банке гороха со свининой — реактивной пищи, как называл ее Гоша. Потом дядя Степа свистнул, и по этому сигналу к нему явилась Карька, а за ней и остальные лошади, включая не очень-то покорного обычно буланого мерина Бродягу. Перекусив и покурив, мы двинулись дальше. Со следующего хребтика открылась панорама Кузеевской долины, выглядевшая как котловина, почти правильного кругового очертания. Она, тем не менее, была пересечена несколькими небольшими параллельными хребтами, которые были ниже того, на котором мы остановились полюбоваться. На северном краю этой котловины, уже украшенной золотом берез и багрянцем осин (тайга здесь была в основном лиственная), возвышалась правильная пирамида горы Подсаранной, которую мы именовали созвучно, но не слишком печатно за то, что попасть на нее с ближних гор было крайне трудно. Не давалась и все. Удалось это только Лапшину и мне. На вершине ее были лишь скалы и старые обгоревшие лесины.
Через непродолжительное время мы одолели и последний перед прииском хребет. Перед нами предстали белые отвалы перемытых галечников в пойме речки Кузеевой и десятка полтора сохранившихся домов, среди которых возвышалось здание приисковой конторы на взгорке, обшитое вагонкой и выкрашенное какой-то красно-бурой краской. Нам было известно, что большинство домов брошено, и только в трех еще теплилась жизнь, а остальные утопали в бурьянах.
Первый жилой дом нам нужно было миновать, едва вошли в поселок. Это была небольшая изба старика Расеева, окруженная серым от старости забором и теперь пустыми стайками, как сибиряки называют хлевы. Когда-то он держал корову, свиней и птицу, а теперь ослаб (было ему за семьдесят), заготавливать корм уже не мог, а потому из живности остались у него пес и кот, такие же старые, как сам хозяин, да еще старуха, о которой он шутил, что она единственная живность, за какой он может еще ухаживать.
Прошли мы расеевскую усадьбу, поздоровались с ее хозяином, стоявшим у калитки, вроде он ждал и встречал нас, и пошагали к конторе, рядом с которой располагался большой и ухоженный дом Лупиняков. У этого дома нас встретила четверка здоровенных псов-волкодавов, которые, как у многих зажиточных хозяев в тех местах, не были привязаны, а просто приучены держаться на углах двора с наружной стороны его. На бешеный лай вышел старик Лупиняк, обладатель мощной седой раздвоенной бороды и маленьких бесцветных глазок под клочковатыми бровями. Он отогнал расходившихся собак и проводил наш караван во двор, заставленный стайками и амбарушками. Был здесь и сарай-мастерская, в котором, по-видимому, делали сани, гнули дуги и мастерили ульи — сужу по заготовкам, лежавшим рядом с сараем и за его открытыми воротами, рядом с которыми стояли и два готовых улья.
Старик показал, где развьючивать коней, куда складывать вьюки и спросил:
— На Немкину собрались, вижу? А где ж Трофим Яковлевич? Он же сам хотел…
Я ответил:
— Он не может, поручил нам. Вот и пришли с вами и сыновьями вашими посоветоваться. Он сказал, что договорился с ними насчет сопровождения отряда в качестве проводников.
— Их сейчас дома нет, где-то по тайге лазят. То ли по бруснику пошли, то ли шишковать собираются и места высматривают.
— А чего ж без собак?
— Собаки им без надобности. Они обещали к шести часам прийти.
Судя по беседе со стариком, его отчужденности, разговор с сыновьями предстоял непростой, хотя, казалось бы, договоренность есть, о чем тут рассусоливать. Но деду явно почему-то не понравилось, что вместо Корнева иду я. Выйдя во двор, я глянул на часы, потом на солнце, уже повисшее над ближним хребтом, с которого мы недавно спустились. Был шестой час. Все-таки мы неплохо прошли эти тридцать два километра. И даже не очень устали. Во всяком случае, все были во вполне рабочем состоянии. Дядя Степа попросился отвести коней на лужайку неподалеку от дома. Старик, тоже вышедший во двор после нашего разговора, одобрил эту мысль и предложил на ночь поставить коней в его конюшне. Услышав наш разговор о приготовлении ужина, заметил:
— У меня полон дом баб — моя старуха, Гришкина жена да внучка — не хлопочите, все приготовят в лучшем виде, это они умеют. Вместе и поужинаем. Кстати, ребята с утра десяток рябков принесли. У них тоже, как у тебя, «тозовка» имеется. А рябков нынче — море. Бей — не хочу.
Вскоре я услышал негромкий разговор за воротами. Разговаривали мужчины, и речь шла о конских следах, ведущих к дому. Калитка отворилась, и во двор вошли двое мужиков — сыновья старика. Трудно представить себе более непохожих братьев, хотя в Сибири в те годы все бывало. Старший, Григорий, черный, смуглый, похожий на цыгана, высокий, стройный с темными усами над верхней губой. Младший, точнее, средний, учитывая выданную нам информацию, Алексей, или, как все его звали, Лёнька, менее чем среднего роста, широкоплечий, крепкий и очень похожий на отца — тоже рыжеватый и с большой бородой лопатой да глазами-буравчиками под кустистыми бровями.
Мы поздоровались, причем братья едва скрыли свое удивление. Не знаю уж, чем я их не устраивал, но недовольство отсутствием Корнева было почти открытым, как и у старика. Скоро нас позвали к столу, где я и понял, почему Григорий как бы не вписывается в семейный облик мужчин Лупиняков. Просто он был похож на мать — высокую крепкую и сухую, некогда чернявую старуху, ростом на голову выше мужа. Теперь же она была белой, как лунь. Только брови оставались черными, а под ними светились умом какие-то очень недобрые карие глаза.
На столе появился чугунок с картошкой, малосольные огурцы, большой пучок зеленого луку, блюдо с соленым хариусом, маленькая мисочка с соленой же черемшой и то, на что мы никак не рассчитывали, — литровая бутыль с мутным самогоном, к которой прилагались маленькие граненые стаканчики. Я шепнул Гоше:
— Дуй за колбасой. Да там и открой.
Он пулей выскочил из-за стола и исчез за дверью. Старик недовольно проворчал:
— Куда ты его? Мало, что ли, на столе?
— Немало, но и нам надо что-то на него поставить. А иначе мы вроде нахлебников.
Дядя Степа одобрительно покивал головой. Гоша вернулся через две минуты с двумя откупоренными банками. Молодежь откровенно обрадовалась редкому по тем временам лакомству, а старик только хмыкнул в бороду. В принципе, я мог еще больше удивить хозяев: в моем рюкзаке лежала поллитровка спирта, выданная Лапшиным на случай дождя или непредвиденного купания. Но это был уже настоящий неприкосновенный запас, и браться за него в первый же день не годилось. Тем более что мои «свяшшики» о нем не подозревали.
За столом, когда старик разлил по-первой совершенно скверного, за версту несущего сивухой самогона, начался обычный «светский» разговор: о лошадях (старик похвалил наших, чем сильно польстил дяде Степе), о погоде (сухое бабье лето хвалили уже все), о гнусе, которого так же дружно все проклинали. А старик выдал давно мне известную байку о колчаковцах, которые гнусом казнили красных партизан. Раздевали донага, привязывали к лесине, и через несколько часов все было кончено — гнус высасывал всю кровь человека.
Беседа о конях, которую вел, в основном, дядя Степа, обернулась довольно печально — оказалось, что за две недели до нашего прихода двух лупиняковских лошадей, которые почему-то паслись возле их охотничьей избушки на Весниной, задрали медведи. Сразу двух. Понятно, что это большое горе для семьи, но хозяева особой скорби не выказывали. Констатировали факт — и все. Куда более оживленно отреагировали, когда я спросил:
— Нам сказали, что пришел ваш Евгений. Что ж его не видно?
Тут Ленька отчего-то сразу вспылил:
— А это дед Расеев понт пустил, а зачем, и сам не знает. Надо укоротить ему, старому хрену, язык. Женька и правда писал, что скоро к нам собирается, но Улита едет…
Старик тоже что-то проворчал неопределенное. Лишь Григорий отмолчался, только внимательно посмотрел на мать, а та тяжко вздохнула. Мы с трудом усидели половину выставленной хозяевами бутыли — уж больно противная была самогонка.
Но вот застолье подошло к концу. Старик спросил, не хочет ли еще кто-нибудь «разговеться», но желающих не нашлось. Тогда старуха, не тратя больше слов, стала убирать со стола, заметив, правда, что попозже будет чай с шаньгами, Настя, мол, как раз сейчас стряпает их с дочкой. Но ни Настю, ни дочку ее мы так и не видели.
Когда стол освободился, я предложил начать переговоры. Хозяева согласились. Я разложил относящиеся к переходу на Немкину планшеты, стараясь, чтобы грифы «секретно» не бросались в глаза. Но как их скроешь, если они напечатаны жирным шрифтом, едва ли не более крупным, чем само обозначение и масштаб карты. Все, что относилось к окрестным территориям, я сложил стопкой на оказавшемся рядом сундуке.
Хотя было понятно, что с грамотой у братьев не очень, но карту читали они свободно, особенно Ленька. Я показал, куда нам нужно выйти в верховьях Немкиной, и стал расспрашивать о тайге по дороге к ней, а особо о месте, с которого надо начинать этот заход. И, естественно, спросил об их тропе на Богунай. Ленька, а переговоры были явно поручены ему, повозил пальцем по карте, потом ткнул им в ручей, впадающий в левый исток Весниной, Шиверную Веснину:
— Вот по этому ручью мы и гнали тропу. Только тропа та хитрая…
— ???
— Затесы мы делали так, чтобы найти их мог только тот, кто знает: не поперек тропы, а вдоль нее.
Объясню, что при прокладке троп и просек в лесах отмечают их затесами, то есть срубают топором кору и довольно толстую щепу с дерева. Новый белый затес виден издалека, и идти по такой разметке легко. Сохраняются затесы долго — пока стоят деревья, на которых они нанесены, иногда десятки лет. А «хитрая» тропа — это сапоги всмятку. Мне доводилось видеть, как человек, вроде бы хорошо знающий, где эта «хитрая», часами ходил от затеса к затесу и, если протоптанных следов не оставалось, бросал это бесполезное занятие.
Поэтому я для порядка спросил:
— А вы ее найдете?
— Какой разговор, конечно. И потом, главное — найти ее начало. А когда на гору выберемся, будет уже все равно. Там березняк, да такой чистый, хоть боком катись. Ну, и спуск к Немкиной такой же, березняком.
Я решил, что пора переходить к главному:
— Так кто пойдет с нами? Оба? Или кто-то один?
Ответил сидевший в сторонке старик:
— Нам сейчас по тайге шариться не с руки. Скоро уже завозиться на зимовье, чтобы охотничать в зиму. А коней-то нет. Надо добывать коней. Но раз обещали, нужно делать. Пойдет Ленька. Он попроворнее. И если у вас там хорошо все получится, один вернется, хоть и с полдороги. Только, если вы с утра завтра пойти хотите, вам придется его подождать — здесь дела есть неотложные.
Ленька продолжил и развил этот монолог:
— Здесь дела есть, это точно. Но вам ждать незачем. Идите на наше зимовье на Весниной, там и подождете меня. Я часам к двум дня прибегу к вам и отведу на начало тропы.
Я сказал:
— Да знаем мы ваше зимовье. Мы с Гошей там три раза были. Когда делали Шиверную, потом Правую, а потом и нижнюю Веснину. Дорога у вас туда хорошая. Только последний спуск крутоват.
— То-то, когда я туда бегал, видел, что кто-то был: дров полная печка и береста подложена. А на окошке в банке сухари добавлены. Я и понял, что таежник заходил.
И тут я допустил непростительную глупость:
— Это еще не все. Когда с Правой шли, мы блуданули чуть-чуть — карта врет на краю листа. Мы и врюхались в болотце, на карте не показанное. Метрах в трехстах от зимовья, А там увидели лабаз. Тоже ваш, наверное. Мы к нему не подходили, прошли прямо к избушке.
Здесь тоже требуется объяснение. Лабаз — сооружение, обычно устанавливаемое вблизи охотничьего зимовья для хранения припасов и добычи. Делается он так: у трех-четырех рядом стоящих лесин отрубаются вершины. Сами лесины ошкуриваются. На высоте трех (иногда и больше) метров устраивается площадка, а иногда и что-то вроде хижины с дверцей и запором. Назначение лабаза — защитить от медведя и особенно росомахи продукты и добычу. Влезают на лабаз по лестнице, настоящей или, если лень делать ее, импровизированной — по бревну с зарубками. Лестница прячется неподалеку от лабаза на земле. Иногда на лабазе прячут и то, что хотят уберечь от посторонних глаз. Судя по реакции Леньки на мои слова, тут так оно и было. А он покраснел, скрипнул зубами, сжал кулаки и с ненавистью посмотрел на меня. Впрочем, может, мне и показалось. Тогда я не придал этому никакого значения. Собрал карты, сложил их и запихал в сумку.
Вошла старуха и спросила:
— Так чай будете пить?
Я отказался, а мои спутники выразили желание. Тут явилась пышная белокурая Настя с блюдом таких же пышных шанег, а за ней дочка лет пятнадцати, похожая на отца, — такая же сухощавая и чернявая, внесла парящий самовар.
Я спросил у Леньки, где нам отведут ночлег. Он предложил сеновал. О лучшем и мечтать нельзя было. Он оговорил, правда, обычное требование: ни в коем случае не курить возле сена, но это мы и сами понимали. С чаепитием скоро было покончено.
Мы вышли на улицу, покурили, полюбовались на усыпанное звездами темное небо, определили, что спальные мешки разбирать ни к чему и, сопровождаемые Ленькой, пошли к сенному сараю. Гоша извлек откуда-то электрический фонарик и светил, пока мы с дядей Степой взбирались по дощатой ограде сеновала, а Ленька бросил нам наверх две больших дерюги: «Постелите и укройтесь». Я сверху спросил:
— Когда выходим?
Ответ опять был не очень внятным:
— У меня с утра здесь дела. Не ждите, идите прямо на зимовье, раз дорогу знаете, а я догоню. Пообедаем на зимовье и дальше двинемся.
Пришлось тем и удовлетвориться.
Мы улеглись. Гоша довольно засопел, а скоро стал и похрапывать. А дядя Степа долго еще ворочался и ворчал что-то о том, что на хрена нам эти проводники сдались, без них ходили и тут пройдем. И вообще вся эта затея ему не нравится — люди какие-то темные эти Лупиняки, ненадежные и непонятные. Я спорить с ним не стал и скоро заснул — усталость все-таки взяла свое.
Проснулся я в привычные шесть часов. Сбегал на речку, умылся холодной, почти ключевой водой, с трудом разбудил Гошу. Дядя Степа встал сам и уже кормил и осматривал лошадей. Здесь же топтался старый Лупиняк и тоже внимательно присматривался к коням: оглядывал их копыта, спины, гривы и хвосты. Выходило это у него как-то очень по-хозяйски, а короткие реплики, им отпускаемые, свидетельствовали о хорошем знании предмета. Во всяком случае дядя Степа явно зауважал его.
Мы позавтракали остатками вчерашнего ужина, запили завтрак парным молоком, а затем завьючили коней. В восемь мы выступили. Сначала наш путь лежал через речку Кузееву и огороженный поскотиной выгон, на котором паслось полдесятка коров — все, что осталось от некогда большого стада поселка.
По левому берегу речки, пойма которой была загромождена дражными отвалами, шла относительно наезженная гужевая (проселочная) дорога, которая выводила на Енисей пониже нашей базы, напротив большого села Павловщины, где и осели в большинстве золотодобытчики с прииска после его ликвидации.
По дороге шла довольно большая группа людей — человек десять-двенадцать. Поначалу мы не обратили на них внимания, хотя для нежилого поселка их было многовато. Но вдруг в этой толпе кто-то закричал: «Эй, геологи, подождите!» и побежал к нам. Вскоре мы различили, что бежит к нам Ленька, тряся своей рыжей бородой. Он, запыхавшись, подбежал и сообщил:
— Все, ребята. Я остаюсь, вам придется самим пробираться на Немкину. Приехал приемщик, будем сено сдавать, какое накосили с Гришкой. В общем, счастливо вам.
Я обескураженно задал дурацкий вопрос:
— А как же мы? Ведь договорились же…
Но он уже бежал обратно к своей компании. Дядя Степа глубокомысленно хмыкнул и пробурчал, доставая свою трубочку:
— Может, это и к лучшему…
Мы присели на траву и, переживая новость, всласть подымили махоркой. Потом поднялись и двинулись к солнцу, только что выкатившемуся из-за хребта. Оно осветило и выгон, и возвышающуюся над ним скалу «Паровоз», названную так по сходству с этой машиной, и коров на выгоне, и наши унылые лица. Что до скал, то их, останков древних гор, много в тех местах. Самые известные — знаменитые Красноярские Столбы, образующие целый заповедник. А этот «Паровоз» был чисто местной достопримечательностью, хотя сходство с локомотивом, действительно, поражало: и труба, и кабина, и колеса, правда, овальные, похожие на подушки.
Но я отвлекся. Покурив, мимо «Паровоза» мы прошли в угол выгона, откуда начиналась дорога на зимовье Лупиняков, мною уже раза четыре или пять пройденная. До зимовья было двадцать с лишним километров и полдесятка лощин, по-местному, «распадков», часть которых была изрядно заболочена. Но дорога была довольно приличной. Виднелись даже следы тележных колес. Похоже, Лупиняки завозились на охотничий сезон с комфортом, большинству тамошних охотников-промысловиков недоступным. Эти, как и мы, грешные, обходились без гужевого транспорта, вьючным.
Впрочем, я опять отвлекся, до дороги еще надо было дойти. А сказанное — впечатление от моих прежних проходов по этой дороге. Однако мы дошли до затвора поскотины, жердевых воротец, которые надо было отворить перед караваном, что мы с Гошей и сделали. Дядя Степа, а за ним Карька и другие лошади торжественно прошествовали через открытый проход, мы закрыли воротца и тем отрезали себя на две недели от человеческого общения. Впереди были только тайга и работа.
Настроение мое было изрядно подпорчено сообщением Леньки. Дядя Степа шел, держа повод Карьки, довольно далеко впереди, потому я первые километра три шагал молча, погрузившись в свои непростые и совсем не веселые мысли. Солнце пробивалось нежаркими уже лучами через хвою и листья высившихся слева от дороги деревьев, ветра не было, только серебристые паутинки, свидетельство начавшегося бабьего лета, цеплялись за лицо да появившаяся по мере прогревания воздуха мошка отвлекала от размышлений о сразу осложнившемся маршруте.
Выходило, что нам самим придется искать ту «хитрую» тропу. А сколько это займет времени, один Бог знает. И я решил только хорошенько пообедать на лупиняковском зимовье и сразу же выступать вверх по Шиверной. Тот ручей тоже, поди, не подарок. Судя по месту впадения, обозначенному на карте хвойному лесу и окрестному рельефу, он наверняка каменистый и прилично заболоченный. А значит, труднопроходимый для лошадей. Конечно, дядя Степа со своей Карькой и там пролезет, но мое дело — обеспечить минимальные трудности подхода к месту работы. Надеяться теперь не на кого.
Тем временем мы вошли в полосу хвойного леса, чудом сохранившегося от бушевавших некогда здесь пожаров, и Гоша вдруг дернул меня за рукав, одновременно показывая на остановившегося дядю Степу. А тот выдернул свою «ижевку» из вьюка и, не издавая ни звука, показывал ею куда-то вправо от дороги. Я сорвал с плеча «тозовку», выщелкнул из патронташика патрончик, засунул его в ствол и, как говорится, на полусогнутых подбежал к дяде Степе. Он прошептал мне в ухо:
— Выводок рябков. Видишь, трое сидят на еловой ветке? Я стрелять не хочу — боюсь, разгоню всех.
На ветке справа от дороги действительно виднелись три сереньких спинки, а под ними отделанные черно-белыми ленточками хвостики. Три выстрела прозвучали, как три сломанных сучка. И рябчики перекочевали в бездонный Гошин рюкзак, а с ним — на вьюк Бродяги. Намолчавшийся за пройденные километры дядя Степа подвязал повод Карьки к нагрудной шлее и пошел рядом со мной, предоставив ей относительную свободу. Она теперь могла свободно щипать травку по обочинам тропы к зависти других лошадей, чьи поводья были подвязаны к седлам впереди идущих.
По поводу рябчиков он сказал:
— Не худо ты с ними управляешься, теперь мы с ужином. Да еще благородным. А насчет проводников — не переживай, что Бог ни дает, все к лучшему. Пробьемся и без них. Ты, я знаю, по карте ходишь, как по своему городу. Проведешь, куда надо, а я уж коней протащу. Так что не робь, пуля не дробь, попадет — отскочит.
Он помолчал, потом высказал, видимо, хорошо продуманное:
— А Лупиняки те, похоже, настоящие варнаки. Я на таких еще на Витиме насмотрелся. Таких вокруг золота всегда много трется. Им человека убить, как тебе рябчика. Так что не жалей. Все добром будет.
Я не принял его утешений:
— Ты дело говоришь, но поискать ту «хитрую» тропу придется. А насчет их натуры, что нам до того. Пусть с ними прокурор разбирается. А нам на Немкину надо.
В этот момент начался склон; Карька полезла в кусты в погоне за мышиным горошком, таща за собой весь караван, и дядя Степа побежал догонять ее. Спустя десяток минут мы достигли первого заболоченного ручья. Дядя Степа развязал всех лошадей и пустил опять Карьку самостоятельно преодолевать препятствие, с чем она успешно справилась. С другими лошадьми дело обстояло хуже — они с трудом вытаскивали ноги из бурой грязи и почти не продвигались вперед. Мы с Гошей взяли поводья и старались провести их по следам Карьки.
Гоша справился с задачей успешно, а нам с Бродягой не повезло: он зацепился вьюком за дерево и как бы оттолкнулся от него, зацепился копытом за корень, сделал какой-то нелепый прыжок и провалился передними ногами в грязь. В результате он улегся в сразу выступившую воду, естественно, погрузив туда и вьюки. Я вместе с подбежавшим дядей Степой стал развьючивать «утопленника». Веревку, держащую привьюченные сверху спальные мешки, мы распутали быстро. Хуже было с вьючными сумами — кольца с крюков седла мы сорвали моментально, но Бродяга придавил сумы своими боками и вытащить их из лужи было не так просто. Но мы все же вырвали их и вытащили на дорогу подальше от лужи. Дядя Степа поднял веревку и хлестнул ею мерина:
— Ну, вставай, лодырь. Он отдохнуть, видите ли, прилег. Гоша, тяни его за повод, — и хлестнул Бродягу еще раз. Тот посопел и с трудом поднялся. Колени его дрожали. Был он мокрый и жалкий. Но дядя Степа был неумолим. Он отвел Бродягу к сумам и стал переседлывать его, привязав к придорожной рябине. Снял седло, перевернул потник, вновь положил седло и туго-натуго затянул подпругу, сопровождая каждое свое действие солеными присловьями. Хотя вообще он мата не любил и им почти не пользовался.
Завьючив «утопленника», который за время этой операции несколько успокоился и перестал дрожать, мы двинулись дальше. Солнце поднялось высоко и теперь светило нам прямо в глаза, рассыпая ярчайшие краски по сторонам нашей тропы-дороги. Вот уж воистину «в багрец и золото одетые леса». Чем выше мы поднимались, тем дальше продвинулась осень: в тех краях это правило особенно строго соблюдается природой — каждый десяток метров уже чувствуется. Потому желтизна берез и лиственниц разбавлялась алым колером «сибирского винограда» — черемухи, чьи черные гроздья действительно напоминали виноградные. А сибиряки широко используют это красивейшее по весне и осени растение: ягоды сушат, мелют и используют в выпечке, как начинку пирогов, рулетов и т. д. Но немало еще оставалось и зелени. Кроме елей и пихт не торопилась буреть ива, или тальник по-местному.
Мы перевалили еще несколько хребтов и пересекли ряд распадков с болотами или журчащими ручьями, и, наконец, начался крутой спуск в долину Весниной. Лошади, а с ними и мы. в предчувствии отдыха зашагали веселее. Но вот пошел последний спуск. Он был особенно крут, но я знал, что здесь есть значительно более пологий обход по долине ручейка, впадающего в речку прямо возле зимовья. Я показал его дяде Степе, чтобы он вышел на берег речки, поросший густой травой, там развьючил и пустил попастись лошадей, пока мы будем готовить еду и обедать. Сам спустился по крутяку, зашел в избушку, вынес самим же заготовленную бересту и сухие дрова, а также лупиняковский казан полушаровой формы, скоренько начистил картошки, подвесил казан на крюк под специально для готовки сделанным навесом и чиркнул спичкой. Огонь занялся сразу же. Я слышал, как мои спутники звенят пряжками и кольцами, снимая вьюки с коней, переговариваются за кустами на берегу, и с наслаждением дымил самокруткой.
Но этот кайф продолжался недолго. Внезапно раздвинулись кусты с противоположной стороны полянки, на которой стояла избушка, и передо мной предстала рыжебородая фигура Леньки Лупиняка в полном таежном облачении: в какой-то жилетке-кацавейке неопределенного цвета, армейских шароварах, болотных сапогах, очень похожих на ботфорты — так они были отвернуты, с ружьем за плечами и патронташем вместо пояса. К патронташу был приторочен длинный нож в берестяных ножнах, от конца которых шел сыромятный узкий ремешок, обвязанный вокруг бедра, чтобы не потерять нож при перелезании через валежины. На голове у него был древний, как и кацавейка, давно потерявший цвет картуз.
Лицо его было покрыто крупными каплями пота — он явно спешил, догоняя нас, и потому сильно упарился. Я не нашел ничего лучшего, как спросить:
— Что, передумал? А как же сено?
Он ответил, тяжело дыша:
— Хрен с ним, с сеном, там Гришка с батей управятся. А я сюда харюзков половить. Женька пришел-таки. Надо его свежей рыбкой подкормить, а то отощал больно на своем курорте.
Он зашел под навес и, став на выступ сруба, достал с чердака избушки два хорошо сделанных гибких березовых удилища, вынес их за пределы навеса и прислонил к крыше. А сам сел напротив меня и спросил:
— А где же твои?
— Коней развьючивают. Сейчас придут, обедать будем. Давай и ты с нами — долг платежом красен. Вроде ты теперь у нас в гостях, хоть это и твоя хата.
Но Ленька от обеда отказался, сказал, что прямо сейчас пойдет вверх по речке и займется рыбалкой. По его словам встретит нас на месте сворота, там покажет начало тропы, а потом вернется. В этот момент появились мои спутники. Дядя Степа был явно поражен появлением Леньки. У него даже челюсть как-то отвисла. Не проронив ни звука, он бросил наземь принесенную вьючную суму с продуктами и уселся на лежавшее рядом со мной бревнышко. А Гоша дословно повторил мои вопросы и получил тот же ответ.
Ленька попросил у меня махорки, скрутил «козью ножку» задымил, взял удочки и зашагал по едва заметной тропке в сторону своего лабаза, то есть вверх по речке. Мы опять остались одни. Дядя Степа долго смотрел вслед рыбаку, потом спросил:
— Ну, и что ты обо всем этом думаешь?
— А ничего. Надо мужику рыбки наловить, вот он и заявился. А заодно проверить, как мы тут хозяйствуем. Им зиму здесь жить.
— А я ни слову его не верю. Что, в Кузеевой меньше рыбы? Ты ж сам ловил там. Такой же точно хариус, как и здесь. Нет, тут что-то не то. Не затем он пришел, варнак. Как хотите, ребята, а я думаю, надо нам домой подаваться, пока целы. Он по наши души пришел. Если вы не пойдете, я седлаю коней и марш домой. Один.
Только теперь до меня начало доходить, что он, пожалуй, прав в своей оценке ситуации. Но, с другой стороны, угроза не казалась мне такой уж большой: нас все-таки трое, причем не трусы, паника дяди Степы не в счет. Да и он, насколько я знал, в крутую минуту не сдрейфит. Поэтому решил получше разобраться в происходящем.
— Значит, так. Никто никуда не пойдет. А ты, старый, кажется, сам мне говорил: «Пуля — не дробь, попадет — отскочит». Что там у него в стволах и патронташе, я не знаю, но и мы не безоружны. Что бы там ни было, давайте дождемся его, а там и решим, как быть. Все. Ночуем здесь. А там видно будет.
— Как скажешь. Но я здесь ночевать не буду. Уйду с конями в тайгу и там ночую. А вы как хотите. Это мое последнее слово.
— Так даже лучше, надо ж ему объяснить, чего мы не пошли. А он сказал, что ждать там будет. Так я и совру, что кони ушли, а ты ищешь и, как найдешь, там и заночуешь.
— Нужна ему твоя брехня… Не за тем он пришел.
Волнения волнениями, но пообедать все-таки надо было. Мы сдобрили уже переварившуюся картошку банкой гороха со свининой и весьма сытно перекусили, о чем Гоша не преминул отозваться:
— Люблю я поработать, особенно пожрать. А вкусно было, не то, что вчерашний бабкин ужин, хоть там и самогонка была. Только больно противная — одна сивуха. Ты почаще такой супешник готовь.
Я пообещал и развернул карту. Надо было искать выход. Рассуждал я так: если Ленька действительно пришел по наши души, то при попытке вернуться ему ничего не стоит перехватить нас на пути, где он знает каждый куст. Поэтому обратной дороги для нас нет. Пытаться уйти вдоль Весниной по верху бесполезно, только коней потеряем — я ведь видел, какие там скалы. Да и там догнать нас не фокус, следопыт он высококлассный, как и стрелок. Оставалось одно — идти на Немкину, но так, чтобы он не сразу смог найти наши следы, а там уже действовать по обстоятельствам. Все это я вывалил моим товарищам, и, надо отдать им должное, они признали мою правоту. Только дядя Степа опять проворчал что-то о варнаках-проводниках и очень нелестно высказался о корневских затеях. Он там мудрит, а мы здесь головы клади. «Слушай!» — передразнил он корневскую присказку. Потом спросил:
— А вот там, пониже, — махнул он рукой в сторону левого берега, — вроде пологий распадок. По нему не пройдем?
— Был я в нем. Чуть повыше он завален глыбами с эту избушку. Но думать надо.
— Думай. Только быстрее, а то придет, тогда будет некогда.
Он был прав — солнце уже начало склоняться к западу. Стало прохладнее — бабье лето все-таки не лето. Мы притащили остатки вьюков, седла и устроили лежбище так, чтобы с него хорошо просматривался вход в избушку. Дядя Степа взял свою «ижевку», перезарядил ее. Я, глядя на эту его возню, спросил:
— Что там у тебя, пуля?
— Нет, в лесу и кустах пуля ненадежна, мои боевые патроны заряжены картечью — ею лучше палить, от ветки не срикошетит.
Я одобрил этот подход. Старый таежник был, конечно, прав. Он закинул ружье за плечо и двинулся к речке, забрав у Гоши его кисет. Я крикнул ему:
— Возьми свой спальник. Замерзнешь ночью.
— Зачем он мне? У меня есть ватный клифт да плащ еще, не заколею. А вы, если что, кричите погромче — я далеко уйду.
То есть он не исключал самых печальных вариантов, вплоть до рукопашной схватки. А мы стали тоже готовиться: расстелили за седлами свои спальники, а мешок дяди Степы уложили в качестве бруствера. Я залег за ним и прикинул возможность стрельбы по двери. Обзор был хороший, но ночью мушку трудно будет разглядеть. Потому я установил постоянный прицел, а если придет нужда, буду целиться по стволу он был изрядно потерт и блестел так, что и ночью будет виден. Гошу проинструктировал, чтобы, если начнется заваруха, стрелял из ракетницы сначала вверх, дабы осветить место, а после моего выстрела палил прямо в лоб нападающему. На ракетном пистолете ведь нет прицела. Через четверть часа мы уже были готовы к любой неожиданности, и я опять углубился в карту.
Внимание привлек ручей, впадающий в Веснину прямо напротив зимовья. На первый взгляд он был для нашей затеи бесперспективен: левый борт его долины, если смотреть от нас, представлял собою вертикальную девяностометровую скалу, подножье которой было, конечно, завалено огромными глыбами гнейсов. Но я и по нему ходил, хотя и недалеко, километра два, и даже попал на той скале в конфузную историю.
Полез на нее в погоне за кварцевой жилой, да забыл, что спускаться труднее, чем подниматься. И, когда не смог дотянуться ногой до нужного уступчика, увидел перед своим носом стебелек шиповника, невесть как выросший на голой скале. Подергал его. Вроде держится крепко. Тогда ухватил его всей ладонью и, не обращая внимания на дикую боль, повис на секунду на нем всем телом. Дальше было просто. Спустился к подножью на дрожащих ногах, кое-как вытащил из ладони застрявшие шипы, перекурил и пошел дальше.
Тогда же заметил, что ручей как бы вымощен плоскими плитами гнейса, а в правом борту долины ручья есть пологие лощины, тоже уложенные плитняком. Это воспоминание, кажется, давало шанс выбраться из западни, в которую мы влезли с легкой руки Корнева. Надо было поручить дяде Степе проверить эту идею, все равно он где-то в тайге бродит, но как он любит говорить, «хорошая мысля приходит опосля».
Ленька пришел, когда уже зашло солнце и начало смеркаться. Причем появился он не с востока, с верховьев речки, как надлежало, а с севера, с дороги, будто только пришел с прииска. Но мы с Гошей вроде не заметили этого несоответствия и почти радостно приветствовали его. Расспросили о рыбалке, она не удалась у него, принес пару самых мелких хариусов-беляков и сам сказал, что дома наловил бы больше. Мы объяснили свою ночевку, как договорились, что сразу оправдало и отсутствие дяди Степы, которое больше всего обеспокоило Леньку. Он был явно сильно раздражен, что можно было объяснить и неудачной рыбалкой. Мне он сказал:
— Был я на том ручье. Смотрел тропу. Она еще видна, похоже, по ней звери ходят. То ли сохатые (лоси), то ли медведи, то ли олени, но натоптана, как вначале было. Там слева от устья ручья кедра толстая стоит. На ней затес виден. Другой на елке подальше.
Понятно, что этот его рассказ должен был вдохновить меня на выбор именно того, согласованного с ним пути. Но я восторга не выразил, а просто согласился, что это хорошо, если тропа видна, — лишь бы на водораздел, «на гору» вывела. Это он гарантировал. Тем беседа и исчерпалась, если не считать его большого интереса к нашему «бастиону»:
— А это что такое?
— Место для ночлега. Тут будем спать с Гошей.
— Чего ж не в избе? Там места хватит…
— Знаю. Сколько раз ночевал. Но мы решили на воздухе, так нам привычнее и удобнее. На Немкиной нам избушки не поставили.
— А может, уже поставили, ты ж не знаешь, — съехидничал Ленька.
— Если поставили, поночуем и там, — глубокомысленно заметил Гоша. Ленька только хмыкнул в ответ. Он пошел в избушку, и скоро из трубы пошел дым — хозяин затопил печку и стал, видимо, готовить себе ужин. А мы с Гошей стали укладываться на ночь согласно принятой диспозиции: он справа, положив в изголовье свою ракетницу, а я слева, причем «тозовку» уложил сразу на спальный мешок-бруствер стволом в сторону избушки. Патрон с надрезанной пулей был дослан заблаговременно.
Внезапно дверь избушки отворилась, и оттуда выглянул Ленька. Он позвал меня, сказав, что мы что-то рано улеглись. Поколебавшись, я встал и пошел к нему. В избушке он предложил мне своей дрянной самогонки и сала, но я категорически отказался. Кто знает, чем сдобрена эта самогонка, да и вкус ее я еще чувствовал во рту. В зимовье было жарко и душно, и я с удовольствием покинул его, спросив на прощанье, как Ленька будет спать в такой духоте. Он сказал, что пар костей не ломит, и поблагодарил за оставленные нами раньше припасы — сухари, дефицитную тогда гречку, спички и махорку.
Ленька был в одной майке и в штанах, подпоясанных патронташем с висящим на нем ножом. Двое нар у печки были застелены толстым слоем сена, явно принесенного раньше. Я потрогал свой нож, который был не меньше Ленькиного. Он вынимался из ножен легко и свободно. Ленька заметил это движение, но никак не отреагировал. Пожелал спокойной ночи и все.
В нашем «бастионе» Гоша спокойно лежал на спине и созерцал густо высыпавшие звезды. Мне он сказал, что хотел уже идти и выручать меня. Как, он и сам не знал. Но полагал, что помощь мне может понадобиться. Он подвинулся, освобождая место на моем мешке. Я улегся на живот, еще раз проверив свою «тозовку». Гоше сказал, чтобы он постарался не спать, так как ночью можно ждать чего угодно. Он обещал, но уже через четверть часа начал посапывать мне в плечо.
Около полуночи я был вынужден толкнуть Гошу локтем, так как вдруг дверь избушки скрипнула и отворилась. Но из нее никто не вышел. Я довернул ствол, но, как и предполагал, мушки не увидел. Дверь оставалась открытой минут двадцать. Потом так же, вроде сама собой, закрылась. Гоша жарко зашептал:
— Что, если я сейчас пальну прямо в чердак? Пусть горит это гадское гнездо.
— Не вздумай. Провокации нам не нужны. Тогда у него будут все основания перебить нас, как рябчиков. И никто ему слова не скажет. Понятно?
— Понятно. Но уж больно нудно здесь лежать и ждать неизвестно чего.
В тишине и покое прошло еще полчаса. И тут я заметил на северо-западе странное свечение. Это было похоже на далекое зарево, но цвет его был удивительно чистый, малиновый, вскоре сменившийся бледно-зеленым, а потом розовым и фиолетовым. Позже я узнал от наших геофизиков, что в тот день на Новой Земле проводили испытание водородной бомбы, а тогда подумал, что это обычное северное сияние, как и объяснил вдруг ожившему Гоше. Светился весь северный горизонт, да так, что и мушка стала видна. И в этот момент вновь заскрипела и открылась дверь. И опять из нее никто не вышел. Правда, на сей раз я напрягся и взял дверь на прицел. Но напрасно. Через несколько минут она опять сама собой закрылась. Тревога опять была ложной.
Гоша явно разгулялся и не должен был заснуть, и я поручил ему дежурить, а сам решил поспать хоть немного. Сказал, чтобы разбудил меня, когда начнет светать. Он обещал исполнить сказанное, и я быстро задремал. Было ясно, что наш противник уже вряд ли предпримет что-либо ночью. Оставалось ждать утра и тогда брать инициативу в свои руки.
Разбудил меня он уже перед самым восходом солнца. Стоял густой туман, через который едва просматривалась избушка. Я уложил мальчишку, прикрыл его своим спальником от ужасной сырости и предложил спать, пока не придет дядя Степа. Долго уговаривать его, понятно, не пришлось.
Туман осел густой росой в девятом часу. Едва он рассеялся, из избушки вышел Ленька с ружьем. Прислонил его к стене и стал ходить вокруг избушки, что-то разглядывая на стенах и окрестных кустах. Рядом с нашим лежбищем курился небольшой костерок, разведенный уже утром Гошей, чтобы «сварить» чаю. Котелок с чаем стоял вплотную к костерку, а я сидел на «бруствере» с «тозовкой» в руках и наблюдал за эволюциями Леньки. Проходя мимо меня, он не мог не видеть, что «тозовка» заряжена, а курок взведен. Это видно именно по положению курка — он оттянут назад, а между ним и телом затвора зияет издали заметная щель.
Ленька походил, потрогал стекло в окошке, взял ружье, переломил его, заменил патроны и поставил ружье на место. Я в это время взял на прицел дятла, усевшегося на крышу, но стрелять, естественно, не стал. Это положение (Ленька возле ружья и я, прицелившийся в конек крыши) повторилось еще несколько раз. Наконец это ему, видимо, надоело, он подошел к нам и спросил:
— Так что теперь думаешь делать?
— Дождемся дядю Степу и пойдем потихоньку. Ты ж говоришь, тропа видна. — А ты?
— А я прямо домой. Пропади она, такая рыбалка. Не идет рыба и все. Разбрелись вы по всей тайге. Как теперь соберетесь и когда?
Дядя Степа как ждал этого вопроса. Он вынырнул из мокрых кустов со стороны крутого спуска в плаще с ружьем на плече стволом вниз, чтобы роса в него не попадала. За ним в связке шли лошади с неизменной Карькой впереди. Он подошел к куче седел, сум и спальных мешков, в которых спал Гоша, и спросил:
— Ну, как вы тут? Все спокойно, я вижу.
— Да, почти. А ты хорошо сделал, что наследил на дороге.
— Соображам помаленьку. А эти-то где?
— Кто эти? Тут один Ленька.
— Не один он. На дороге есть второй след поверх наших. Понятно?
— Куда понятнее. Наверно, и Гришка здесь. Только чего он прячется?
— А ты не понимать? Я уж думал не застать вас в живых.
Но шуму, стрельбы не было, и я пошел сюда. Выглянул из кустов, ты сидишь спокойно, Гошки не видать, я и решил подойти, а то хотел садиться верхом и драть, что духу есть.
Разговор шел вполголоса, но Гоша услышал, поднял голову и сел на спальнике. Я спросил:
— Ну, выспался?
— Еще бы минуток шестьсот, тогда в самый раз.
— Ладно, просыпайся и подымайся, сейчас дела пойдут побыстрее.
— Ну, ты чего ни-то надумал? — спросил дядя Степа.
— Вроде есть лазейка, только потребуется все твое умение. Сейчас Ленька уйдет — сказал, что домой собирается, тогда все расскажу и посоветуемся. Пока пей чай, Гоша заделал, когда дежурил перед утром.
Ленька вышел из избушки, засунул стоявшие с другой ее стороны удилища обратно на чердак, надел пустой вещмешок, вскинул на плечо ружье и подошел к нам.
Дядя Степа оставил кружку с чаем и взял в руки свою «ижевку», а я и не выпускал «тозовку». Ленька задал вполне логичный, но настороживший нас вопрос:
— Когда ж назад?
— Как договорились с Корневым и вами, через двенадцать дней. Спешить нам незачем и там долго сидеть не с руки.
— Тогда прощевайте пока. Ни пуха, ни пера! Хорошей дороги!
— Будь здоров и не кашляй! — это уже Гоша попрощался с хозяином зимовья, а мы с дядей Степой только покивали головами.
Оставшись одни, мы принялись совещаться. Я развернул карту и рассказал суть своей идеи:
— Заходим вот в этот ручей, поднимаемся прямо по руслу, там камни мелкие, потом по боковому распадку выходим на основной склон, берем азимут сто пятьдесят градусов и, что духу есть, вперед на Немкину.
Дядя Степа покивал головой:
— Хорошо придумал. А потом?
— Будем работать.
— Я не про то. Ты ж слыхал, про что он спрашивал. Как назад пойдем? Встретят ведь, гады. И уконтрапупят.
— Не выйдет, я и этот вариант продумал. Выходить будем по Немкиной и Кану на Енисей и по нему до базы. Нелегко и искупаться, возможно, придется, но зато обойдемся без таких встреч.
Дядя Степа опять покивал: верно, мол, придумал. Тогда я выдал последнюю заготовку, обдуманную ночью. В ручей пойдем не прямо, а пройдемся вверх по речке с полкилометра. Потом вернемся, но не по берегу, а прямо по воде, бродом. Затем таким же манером по ручью до первого удобного распадка, и по нему — наверх. Только Гоше придется посидеть в кустах на берегу и прикрыть нас на непредвиденный случай. Дядя Степа прокомментировал:
— Ну, ты прямо партизан. Все рассчитал. Давайте так и сделаем.
Завтрак мы дружно отменили, ограничившись чаем с хлебом, и занялись завьючиванием лошадей. Потом втроем сходили, выбрали место для Гошиного укрытия, договорились о сигналах, и мы с дядей Степой выступили, а Гоша спрятался в своей засаде. Но все предосторожности не понадобились. Очень скоро мы были уже в ручье, вызвали криком канюка Гошу и довольно быстро пошли по воде вверх. Здесь проблем не встретилось.
Они появились, когда надо было заходить в распадок: лошади начали проваливаться между плит, рискуя сломать ноги, но кое-как прошли, хотя дядя Степа сам провел каждую. Не прошло и часа с момента выхода, а мы уже сидели в кустах кислицы — красной смородины, знаменующей выход на ровный склон. Вокруг нас стояли белоствольные красавицы-березы в желто-зеленом наряде. В этом Ленька не соврал — чистейшее редколесье, действительно, хоть боком катись. Только прикатишься на Веснину к Леньке и его братцу в лапы.
Мы поднялись, я засек азимут и быстро зашагал. Следом шел дядя Степа с лошадьми в поводу. Замыкал шествие Гоша. Я понимал, что ему там невесело одному и, надо думать, страшновато после пережитого. Потому предложил ему взять «тозовку», но он отказался — охота была, мол, тащить лишний груз и бегать за каждым рябчиком. Я молча проглотил пилюлю, а он, похоже, даже не задумался, что брякнул.
В лесу был слышен только шелест листьев под легким ветерком. Я шел, задумавшись, насколько это возможно, когда держишь направление и считаешь шаги. Нам нужно было пройти восемнадцать километров. А через десять начнется склон к Немкиной. Вдруг из-под ног с треском и хлопаньем вылетели какие-то темные комки, в воздухе превратившиеся в довольно крупных птиц, часть которых улетела, а с полдесятка расселись на ближних березах. Дядя Степа, с ходу уткнувшийся в мою спину, прошептал:
— Копалята (птенцы глухаря). А стрелять нельзя.
— В том-то и дело. Даже из «тозовки». Пусть живут.
И мы пошли дальше. Наконец, мы достигли ровной поверхности. Подъем закончился. Здесь я объявил привал. Почувствовал, как сам устал, и увидел, что Гоша еле тянет ноги. Сказалась-таки бессонная ночь. Мы улеглись на траву и закурили. Только дядя Степа нашел неподалеку валежину и уселся на нее. наблюдая за отпущенными пощипать травку лошадьми. Вдруг где-то далеко на северо-востоке послышался выстрел, сразу пробудивший прежние опасения, если у кого они исчезли. Мгновенно оживившийся Гоша спросил:
— Как думаете, они?
— А то кто же. Кроме нас и их в тайге сейчас, насколько я знаю, никого нет.
Дядя Сгепа согласно покивал, не выпуская из зубов трубочку. Потом сказал:
— Значит, все-таки встречали. Думали, в тайге одна дорога — ихняя, а мы оказались умней, чем они думали. Ищите теперь ветра в поле. Хотя, если хорошо искать, след найти можно. Поглядите-ка назад.
Я посмотрел и увидел, что в высокой полуметровой траве ясно видна протоптанная нами дорожка. Да, с лошадьми, конечно, хорошо, но выдают они с головой. Ладно еще, что на заходе в ущелье ни одна не заржала. Привал пришлось сократить, подниматься и снова шагать в том же довольно высоком темпе. Примерно через километр ровная поверхность сменилась пологим спуском, а среди берез начали появляться группки елей, а иногда и кедров, о чем нас тут же уведомили своим пронзительным скрипучим криком кедровки.
Эта птица, размером и окраской напоминающая скворца, орет так, что хоть уши затыкай. Грачиный грай — ничто по сравнению с ее воплями, а по одной они летают редко. Как правило, небольшими стайками по пять-семь штук. Птица считается полезной, так как она сеет кедры: срывает шишки и прячет их в мох. Орешки высыпаются и прорастают.
По мере спуска к Немкиной пятна хвойной тайги становились все чаще и больше, и вскоре березняк сменился «черной тайгой». Поскольку наш след явно утеряли и пока не нашли, в наши интересы не входило, понятно, обнаруживать себя, поэтому мы решили встать на ночевку пораньше и ночевать без костра. Но приготовить еду нужно было, для чего мы спустились в первый же распадок и развели нормальный костер, а на нем приготовили борщ из банки с добавкой нескольких картофелин и традиционные макароны по-флотски, то есть котелок макарон с банкой говяжьей тушенки. За сим последовал полномасштабный чай с белым хлебом и сгущенкой для тех, кто хотел. Прямо говоря, для Гоши, так как ни я, ни дядя Степа ею не баловались.
Пообедав, мы немного полежали на теплом пригорке и прошли «еще километрик» к Немкиной. По карте до нее оставалось два километра, и выходить сразу на нее, посоветовавшись с дядей Степой, я не пожелал: на открытом месте издалека будешь виден.
Пройдя этот «километрик», мы опять зашли в распадок, выбрали место посуше и поставили палатку. Я сначала, было, возражал, но они меня убедили, причем даже дядя Степа считал появление незваных гостей маловероятным. Лошадей дядя Степа отвел в березняк и там привязал, оставив ботала (колокольчики на шеях) заткнутыми пучками травы, чтобы не звонили, пока пасутся. Тем не менее перед отходом ко сну он долго слушал тайгу. А до того спросил меня:
— Ты сказал им тогда, после ужина, куда точно пойдем?
— Нет, повозил карандашом, куда нам, примерно, надо, и все. Но они знают, что мы по всей речке работаем. Потому расслабляться не будем. Держи ушки топориком.
Ночь прошла спокойно, хотя спали мы, конечно, вполглаза. Кроме Гоши, который храпел во все носовые завертки, как оценил эту его «работу» дядя Степа. Он заметил, что Гоша, наверное, и на прииске всех побудил. Кроме того, мы слышали еще уханье филина да лепетанье воды в ручейке. А утром нас встретил туман, еще более густой, чем на Весниной. В тумане мы развели настоящий большой костер — скрываться в таком молоке смысла не было. В тумане, ежась от сырости, позавтракали. Дядя Степа сходил за лошадьми тоже в тумане. Но когда начали вьючить, туман вдруг как-то сразу осел, рассыпавшись на крупную росу, сверкавшую миллионами бриллиантов на ярком, искупавшемся в тумане солнце.
Мы вышли к речке, тоже блестевшей на солнце, как драгоценность, совершенно мокрыми, будто побывали под проливным дождем. По обоим берегам речки тянулись малахитовые полосы заливного луга, кое-где перемежавшиеся начинавшими желтеть кустами тальника. На перекатах там и сям всплескивали крупные хариусы. Над головами высились огромные кедры, украшенные зелеными коронами ветвей с многочисленными, хорошо видными сизо-коричневыми шишками, возле которых бесчинствовали кедровки. Крик стоял невообразимый. Время от времени раздавался разбойничий посвист бурундуков. После относительной тишины границы березового леса и живой тайги здесь просто бушевала жизнь.
Подойдя к речке, мы, конечно, остановились. Надо было «привязаться», то есть точно определить свое местонахождение по карте, спланировать дальнейшие действия, да и просто обсохнуть, наконец. Любуясь этим райским уголком, я, как будто он мною был создан, спросил:
— Ну как?
— Прекрасное место, — был дружный ответ.
Я довольно быстро нашел устье распадка, по которому мы пришли. Отметил эту точку на карте, и сразу стало ясно, что вверх по речке нам нужно будет идти целый день. Но, учитывая все предшествующее, решил не оставлять дядю Степу с лошадьми в этом райском месте, а идти всем. Поэтому приказал Гоше готовить инструменты, а дяде Степе — снять с вьюков промывочный лоток и лопату. Гоша же вытащил нож и сказал:
— Пойду удилища срежу. Видите, сколько здесь рыбы?
— Видим, видим, — отозвался дядя Степа. — Но не сучи ногами, успеешь ишшо. Нарыбачишься. Не за тем пришли. Сначала дело. Что дальше, начальник?
Я разъяснил свое решение. Тогда Гоша извлек свою ракетницу и попросил позволения нальнуть вверх на радостях. Я не разрешил, зачем обозначать себя, хотя вряд ли наши враги сюда за нами погонятся. В итоге мы ограничились тем, что разделись и развесили нашу «лопотину», как сказал дядя Степа, на кустах для просушки. А Гоша в одних трусах сбегал-таки и принес три длинных и прочных березовых хворостины на удилища, извлек откуда-то леску с искусственной мушкой на конце, привязал ее и тут же закинул на ближайшем перекате. Скоро он подошел к нам с парой почти килограммовых хариусов-черноспинников в руках.
— Вот так, а ты говоришь, не сучи ногами. Руками и головой работать надо. А вот там на косе сидит здоровенный глухарь, можно и мяска добыть к ужину.
Но я не соблазнился, и глухарь, надо думать, спокойно улетел. Мы его больше не видели.
Высушив «лопотину», мы оделись и пошли вверх по речке. К двум часам дня мы прошли по пойме, а местами и вброд, километров пятнадцать, далеко зайдя за то место, по которому я возил карандашом перед Ленькой. Можно было начинать работу. Я сделал описание долины, как наказывал Корнев, а Гоша промыл первую пробу. В шлихе преобладал ярко-красный гранат, довольно много было монацита медового цвета, но ни «нашего» ильменита, ни золота видно не было.
Взяв десяток проб, мы остановились на ночевку. Поскольку все опасения пока отошли, ночевка была нормальной. Наломали и настелили толстую подушку из лапок пихты, поставили палатку, разожгли большой костер. Подвесили над ним котелки с борщом и водой для чая и уселись рядом — кто с цигаркой-самокруткой, кто с трубочкой. Правда, Гоша опять убежал на перекат рыбачить и поймал полдесятка отборных хариусов, но мы отдельно их готовить не стали. Решили зажарить на палочках. Поужинали в полное свое удовольствие, потом долго и обстоятельно пили чай с добавкой какой-то травки, принесенной дядей Степой. За чаем и махорочкой опять всплыла приключившаяся с нами история, хотя и без оттенков тревоги. Обсуждали, зачем Лупинякам это все понадобилось. Дядя Степа был уверен, что причина в конях:
— Старик же сказал, что они без коней под зиму остались. Ни дров привезти, ни сена. И видели, как он вокруг наших коней во дворе ходил? Вот вам и вся причина. А на зимовье мы их заморочили, потому и ушли целые. Самое опасное было, когда мы утром собрались, — щелкай на выбор, но чего-то не решились. Видно, подумали, что сами к ним в лапы придем, а в походном караване мы растянутые, бей любого.
У меня было другое мнение:
— Кони, конечно, важны для них, но, думаю, не в одних конях дело. Для них главная ценность — наше снаряжение и карты. Дал такую кучу этого добра Корнев на нашу беду. Небось, видели, как Ленька облизывался на них за столом. Тут же на половину Красноярского края карт: Большемуртинский, Сухобузимский и Тасеевский районы. А вы слышали, что они давно промышляют скотом: идут тихо в Тасеевский район на Мурму, угоняют коров или лошадей, а потом здесь продают живьем или забивают. Затем им и карты надо, чтобы не наугад ходить, а в точно намеченные места. На картах не только деревни, но все избушки по Мурме отмечены.
Спор разрешил Гоша:
— Чего вы шумите? Кони… Карты… Если б они нас там порешили, у них были бы и кони, и карты, и спальные мешки с седлами. Нас, конечно, начали бы искать, но Корнев кого бы взял в проводники? Догадываетесь? Они б помогли нас найти… Эх, вы, старые. Соображать надо.
Мне тогда было двадцать три года, но возражать мальчишке я не стал: в его глазах я, конечно же, был стариком, не намного отстававшим от дяди Степы. Покончив с нашим спором, мальчишка принялся за свое любимое занятие — дразнить дядю Степу:
— А ты еще жениться собрался… Так и ходишь по бабам со своими гарнитурами?
— Какое твое собачье дело, куда и зачем я хожу? Я ж не спрашиваю, сколько ты таскинских девок перепортил.
У обоих были поводы для таких упреков. Дядя Степа действительно на старости лет хотел обустроить жизнь по-человечески. Он приобрел два дамских бельевых гарнитура и «дарил» их своим временным избранницам. Надеть их ни одна не решилась, поэтому, рассорившись с очередной кандидаткой в супруги, он забирал пакет со своим «подарком» и нес его следующей. Так он обошел всех вдовушек и одиноких женщин от тридцати лет и старше в деревне Таскиной, что на Енисее напротив нашей базы, и в селе Юксеево, о котором я уже говорил. Гоша тоже был ловкач по женской части и в самом деле, оказавшись на базе, организовывал поездки в Таскину на танцы, и там уж держитесь, деревенские девчата. Впрочем, его симпатичная белокурая рожица действовала на девчонок неотразимо, а хорошо подвешенный язык способствовал успеху, и не только у юных красавиц. Случалось ему и удирать от разъяренных мужей. Эти их подвиги были известны всей партии. Борис Лапшин даже пытался урезонивать того и другого. Но не преуспел.
Переночевали мы отлично. И весь следующий день работали не за страх, а за совесть. Отобрали пятнадцать проб и далеко ушли ниже того места, где вышли на Немкину. Это был задел для того, чтобы пораньше закончить работу и целыми уйти на базу, к чему все, естественно, стремились. Так прошла неделя. По вечерам, пока было светло, я в лупу разглядывал намытые шлихи, а спутники мои то весело, то довольно злобно пикировались все на ту же женскую тему. Разнообразие вносила только рыбалка, которой все занимались с успехом и удовольствием. Ровно через неделю после выхода на Немкину мы приблизились к ее устью, и я предложил сделать дневку, хорошенько порыбачить, подкормить лошадей, а потом марш-марш по Кану на Енисей и домой. Оба согласились — и сами изрядно вымотались, и лошади спали с тела.
В этот последний день на Немкиной мы с Гошей взяли оставшиеся три пробы, увидели, что вода в Кане быстро поднимается, подпирая и делая тоже полноводной Немкину, и торопливо вернулись в лагерь.
Пока мы ходили, дядя Степа наловил почти ведро хариусов и два ленка — эта рыба, очень похожая на форель, водится в тех же горных речках, что и хариусы, и не менее вкусна, но к нашему среднерусскому линю не имеет ни малейшего отношения.
Мы с Гошей тоже вооружились удочками и, хотя в этот день клев был плохой, до вечера натаскали еще ведро рыбы. Ее решили доставить на базу, а потому засолили в клеенчатом мешке, нашедшемся у запасливого дяди Степы. Возвращаясь от Кана, я обратил внимание на очень крутой склон долины Немкиной, по которому нам завтра предстояло идти с лошадьми, и решил, что лучше будет идти верхом, горой, на которой хвойная тайга опять сменилась березняком. Сказано ведь Козьмой Прутковым: «Не ходи по косогору, сапоги стопчешь». Вернувшись в лагерь, мы пересмотрели свое имущество, выкинули все, что сочли лишним, и упаковали в брезентовый мешок пробы, которых набралось около тридцати килограммов. Дядя Степа, приподняв мешок, фыркнул и сказал:
— Ну, это нашему главному лодырю, Бродяге.
Спорить с ним не стал даже Бродяга, стоявший рядом мордой в костер, — спасался от озверевшей в тот день мошки. Но в долгу он не остался, сильно хлестнул хвостом, достав до лица дяди Степы. За что тут же был наказан — отогнан от костра на съедение насекомым.
Мы сварили и съели последний на Немкиной ужин, в свое удовольствие почаевничали и забрались в палатку еще засветло. А перед тем дядя Степа глубокомысленно промолвил:
— Так, мужики, погода ломается: мошка ошалела, в гнилом углу (на юго-западе) какая-то муть появилась, бурундуки курлычут, а не свистят, да и ноги мои подсказывают — доставайте плащи, кончается бабье лето, хорошо, хоть закончить работу дало. Вон канюки все пить просят. Выпросят, поди, к утру.
Всю ночь мы слушали звон ботал — кони далеко от лагеря не отходили, то и дело цепляясь ногами за растяжки палатки. Дядя Степа несколько раз ночью вставал и отгонял их от лагеря.
Утро было серым и грустным по ощущениям. Видимо, сказывались треволнения начала маршрута и то, что закончилась так долго ожидаемая работа. Мы быстро позавтракали, уложили свое добро и завьючили лошадей. Посидели, как положено, перед дорогой, встали, попрощались с Немкиной, оказавшейся доброй к нам, и пошли на гору. Выйдя на нагорную террасу, я достал карту и прикинул дальнейший путь. Выходило, что нам надо пройти около двух километров строго на запад, затем — довольно крутой спуск к Кану и дальше по рыбачьей тропе километров тридцать до Енисея.
Все было предельно просто и ясно, кроме неба, где облака все сгущались и опускались ниже и ниже. Начал накрапывать дождь. Мы надели приготовленные по совету дяди Степы плащи и пошагали к Кану. Разглядывая карту, я заметил, что терраса, по которой мы должны были идти, перед самым спуском заканчивается цепочкой из трех небольших сопочек. Так, пупырышки высотой не более десяти-пятнадцати метров почти правильной конической формы.
Дождь все усиливался, и я был вынужден спрятать карту в сумку, а компас в карман. Наконец, мы достигли первой сопочки, которая оказалась именно такой, какой я ее представил по карте. Мы вышли на ее вершину, но она оказалась неудобной для ходьбы, так как сильно заросла цеплявшимся за плащи и лошадиные ноги таволожником, усыпанным синими ягодами. Пришлось спуститься немного на склон этой сопочки. И дальше идти по склону хребтика, к которому они все относились, так как наверху были сплошные заросли таволги, да еще с примесью шиповника. Из-за них мы постепенно спускались все ниже по склону. Я посмотрел на часы под мокрым рукавом плаща. С того момента, когда мы двинулись по горе, прошел уже час, давно надо было подходить к Кану, а мы все еще тащились поверху. Дальнейшее без стыда до сих пор не могу вспоминать. Я мнил себя опытным таежником, а тут… Вытащил из кармана компас, на который уже давно не смотрел, поскольку считал, что хребтик с сопочками сам приведет, куда надо. И, о ужас, стрелка указывала не на двести семьдесят градусов, как должна была, если бы мы шли на запад, а на сорок. То есть на северо-восток.
Первая мысль была, что здесь сильная магнитная аномалия, но ее пришлось сразу отбросить. Никаких признаков присутствия больших масс минералов железа в виденных мною породах у устья Немкиной не было. Значит, сам заплутал. Как мог, плавно повернул на нужный азимут, но мои заметили, и Гоша с хвоста каравана заорал:
— Куда это ты?
Дядя Степа мудро промолчал, похоже, он понял, что случилось. Через несколько минут движения по новому курсу Гоша опять подал голос:
— А тут кто-то недавно с лошадьми проходил. Натоптано-о!
— Замолчи, дурак! — откликнулся дядя Степа, он, действительно, все понял.
— Что, опять Лупиняки? — не успокаивался Гоша.
Пришлось мне вносить ясность:
— Это наши следы!
Так оно и было. Спускаясь все ниже по склону, мы кружили вокруг второй сопочки, пока я не глянул на компас.
Через четверть часа перед нами открылся безлесный крутой склон, а за ним — синевато-серая лента полноводного Кана, который здесь имеет ширину больше двухсот метров. Как по команде прекратился дождь, который и ввел меня в этот позор. Солнце, правда, не выглянуло, но плащи мы все же сбросили и накинули на вьюки для просушки. Без особых проблем зигзагами спустились к реке и пошли вдоль нее по довольно торной рыбацкой тропе. Впрочем, она, похоже, была не только рыбацкой: судя по тому, как она избегала лесистых берегов и норовила идти по галечным косам, сейчас частично покрытым высокой водой, ею пользовались для проводки вверх по Кану паузков (мелких барж) и крупных лодок-илимок на конной тяге. Но нам это было только кстати.
На Енисей мы вышли уже затемно. На устье Кана не было ни души. Только на противоположном левом его берегу виднелась рыбацкая избушка, очень похожая на лупиняковскую на Весниной. Сруб, крыша из желобника, навес — и все. И никого рядом с ней. Лодок тоже не видно. Мы кое-как поставили палатку, закусили разогретой тушенкой, дядя Степа дал лошадям овса, попили чаю, согретого на костре из прибрежного хвороста (за настоящими дровами идти было темно), и улеглись.
Гоша вдруг вспомнил:
— Где там наши Лупиняки, что делают?
— Не поминай черта к ночи, — отозвался дядя Степа.
— А что, задали мы им задачу. Небось до сих пор гадают, куда мы делись.
— Не такие они дураки, в первый же день разобрались. До сих пор не пойму, почему они за нами не погнались. Такие варнаки, а нас отпустили…
Переночевали мы нормально, а утром обнаружили, что бабье лето вернулось. Солнце играло на всей километровой ширине Енисея, по которому шли белые теплоходы и караваны барж. По песчаному берегу бегали кулички-сороки, сверкая белыми манишками при черных фраках, и оглушительно пищали. Прибрежные кусты тальника шуршали под легкими порывами верховки. От проходящих судов на песок набегали крутые волны и смывали наши следы.
После плотного и сытного завтрака, компенсировавшего вчерашний недоужин, случившийся из-за усталости и темноты, мы бодро двинулись по луговой дороге, невесть кем проложенной по правому берегу Енисея в нужном нам направлении. Что дорога луговая, видно было по остаткам сена на месте нашей ночевки, где его, видимо, грузили на лодки.
Идти было легко и даже весело: светило солнце, было тепло, воздух чист, все страхи и опасения остались позади, а впереди — несколько десятков километров и дом. То есть, конечно, просто полевая база, но для нас она и была теплым и родным домом.
Правда, надо было еще форсировать три или четыре притока Енисея, а он тоже был высок и, наверняка, сильно подпирал эти речки, включая знакомую уже Веснину, но бояться авансом не стоило. Пятнадцать километров до устья Весниной мы прошли за какие-то два часа. Только в одном месте потеряли было дорогу, свернувшую на скошенный участок, где еще стояли не увезенные стога. Но быстро нашли нужное слабо наторенное продолжение и дальше шли без приключений.
Наконец, ряд густых кустов поперек нашего пути известил, что мы подошли к Весниной, на другом берегу которой возвышался ярко окрашенный суриком и белилами домик бакенщика, хорошо знакомый мне по прежнему маршруту. И сам хозяин стоял рядом и смотрел в нашу сторону. Он окликнул нас и побежал показать брод через речку, выглядевшую довольно глубокой и суровой. Мы взгромоздились на лошадей поверх вьюков и через пару минут стояли рядом с бакенщиком, который был откровенно рад нашему появлению.
Этого тридцатилетнего чернобородого крепыша по имени Эдик мы с Гошей хорошо запомнили со времени первой встречи, когда мы пришли к нему после того, как «сделали» Веснину. обессиленные, измученные и полуголодные, так как из продуктов у нас оставалась приевшаяся импортная тушенка, сгущенка да вермишель. Он оказался настолько гостеприимным и радушным хозяином, что даже меня, видевшего в Сибири всякое, удивил и очаровал. Накормил великолепной стерляжьей ухой, жареной дикой уткой с отменным домашним хлебом, укропчиком и петрушкой.
Да и в лодку, а мы были с «резинкой», положил узелок с какими-то яствами. Тогда с ним здесь были жена и две прелестных дочки пяти и трех лет. Они от него почти не отходили. Не знаю, как он плавал на своей моторке ухаживать за бакенами и створами. Мы тогда попытались отдариться остатками своих консервов, особенно надеясь на сгущенку: девочкам она очень понравилась, но, конечно, наш дар не шел ни в какое сравнение с его угощением.
Эдик повел нас к дому, приговаривая:
— Ну вот, а говорили, не увидимся… Известно же, гора с горой… И пришли все-таки. Я так рад.
На площадке перед домом, где в прошлый раз играли девочки, было пусто, только валялись старая куколка и игрушечная лопатка. Я не утерпел:
— А где твое семейство? То было полно, а то пусто.
— Жена к своей матери поехала в Ачинск.
— Жаль, жаль. Слушай, Эдик, прошлый раз, когда знакомились, я не спросил тебя — ты местный, красноярский, или приезжий откуда?
— Как говорят украинцы, тутэшний. Коренной чалдон. Прадеды были с Чалки и Дона. Так у нас говорят. А что?
— Да ничего. Тоскливо, наверное, одному тут куковать?
— Чего ж веселого. Всей радости — приемник в доме, да когда кто-нибудь забредет, вот, как вы. Ну, иногда наша обстановочная бригада заедет, привезут новые бакены или батареи к ним. А то сам на рыбалку съезжу. Вот и все радости.
Мы развьючили коней и пустили их на лужайку за крошечным ухоженным огородиком позади дома. Сами зашли внутрь его. В сенях лежали фонари для бакенов, висели сети и пара самоловов. Дядя Степа, едва не разбивший лоб о низкую притолоку, указал на них:
— Браконьеришь помаленьку?
— А куда без этого. Все, что нам, бакенщикам, осталось. Даже рыбнадзор видит и не придирается. Только торговать не дают. Иногда какой теплоход станет да пришлет капитан матросов за красной рыбкой, вот и весь доход с этого дела.
Эдик принес глиняный кувшин с хлебным квасом, извинился и вышел. Вскоре мы услышали стук топора. Еще через какое-то время Эдик вернулся, включил батарейный приемник «Родина», стоявший на тумбочке в изголовье семейной кровати, и сказал:
— Вы в тайге, небось, отвыкли от цивилизации, так хоть у меня послушайте, что в мире творится, да скоро концерт по заявкам будет — музыкой развлекитесь. А у меня еще дела хозяйственные есть. Скоро приду.
И опять ушел. На сей раз он отсутствовал минут сорок, а когда пришел, объявил:
— Через часок баня будет готова. Она у меня крошечная, но нам с моими хватает. Да и вы, думаю, не подеретесь, а после тайги да мошки она вам не помешает.
Это была сама правда. Мошка, как ни мало мы обращали на нее внимания, изрядно наела нам запястья и лодыжки в сапогах, словом, везде, где одежда туго прилегала к телу. Такой уж нрав у этих мушек размером с булавочную головку с белыми кончиками лапок — в белых тапках, как шутила наша братия. А спасает от вырванных ею кусочков кожи и расчесов только добрая парная баня. Поэтому предложение Эдика было просто царским подарком.
Мы шумно поблагодарили щедрого хозяина и начали рыться в своих рюкзаках в поисках чистого белья и мыла. Я хотел было послать Гошу за вениками, но Эдик предупредил мое намерение:
— Насчет веников и вехоток (мочалок) не хлопочите — все есть. Да и мыло свежее тоже. Наши обстановщики третьего дня привезли. Как раз «Банное».
Отказываться от такого приглашения мы не стали, хотя дядя Степа и строил какие-то гримасы. Но уж очень соблазнительно было побаниться после всего пережитого. Не через часок, а спустя полтора, мы торжественно вступили в почти примыкавшую к дому действительно крошечную баньку, в которой, тем не менее, все было настоящим: полок на одного человека, лавки вдоль стен, печка с каменкой и котлом-полубочкой.
Сначала мы все трое уселись на нижний полок, приступочку, посидели немного, потом опять же втроем переместились на верхний, уже собственно полок. Там прогрелись до первого пота, и только затем началось главное действо: дядя Стена улегся во всю свою немалую длину, так, что ноги торчали над котлом, а мы с Гошей принялись охаживать его в два веника. А он все просил:
— Ишшо чуток. Да плесните на каменку хоть ложечку кипяточку.
Мы плескали. И скоро в бане стало нечем дышать. Мы с Гошей уже задыхались, а дяде Степе все было мало. Я сначала недоумевал, как так быстро Эдик натопил баню, потом понял, что она была прогрета с вечера: или он еще кого-то принимал вчера, или себе доставил удовольствие.
Дядя Степа наконец насытился, сошел с полка и вылетел на двор одним своим шагом. Мы выскочили в предбанник подышать и увидели, как он с разбегу плюхнулся в Енисей. Обожженный холодной водой, он рысью взлетел на обрыв и юркнул в баню.
Теперь настала моя очередь. Я тоже был исхлестан двумя вениками и повторил нырок дяди Степы, только, вынырнув, еще проплыл метров пять. Тут подошел Эдик и спросил:
— Ну как, нравится?
Ответом ему был дружный благодарно-торжествующий вой. Все то же мы проделали с Гошей, а потом, хорошенько надраившись Эдиковыми «вехотками» и обдавшись холодной водой, радостные и блаженно улыбающиеся, зашли в дом, откуда доносилось благоухание настоящей стерляжьей ухи и слышалось шкворчание масла на сковородке.
Оказалось, что Эдик времени зря не терял и, пока мы блаженствовали в бане, растопил плиту и приготовил стерлядь «жареную, пареную и так, кусками». Все эти прелести стояли на столе, около большой миски с ухой лежали некрашеные деревянные ложки.
Эдик поднял одну:
— Своей работы. Яблоневую баклушу друг с Украины привез, а я выстрогал. Все ладом, гости дорогие, только вот гм-гм у меня нету, — он щелкнул ногтем по горлу, — Придется кваском ограничиться.
Я ответил:
— Не придется, — и пошел к своему рюкзаку, лежавшему в углу. — Нам было сказано, на случай дождя или купанья. Дождь был? Был. Купанье только что состоялось. Можем мы ее распечатать?
Дружный рев «Мо-жем!» был ответом. И бутылка «питьевого спирта» заняла свое почетное место. Через час из домика бакенщика разносилось, может быть, не очень стройное, но зато старательное пение, в основном, сибирских песен: «Глухой неведомой тайгою», «Где же ты теперь, моя девчонка» и, конечно, «Ермак». Ближе к вечеру мы вспомнили, что путь предстоит еще немалый и не такой уж простой. Великодушный хозяин предложил отвезти нас на своей моторке, но лошадей в нее не погрузишь, а оставлять дядю Степу мы, понятно, не пожелали. И предложение было с благодарностью отклонено. В разговорах выяснилось, что Эдик происходит из старинного села Галанина, где его отец был лоцманом на Казачинском пороге, то есть Эдик — потомственный речник в третьем поколении с учетом бурлачившего там же деда.
Напевшись (и изрядно напившись), мы расстелили спальники, дождались дядю Степу, ходившего посмотреть коней, послушали приемник и заснули сном праведников — ведь здесь нам уже совсем ничего не угрожало. Вводить в курс наших приключений Эдика мы не стали, но в разговоре имя Лупиняков всплыло, и Эдик, знавший их понаслышке, подтвердил ранее дошедшие до нас слухи, что они промышляют конокрадством в отделенных от Енисея горами и ненаселенной тайгой деревнях Тасеевского района; перегоняют украденных лошадей часто на устье Кана и сбывают их в левобережные приенисейские деревни. Услышав это, дядя Степа прокомментировал:
— Одно слово — варнаки.
— Таких тут немало, — заметил Эдик и рассказал, что до революции в этих местах бытовал промысел — «охота на горбунчиков», когда целыми деревнями мужики глубокой осенью шли в тайгу, перехватывали возвращавшихся с Северо-Енисейских приисков старателей, убивали их и завладевали золотом и всем, что у тех при себе было. А «горбунчики» потому, что у каждого котомка за плечами.
Утром мы встали, как обычно, в шесть, напились чаю и зашагали дальше. Нам надо было еще пересечь Кузееву да еще одну речку, вытекавшую из енисейской старицы. Последняя для нас была особенно неприятна, так как по весне при переезде через нее погиб бывший завхоз партии. Врачи потом сказали, что просто с ним случился инфаркт.
А Эдик предупредил, чтобы мы при переправах были особенно осторожны, так как Енисей за последние дни поднялся на метр с лишним и, конечно, соответственно подпер притоки, но это мы и сами видели. Пятнадцать километров до «печальной» речки мы прошли за каких-то два часа с небольшим. Очень нам не хотелось лезть в нее, но куда денешься — другого пути нет.
Дядя Степа решил переправлять всех верхом на его Карьке, оставив на ней только самую легкую поклажу. Первым переезжал он сам. И я видел, насколько неохотно. Карька тоже против обыкновения было заартачилась, но он прикрикнул и стегнул ее лозовым прутом. Тогда Карька просто прыгнула в воду, и наш Дон Кихот, подобрав колени к подбородку, не то переехал (воды лошади было до середины боков), не то переплыл на ней на другой берег десятиметровой речки. Потом была очередь Гоши.
Он перебрался с гиканьем, как настоящий казак. А ко мне Карька не захотела идти, и мои «свяшшики» объединенными усилиями загнали ее в речку, а я еле поймал непокорную, взвалился на седло и так, полусидя-полулежа, держась за крючья, переправился.
Дальше все было проще. Кузееву дорога пересекала повыше (и подальше от Енисея) по мелкому перекату. А оттуда до базы всего двенадцать верст. Нас никто не встречал, да и ждали нас еще через три дня.
Я доложил начальству обо всем происшедшем. Лапшин горько покачал головой:
— Этого нужно было ждать. Вот тебе и проводники. Молодцы, ребята, что выпутались и работу сделали.
Корнев недоверчиво усмехнулся:
— Ну, прямо Угрюм-река какая-то. А вам это все не приснилось?
— Какой там сон. Спросите дядю Степу, он первый и встревожился. Даже хотел домой возвращаться. Ночевал в тайге.
Но Лапшин не разделил скепсиса Корнева, который не мог не понимать, во что он нас втравил, и сказал:
— Ладно, разберемся. А вы три дня отдыхайте. Завтра Игорь баню обещает, сходите.
— Не надо, мы по дороге баню нашли.
— Где ж это? Ну, умельцы.
Я рассказал об Эдике и нашем у него гостеванье, не умолчал и о характеристике, выданной им Лупинякам.
Спустя три дня нас отправили в новый маршрут, уже на север на речку Посольную, и на какое-то время немкинская история позабылась. Но, когда вернулись с Посольной, нам рассказали, что приходил с Кузеевского дед Расеев, как уж он дошел, не представляю, и сообщил, что за день до срока нашего выхода с Немкиной в тайгу уходили все три брата Лупиняка. Вернулись через три дня злые и пустые (без добычи), а ходили вроде на медведя, задравшего их лошадей.
Некоторая ясность наступила в конце октября, когда на базу приехал в санях на новом своем коне сам Ленька Лупиняк. Испуга и тревоги он не выказал. Но, когда его пригласил к себе Борис Лапшин, он долго упирался и только, увидев в приотворенную дверь на столе бутылку водки и закуску, сменил гнев на милость.
На лобовой вопрос Бориса о том, что же произошло тогда у зимовья на Весниной, он ответил так:
— Больно они у тебя хитрые, только когда он (то есть я) думал, что меня под прицелом держит, сам он на мушке у Женьки сидел. А больше я ничего не скажу, хоть и перед прокурором. Дела тут не сошьешь, и отвали ты, начальник, от меня.
Тем и закончился маршрут на Немкину.
Тайга и медведи
Тема эта избитейшая. Кто не знает, что в тайге живут медведи и что эти милейшие (в цирке) звери на воле совсем не так добродушны. Не буду изображать Тартарена из Тараскона и хвастать воображаемыми победами. Мне довелось убить всего одного медведя, да и того, если правду сказать, добить после того, как ему пулей из карабина перебили позвоночник.
Но встречаться с ними доводилось. И довольно часто, хотя и не по собственной инициативе. И, конечно, довелось выслушать тысячи всяческих жутких историй и баек, героями которых были косолапые.
Запомнилась первая встреча, когда я, как и другие ее участники, медведя и не видел: просто он спустил на наш лагерь рано утром, когда почти все еще спали, камешек в полметра диаметром со скального уступа. Что произошло, понял только один парень, местный охотник. Он сразу же выскочил из палатки, обругал скалу последними словами, а потом еще выпалил по вершине ее из одностволки. Топтыгин, по-видимому, намек понял и удалился — на нас больше ничего со скал не летело. Там же мы услышали какое-то громкое дребезжание в тайге поодаль. С ружьями наизготовку пошли посмотреть, кто шумит. И обнаружили, точнее, по следам разобрались, что это опять Михайло Иваныч. Он музыкой, знаете ли, занялся: нашел сломанную и расщепленную на изломе елку и начал дергать отщеп когтями. Отщеп дребезжит, а Михайло эстетически наслаждается. Что все было именно так, нам подтвердил тот же охотник, который эти медвежьи игры наблюдал неоднократно.
Этого «сняли» с дерева
Однако далеко не всегда эти игры столь невинны. В 1967 году на северо-енисейском прииске Вангаш в начале рабочего дня таинственно исчезла пекариха приисковой пекарни. Ранним утром она вместе с мужем-бульдозеристом вышла из дома и направилась в пекарню, стоявшую на окраине поселка, чтобы к открытию магазина испечь свежий хлеб. Однако, когда магазин открылся, хлеба в нем не было. Она не привезла его на ручной тележке, как обычно. Покупательницы отправились в пекарню поторопить ее. Но пекарня была закрыта на замок снаружи.
Сбегали к ней домой, потом к мужу на дражный полигон. Тот сказал, что она давно на работе. Кто-то заглянул в окно пекарни и разглядел квашню, из которой потоком вылезало тесто.
Стало ясно, что в пекарню она не заходила. Начали искать вокруг пекарни и нашли ее нижнюю половину, заваленную ветками и всяким мусором, в ближайших кустах.
Все стало ясно. Тогда со всего поселка собрали охотников со зверовыми собаками и стали искать преступника. Не больше, чем через полчаса его нашли неподалеку от места преступления и тут же расстреляли, причем шкура была похожа на дуршлаг. Позже выяснилось, что этот людоед пришлый и больной. За месяц до того над прииском стоял дым — горела тайга на востоке края и в Якутии. Спасаясь от пожара, двинулись на запад многие звери, и этот в их числе. Пока брел, истощал и почти облез. Убил женщину и сам недолго прожил.
На Вангаше и окрестных приисках запретили женщинам ходить поодиночке и, тем более, посещать тайгу для сбора ягод и грибов. Мужчин обязали носить с собой оружие, а если у кого нет, ходить вместе с вооруженными. Но больше ЧП подобного рода в том году не было.
Почти забавная история произошла тогда же с нашими коллегами из соседней партии. Они приехали к нам на прииск в баню. Помылись, снарядились необходимым для «после бани» и поехали на свое любимое место отдыха.
Там поставили палатки и заснули, оставив на жердевом столе какое-то варево. Ночью один из них проснулся и хотел вылезти наружу по нужде. Поднял полу палатки, а за столом кто-то мисками гремит. Пригляделся — медведь. Он вытащил из-под своего спального мешка малокалиберку, или, как говорят в Сибири, «тозовку», дослал в ствол патрон с надрезанной пулей и выпалил в нахала. А про нужду забыл.
Утром с похмелья он рассказал эту историю своим друзьям по палаткам, но никто ему не поверил. Только долго советовали пощупать, насколько промок мешок. Тут кто-то все же вылез из палатки, смотрит — а под столом лежит медведь.
Лежит и моргает глазами. Наш боец влепил ему спьяну точно в позвоночник. Тогда стали обсуждать, что было бы, если бы рана была полегче. Сошлись на том, что в таком случае медведю надолго хватило бы съестных припасов.
А теперь «мой» случай. Дело было поздней осенью на реке Большой Пит. Мы что-то затянули со сдачей лошадей в колхоз. Кажется, просто хотели откормить малость, чтобы не придирались. Поэтому оставили их на время на правом берегу реки в долине ручья, где было много полян со свежей еще травой. С полян они никуда не уходили, да и уходить было некуда: кругом скалистые горы. Но как-то надзиравшие за ними «каюры», а проще говоря, конюхи, вернулись из той долинки и сообщили, что, судя по следам, лошадками здорово заинтересовался живущий там медведь. И, похоже, тоже ждет, когда они подкормятся. Уж очень тщательно пасет их. Чем кончается такой «выпас», нам объяснять не надо было, и мы решили устроить облаву.
Утром все, у кого были какие-то стволы, сели в моторку, захватив с собой собак, и переехали на правый берег. Решил идти и я со своим наганом. Бил он у меня просто здорово — даже рябчикам головки отшибал. По тушке стрелять проку мало — остается только пучок окровавленных перьев. Вот я и приспособился. На ручье бросили жребий, кому где идти: кому по дороге вдоль ручья, кому по склону. Я из-за несерьезности оружия участия в жеребьевке не принимал и заявил, что пойду с Левой Мацкевичем, у которого был отличный немецкий трофейный карабин, а кроме того, еще лучший пес Уран. А вот выбор мой поначалу оказался невыигрышным: Леве выпала верхняя бровка склона, а Уран был пущен на поиски зверя вместе с другими собаками. Самый удачный номер достался Борису Скороделову — ручей и дорога. Там чаще всего видели следы зверя и его самого. Там и лошади паслись. Договорились стрелять только по видимому медведю и только наверняка. Все заняли свои места, и Лева, как главный охотник, убивший за этот сезон уже четырех медведей, подал свистом сигнал к началу облавы.
Мы с ним шли, тихонько переговариваясь и внимательно вглядываясь в чащу леса. Вдруг внизу, у небольшой, хорошо видимой нам сверху полянки, бахнул ружейный выстрел. Как потом выяснилось, Борис чуть не наступил на залегшего под елкой медведя. Тот рванул удирать от Бориса, который в азарте пальнул в зверя через куст, не прицелившись, как следовало, и попал ему в подошву задней лапы.
Остальное мы уже хорошо видели. На выстрел тут же примчались собаки. Зверь выскочил на поляну, собаки облепили его и начали рвать. Медведь стряхнул их и стал махать лапами. Одной, судя по визгу, крепко попало. И тут в дело вступил Уран. Он подбежал к медведю сзади и схватил его зубами за окорок («взял за штаны»). Но тот тоже был не промах и, изловчившись, лапой выгреб Урана из-за спины и навалился на него всей тушей. Лева прошептал:
— Все, пропал Уран…
Он дослал патрон, встал на колено и прицелился. До медведя было метров триста. Грохнул выстрел. Медведь свалился на бок. Уран, как ни в чем не бывало, выскочил из-под медведя и еще раз вцепился в него. То же сделали и остальные целые собаки. Лева проговорил:
— Ну, слава Богу, цел. Пошли туда.
Когда мы подошли, в сборе были все участники облавы. Собаки с лаем и рычанием рвали с медведя клочья шерсти, а он лежал неподвижно и только моргал. Лева поставил диагноз:
— Перебит позвоночник. Я специально брал выше, чтоб не задеть Урана. Добей зверя.
Я вытащил из кобуры наган, приставил его к уху медведя и нажал спуск. Дело было кончено, но нужно было осмотреть собак и доставить тушу на левый берег. А там уж заботиться о шкуре и приготовлении «свежины».
Урану все же досталось: на его правом боку были четыре глубокие борозды от медвежьих когтей, а первой пострадавшей собаке зверь сломал лапу. Мы перевязали Урана заранее приготовленным индпакетом, ребята вырубили прочную жердь, связали медведю лапы и вчетвером понесли его на берег. Весил он под сто килограммов. Но мяса его попробовать не удалось: когда сняли шкуру, обнаружилось, что под ней все брюхо изъедено какими-то червями. Поэтому и шкуру, и мясо закопали.
Художник
Эта история началась, как положено, с телефонного звонка. Звонил начальник отдела кадров:
— Тебе люди нужны еще? Или уже укомплектовался?
— Да нет, еще пару маршрутных рабочих возьму.
— Ну, пары нет, а одного могу назначить. Давай, иди сюда, тут и разберемся.
Я не спеша вышел из камерального помещения. День был яркий, солнечный.
Над всей Восточной Сибирью бушевала немного припозднившаяся весна. Березки у камералки и над обрывом к Ангаре, сверкавшей, как сапфир, в белой оправе из ледяных нагромождений у берегов, покрылись липкими листочками. Дышать было легко, и я быстро прошел сто метров до конторы.
У барьера стоял рыжеватый парень лет двадцати пяти. У ног его лежал зеленый «абалаковский» альпинистский рюкзак и стоял странный деревянный ящичек с приделанными на шарнирах раздвижными ножками. «Этюдник» — вспомнил я и внимательнее посмотрел на парня. Внешне крепкий и здоровый, хотя роста невеликого. Ну, у меня все подстать начальнику, не баскетболисты. И этот, пожалуй, сойдет. Но чем дышит, прощупать надо.
Кадровик представил:
— Вот, Долгополов Владимир. Художник. Аж из самой Москвы. Хочет тайги понюхать.
— Ну, нюхать можно и здесь — тайга кругом, да и в Москве на Лосином Острове тем же пахнет: листвой и сыростью. А у нас работать надо, нюхать-то некогда.
Паренек испугался:
— Возьмите, не пожалеете. Работать буду как лошадь.
— Лошадей и без вас будет достаточно. А работа — таскать за геологом рюкзак с пробами да копать закопушки, чтобы эти пробы брать. Ну, и в лагере дров нарубить, палатки поставить, яму для отходов выкопать, залезть на березу и подвесить антенну… И прочие мелочи, какие случатся.
Между нами, начальниками сезонных полевых партий, существовала негласная договоренность: не брать случайно залетевших в наши края разного рода интеллектуалов: журналистов, актеров, писателей и т. п. Возни с ними было много — то сильно домой хочется, то комары кусаются, то просто настроения нет. А ты думай, как его ублажить или из тайги вывезти. И я решил еще немного подержать его в неопределенности:
— А как вы собираетесь рисовать? Впрочем, у вас это называется, кажется, писать. И когда?
— В свободное время. Неужели не найдется часа в день?
— Час, конечно, найдется. Только хватит ли у вас духу. Устаем в маршрутах так, что, придя в лагерь, сразу с ног валимся. Ну, а комаров не боитесь? Через недельку-другую они явятся.
— Да не пугайте вы меня. Вы же живы и, как я понимаю, не первый раз в тайгу идете.
Аргумент был правильный, и я сдался:
— Оформляйте его. А я схожу к снабженцам и зайду за ним.
Через десять минут я вернулся и забрал Владимира вместе с проектом приказа о его зачислении. Медицинскую справку о пригодности к полевым работам кто-то надоумил его взять еще раньше.
В камералке я провел с ним положенный инструктаж но технике безопасности на полевых работах в горно-таежной местности. Коротко его суть сводилась к одному — не лезь на рожон. Потом зачитал инструкцию медиков о защите от энцефалита и дал расписаться в журнале регистрации инструктажей. Тут и позвонил зам. начальника экспедиции Миша Тращенко. Он известил, что наши баржи, стоящие под погрузкой, отправят завтра, а сегодня на мою долю есть еще один рейс вертолета МИ-1, если у меня есть, конечно, кого или что отправлять. Пойдет борт в 17 часов. Я ответил, что бортом полечу сам с «секретным» ящиком и возьму с собой нового рабочего.
Долгополову я сказал, что мечта его осуществится уже сегодня, а спецовку и экипировку он получит прямо на месте. Там и поужинаем. Две трети партии уже на базе, остальные грузят баржу на берегу. С ней они и пойдут.
Договорились в четыре часа встретиться возле барж. Я сходил домой, переоблачился в противоэнцефалитный костюм, натянул болотные сапоги, надел пояс с пистолетом и отправился в контору договариваться о машине для доставки ящика с картами и другими документами к переправе. Аэродром, с которого предстоял вылет, находился на острове посреди Ангары. Там ревели моторы и взлетали то «кукурузники» АН-2, то вертолеты МИ-4 и МИ-1.
В назначенное время я подъехал к причалу, где стояли баржи с распахнутыми воротами, через которые ребята таскали мешки с мукой, сахаром и овсом, ящики с тушенкой, сгущенным молоком и концентратами, другие — с лопатами, кайлами и прочим железом. Долгололов был здесь и с интересом следил за этой картиной. Хотя она была довольно живописна, но ни этюдник, ни альбом он не раскрыл. Ко мне подошел старший по погрузке нашей баржи начальник поискового отряда Борис Скороделов и доложил, что погрузка заканчивается; остались только вьючные седла да личные вещи наших «мореходов», в том числе и его. Я сообщил ему решение начальства об отходе завтра утром, предупредил, чтобы не дал загулять народу по случаю отхода, сказал, что улетаю сегодня и жду его с грузом через три дня на базе партии. В этот момент с острова к причалу подошел самоходный паром армейского типа, на который въехал наш «газик» с моим багажом, взошли мы с Долгополовым, и паром вошел в реку.
Пока водитель переключал трансмиссию с колес на винт, нас несло вдоль стоящих у берега барж. Но вот металлический скрежет и сразу взбурлившая сзади вода возвестили, что операция переключения успешно состоялась, и паром, сразу набрав скорость, пошел поперек реки.
Долгополов с любопытством оглядывался по сторонам. Его занимало все; и охваченная зеленой дымкой тайга на склонах гор, и мощная семикилометровая ширина реки, и белые каймы льда вдоль берегов и островов. О нем он и спросил:
— А чего это лед по берегам так нагроможден?
— Ниже по течению, в Рыбной, был затор. Вот и натолкало.
— Когда же он растает?
— К середине июля точно. Но, может, и раньше. Да и будет еще один подъем воды через недельку. Как говорят старики, пойдет коренная с гор. Тогда лед поднимет и унесет. И таять не надо.
Наш паром «амфибия», как его точно называли в экспедиции, споро бежал вдоль ледяной гряды «аэродромного» острова, крайнего правого в группе островов и единственного хорошо видного с сорокапятиметровой террасы правого берега. Но вот в гряде появилась щель, в которую шмыгнул наш паром. Водитель еще раз переключил движитель, и мы, продравшись через прибрежные кусты, оказались на просторном летном поле, покрытом яркой зеленой травкой.
Вдали, на верхнем конце острова, виднелись несколько одноэтажных домиков — аэровокзал с башенкой КДП на кровле, штабной домик, где отсиживались летчики и техники в плохую погоду (приходилось и нам там куковать), мастерская, которой заведовал здешний инженер и мой приятель Гоша Лебедев. Больше на аэродроме, кроме полосатой «колбасы» на высоком столбе да десятка разного рода летательных аппаратов, ничего не было.
Водитель «газика» съехал с парома, мы уселись и поехали к домикам. Там нас встретил еще один мой приятель и пилот вертолета МИ-1 Володя Герасименко. Он широким жестом указал в сторону своего «малыша» и сказал:
— Карета подана, прошу усаживаться. Заявку здесь подпишешь или тама?
Он махнул рукой на северо-запад, куда нам предстояло лететь. Дело было в документе, который использовался при оплате труда летчиков. Я не стал откладывать до «тама», подписан бумагу, взял вьючный ящик за брезентовую ручку, сказал Долгополову: «Пойдемте» — и пошел к Володиной «зеленой стрекозе». Там засунул ящик на двухместное сиденье за спиной пилога и предложил Долгополову усаживаться рядом с ящиком. Сам обошел острый нос машины и тоже уселся.
Через пару минут к вертолету в сопровождении техника подошел Герасименко и поинтересовался у него:
— Горючка? Масло?
— Все под пробки, командир. Я ж твои привычки знаю. Оттуда наверняка пойдешь не сюда, а домой к своей молодой.
— То-то. Тогда поехали. От винтей!
— Есть от винтей! — и техник отбежал в сторону.
Объясню этот загадочный для непосвященного диалог. Техник докладывает, что машина полностью заправлена, и командир намеревается после выполнения рейса лететь на свой базовый аэродром, в Енисейск, чтобы ночевать дома, где его ждет молодая жена — он женился десять дней назад. Обслуживать машину там некому. И утром без особой подготовки, не привлекая внимания, он вернется сюда, на «точку». А «от винтей» — команда, унаследованная от старой чисто винтовой авиации и значит: всем, кому жизнь дорога, отойти от винтов запускаемого аппарата.
Герасименко щелкнул переключателем, раздался оглушительный грохот, а над стеклянной кабиной плавно закружились лопасти несущего винта. Потом пилот снял с лупоглазого фонарика на стойке кабины «гарнитуру» — наушники вместе с ларингофонами (устройством, заменяющим микрофон) и надел ее на уши и шею. Форменную фуражку он сунул под сиденье. Затем доложил диспетчеру о готовности к вылету, получил разрешение на взлет и взялся за «палки»: вертолет в отличие от самолета управляется не одним штурвалом, а двумя рычагами, педали же, которыми осуществляют повороты, точно такие, как на самолетах.
Лопасти над нашими головами завертелись уже в бешеном темпе, завалявшиеся в траве бумажки взвились в воздух и полетели куда-то в сторону, грохот усилился, машина покачалась несколько секунд на своих металлических «ногах» и поплыла вертикально вверх. Еще немного повисела метрах в пятнадцати над травой, опустила нос и понеслась, набирая скорость, к горизонту.
Долгополов вдруг как-то съежился и судорожно вцепился одной рукой в сиденье, а другой в брезентовый ремень ящика. Перегнувшись через ящик, я крикнул ему в ухо:
— Что, впервые на вертолете?
— Да. Страшновато.
Тем временем мы набрали высоту метров двести и плавно летели над голубой полосой Ангары, приближаясь под углом к ее высокому и обрывистому правому берегу, на котором виднелись маленькие коробочки домиков, а дальше — то самое воспетое поэтами зеленое море тайги. Над нею и проходил весь наш дальнейший путь.
На горизонте вырисовались гряды гор, а за ними тоже гряды синевато-серых облаков. Я похлопал Герасименко по плечу и, когда он обернулся, спросил:
— Какой прогноз тебе дали? Это серьезно? — показал я на облака.
Он с готовностью проорал:
— Обещают небольшой дождик вечером. Потом этот фронтик пройдет, и к утру опять все нормально будет.
— А сейчас? Успеем?
— Конечно! Вот сейчас наберем тысячи полторы и пойдем со снижением, чтобы скорость была повыше. Минут за тридцать добежим. Не успеет нас накрыть в воздухе. Не размокнем. А мне даже лучше: на стоянке народу не будет, и мой номер незаметно пройдет, без вызовов к комэску.
Он взялся за левый рычаг, и, выглянув из-за его плеча, я увидел, что стрелка альтиметра поползла вправо и скоро достигла отметки 1300 м. Я часто летал с Володей и знал, что это обычный его прием, хотя по правилам он не должен был занимать этот «эшелон» — он для самолетов. Особенно часто он пользовался им в теплые дни с небольшой облачностью. Тогда ему, чтобы забраться на эту высоту, не надо было и горючее тратить: все делали восходящие воздушные потоки — подтягивали вертолет к облакам, и заботой пилота было удержаться под ними нужное время. На этой высоте он удерживался до одному ему известного ориентира, а потом начинал плавное снижение, за счет чего возрастала скорость полета. Все это проделал он и на сей раз, хотя и без облаков-помощников. Снижение он начал, когда под нами промелькнули хорошо мне известные верховья речки Рудиковки, по которой я сделал первые свои в этих краях маршруты.
Проплыл внизу и хорошо знакомый мне хребтик, за которым раскинулось обширное болото, сейчас превратившееся в озеро. Когда шли над ним, пилот закричал: «Смотрите!» — и указал свободной рукой влево и вниз, а там над водой возникли какие-то белые хлопья, похожие на снег.
Долгополов потянулся ко мне:
— Что это?
— Гуси-лебеди. Но смотрите — ниже их еще серая заметель. Это огромная, во многие тысячи голов, стая уток. Похоже, это их место отдыха и кормежки. Испугались вертолета и пустились наутек.
За болотом шла заросшая лесом равнина, а за нею — первый серьезный хребет.
Пока шли над его склоном, казалось, что вертолет снижается. Я опять глянул на альтиметр, но его стрелки были неподвижны. Скоро стали различимы отдельные деревья, и даже казалось, что мы вот-вот зацепимся за их вершины. Но Герасименко накренил вертолет и скользнул в ранее невидимую нам седловину между двумя кудрявыми вершинами гор.
Потом примерно так же перевалили еще один хребет, а за ним обнаружилась неширокая долина, в которой текла довольно большая полноводная река. Прямо под нами оказался поселочек из трех изб и нескольких сараев. В реке ближе к левому берегу, на котором был поселок, виднелся длинный, поросший густым лесом остров, а в верхней части его уже обнажилась из-под полой воды галечная коса, удобная для посадки вертолетов.
Герасименко заложил глубокий вираж, в конце которого прошел над домиками, вызвав оживление среди довольно многочисленного народа. Часть людей побежала к протоке, где стояли лодки. Тем временем мы приземлились.
Пока выгрузили багаж, вокруг нас стояла уже довольно большая толпа и все знакомые и дорогие мне лица — геологи Лисин и Ортюков, прораб Гудошников, старшие техники Кулясов и Моргунов, геофизик Крусь и единственная в партии женщина — маленькая кругленькая радистка Рая. Она-то и начали разговор:
— Ну, как, питание к рации привезли?
— Привезли-привезли, полный комплект. Да еще на барже один идет. Дня через три здесь будет. Только связь хорошо держи, а то Горошко тебя отшлепает, а мы ему поможем.
Толпа загудела: «Это мы пожалуйста», а кто-то добавил: «Хоть сейчас». Радистка смутилась и отошла. Я спросил:
— А где завхоз? Вот надо новичка обмундировать и экипировать.
Саша Кулясов ответил:
— Однако в складе чегой-то шаманит. Не ждал он вас сегодня. Думал, опять какие-нибудь шмотки привезли.
Герасименко спросил:
— Какие будут поручения в Енисейск?
— Какие поручения! Ты ж к нам теперь нескоро попадешь. Только заявки в запас.
— Давай. Не я, так кто-нибудь из ребят, у кого возможность будет, прилетит и поработает у вас.
Мы с соседом Виктором Казаровым частенько пользовались своей дружбой с летчиками и давали им заявки авансом, чтобы только прилетали, когда возникнет возможность, а работа для них у нас всегда найдется.
Я выдал ему несколько заполненных бланков. Он спрятал их в свой потертый планшет и улетел. А мы переправились через протоку на лодке и пошли в склад к завхозу. Он встретил нас радостно-визгливым восклицанием, чем-то вроде: «Наконец-то, слава Богу!». Я представил ему Долгополова и распорядился выдать противоэнцефалитный костюм, кирзовые сапоги, брезентовый плащ, накомарник и спальный мешок с вкладышем. Северьяныч, так звали завхоза, сразу стал сбрасывать с полок называемые предметы и застопорился только на спальном мешке. Мы с ним договорились раньше, что новые спальники будем давать только старым постоянным кадрам, а сезонникам достанутся спальники «б/у». Но тут я что-то раздобрился и сказал Северьянычу:
— Ладно, не жмись, давай новый.
И на пол упал зеленый цилиндр с целой еще фабричной этикеткой. Теперь нужно было устроить его с жильем. Большинство жили в палатках, поставленных между строениями. Пока мы с Северьянычем думали, куда определить новичка, в склад зашел радиометрист Павел Мищенко и, услышав, о чем идет разговор, предложил:
— Давайте его ко мне, а то я пока один в палатке, скучновато. Согласен, Владимир?
Тот, ни минуты не колеблясь, согласился, что совершенно не удивительно — ведь он никого еще не знал. Так что о выборе речи быть не могло. Парни удалились. Северьяныч крикнул им вслед:
— На ужин не опаздывайте. В восемь часов.
Ужин, приготовленный женой нашего моториста и в ближайшем будущем пекарихой Вассой, был рыбным: отличная уха из хариусов, а на второе — жареный таймень с картошкой. Было понятно, что рыбаки в партии не перевелись, и приварок, как обычно, неплохо обеспечивали. Я поинтересовался у Долгополова, доволен ли он ужином. Он ответил сначала жестом, подняв большой палец, а потом уже изрек:
— Такого я еще никогда не ел.
Васса предложила ему добавки, но он провел ладонью по горлу, показывая, что сыт с избытком, и вылез из-за стола. Я посмотрел на него и даже залюбовался: «энцефалитка» сидела на нем, будто он в ней родился. На голове его красовался накомарник-шляпа с накинутым сверху черным тюлевым мешком, хотя никаких комаров еще и близко не было.
На следующее утро мы распределили людей по отрядам, и Долгополов вместе с Мищенко оказался в съемочном, то есть моем, отряде в группе Димы Ортюкова. Дима и сам был переведен к нам только в конце зимы, но уже успел прижиться. Дело он знал, с ребятами подружился, и у меня были основания полагать, что он из ряда не выпадет, как говорится.
Ближе к середине дня я увидел Долгополова вместе с Павлом на берегу реки, где он развернул-таки свой этюдник и на листе ватмана пытался запечатлеть действительно очень живописный пейзаж, развернувшийся перед ним. На переднем плане был остров, густо заросший кедрами с мощными коронами ветвей на вершинах, темно-зелеными пихтами и елями, а среди них светлели только что одевшиеся листвой березки и осинки. Опушка заросла едва расцветшей черемухой. А на противоположном правом берегу склоны заросли сосной и лиственницей. Так что художнику было что изображать в своем этюднике, включая и реку с частыми всплесками хариусов в протоке. Работал он акварелью. На мой вопрос ответил, что есть у него и коробка масляных красок, только вот писать ими не на чем холста-то нет, картона тоже. Я пообещал раздобыть ему лист — другой пресс-шпана в авиаотряде. Потом по моей просьбе он рассказал, что нынче закончил Строгановку, как фамильярно до сих пор называют училище живописи и ваяния, захотелось жизнь посмотреть. Денег хватило только до Красноярска, там нашел геологическое управление. Дальнейшее понятно.
Занявшись формировкой и отправкой отрядов на их участки, я почти на месяц потерял Долгополова из вида. Добравшись до своего отряда уже к середине июля, спросил о нем замещавшего меня Валеру Лисина. Ответ был какой-то невнятный:
— Да так, не очень…
— Что, ленив? А производил впечатление толкового и энергичного парня.
— Сильно от гнуса страдает. А тут на нас полный комплект навалился: и комар, и мошка, и пауты (так в Сибири оводов именуют), и слепни, а по вечерам еще и мокрец добавляет…
— Рисует?
— Пробовал, но комар не дает. На свежую краску липнет, картинка серая получается. Он кричит, ругается, но комару не прикажешь.
Поняв, что у Долгополова проблемы с его живописью, я сменил тему:
— А как радистка? Связь с экспедицией есть?
— У нее что-то не получается. И никакой связи ни с кем нет. Куховарит.
— Зовите ее. Буду разбираться.
Вскоре Рая стояла перед нами. Я сказал:
— Ну, хвастайся, как связь держишь. Все нормально?
— Так вам же уже сказали, конечно, не работает рация. Ни приемник, ни передатчик. Глухо, как в танке.
— Ишь какая воительница. А питание ты правильно подключила?
Для Раи это тоже был первый сезон. Она только что закончила курсы радистов в Красноярске и фактически освоила только азбуку Морзе. О начинке нашей РПМС, т. е. слегка переделанной военной радиостанции РБМ времен Великой Отечественной, она имела смутное представление. Поэтому и начальник экспедиционной связи В. К. Горошко, и я долго школили ее, как правильно подключать батареи питания, а их было четыре — две анодных и столько же накальных.
Вскоре мы были возле ее палатки. Она с трудом выволокла железные коробки самой рации и упаковки питания, щелкнула тумблером, чтобы я убедился, что действительно «глухо», и застыла на корточках в горестной позе. Одного взгляда на коробку с питанием было достаточно, чтобы убедиться — подключено все наоборот: анод к гнездам накала, а накал к клеммам анода. На мой рев примчался не только находившийся поблизости Лисин, но и все население палаточного лагеря, даже те, кто еще были в маршрутах, в том числе и Долгополов. Высказав Рае все, что я о ней и о ее работе думал, насмотревшись на ее слезы и наслушавшись сочувственных речей, я со всей горечью, на какую был способен, сказал:
— Ну, спалила и спалила рацию. Действительно, с кем не бывает, особенно, если мозги дома забудешь. У меня мозоль на языке, сколько раз рассказывал ей, как это делается. Вон в коробке на клеммнике надписи «анод+», «накал+», ежу должно быть понятно, а она… А случись что, на помощь позвать никого не сможем — ближайший сосед за семьдесят верст по тропам. Не дай Бог, заболеет кто или что еще случится… Ладно, подтверждаю решение Лисина — с этого дня ты постоянная дежурная по кухне. А рацию подготовь к отправке. С первым же рейсом лошадей отошлем ее на базу, а там и в экспедицию. Надо бы и тебя вместе с ней, но, смотрю, многовато сочувствующих.
Сочувствующих девчонке действительно было много, и в их числе наш художник. Он как-то особенно тепло поглядывал на нее. Впрочем, ничего удивительного тут не было. Он уже месяц был оторван от обычной жизни, а она, как я говорил уже, — единственная женщина в нашем суровом мужском коллективе.
К тому же довольно хорошенькая, и это уже без скидок на особые условия — полненькая, круглолицая, темно-русая с гладкой аккуратной прической, а что глуповата, так для женщины, тем более в тех самых условиях, — это скорее достоинство.
Весь июнь и начало июля было сухо и жарко, что и способствовало огромному выплоду гнуса, который буквально не давал дышать. Но на следующий день после описанного подул сильный ветер, даже немного напугавший меня — лагерь наш вопреки моим же правилам стоял в старом лесу. Кругом высились мощные, в два-три обхвата ели и кедры с редкими березами и осинами. Они шумели и скрипели, но падать пока не собирались.
А перед вечером на западе появились облака. Я с геофизиком Крусем и маршрутником по прозвищу «Жора-тресь-и-на-березе» (прозвали его так за изобретенный способ спасения от нападения медведя) задержался в маршруте и пришел, когда все уже пообедали и отдыхали. Подходя к палаткам, мы увидели Долгополова. Он стоял за развернутым этюдником с кистями в руках, а рядом сидели Павел и Рая. Заглядывать в его работу я не стал, просто прошел мимо, поприветствовав их, но сам Володя пригласил после обеда подойти к нему и посмотреть на работу. Рая тут же подхватилась кормить нас. Со своей ролью поварихи она, похоже, уже смирилась и, судя по обеду, успешно справлялась.
После обеда я пошел на берег речки, где стоял Долгополов со своим этюдником. Он опять работал акварелью. Писал горы, лес и речку с ее мелкими, поросшими кустами островками. Неплохо он схватил даже сегодняшний ветер, который гнул березы на другом берегу. Я одобрил его работу и ушел в свою палатку — нужно было нанести на общую карту результаты сегодняшнего маршрута. Провозился с этим и другими делами до позднего вечера, то есть до вечернего чая, когда почти все собрались у костра с кружками, а Рая подала большую миску с испеченными на лопате лепешками. Не было только Долгополова и Мищенко. Они лежали в своей палатке и о чем-то негромко бубнили. Рая отнесла им их долю прямо в палатку, чем вызвала осуждение сидящего вокруг костра большинства. Люди по-настоящему отдыхали. Дневной ветер немного разогнал комаров, а мошка и крупные кровососы угомонились на ночь. Да и дымок костра помогал, отгоняя нечисть. Ветер стих и только редкими вздохами налетал на кроны деревьев. Словом, вечер был почти идиллическим. Попили чаю, попели песен и среди них, конечно, «Снег» А. Городницкого. И разошлись спать по палаткам.
Учитывая, что в партии народ был по преимуществу молодой, поспать он, конечно, любил. Поэтому действовало правило: подъем объявляет старший в лагере.
Я уже давно приучил себя — когда бы ни лег, подъем в шесть часов, а потому просыпаться приходится еще раньше. В этот раз, когда глянул на светящийся циферблат часов, удивился себе — было ровно пять. Но сразу понял, что меня разбудило — по палатке молотили редкие капли дождя, и я решил никою не будить — пусть отдохнут: выходные летом у нас бывали только по дождливым дням. Подумал так и сразу опять заснул. В семь часов меня разбудила Рая. Она беспокоилась, готовить ли завтрак или обойдемся чайком с сухарями. Я, естественно высказался за завтрак по полной программе, только предупредил, что торопиться с ним не стоит, и силовых приемов к засоням применять не надо. А дождик так и молотил, редкий, вроде бы ленивый. Я оделся, сходил на речку, умылся и остался в палатке. Надо было наметить маршруты на следующие дни.
В восемь ко мне опять прибежала Рая и, задыхаясь от волнения, не проговорила, а прошептала:
— Беда! Заболел Долгополов. Я сейчас заглянула к ним в палатку, а он лежит, похоже, без сознания, а Павлик говорит, что он почти всю ночь бредил…
— Ладно, не паникуй. Иди, возьми у Лисина термометр и измерьте ему температуру.
Рая убежала, а я, тоже сильно встревожившись, вышел к костру, прикрытому от дождя навесом из коры и бересты. Вскоре появилась Рая и сообщила:
— Тридцать девять и пять. Он очнулся и просит пить,
— Ну и дай ему чаю или компота, если есть у тебя.
— Осталась одна банка. Сейчас открою и налью ему кружку.
— Хорошо. Видишь теперь, как надо подключать питание к рации. Мы ведь теперь глухонемые. Ясно, что его надо вывозить отсюда, а как это сделать…
Постепенно к костру собралось все население лагеря. Я воспользовался этим и начал собрание:
— Ну, что будем делать, ребята? Связи-то нет у нас и неизвестно, когда теперь будет. Нужен вертолет, а здесь ему сесть негде — вон какие махины стоят. Ближайшая поляна, я вчера в маршруте видел подходящую, километра три отсюда. А если это энцефалит… Павел, он клещей не ловил за последние недели две?
— Кажется, был один. Точно. Как раз на предшествующем лагере я вытащил у него из-под мышки клеща.
— Ну, тогда подозрение укрепляется. И в этом случае его даже до той поляны нельзя тащить. Как медики говорят, нетранспортабельный. Хотя бы речка здесь с прямым руслом была, тогда бы без проблем приняли вертолет на островок. А она вон как петляет, как назло. Не долина, а серпантин какой-то. Так что делать будем?
Неторопливый и сугубо положительный вологодский мужик Валера Лисин выдал первое предложение:
— Надо рубить площадку здесь, раз нетранспортабельный.
— Мысль верная, но во-первых, что с нее толку, пока связи нет, а во-вторых, вы представляете себе, что это за работенка? Свалить-то надо минимум два гектара старого леса.
В разговор вступил самый опытный из нас, бывший председатель разведкома профсоюза, вопреки обычаю после переизбрания не пожелавший оставаться в экспедиционных «придурках», Петр Давыдович Крусь:
— Раз такое дело, надо идти к соседям, к Казарову, и оттуда просить санрейс. И не по тропам ползти, по ним в два дня не уложишься, а напрямую, но азимуту. Вы знаете, где они стоят? Ну, и у них радист опытный. Наших проблем не будет.
Были и еще речи и предложения. Я подытожил их так:
— Никаких перетаскиваний больного не будет. Рубим площадку здесь. А к Казарову идти могут только двое — Крусь и я, остальные ходоки по азимуту еще такие, как та ворона, что прямо летала, да головой в куст попадала. Поэтому слушайте решение: пойдут Крусь с Павлом. Рая, выдай им харчей на двое суток с небольшим запасом, если и они блуданут вдруг. У кого топоры и пилы, принести все сюда, посмотрим, чем мы вооружены. Тогда составим бригады лесорубов и приступим, помолясь. А вы, скороходы, берите рюкзаки и вперед. Петро, давай твою карту, я отмечу, где Витька стоит, и пикетажку — напишу радиограмму.
В полдень, когда наконец прекратился дождь и выглянуло солнце, я пожелал доброго пути «скороходам» и стоял над пятью топорами и одной двуручной пилой. Это был весь лесорубный инструмент, которым мы располагали. После ухода делегатов нас осталось ровно четырнадцать, как раз на две бригады. Я не считал только Раю и Долгополова.
Решили работать по четыре часа, потом столько же на отдых. На ночь не прерываться, благо, ночи стояли лунные, да и белые ночи еще не совсем прошли. Взял топор и подошел к ели диаметром в полметра. Рядом застучали другие топоры, и скоро рухнули, как пишут журналисты, первые «лесные великаны». Лесосеку мы разметили так: четыреста метров длина, семьдесят ширина, что, конечно, было много меньше предусмотренного аэрофлотовскими инструкциями, но для вертолетчиков 127-го Енисейского авиаотряда, по моему опыту должно было хватать. Через час была прорублена поперечная просека в десяток метров шириной. От нее стали вести продольную. Плохо было то, что рукавицы были только у маршрутников, а «гнилая интеллигенция» очень скоро набила себе кровавые мозоли, и я и том числе.
Рая согрела чай и бегала по лесосеке, предлагая его жаждущим. Я подозвал ее и приказал собрать все, какие есть, бинты и индивидуальные пакеты, а оными обмотать кисти рук пострадавшим лесорубам. Потом подошел Лисин, руководитель второй смены, с деловым предложением — сразу расчистить площадку для посадки вертолета, а то в этом хаосе усталым людям такая работа будет непосильной. Я одобрил идею, и обеими сменами мы освободили пятак метров тридцать в диаметре. В результате вокруг этого пятака образовался вал, о который вертолет вполне мог обломать себе лопасти. Надо было сразу исправлять, что мы и исполнили.
К четырем часам, моменту смены, мы прорубили восточную часть продольной просеки, а Рая оповестила, что готов обед — борщ из консервов с обильной заправкой из свиной тушенки, а на второе — макароны по-флотски с тушенкой говяжьей. Я на это сообщение откликнулся распоряжением: тем, кто пожелает, выдать по банке сгущенки на двоих. Пусть, дескать, сосут себе с чаем. Сам я ее никогда особо не жаловал. В чаще мы нашли довольно много черемши, что тоже было кстати на обед.
Особо радовало и то, что у нас еще оставалось с полдесятка пышных белых буханок хлеба, которые испекла Васса, и на сухари переходить нужды пока не было.
Когда собрались у костра, я тихонько спросил у Раи:
— Как он? Смотрела?
— Лежит. И, кажется, спал.
— Что-нибудь просил?
— Два раза чай ему подавала.
— Возьми термометр и сходи померяй еще раз, что там у него.
Вскоре Рая доложила, что у больного тридцать восемь и пять. Ему, вроде, стало полегче.
После обеда я распорядился, чтобы моя смена ложилась отдыхать. Уговаривать никого не пришлось. Но и с отдыхом не очень получилось — в палатках, оснащенных пологами от гнуса, было жарко, а на открытом воздухе тоже не очень полежишь, комары и мошка быстро разъяснят, кто в тайге хозяин. Все-таки большинство устроилось на берегу речки: и прохладно, и ветерок время от времени повевает. Ну, и намазались репудином от души. Только саднили стертые руки да болели ушибы на ногах, сбитых об корни деревьев. А на будущей площадке ухали падающие кедры и ели, да визжала пила.
Валера опять проявил инициативу и решил очертить весь эллипс будущей площадки. Как он это сделал, не знаю до сих пор, но затесями, а кое-где и сваленными деревьями, площадка была обозначена.
К восьми часам, времени очередной пересменки, отдохнуть, как следует, мы, конечно, не успели и поднимались с большим трудом. Рая приготовила ужин, к которому почти никто не притронулся ни из нашей, ни из второй смены.
К ужину из своей палатки выполз и Долгополов. Передвигался он как-то неуверенно, вроде бы скользя по земле. Есть он тоже не стал, что особенно задело Раю. Она буквально со слезами предлагала ему кулеша и сгущенки на десерт. Но он отказался и ушел в палатку.
По себе сужу, как трудно было ребятам выходить на очередную вахту: нестерпимо болели ладони, ныли спина и плечи, а предстоял тот же ад, только в вечернем исполнении. Когда мы встали по местам, в центре будущей площадки опять возник Лисин с новым предложением:
— Давайте подожжем инсектицидную дымовую шашку все полегче будет, коли гнуса малость придавим.
Я уже имел сугубо негативный опыт пользования этими шашками: самим дышать нечем от этого дыма, а гнус чихать па него хотел. Так практически вышло и на сей раз. Лисин поджег шашку и бросил ее на центр площадки. Дым пополз по мелким кустикам подлеска. Народ начал кашлять и давиться даже возле костра — начинка-то шашки была отвратительно воняющий ДДТ. Но, когда мы смогли вернуться, комар ел почти так же, а вонь стояла и в центре площадки. Она понемногу начала принимать тот вид, какого мы добивались. На сей раз моя смена двинулась на запад от осевой просеки, и скоро с площадки стал виден небольшой распадок, который я хотел предложить пилотам в качестве линии подхода и снижения (глиссады) с запада.
Но это чисто теоретически — говорить я смогу с ними лишь после посадки. Но и так не могут не увидеть. В десять часов пошли попить чаю. Кое-кто чуть не плакал, так болели истертые и надсаженные руки. И я даже услышал (по-моему, это выдал Жора-Тресь-и-на-березе): «А у него в самом деле энцефалит?» Надо было отвечать, что я и сделал:
— А если б тебя так скрутило? Бросить помирать в палатке, а самим жить, как ни в чем не бывало? И потом, я не доктор, точно судить не могу, ты, вроде, тоже, но то, что я видел в прошлом году у Казарова, точно соответствует этой картине. Тогда к нему двое парней с Енисея пришли с энцефалитом. Тоже вертолетом вывозили.
Долгополов, конечно, слышал этот обмен замечаниями, но голоса не подал. Лисин, сегодня что-то набитый продуктивными идеями, внес новую:
— Когда вы ждете вертолет? Может быть, стоит ночью всей толпой навалиться? У кого силы будут, тот и будет рубить, а меняться прямо на месте.
По своему самочувствию я видел, что резон в этом предложении есть — если мы завалимся спать, как удержишь вторую смену? Да они прямо под елками повалятся, и никакие соображения не удержат. Поэтому ответил дипломатично:
— Похоже, вы правы. Идея принимается. В двенадцать мы только отойдем, чаю попьем и опять за дело. А Петра я настраивал, чтобы он старался сегодня дойти, в крайнем случае, завтра часам к восьми, не позже. Пока радиообмен, то, сё — вылет часов в десять, значит, сюда надо ждать к одиннадцати-двенадцати. Нас ведь искать надо, а это не так просто.
В одиннадцать часов вечера ощутимо смерклось. Мои надежды на луну и белую ночь явно не сбывались. Пришлось зажечь костры. Света они немного прибавили, но хотя бы своим дымом несколько отгоняли комаров.
К двенадцати в основном была вырублена восточная часть площадки. На ней осталось с полдесятка мощных кедров и елей с пихтами, которые мы валили главным образом двуручной пилой. Пошли, попили чаю, в который Рая добавила каких-то трав «для бодрости». Она хлопотала весь вечер: то возле костра, то за столом, то бегала с ведром и кружкой между вальщиками. Умоталась не меньше нашего, а еще я ей поручил следить за состоянием больного. Доклад ее был обнадеживающим: температура снизилась до тридцати семи и восьми, что и у меня вызвало сомнение — а вдруг это и в самом деле не энцефалит, а просто лихорадка какая-то, такое с новичками и от одного гнуса случается. Но сомнения свои я оставил при себе. Начатое дело нужно было заканчивать. Поэтому только посмотрел на Раю, прикорнувшую у палатки, но поднимать ее не стал.
После короткого перерыва весь отряд был на лесосеке. Кто чувствовал себя покрепче, брались за топоры. Другие готовили вилки-упоры для валки или следили за кострами. Дело явно пошло медленнее, но оно шло. Хотя пустых разговоров стало побольше — возле костров болтали обо всем, но главным образом о предстоящем прилете вертолета и нелегком решении, которое нам пришлось принять и выполнить.
В три часа, когда, наконец, почти рассвело, пильщики доложили, что с большими деревьями на востоке покончено, и подключились к остальным на западе. В этот момент пришло что-то вроде второго дыхания: хотя у каждого болело все тело, а руки отказывались держать топоры, стало как-то полегче. Да и комара, вроде, поменьше стало. Возможно, сработала лисинская шашка, а может, просто похолодало к утру. Как бы то ни было, деревья стали падать почаще. Да еще из кустов возникла Рая с ведром сладкого чая и ломтями белого хлеба, густо намазанного сгущенкой.
Это привело к незапланированному перерыву, но я протестовать не стал — уже было видно, что с работой мы справимся. Раю я отправил в лагерь готовить завтрак, сказав, чтобы она израсходована остатки свежей картошки и не жалела консервов в нее.
В восемь часов я закричал, что духу было:
— Шабаш, ребята!
Да, намеченная площадка была вырублена полностью, только кое-где торчали еще мелкие пихтенки и березки, уцелевшие чудом в этой сече. При выходе к лагерю мы свалили и их, а из четырех березок выложили квадрат на месте посадки.
Лагерь на Каитьбе. На заднем плане вырубленная площадка
Выйдя к палаткам, большинство народу валились и пытались заснуть без завтрака, но Рая беспощадно поднимала таких и гнала на речку умываться. Ее жертвы поднимали измазанные смолой и кровью руки и умоляли не мучить людей. Мне она прошептала на ушко:
— А у Володи, кажется, температура совсем нормальная. Я залезала к нему в палатку и трогала лоб. Совсем не горячий.
Я ответил:
— Теперь уже все равно. Отправим, какой есть. Лишь бы вертолет пришел.
Сейчас это была главная мысль, не дававшая мне покоя. Дошли ли посланцы и, если дошли, передали ли радиограмму, и найдет ли нас пилот по тем ориентирам, что содержатся в радиограмме. А там значилось:
«ЗАБОЛЕЛ РАБОЧИЙ ДОЛГОПОЛОВ ЗПТ ПОДОЗРЕНИЕ ЭНЦЕФАЛИТ ТЧК ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ САНРЕЙС МИ-1 ЗПТ МИ-4 ПРИНЯТЬ НЕ МОЖЕМ УСЛОВИЯМ ПОСАДКИ ТЧК НАХОДИМСЯ СРЕДНЕМ ТЕЧЕНИИ РЕКИ КАИТЬБЫ ОРИЕНТИР СИЛЬНО ИЗВИЛИСТОЕ РУСЛО С ЧАСТЫМИ ОСТРОВАМИ».
Кроме того, в депеше содержались координаты Гаусса, считанные с карты. Правда, летчики в этой координатной абракадабре вряд ли бы разбирались, но дать ее я был обязан. Был обозначен и сигнал — зеленая тройная ракета. Таких у меня в ящике было около десятка. После выстрела она взлетала на высоту примерно в сотню метров и там делилась на три независимо падающих «звезды».
С девяти часов в лагере наступила гробовая тишина. Кто мог, спал, а большинство вслушивалось, благо, мешать этому занятию было нечему — деревьев над нами не осталось. Потому возникший утром легкий ветерок только слегка шелестел осокой над речкой. Мысленно я поставил себя на место летчика и высчитал, что найти нас не проблема: Каитьба, правый приток Большого Пита, имеет в длину шестьдесят километров, иди по ней от устья — и никуда не денешься, увидишь нас. А ракеты только для подтверждения, что это именно мы. Эти рассуждения немного успокоили меня. А волноваться вроде было отчего: поднял тарарам на три района, замучил людей, теперь неработоспособных, по крайней мере, на три-четыре дня. И что там с посланцами, неизвестно.
Время тянулось мучительно медленно, и, чтобы как-то убить его, мы с Лисиным разложили карты и опять начали «мыслить за пилота». Хотя понимали, конечно, всю бесполезность этого занятия. Из тех же соображений я залез в палатку к Долгополову и спросил его о самочувствии. Он ответил, что намного легче, и он почти здоров, так что «все это напрасно», а он немного отлежался бы и все. Я ответил примерно так же, как Жоре-Тресь-и-на березе. И добавил еще, что его встретит в аэропорту «Скорая помощь», а в больнице разберутся. Если с ним ничего серьезного, мы заберем его следующим же рейсом вертолета.
Около одиннадцати часов мы впервые услышали отдаленный гул, доносившийся с севера. Все возбудились, вскочили и начали всматриваться в северную часть неба, но ничего, кроме нескольких кедровок, птиц размером со скворца и почти так же окрашенных, не узрели.
Наконец минут через двадцать гул повторился, и над дальней горой на севере появился знакомый силуэт вертолета, но шел он почему-то с востока на запад. Я поднял ракетницу и выпалил в небо. Вертолет на какое-то время исчез за другой горой, но потом снова появился и шел уже явно в нашу сторону. Я запустил вторую ракету и увидел, что машина заметно снижается — наш сигнал заметили!
Над площадкой вертолет сделал целых три круга — пилот приглядывался к ней. И вот нас окатило счастьем — машина зависла в пяти метрах над березовым квадратом и опустилась на землю. Открылись обе дверцы, и на бурый мох выпрыгнули наши посланцы, так сказать, апостолы — Петр и Павел. Я только было открыл рот приветствовать их и спросить, как они в вертолет попали, но тут же подавился своей радостной фразой — на землю ступил пилот и сообщил, что он думает о таких санзаданиях, о яме, в которую его затащили, о геологах и геологии вообще. Заявление это было сделано очень громко, но слышали его только мы, уготовившие ему эту «яму». Потом он несколько сбавил тон, и я разглядел, наконец, ругателя. Это был самый скандальный пилот эскадрильи Женька Москаленко, коего все (и в аэропорту, и на точках) звали просто Жека. Командир эскадрильи Володя Комин старался к нам его не посылать, но тут, видно, было не до дипломатии, что вскоре и сам Жека подтвердил. По поводу площадки уже спокойно он сказал, что она безобразно мала, но раз такой случай, он как-нибудь выберется отсюда, только нам нужно обрубить ветки на поваленных деревьях вокруг машины, а то может и подтянуть к несущему винту, да вот еще на восточном краю стоят два здоровенных кедра, их надо, не откладывая, свалить. А как мы их проворонили, ума не приложу.
Затем он вместе с посланцами рассказал, как сначала искал лагерь Казарова, а они там спали все, включая начальника. Ночь-то резались в преферанс. К тому лагерю наши подходили уже в темноте и сильно усталые. Увидели костер и рванули к нему, а не заметили, что перед ними болото, еще и опасное, с трясиной. Закричали, только когда начали тонуть. Их, конечно, тут же выволокли, переодели, накормили и спать положили. А утром бодрствующим оказался один радист, которому мою депешу сдали еще с вечера. Казаров завизировал ее молча. Утром она была передана в экспедицию. Но, когда Жека прилетел, встречать его было некому — все спали.
Он приземлился на краю болота, едва не подломав шасси. Потом под погружавшуюся «ногу» наши посланцы, проснувшиеся быстрее других, подсунули разбитый ящик, что позволило Жеке выключить двигатель. Обсуждать с казаровцами сложившуюся ситуацию было бесполезно — знали они не больше Жеки. Поэтому он сделал самое мудрое из того, что мог: взял на борт наших парней и полетел искать нас, полагая, что они приведут его, куда нужно.
Но не тут-то было. Ни Петро, ни тем более Павел не знали, что ориентироваться по карте с воздуха далеко не то же самое, что на земле. Для такой ориентировки наши рабочие крупномасштабные карты просто не годились. Потому-то у летчиков самая детальная (крупномасштабная) из применяемых карт пятикилометровка (в сантиметре пять километров, по терминологии геологов пятисоттысячная).
Проще всего было рассчитать азимут обратного хода и дать эту цифру Жеке в качестве курса на наш каитьбенский лагерь. Но на это у наших посланцев, как, впрочем, и у их любезных хозяев, сообразительности не хватило. Потому долетели они до верховьев Каитьбы, а там начали ходить поперечными галсами, нарабатывая риск остаться без горючего. К тому и шло, но Крусь узнал какую-то полянку в верховьях, предложил Жеке идти вниз по течению, то есть на юг, а тут и наши ракеты подоспели.
Жека хотел поискать подходящую площадку, но Пегро разочаровал его сообщением об отсутствии таковой и нетранспортабельности больного. Потому он рискнул и сел в нашу «яму», как он окрестил площадку еще в воздухе.
За разговорами не заметили, как прошел час, за ним другой. Кедры на краю площадки давно свалены, больной одет в цивильное платье, снабжен деньгами и подведен к вертолету. Сюда же принесена сожженная рация. Началась заключительная беседа. Жека опять заскулил:
— Как я отсюда вылезу? Еще жара такая…
Но понимания не нашел:
— Вылезешь, никуда не денешься. Какая там жара — двадцать один градус. Значит, так. На подходе к Енисейску просишь руководителя полетов обеспечить «скорую» на вертолетную стоянку. Сдаешь больного докторам, а сам везешь в эскадрилью рацию. Там передаешь ее экипажу самолета, который будет выполнять сегодняшний второй рейс на Ангару. Пусть сдадут ее нашим представителям в аэропорту. Дальше. Вот тебе заявка, как хочешь, но мы послезавтра ждем тебя здесь. С результатами госпитализации, ну и куревом. Вот деньги на десяток блоков «Пегаса», и еще прихвати свежих газет. Здесь на них спрос большой.
Тем напутствие и закончилось. Вертолет выстрелил клубом синего дыма и затарахтел, действительно немного подтягивая к винту ветви лежащих на земле деревьев. Он взвился вертикально вверх метров на пятьдесят, повисел там несколько секунд, затем развернулся носом на запад и почти без просадки понесся над тайгой. Что там ни говори, Жека, конечно, скандалист и пижон, но летчик классный.
В лагере сразу стало пусто и грустно. Рая тихо плакала возле своей палатки. Остальные лежали, кто где, и перебрасывались пустяковыми замечаниями по поводу всего происшедшего. Я решил немного взбодрить народ:
— Ребята! Завтра выходной, а послезавтра — баня!
Ответ был, какого я ждал:
— Урра-а!
Здесь надо пояснить, что в таежных условиях баня не только и не столько праздник чистого тела, сколько праздник освобождения от последствий общения с гнусом — зуда, расчесов и просто всяких болячек. А устраивать баню мы умели, тем более в таких местах, как эта трижды проклятая Каитьба — воды сколько угодно, веники чуть не в палатках растут, каменку делать — два раза «тьфу» сказать — камень (и плоский, и круглый) все русло занял.
Расчет у меня был очень простой: во-первых, очистить смолой перемазанные телеса, во-вторых, помочь заживлению мозолей, набитых на лесоповале. А в-третьих, смотри начало предыдущего абзаца.
В конце банного дня, когда все уже блаженствовали с кружками чая в руках, над тайгой снова разнесся грохот двигателя и пошлепывание лопастей вертолета.
Все, как и два дня назад, высыпали на площадку. Жека сдержал слово и прилетел с сигаретами, газетами и новостями.
На мой немой вопрос он рассказал:
— Как договорились, я еще над Черной речкой попросил выслать на стоянку «скорую». Мне пообещали. В общем, иду над полосой, запросил посадку, а «скорая» с пригорка от здания аэропорта к нам рулит. Я пассажиру на нее показываю, а он головой кивает — ясно, мол, сейчас поедем. Ну, ты знаешь нашу стоянку — там одна сараюшка да кусты кругом. Сажусь я туда, а этот ваш малый дверцу открывает и выскакивает на землю, а сам за живот держится, и рысью в кусты. В общем, подъехала «скорая», а забирать некого — слинял ваш больной. За кустами там болото и канава с водой. Техники через нее переход сделали из досок, он им, наверное, и воспользовался. А скажи мне, начальник, денег ты много ему дал?
— На неделю хватит, а в больнице на три недели хватило бы при казенном харче. Что ж ты его не притормозил?
— Только мне и не хватало твоих жуликов ловить. Он небось залег где-то и дрожит, что с него сдерут за санрейс да за вашу дикую работенку в этой яме.
— Да пусть не дрожит, не принято у нас это дело, хотя стоило бы.
— Откуда ему знать, принято, не принято… Пока что он сбежал и все.
Стоявший рядом Крусь проговорил:
— Ох, и сук-кин же сын. Мищенко! Пашка! Иди сюда, пакостник.
Когда Павел подошел, Петр вкратце повторил ему рассказ Жеки, а потом спросил:
— Ну, что скажешь? Не мог ты не знать о его затее и даже подыгрывал. Ведь и со мной пошел.
Павел нагловато ухмыльнулся:
— Знал, конечно. А пошел, потому что, во-первых, приказы выполнять надо, а, во-вторых, что, тут рубить было легче, чем нам идти?
Я сказал:
— Не думал я, что ты такая дрянь. Как ты смотришь, если я сейчас ребятам все расскажу. Догадываешься, что с тобой будет?
Он побледнел:
— Не надо, я все понял и постараюсь вернуть его.
— На хрен он тут сдался, чтобы еще поспасать его? Нет уж! Не надо.
Жека привез нам и новую рацию. Горошко вошел в положение и обменял еще вечером, как только доставили сожженную. Но новая пришла под мою ответственность. Радости Раи не было границ.
А Долгополов еще несколько раз возникал вокруг нас: то присылал записки с устья Пита, то радиограммы. Но ни на то, ни на другое мы не реагировали. На этом можно было бы и закончить нашу историю, но жизнь, как часто бывает, дописала к ней эпилог.
…В конце октября с Ангары в Красноярск шел новенький пассажирский теплоход. По расписанию он зашел в поселок Первомайский Слюдрудник, что на реке Тасеевой недалеко от ее устья. Там он должен был стоять до 21.00. А за полчаса до отхода команда теплохода и расслабившиеся в комфорте пассажиры услышали с потонувшей в осенней тьме реки крики о помощи. Включили прожектор. Мимо несло лодку-казанку, в которой виднелись люди. Матросы бросили конец троса, но его не подобрали. Тогда с палубы, с высоты двухэтажного дома в реку прыгнул человек и, подобрав конец, попытался догнать лодку, но не смог. Матросы вытащили его на палубу.
Позже выяснилось, что в лодке были тяжело раненные браконьерами инспекторы рыбнадзора. Лодка, пробитая крупнокалиберными пулями, затонула в полукилометре ниже пристани. Не помогли и имевшиеся в ней воздушные карманы. Инспекторы погибли. А в реку прыгал наш знакомый Владимир Долгополов.
Догонялки
В эту игру в детстве играли все, кроме, может быть, некоторых принцев крови. Только называется она в разных странах и местностях по-разному: в Москве и ее окрестностях — «салки» или «салочки», а на моей родной Брянщине просто и без затей «догонялки». Поэтому не буду рассказывать ее сущность. Однако понаблюдать ее, а кое-кому и поиграть, пришлось в 1962 году в горах Енисейского кряжа в совершеннолетнем возрасте.
Началось все с того, что в моем геолого-съемочном отряде, а я тогда был начальником Орловской партии, куда вместе с упомянутым входил и еще один, горный отряд, кончились продукты. Какое-то время мы держались на «подножном корме» — рыбе, дичи и грибах с ягодами, но все это приелось так, что мы уже смотреть не могли на рыбу, например.
Лагерь наш стоял тогда на речке Малой Каменке в полукилометре от ее впадения в Каменку Большую на склоне горы. Представлял он собой пять или шесть палаток разного размера, разбросанных по обширной поляне, в самом низу которой располагался костер с крючками для подвешивания ведер и чайников, а при нем — стол и скамейки из жердей. Население лагеря составляло шестнадцать человек, из коих четырнадцать были молодые мужчины в возрасте от восемнадцати до двадцати пяти лет и две молоденькие девушки — радистка Рая и радиометристка Неля. Самым старшим в свои двадцать девять лет был я, их начальник и наставник.
В состав отряда входили два инженера-геолога — Валерий Лисин и Борис Скороделов. Первого я готовил на должность старшего геолога, имея в виду чуть-чуть разгрузить себя на будущее от части обязанностей и приобрести достойного заместителя на случай ухода с Севера. Об этом я только начал подумывать тогда. Было еще два старших техника, имевших право самостоятельного ведения маршрутов, — Павел Моргунов и Эдик Шейко. Остальные — маршрутные рабочие (коротко «маршрутники») и радиометристы, занимавшиеся измерением радиоактивности местности и горных пород с целью поиска соответствующих месторождений. Все знали свое дело и работали неплохо. Что же до сложившейся «голодовки», вину за нее должен в значительной мере возложить на себя (не рассчитал расход продуктов) и завхоза, сидевшего на базе и не приславшего пополнения продовольствия с транспортом, перевозившим нас с прежней стоянки.
Посоветовавшись с Лисиным и Скороделовым, я решил поправить наши дела за счет горного отряда, благо, он стоял на Большой Каменке в пяти километрах от нас. И я знал, что у них всего навалом: и тушенки, и сгущенки, и разных супов в банках, есть даже картошка, которую их начальник Николай Гудошников выпросил прямо с огорода завхоза Феоктиста. Написал Гудошникову записку, позвал двух друзей — Алика Кильдеева и Володю Яка, приказал им взять рюкзаки и отправляться к горнякам. Эти двое ребят были полной противоположностью друг другу. Первый, Алик, бывший студент-геолог Иркутского университета, отчисленный за какие-то прегрешения, был невероятной помесью азербайджанца и бурятки. Но унаследовал преимущественно отцовские гены: был черен, высок, строен и имел взрывной кавказский характер. Никаких признаков монголоидности от своих бурятских предков он не получил. Як, напротив, был рыжеват, коренаст, голубоглаз и происходил из эстонской ссыльной семьи, относившейся к первой волне ссылок прибалтов (1940-41 годы). Характер имел не то чтобы «нордический», но довольно флегматичный, временами был непробиваемо ленив и, что греха таить, просто туповат. Как-то по приезде на новый лагерь он спросил у Скороделова:
— А где здесь север?
Получив ответ, заметил:
— А у нас в Мурте вон там, — и показал на запад под смех публики.
Алик как-то сразу взял его под свою опеку и не позволял многочисленным острякам потешаться над парнишкой. В этот раз можно было не брать их в довольно короткий дневной маршрут, и я уже утром задумал эту депутацию к горнякам. Потому они весь день провели в лагере вместе с радисткой, как бы охраняя ее. Когда же получили задание на поход, сначала было заартачились.
— Почему именно мы? — спросил Алик.
— Потому, что именно вы весь день отдыхали, а остальные работали.
— Где их, тех горняков, искать, да еще к вечеру? — проворчал Як.
— Искать нечего, они стоят на левом берегу Каменки в пяти километрах выше устья Малой. Как из нее выйдете, поворачивайте направо и идите, пока не увидите палатки. Отдадите записку, загрузите продукты, там написано, какие, и назад. Мы вас ждать будем, а то еще и встретим.
Недовольные парни, которым я бессердечно испортил вечер, не дав поиграть в «подкидного дурака» с девчатами, вскоре исчезли в узком устье долины. Там с обеих сторон высилось по сопке, над которыми сейчас, как и весь день, висело серое осеннее, но сегодня не дождливое небо. Тем не менее некоторые из нас сегодня основательно вымокли, когда, возвращаясь из маршрута, переходили вброд Большую Каменку. Особенно досталось Борису Скороделову, который поскользнулся на камне посреди реки и плюхнулся в воду всем своим немаленьким телом. Сентябрь — не июль, когда такое купание просто приятно, потому там, на берегу, он только выжал энцефалитник да вылил воду из сапог, а сушиться по-настоящему пришлось в лагере у костра. Другие повесили там же на специально для того сделанных вешалках штаны, носки и портянки. Мы с Лисиным, зная о предстоящем броде, ходили в болотных сапогах и в сушке не нуждались.
Слева В. Як, третий слева А. Кильдеев, четвертый Б. Скороделов, справа автор
Поэтому, отправив «депутацию», мы с ним забрались в мою палатку, развернули топографическую карту и нашу «карту фактического материала» (ее ведут все геологи на полевых работах) и занялись планированием дальнейших работ. Сезон кончался, с заданием мы, в основном, справились, впереди маячили премии и отпуска, надо было только достойно завершить дело. Вот об этом «достойно» мы и думали.
Но последим за нашими делегатами, тем более что сами они отнюдь не скрывали происшедшего, хотя хвастаться было вовсе нечем.
Выйдя из долины Малой Каменки и повернув направо, они не спеша продвигались по торной тропе и, как ни медленно шли, вскоре преодолели половину расстояния. Им захотелось перекурить. Для этого они поднялись с бичевника, от воды, на коренной берег, покурили и тут обнаружили, что сидят у подножия высокого косогора, покрытого мхом и сплошным ковром вечнозеленого брусничника, обильно усыпанного крупными спелыми ягодами. Естественно, они соблазнились, да и кто устоял бы перед таким подарком природы! Вот и двинулись зигзагами вверх по косогору. Ягоды они не собирали — незачем было. Горняков таким подарком не удивишь, да и в нашем лагере все брусникой были сыты по горло. Брали ягоду они в соответствии со своими характерами: Алик набирал горсть и отправлял ее в рот, а Як, поначалу тоже действовавший так же, потом заленился и ел ее просто по-звериному — ползал и ловил открытым ртом сочные гроздья.
Так продолжалось, пока Як не уперся во что-то лбом. Тут он приподнял наконец лицо и увидел перед собой огромную медвежью башку. Як вскочил, заорал что было духу и бросился вниз. Медведь рявкнул и тоже понесся, но вверх. А перед тем с ним случился приступ известной «медвежьей болезни». Як не успел повернуться, как в него ударила струя зловонной жидкости, слегка уменьшившая панику. Он добежал до речки и вскочил в нее. Алик, заходившийся нервным смехом, подбежал к нему, по пути сломав несколько пихтовых веток. Боязливо озираясь, они пытались оттереть вонючую жижу. Но безуспешно. Тогда Алик предложил Володе раздеться и отстирать энцефалитник с песком, что тот тут же и сделал. Позже Алик, посмеиваясь, говорил, что не знает, где было больше «ароматного» добра, снаружи штанов или внутри. Но это, пожалуй, уже из области красного словца. Более или менее отмыв горемыку, они развели большой костер и подсушили пострадавшую одежду. А там и дальше пошли, тревожно оглядываясь. Но медведь, видимо, тоже сытый впечатлениями, больше не появился.
Вскоре они подошли к лагерю горняков. Навстречу вышел сам Гудошников, взял записку, повздыхал и сказал:
— Хорошо, что вы пришли, ребята. Я как раз сам собирался к вам пойти. Нам тоже нужна помощь, но другого рода. Медведи нас замучили. Каждую ночь приходят в лагерь, сжирают все, что приготовим с вечера, раскидывают посуду, хорошо хоть по палаткам пока не шарят. Хочу просить Круся с его «браунингом» и псом. Уже пришел бы, но знаю, что Крусь ездил в экспедицию, а сейчас на базе сидит и ждет коней. Когда уже те кони у Казарова освободятся? Хоть к нему иди за Левой Мацкевичем, его ж не зря зовут «Лева — медвежья смерть». А у нас толковых охотников нет, да и оружия — только двустволка Коли Розниченко. Вот и боимся нос из палатки высунуть. Всю ночь дрожим. Оставайтесь, переночуйте у нас: посмотрите, что такое здесь медведи.
Алик засмеялся:
— Уже посмотрели. Видите, Володька еще мокрый. Только что встречались вон там, на горке, — в детали он решил не входить, загрузил свой рюкзак, посмотрел, как укладывает продукты Як. Отобрал у того по понятным причинам крупу и концентраты, подкинув взамен сколько-то тушенки и супов в банках. На том делегаты распрощались и, робея, пошли к себе, громко гремя камнями на бичевнике. Проходя окаянный косогор, они запели во все горло. Жаль, слушать их было некому.
Вернемся теперь в наш лагерь на взгорке над Малой Каменкой. Здесь царили тишина и спокойствие. Большинство населения уже высушилось и разбрелось по палаткам. Только Скороделов стоял у костра и досушивал свои штаны и портянки. Да девчонки неподалеку от него занимались какими-то своими делами. Мы с Лисиным в моей палатке продолжали размечать следующие маршруты, покуривая толстые цигарки.
Внезапно все пришло в движение. Сначала раздались женские голоса:
— Леонид Георгиевич! Карабин! Давайте карабин!
А следом заорали и мужчины, высунувшиеся из палаток:
— Ружья хватайте и сюда! Ру-ужья!
Карабин у нас был только один. В моей палатке. Малокалиберный ТОЗ-17. Ружей было два: курковая тулка у Бориса да бескурковка-ижевка у Павлика Моргунова. Мы с Лисиным одновременно сунулись к выходу и, конечно, застряли, помешав друг другу. Но перед тем я успел выхватить из-под спальника «тозовку» и кинуть ему, а сам сдвинул по поясу из-за спины на живот кобуру с тяжелым офицерским «вальтером». В голове у меня вертелось: «Опять, наверное, глухарь прилетел». Такое уже было утром, прилетел и уселся на сосну над костром. Пока шумели и суетились, он спокойно улетел.
Потолкавшись задами в полах палатки, мы с Лисиным, наконец, выбрались из нее. И оторопели от неожиданной картины, представшей нашим глазам.
Лагерь наш стоял прямо над давно заброшенной дорогой из Енисейска на Северо-Енисейские прииски, шедшей вдоль Малой Каменки. И вот по этой дороге в сотне метров от нас, высоко вскидывая зад, несся медведь, а за ним, размахивая белой портянкой, что было духу бежал Борис Скороделов. Сцена была уморительной. Давясь от смеха, мы с Валерой закричали:
— Борис, стой! Куда ты?! Стой!
Но то ли он не слышал нас, то ли азарт погони захватил парня, никакой реакции не последовало. Гонка продолжалась. Орал уже весь лагерь. Это немного подействовало. Борис па мгновение приостановился. Я взял у близорукого очкастого Валеры «тозовку», передернул затвор, дослал из магазина патрончик и попытался прицелиться. Но на линии огня маячила фигура Бориса с портянкой в руке, заслоняя медведя. Впрочем, тому эта гонка надоела, и он юркнул в кусты над речкой. Борис подбежал к этому месту и, слава Богу, остановился. В кусты за зверем он все же не полез.
Я отдал «тозовку» кому-то из ребят, вытащил пистолет и в сопровождении всей оравы, к этому моменту вполне вооружившейся, пошел навстречу как-то странно ковылявшему к нам Борису. Встретившись, он пожаловался:
— Все ноги посбивал, пока гнался.
— А зачем ты за ним гнался? — кто-то спросил. — Без оружия, с одной портянкой…
— А он хотел дать медведю ее понюхать — сразу наповал.
Хохот заглушил эту реплику. Но Борис, похоже, начисто утратил чувство юмора и не нашел ничего лучшего, как сказать:
— Я хотел вам показать, где он свернет.
Это изречение вызвало новый пароксизм смеха. Так под хохот и шуточки мы и вернулись в лагерь. И там долго еще не могли успокоиться. Все смеялись и подначивали Бориса. Я попросил его рассказать, как все произошло, — ведь начало происшествия знал он один. Оказалось, когда Борис досушивал свои портянки, он услышал треск сучьев и топот, потом увидел, что с горы к нему бежит медведь. Тот подбежал прямо к костру (и Борису), негромко рыкнул, выскочил на дорогу и помчался по ней. Борис, ничего не успев сообразить, пустился за ним, чем только добавил зверю прыти. Портянку он просто забыл в руке. Я спросил его:
— А если б он повернулся — и на тебя?
Ответ был такой:
— Тогда бы он гнался, а я удирал.
Всю картину мы смогли восстановить, когда пришла наша депутация. Вдоволь насмеявшись над скороделовскими догонялками, «депутаты», смущенно заикаясь, рассказали о своих приключениях. При этом Алик изменил своему обыкновению защищать Яка и выложил все, как было. Тогда мы и сделали вывод, что к костру прибежал напуганный Яком медведь. Перемахнул через гору и оказался в нашем лагере носом к носу с Борисом и его портянками.
Деревянный человек
Этот парень ничем особенным среди нас, геологов и геофизиков Казачинской геолого-поисковой экспедиции, не выделялся, кроме, разве что, своей выдающейся фамилии. Звали его Дима Байкалов. Но фамилия и сыграла с ним недобрую шутку. Начальница нашей минералогической лаборатории Валентина Александровна Загниборода, женщина не самой первой молодости, утратив надежду создать полноценную семью, поехала куда-то на юга и возвратилась, уже ожидая ребенка. Выносила его и в установленные природой сроки родила младенца, мальчика, не отличавшегося здоровьем. Когда пришло время регистрировать малыша, в ЗАГСе ее спросили о фамилии и отчестве новорожденного. Счастливая мамаша, разумеется, не захотела наделять его своей не очень благозвучной фамилией и, не мудрствуя лукаво, сказала, что фамилия Байкалов, а отчество Дмитриевич.
Можно себе представить, как такие действия самоуверенной и внешне аристократичной дамы обрадовали жену Димы Галину, работавшую под началом Загнибороды, и что пришлось пережить Диме. Во всяком случае нам, его соседям, пришлось не раз слышать из-за стенки шумное выяснение отношений между супругами, рыдания Галины и басовитый крик Димы.
Общественное мнение но этому поводу разделилось. Никто особенно не верил, что у Валентины были серьезные основания именно так «окрестить» сына — слишком уж различными были она и туповатый, хотя и внешне далеко не безобразный Дима. Поэтому часть особенно жарко обсуждавших эту проблему женщин полагала, что Валентина имела полное право присвоить ребенку любую понравившуюся фамилию, а отчество — что ж, если действительного отца звали именно так, ведь это знает только она. Следовательно, ее и воля. Другие, наоборот, считали, что нельзя было так поступать, именно щадя мир в семействе Димы и Галины, и что Валентина обязана была принять это во внимание, а красивых фамилий на Руси сколько угодно. Могла и Онегиным обозвать, и Ладогиным, раз ей так озера импонируют, да хоть Балхашовым. Посмотрела на карту — и, пожалуйста, вот тебе фамилия.
Но постепенно эти пересуды исчерпали себя. В семье Байкаловых восстановились мир и покой, а там и весна пришла. А с ней пора Диме собираться в поле. В тот сезон он оказался в партии Исаака Табацкого, которая должна была вести геологическую съемку по берегам рек Сым и Кас, впадающим в Енисей ниже города Енисейска. Обе эти реки были когда-то судоходными, а Кас так и вовсе входил в Обь-Енисейскую водную транспортную систему в начале XX века. В верхнем течении его сохранились даже шлюзы, хотя и не действующие теперь.
Впрочем, в начале рассказа я был несправедлив к Байкалову: внешность его была довольно незаурядна— рост выше среднего, широкоплечий, с румяным лицом («кровь с молоком»), темными вьющимися волосами, словом, ладно скроен и крепко сшит. Женщинам он, чего скрывать, нравился. А заурядность его, о которой было сказано, относилась к профессиональным качествам, что объяснялось простой ленью и нежеланием нашего героя делать что-то сверх обычных обязанностей. Его начальник Исаак больших надежд на сего «красавца мужчину» не возлагал. Но элементарные задания, не требующие большой сообразительности и служебного рвения, поручал ему совершенно спокойно. Так и было той весной, о которой здесь идет речь.
Экспедиционное начальство в целях экономии времени на завоз партий к местам работ решило применить комбинированный способ транспортировки. Основную часть грузов доставить автомашинами в Енисейск, а там перегрузить на баржи и дальше на Север везти уже по Енисею и его притокам. На мою партию эти новации не распространялись, так как Енисейск находился непосредственно на территории наших работ, а в качестве полевой базы партии был избран крошечный поселок Байкал в двадцати пяти километрах выше Енисейска. (Понятно, что совпадение этого названия с Диминой фамилией дело чисто случайное. Байкал — название озера, расположенного в километре западнее поселка. Озеро имеет форму правильного крута и окаймлено пологим невысоким валом. Поэтому мы считали, что оно образовалось вследствие падения метеорита.)
В рамках этой схемы Табацкий поручил Диме доставить в речной порт Енисейска груз снаряжения и самое ценное — радиостанцию ПАРКС-008. Все добро было погружено на машину ГАЗ-51 шофера Сашки Калинкина. Выехали они поздновато, около полудня. Но дорога до Енисейска была по тем местам и временам неплохой, а кое-где имела даже твердое покрытие (булыжник или асфальт). Но вечером, уже после конца рабочего дня, Табацкого и меня, посыльным вызвали к начальнику экспедиции Пельтеку, который сообщил, что на Енисее началось наводнение: ниже Енисейска поздно пошедший ангарский лед образовал мощный затор, и Енисей в городе, поднявшись на девять метров, начал затапливать улицы. Ехавший с Димой радист Володя Арбузов исхитрился развернуть свою радиостанцию и сообщил, что Дима зачем-то разгрузил машину на бугорке в пойме Енисея, не доезжая до села Абалакова, и теперь они сидят на островке, который скоро может быть затоплен. Он просит оказать им помощь и вытащить из моря, в которое на глазах превращается Енисей. Чем руководствовался Дима, мы понять не могли. Машину он отпустил. Сашка сейчас был на пути в экспедицию и, если он не зарулит к какой-нибудь знакомой, то приедет к полуночи.
Начальник экспедиции Е. И. Пельтек сказал нам, что единственный способ оказать ребятам Табацкого помощь — это направить к ним единственный в экспедиции стопятидесятисильный катер-ярославец «Геолог», который стоит сейчас у пристани села Юксеева, нашей обычной перевалочной базы. Соответствующее распоряжение капитану «Геолога» Железняку он уже отдал радиограммой. Остановка только за нами. На выраженное мной недоумение, а я, мол, здесь причем, он заметил, что знает, как мы в партии спорили о месте полевой базы и, не решив это дело, как следует, выгрузились просто на террасе Енисея у поселка Байкал. Наводнение может достать и их. Поэтому мне нужно идти на выручку вместе с Табацким. Но больше он нам ничем помочь не может, даже с доставкой в Юксеево, так как все машины в разгоне. Поэтому, мол, добирайтесь, как сумеете, но выйти вниз должны не позже двадцати одного часа.
Шансов быстро добраться до Юксеева у нас практически не было, поскольку рабочий день давно кончился, и попуток на дороге ждать не приходилось.
Уходя, я забежал на радиостанцию, узнал, что ее начальник каждый час связывается с Володей, сказал ему о решении Пельтека и попросил поддерживать в течение ночи связь с «Геологом», пока мы не доберемся до «отшельников» на их островке, и информировать нас о положении дел. Он обещал.
Когда мы с Исааком вышли на юксеевскую дорогу, она была совершенно пустынна. Мы решили провести пробную пробежку в этом марш-броске на двенадцать километров. Физические данные у обоих были почти одинаковы. Оба небольшого роста, только я и тогда был сухощав и костист, а Табацкий, напротив, полноват. Поэтому я поглядывал на него немного снисходительно. Сходство с армейским марш-броском усиливалось нашей одеждой: оба были облачены в энцефалитники и сапоги, да сумки на плечах и наганы на поясах. Словом, экипировка для стайерского забега не самая подходящая. После полукилометровой дистанции я оказался на добрую сотню метров впереди и тут же пожалел об этом.
Сзади раздался треск мотоциклетного мотора. Табацкий замахал руками, как ветряк, и мигом оказался за спиной у водителя. Поравнявшись со мной, он крикнул:
— Давай, жми-дави! — и скрылся в облаке пыли.
Мне оставалось надеяться на такое же везение. Поэтому, пройдя немного шагом, я перешел опять на рысь и так топал целый километр, благо, километровые столбы на дороге были расставлены аккуратно. Так и пошло — километр бегом, полкилометра шагом.
Скоро мой энцефалитник можно было выжимать, так он пропитался потом, а я все бежал и оглядывался, а нет ли спасительной машины или хоть завалящего мотоциклишки на дороге. Но судьба не была снисходительна ко мне. Пришлось одолевать всю дистанцию своими силами. Через полтора часа с момента старта я увидел село, дебаркадер у берега и прижавшийся к нему катер. У дебаркадера остановился, скинул окаянную энцефалитку и надетую под ней ковбойку и с наслаждением ополоснулся ледяной енисейской водой. Утерся сунутым женой в сумку полотенцем и поднялся на палубу «Геолога».
У рубки меня встретили Железняк и Табацкий. Последний спросил:
— Ну, как, подвез кто-нибудь? Или так, пешедралом?
— А ты не видишь? Не всем же так везет, как тебе. Могли бы и меня взять на бак.
— Да он еще начинающий мотоциклист. У него и прав еще нет, мальчишка.
Железняк, мой старый знакомый по другой экспедиции, где я был на практике, задал самый важный вопрос:
— Что будем делать, еще чего-нибудь ждать или отвалим?
— Ждать больше нечего. А как ночью, пройдем?
— Куда мы денемся. Пройдем, конечно, бакена уже поставили. Лишь бы в Казачинском пороге не придержали.
Мы хором ответили:
— Тогда вперед, за орденами.
Железняк зашел в рубку и подал короткий сигнал сиреной. Рубка моментально наполнилась людьми. Железняк сообщил им:
— Снимаемся на устье Ангары. Там началось наводнение и люди кукуют в пойме, надо выручать. Механик, как машина, готова?
Здоровенный парень в изрядно замасленной тельняшке коротко сказал:
— Как всегда.
— Ладно тебе, «как всегда», третьего дня на Стрелке ты сколько нам голову морочил? А все дело было не в масле, как ты сказал, а в Нюрке Сметаниной. Лады! Все на борту? Тогда по местам стоять, со швартовых сниматься!
Железняк, закончивший Красноярское речное училище, действительную службу проходил на Тихоокеанском флоте и на своем судне придерживался военно-морских порядков. Кстати, он никогда не называл свой «Геолог» катером, а только теплоходом. Ибо какой же на катере капитан, только старшина, не более.
Рубка опустела, а через минуту-другую зарокотал дизель, задрожала палуба, послышался топот и крики матросов, снимающих швартовы с кнехтов дебаркадера. Железняк встал к штурвалу, произнес гагаринское «Поехали!» задолго до самого Гагарина и отвел нос катера от дебаркадера. «Геолог», разворачиваясь, описал большую дугу, вышел на фарватер и резво побежал вниз по течению.
Мы с Табацким уселись за спиной капитана на маленький диванчик и стали смотреть на мелькавшие за стеклами полузатопленные тальниковые кусты, оставшиеся от ледохода еще не смытые гряды льда, красные и белые трехгранные пирамиды бакенов. Железняк подозвал стоявшего у двери помощника и приказал принести лоцию. Помощник принес большой альбом с цветными картами Среднего Енисея, а я вытащил топографическую карту своего района работ, где были и Абалаково, и Стрелка, поселок в устье Ангары. Все это добро мы разложили на том же диванчике, где до того сидели. Железняк открыл лист, где было видно Абалаково, расположенное на высоком взгорке. Рядом была наглядно изображена пойма с ее купами кустарника, озерцами и редкими бугорками. Дорога, или как ее там называют, Енисейский тракт, в лоции показан не был. Зато он наличествовал на моей карте. Железняк включил лампочку над головами у нас, так как уже начинало темнеть, и повернул мою карту так, чтобы контуры реки совпадали с изображенными в лоции. Долго вглядывался в обе и спросил:
— Ну и где, по-вашему, они сидят? Не забывайте, что посуху мой теплоход ходить не обучен.
Я тоже присмотрелся к картинкам, разглядел на своей то-покарте прерывистую горизонталь, которая дважды пересекала тракт возле ручья, протекающего прямо у подножья абалаковского холма, и с большой долей уверенности ответил:
— Посуху не понадобится. Скорее всего, они сидят вот здесь, рядом с мостиком.
— Почему так думаешь? — спросил уже Табацкий.
— А я сто раз там ездил и хорошо помню этот бугор перед ручьем. По-видимому, Сашка побоялся, когда вода выступила на пойму, выезжать на мост. Тут-то шлея и попала Диме под хвост. Поэтому он и стал разгружаться, а Сашка не помешал, тоже перец хороший. Отсюда два вывода. Первый — подходить к ним будем по руслу ручья. Второй — надо, чтобы они себя обозначили. Костром, что ли, или ракетами, если есть у них.
— Есть, есть, — сказал Исаак. — Я видел, у Димы их полная сумка. Тех, что с рук запускаются. Дернешь за шнурочек, она и полетела.
— Добро, коли так, — прокомментировал Железняк. — Но ракеты хорошо, а фальшфейеры, те, что в руках горят, были бы получше. Если вода прибыла метра на два, туда, безусловно, пройдем. А пока пошли в радиорубку. Узнаем, что с последней связью прояснилось.
Мы прошли к радиорубке, где слышался писк морзянки, но войти туда не смогли — слишком уж тесной она была. Открытая дверь позволила общаться с радистом без помех. Он доложил, что только что провел сеанс с экспедицией. Экспедиционный радист Саша Крук сообщил, что он хочет связать «Геолог» с Арбузовым напрямую, но у того садятся аккумуляторы и их может не хватить до нашего подхода туда, а, значит, невозможно будет и обеспечить этот самый подход. Он, радист «Геолога», сейчас попробует связаться с Арбузовым и, если все нормально, будет держать связь самым экономным образом. Железняк, да и мы с Табацким, такую схему одобрили и вернулись к рулевой рубке.
Тем временем идущий полным ходом «Геолог» вошел в узкую, огражденную высокими мрачными скалами часть енисейского русла, именуемую Предивинской Швейцарией. Полюбоваться ее красотами в темноте было невозможно, поэтому мы могли только поговорить о них, покуривая на скамейке под передним стеклом рубки. Докурив папиросу, я размахнулся было, чтобы отправить ее за борт, но Железняк перехватил руку:
— Ты ж со мной не первый раз идешь. Забыл, что нельзя за борт всякую дрянь швырять?
Что и говорить, строг был капитан «Геолога». Пришлось мне, смущенно извинившись, воспользоваться висевшей за спиной консервной банкой-пепельницей.
Медлительному Исааку извиняться не понадобилось.
Капитан посмотрел на светящийся циферблат часов и пригласил:
— Ну, гости дорогие, по-моему, нам пора поужинать. Пойдемте в кубрик и посмотрим, что там наша «кокша» приготовила.
Мы зашли в рубку и спустились по внутреннему трапу в кубрик, выполнявший и роль кают-компании, где мне приходилось бывать уже не раз в прошлые мои походы на «Геологе». Там нас уже ждала повариха («кокша», по-железняковски). Середину кубрика занимал большой, сверкавший чистотой стол. По бокам его находились длинные рундуки, крышки которых были одновременно довольно мягкими диванами, спальными местами членов команды. На столе стоял укрытый полотенцем металлический бачок, вокруг которого расположились три тарелки и столько же стаканов.
Железняк уселся на табурет-разножку во главе стола. Мы с Исааком разместились на диванах. В носовой части кубрика открылась дверь. Из нее появилась молодая «кокша».
Не оборачиваясь, капитан сказал:
— А вот и хозяйка! Прошу любить и жаловать, Октябрина или просто Брина Вылегжанина. Плавает со мной уже четвертую навигацию. Дама строгая. Даже я ее побаиваюсь.
— Вас напугаешь… — сказала Брина и сдернула полотенце. Пожалуйста, макароны по-флотски с говяжьей тушенкой. И, конечно, компот.
— С компотом не спеши. У нас кой-чего получше есть, — он нагнулся и извлек из-под стола три бутылки «Жигулевского», продукта в тех краях крайне дефицитного.
— Брина, дай ключ, — улыбнулся он «кокше».
Девушка пошарила в кармане белого передника и протянула ему консервный ключ для банок. Он откупорил бутылки и поставил перед каждым. Налил в свой стакан пенную жидкость и с наслаждением выцедил ее сквозь зубы. Потом пояснил:
— Сегодня останавливался в Юксеево «Чехов», а на нем старпомом ходит мой однокашник по училищу. Он и поспособствовал. Провел в буфет и помог принести ящичек. Мы тут уже понемножку разговелись. У нас жестко со спиртным. В рейсе ни-ни, а пиво я разрешил по бутылочке.
Мы съели показавшиеся вкуснейшими макароны, поблагодарили сидевшую в уголке Брину и, с согласия капитана, поднялись наверх, в рубку. Как раз вовремя. «Геолог» подходил к Казачинскому порогу. Капитан подошел к вахтенному помощнику, принял у него штурвал и, увидев разрешающие входные огни, вроде самому себе проговорил:
— Ну, благослови, Господи. Хорошо, что встречных нет.
Катер понесся как пришпоренный конь. Через минуту-другую мы уже проскочили порог и понеслись мимо стоящих у левого берега в два ряда барж и паузков (это те же баржи, но небольшого размера). Они, скорее всего, шли наверх, в Красноярск, из расположенного ниже Енисейска Подтесовского затона, а здесь отстаивались ночью.
Поэтому замечание Железняка было вполне уместно: пережидать, пока такой караван поднимают через порог с помощью туера, привязанного тросом парохода, пришлось бы не один час. Железняк, передавая штурвал обратно помощнику, сказал:
— Везет вам, ребята.
— Не нам, а Диме с Володей. Пойдем, узнаем у радиста, какие новости.
Мы опять втроем подошли к радиорубке. Радист снял наушники и доложил:
— Только что работал с Арбузовым. Радуется, что мы идем к ним, а питание у него действительно садится. Слышно, как ослабевает сигнал.
— Ты передал насчет костра и ракет?
— Обижаете, капитан. Когда я вас подводил? Все, как положено, ему отстучал и получил квитанцию.
— Какую еще квитанцию? Бумажку, что ли, прямо по радио?
Пришлось мне вмешаться:
— Это у радистов так называется. Просто он передал набор из трех букв QSL или по-русски ЩСЛ, что значит, он все принял и понял. У них много таких знаков для переговоров. Целых два кода есть — Щ-код и З-код.
— И все? Понятно. Ладно, ребята. Поздно уже. Может, пойдете поспите в кубрике, там сейчас как раз два свободных места, а я пойду к себе, тоже немного отдохну, пока до Стрелки дойдем. Как раз там, похоже, моя вахта начнется в два часа.
Мы отказались, сказали, что посидим на палубе, пока не подойдем к месту.
Стемнело, насколько вообще смеркается в тех краях в мае в начале белых ночей. Заботливый капитан, увидев, что мы стали ежиться от ночного холода, приказал матросу, стоявшему у входа в рубку, принести нам ватники, «дежурные», как он их назвал. Мы надели их и уселись на ту же скамейку перед рубкой. Капитан ушел в свою каюту. А мы продолжали любоваться пробегающими мимо берегами с редкими деревнями, одинокими домиками бакенщиков и самими бакенами с их красными и белыми огнями.
Попался нам, наконец, и первый встречный теплоход из тех, что на Енисее называют «петушками». Он был раза в три больше нашего и на носу имел сооружение, похожее на этажерку, предназначенное, чтобы упираться в баржи и толкать их. Считается, что такой метод проводки караванов эффективнее, чем тащить их за собой.
Мы понаблюдали за процедурой расхождения. Оба судна помигали огнями, соглашаясь разойтись правыми бортами. Днем эта операция обозначалась белыми флагами, которыми махали вахтенные, высунувшись из рубки.
Петушок развел большую волну, на ней довольно сильно покачался наш «Геолог». Наконец в нескольких километрах впереди мы увидели на правом берегу много огней. Это была Стрелка, порт в устье Ангары. Там всегда толпились десятки судов, так как именно отсюда гнали огромные плоты знаменитой ангарской сосны в низовья Енисея, главным образом, в Игарку, где лес грузили на морские суда, в том числе иностранные. На палубе возник Железняк, подошел к нам, спросил:
— Ну, как, не заколели тут на свежем воздухе? Спать не захотели?
— Все нормально, капитан. Спасибо за телогрейки.
— Что ж, будем начинать поиски. Пойду сменю старпома и, как пройдем устье, начнем сигналить.
Из рубки вышли старпом и вахтенный матрос. Оба подошли к нам и присели с папиросами в зубах. Старпом, ни к кому не обращаясь, сказал:
— Светает, а вон в устье какая-то белая муть. Не было бы тумана, а то в нем поблукаем. Не пришлось бы самих выручать, если где-нибудь на мель усядемся.
— Бог не выдаст, свинья не съест.
Сменившиеся с вахты нырнули в дверь рубки, послышался грохот их сапог на трапе.
Мы зашли в рубку. Железняк стоял у штурвала, как статуя, лишь иногда чуть двигал руками, выправляя только ему видимые отклонения от курса. Он выдернул пробку из переговорной трубки и крикнул:
— В машине! Сменились? Подходим к месту. Следите за телеграфом, будем часто хода менять. Понятно?
Трубка пробубнила что-то. Закончив этот разговор, Железняк обратился к нам:
— Как я понимаю, нам придется их искать вроде черной кошки в темной комнате: туман накрыл устье Ангары и Бурмакинский плес.
Действительно, теперь и мы видели белую полосу сразу за Стрелкой. Туман лег как-то избирательно: до Ангары его не было, а за ней — пожалуйста. Впрочем, для Ангары такие штуки характерны, стоит вспомнить, что она триста километров не смешивает свои сине-зеленые воды с желтыми енисейскими. А здесь и объяснение было наготове: по ней только что прошел лед, и ее вода была хоть чуть холоднее енисейской. Но, Бог с ней, метеорологической теорией.
Пока я все это обдумывал, мы прошли Ангарское устье и вышли в Бурмакинский плес, о котором говорил Железняк. Дело в том, что перед впадением Ангары Енисей имеет ширину 800 метров, а Ангара в устье — два километра, и от этого устья начинается тот самый плес трехкилометровой ширины. Такое соотношение вызвало долгие споры геологов и геоморфологов, что во что впадает и правильно ли называть реку ниже Стрелки Енисеем. Изучив древние отложения того и другой, остановились на том, что менять ничего не нужно: Ангара все-таки помоложе Енисея.
А пока Железняк повел «Геолог» вдоль левого берега. Он был отмелый, но это в межень, летом, а сейчас, в наводнение, он явно не опасался здесь мелей и потому только перевел стрелку машинного телеграфа на «малый вперед». Команду сразу же выполнил механик в машинном отделении. «Геолог» сбавил скорость, а капитан послал вахтенного матроса на нос с мерным шестом-наметкой и приказал ему докладывать, как только глубина станет меньше метра. Матрос несколько раз окунул шест в воду, но молчал: значит, мели, как и предполагал Железняк, не было. Проплывавшие мимо в туманной мгле тальники стояли, что называется, по пояс в воде. На них сохранились еще желто-зеленые цветы-сережки, хотя много их плавало и среди кустов, и на открытой воде.
Железняк открыл лобовое стекло и крикнул:
— Ну, что там?!
— Больше полутора метров! — откликнулся матрос. — И щука здоровенная только что перед носом хвостом плеснула.
— Бреши больше! — опуская стекло на место, буркнул Железняк и обратился к нам:
— Уже версты две прошли Бурмакинским. Не пора сигналить?
Он поднял руку и взялся за цепочку, включающую сирену. Истошный вой огласил плес и затопленную пойму. С нее снялись сразу две стаи крупных уток и пронеслись над катером. Железняк щелкнул тумблером и сказал в торчащий перед ним микрофон:
— Радисту — в рубку.
Его голос из динамиков разнесся почти так же, как звук сирены. Радист возник сразу. Команды капитана здесь выполнялись мгновенно. Железняк спросил:
— Что с островитянами? Связь держишь?
— Всю ночь держал. Он почти заглох. Видно, совсем сели аккумуляторы, но обещал слушать. У них вода уже к входу в палатку подошла. Сильно боятся.
— Ну, иди, скажи ему, пусть дают ракету. А вы (это уже нам с Табацким) идите и смотрите, где будут ракеты. Туман туманом, но высота его слоя не больше пяти метров. Поэтому ракеты должны быть видны хорошо, если пускать их будут не очень далеко.
Мы вышли на левый борт, услышали, как хлопнула дверь радиорубки, и задрали головы, чтобы не пропустить ракету. Железняк тем временем опять включил сирену. Ее вой оглушил нас — ведь размещалась она на верху рубки, на мостике, то есть прямо над нашими головами. Через несколько секунд слева от курса «Геолога» взмыло красное пятно, довольно размытое и отливающее каким-то перламутровым оттенком. Ракета! Но достаточно далеко еще.
Я открыл дверь в рубку:
— Есть! Слева градусов тридцать от нашего курса. Видел?
— Конечно, видел. Скоро тот ручей, что ты говорил? Узнаешь ты его?
— Я не знаю нашего точного места сейчас. В этом молоке трудно ориентироваться, но постараюсь угадать.
В этот момент раздался крик нашего впередсмотрящего:
— Капитан! Глубина — метр!
Щелчок тумблера, и динамики над головами рявкают:
— Есть метр! Принимаю вправо! Меряй дальше.
Из тумана перед носом «Геолога» возникла новая группа кустов, и Железняк уже без микрофона прокомментировал:
— Так… вылезли на пойму. Еще немного и посуху пойдем.
Он дернул ручку машинного телеграфа на «стоп», потом еще раз — на «малый назад». Катер попятился, и опять звякнул телеграф: «малый вперед». Мы обошли новоявленный остров и двинулись дальше. Железняк снова включил громкую связь и вызвал радиста. Тот опять явился моментально.
— Ну, что там?
— Он говорит, что слышит нашу сирену. Недалеко уже. Но ракет у них мало. Сейчас он даст еще одну и перестанет. А потом перед самым нашим подходом еще запустит. У них там туман расходится уже. Так что станет полегче.
Мы все дружно посмотрели вперед. Да, вроде впереди по светлело. Ну, дай-то Бог.
Еще минута-другая, и катер вырвался из тумана. Я осмотрелся и тут же узнал место. До ручья оставалось не больше полукилометра. Через несколько минут мы дошли до его устья По моему сигналу Железняк перевел стрелку телеграфа на «стоп» и сказал:
— Давайте осмотримся и покричим малость, — он включил сирену, а в ответ из-за недалеких кустов со свистом и шипением вылетела красная ракета, в зените рассыпавшаяся на три.
Мы простояли без хода минуты три. За это время нас снесло вперед метров на пятьдесят.
— Ну что, поползем к ним? — неизвестно у кого спросил Железняк и решительно завертел штурвал, обозначив ход на телеграфе, как «самый малый вперед». Катер, развернувшись, медленно пополз вдоль изменивших свою ориентировку куртин тальника. Теперь они тянулись не вдоль, а поперек течения Енисея. Железняк поднял лобовое стекло и крикнул матросу на носу:
— Меряй почаще!
Тот замахал своим шестом, как ветряная мельница. Но молчал. Значит, идем точно по руслу ручья.
Так прошли с полкилометра и увидели слева палатку. Нам показалось, что она стоит прямо в воде. Но когда подошли вплотную, разглядели, что стояла она все-таки на земле, хотя вода уже достигала входа в нее. Из палатки высунулись две черноволосые головы. Потом один из обитателей палатки в болотных сапогах вылез из нее целиком, влез в воду по колени и, что было силы, замахал руками:
— Давайте сюда! Скорее!
На что Железняк ответил, но слышать его могли только мы:
— Скоро только кошки… родятся, но котята слепые бывают.
И матросу на носу:
— Сколько там?
— Восемьдесят сантиметров.
— Ясно. Подходим.
Он повернул штурвал и дернул ручку телеграфа на «стоп». Катер повернул и уткнулся носом почти во вход в палатку. Дима, а вылез из нее именно он, плюхнул пару раз сапогами и ухватился за якорную цепь, свисавшую вместе с якорем из клюза. Руки его дрожали, лицо было перекошено, губы тряслись. Стуча зубами, он проговорил:
— Пришли все-таки. Слава Богу. А мы уже думали, что придется вплавь до Абалакова добираться.
Табацкий вспомнил, кто здесь старший:
— А кто тебя, идиота, загонял сюда? Не видел и не понял, что происходит? Чего разгрузился, дубина?
— Я побоялся, что назад уже не проедем. А тут Абалаково рядом, можно на лодке все перевезти.
— Ну, вези, болван. Откуда тут лодки к тебе подойдут? Как там догадаются, что ты тут утопаешь?
На это Дима не нашелся, что ответить. Да и не нужен был никому его ответ. Меня он во всяком случае не интересовал. И я позвал:
— Володя, ты чего прячешься? Вылазь сюда!
Володя Арбузов в прошлом сезоне был радистом нашей партии. На редкость симпатичный парень, прекрасный специалист, он пользовался не то что уважением, а, прямо сказать, любовью всей партии. Зимой он учил нас, геологов, радиоделу. Из палатки глухо донеслось:
— А я не могу, я в тапочках.
— Здесь будешь оставаться, курортник в тапочках? — поинтересовался Железняк.
— Сейчас выйду, разуваюсь.
Володя вылез босой в засученных выше колен штанах. Железняк приказал команде надеть «болотники» и приступать к погрузке.
— А вы, «робинзоны», снимайте палатку и давайте ее на палубу.
Дима стал разматывать шнуры растяжек, а Володя, наоборот, сматывать медный тросик антенны, закинутый на ближайшие высокие кусты. Скоро палатка, утратив форму, лежала на ящиках и тюках, находившихся внутри нее. Исаак спросил у Володи:
— Ты упаковал рацию?
— Конечно. Потому и не вылез сразу, когда вы подошли. Только ящик с аккумуляторами пока не закрыл. Но их запру уже на борту. Они разряжены до нуля. Не думал, что выдержат последний сеанс.
Железняк, не выносящий пустой «лирики», отдал приказ:
— Кончай разговоры. Начинайте погрузку. Старпом, командуй.
В следующий момент вся толпа, стоявшая на борту и созерцавшая «робинзонов», оказалась в воде. На носу остались лишь сам старпом, Железняк да Брина. А погрузку начал Дима, подавший Табацкому скомканную палатку, приговаривая:
— А она подмокла по краям все-таки. Надо будет потом ящики проверить.
Железняк утешил «робинзона»:
— Ничего, высушишь. До Енисейска еще полтора часа ходу. Сядешь и своим задом высушишь.
Сказал и ушел в рубку. Плюхавшиеся возле сухого пятачка матросы и младшие помощники быстро закидали ящики и тюки на палубу, особо бережно принимая и устанавливая зеленые ящики, которые им подавал Володя. Среди них был и тяжелый, под полсотни килограммов, зарядный агрегат для аккумуляторов. Все это добро оказалось преимущественно на носу. Старпом кое-как распределил новый груз вдоль бортов, приказав матросам закрепить некоторые ящики за цепи и стойки на бортах, чтобы не упали на разворотах и резких переменах хода.
Железняк выглянул из рубки, недовольно скривился:
— Бардак на палубе! Старпом! Уберите, что можно, сами же не пройдете при швартовке. А то еще за борт попадаете. А пока всем свободным от вахты и пассажирам — на корму! Снимаемся на Енисейск. В машине! Запускай, поехали!
Снова зарокотал двигатель, катер, поднимая муть, попятился, а потом пошел задним ходом к открытой воде Бурмакинского плеса. Первая часть операции была выполнена. Теперь наступала моя очередь волноваться, как там мои ребята. Они, правда, на довольно высокой второй енисейской террасе находятся, а не на пойме, но мало ли что… Когда вышли на фарватер, я увидел, что вдоль правого берега тянется сплошная лента нагроможденного льда, а над ней желто-коричневая полоска обрыва. Но там, как я знал, та же вторая терраса. На ней мы ночевали в прошлом году, когда ходили на устье Ангары изучать опорный разрез. Тогда мы еще воевали с колхозным стадом, измявшим всю нашу посуду, легкомысленно оставленную у костра, а Павел Криволуцкий, затеявший это сражение, неосторожно ударив из-под марлевого полога кулаком по лбу пестрого быка, вожака стада, еще под утро убил у того же костра пришедшего на водопой зайца.
Так что, скорее всего, моя вчерашняя пробежка и весь этот поход по Енисею имеет чисто туристский интерес. Но все прояснится через полчаса, когда подойдем к Байкалу.
«Геолог», выйдя на фарватер, спокойно и быстро шел по реке и скоро поравнялся с нашей прошлогодней базой — деревней Рудиковкой на правом берегу. Точно напротив нее на левом находился большой поселок Ново-Маклаково, ныне целиком вошедший в город Лесосибирск.
Мы, пассажиры, и часть команды вольготно расположились на носу («баке») на ящиках и тюках, покуривали, бросали за борт окурки, не опасаясь отдыхавшего Железняка, и беседовали все о том же. Исаак спрашивал:
— Как же вы все-таки дошли до жизни такой?
Дима покраснел, надулся и рассказал:
— Как-как, да вот так. Когда проехали устье Ангары, в нескольких местах вода уже подошла к дороге, а кое-где вышла на нее. Я забеспокоился. Но Сашка сказал, что проскочим. Когда уже подъезжали к Абалаково, увидели, что мост залит, и какие-то бруски плавают возле него. Сашка испугался и отказался выезжать на мост. Я спросил, что же будем делать? Он говорит: «Не знаю, ты старший, ты и решай». Я спросил, назад проедем? А он: «Не знаю, как Бог даст». Тогда он сдал назад, на тот бугорок, где палатка стояла, и сказал: «Наверно, здесь разгрузимся, а потом вы сходите к мостику, покричите мужикам, чтобы приплыли к вам на лодке, тут лодок полно, перевезетесь в деревню, а там или я после приеду, или водой вас заберут». Вот так и дошли. Потом, вечером, до моста уже не смогли дойти — сильно глубоко стало, и вода все прибывала. Тогда Володя развернул кое-как рацию и связался с Круком. Он и сказал, что вы идете на выручку.
— На что ж ты надеялся, когда и до моста не дошел?
— Я знал, что вы нас не бросите, что-нибудь придумаете.
Во время этой беседы я смотрел на Володю, а он во время Диминого доклада то согласно прикрывал веки, то кивал головой. Исаак же резюмировал:
— Значит, решил все-таки не ты, а Сашка, но в одном ты прав, Пельтек сразу приказал послать «Геолога» и нас с ним. А до Юксеева, по твоей милости, добирались своим ходом. Вот он, — Табацкий показал на меня, — все двенадцать верст пёхом. Удовольствие! Надо было все-таки возвращаться вместе с Сашкой. И не ждать у моря погоды.
Я поднялся и пошел к радисту. Спросил, сообщил ли он и экспедицию, что ребят и их груз забрали. Он подтвердил, что такую радиограмму от капитана передал, а Крук сказал ему, что шофер благополучно ночью вернулся в экспедицию. Инцидент благополучно исчерпывался. Я уже был почти уверен, что с моими парнями ровно ничего не случилось. Но надо было убедиться. Наводнение — штука коварная, не хуже таежного пожара. Подберется водичка внезапно да и захлестнет, когда ты ни сном, ни духом не ждешь беды. Впрочем, моим есть куда удирать, хотя транспорта никакого нет. Рядом с Байкалом на очень нысоком берегу расположен Енисейский Дом инвалидов. Так что ничего серьезного им не угрожает. Почему я вчера об этом не вспомнил? Загипнотизировала решительность начальника экспедиции Пельтека. Вот и плыву неизвестно зачем.
Пока я все это обдумывал, мы прошли и Ново-Маклаково, и просто Маклаково и даже Ново-Енисейск, то есть все составные части теперешнего Лесосибирска, и на обрыве левого берега появились двухэтажные брусовые здания Дома инвалидов. В упомянутых поселках наводнение уже вполне чувствовалось: низменные улочки были затоплены до украшенных резьбой наличников окон. А вон уже и Байкал открылся. С десяток высоких сосен, а между ними столько же бараков и обычных деревенских изб, крытых почерневшим тесом.
За Байкалом берег несколько понизился, но уровень воды еще довольно далеко не достигал верха обрыва. А вот и сосняк немного расступился — та поляна, где выгрузился мой народ. И палатки уже выглядывают из-за вездесущего прибрежного тальника. Я подошел к рубке. На вахте был второй помощник, невысокий чернявый парень. За штурвалом стоял уже рядовой матрос-рулевой. Я показал им, куда подойти. «Геолог», шаркнув бортами по кустам, уткнулся носом в песок, немного подработал машиной, чтобы поглубже зарыться носом и не дать снести судно сильным течением. Меня удивило, что никто не вышел навстречу. Матросы установили крутую сходню, по которой я сошел на берег.
Там стояла тишина. Палатки были закрыты. Нигде ни души. Я заглянул в ближайшую и увидел «сонное царство». Все крепко спали, хотя было уже около одиннадцати часов. Я не придумал ничего лучше, как рявкнуть голосом ротного старшины:
— Подъем! Тревога!
Из спальных мешков, разложенных на пихтовом лапнике (где они его взяли, кругом одни сосны), высунулись головы:
— Кто и чего орет? Спать мешаешь, тревога тебе в печенку!
Одна из голов принадлежала старшему коллектору Саше Кулясову. Он узнал меня:
— А ты откуда взялся? Как сюда попал?
— Да вот, пришли на «Геологе» спасать вас, боялись, что наводнение и вас достало. Дима Байкалов с Володей Арбузовым под Абалаковым стали утопать. Пельтек дал нам катер и послал на выручку. Их сняли с островка и пошли к вам. А тут «сонное царство». Чего это?
— А мы вечером возле костра засиделись допоздна, а теперь малость проспали. Да и что делать? Работы пока не предвидится.
— Ну, что ж, значит, пусть будет весновка. Спите дальше. А я вместе с Табацким и «робинзонами» пойду в Енисейск. Там и решу, что дальше делать. А вы, если будет вас доставать, сходите в инвалидку и попросите лошадку, перевозитесь тогда в Байкал. Только ты почетче связь держи.
— Бу сделано!
Я вернулся на катер. В рубке был уже сам Железняк. Мы без помех спокойно отошли от берега и пошли вниз. Через считанные минуты слева промелькнуло Верхне-Пашино с его параболическими антеннами станции слежения за космосом, а там стал виден и монастырь в Енисейске, точнее, колокольня его церкви. А вот речной порт, когда подходили к нему, выглядел как-то странно. Как обычно, в нем, небольшом заливе у левого берега, было много судов: барж, паузков, теплоходов, но стояли они как попало, не было обычной стройной картины — все носом вверх против течения и соответственно значению судна. Одни у дебаркадера, другие, пришвартовавшись друг к другу. А тут, кто на якоре стоит, кто, зацепившись тросом за сарай полузатопленный, а дебаркадера и вовсе нет: то ли не привели еще, то ли, напротив, увели обратно в затон. Но главное, уже войдя в порт, увидели, что прилегающая к нему площадь, летом возвышающаяся над ним метров на восемь, залита водой, как и прилегающие улицы.
По существу, весь город, кроме монастыря, был затоплен. Мы прошли через порт поперек и, уже оказавшись на площади, немного отошли до первых строений, а там по приказу капитана матрос накинул петлю из троса на верею ворот затопленного частного двора, и Железняк тяжко вздохнув, сказал:
— Та-ак, приехали. А что же дальше? В город пойдем? Вот шутит Енисей-батюшка. Считай, пропал город. По самым скромным подсчетам подъем воды не меньше двенадцати метров. И, похоже, это еще не все.
Табацкий тут же откликнулся:
— Надо наши баржи найти и перевалить на них груз. Потом связаться с экспедицией и делать, что скажут.
— Мудро. Главное, что скажут.
Железняк вынес из рубки бинокль и начал осматривать стоявшие поодаль баржи. Хмыкнул и сказал:
— Ищу рукавицы, а они за поясом. Вот они, наши баржи. Целый ряд стоит.
Он ткнул рукой с биноклем куда-то вправо. Потом послал матроса «отвязываться от вереи», а то, дескать, как мужик на подводе из лесу заехали. После несложных маневров ошвартовались у баржи, которая предназначалась для перевозки партии Табацкого, перегрузили в нее привезенное, написали совместную радиограмму с докладом о ситуации и запросом, что делать нам лично. Ответ был, как я и предполагал, возвращаться с «Геологом» обратно. Что мы и сделали. Опытный Железняк тогда не ошибся — подъем воды в первой фазе наводнения составил 12 метров, а во второй, когда затор встал на Осиновском пороге, — 15 метров. Но моих ребят и вторая фаза не достала. Спокойно перевесновали. «Весновка» — это официальное название пережидания весенних климатических неурядиц.
Мы нормально отработали полевой сезон, и обо всей этой истории я вспомнил только осенью, когда мы все возвратились в экспедицию и готовились к «камеральному» периоду, во время которого обрабатываются собранные в поле материалы, составляются отчеты и карты.
Камеральным работам предшествует приемка полевых материалов. И только принятые специальной комиссией материалы могут использоваться в камеральных работах. В такие комиссии назначаются приказом по экспедиции наиболее опытные и квалифицированные специалисты. В тот раз попал в такую комиссию и я. И надо же, на мою долю пришлась приемка в партии Табацкого. Основной объект приемки — полевые книжки, журналы документации буровых скважин и горных выработок. Там иногда приходится читать та-акое!
Мне достались книжки Димы Байкалова. И вот в одной из них, там, где должно было быть геоморфологическое описание местности, читаю: «Сплошное болото, идем, как по холодцу». И дальше: «А на той стороне болота избушки, а в них староверы, хотя сейчас они ушли и попрятались в лесу». Это был пассаж об обнаруженной ими тайной староверской деревне. Не знаю, какое отношение эти перлы имеют к геоморфологии, но хохотала над ними вся экспедиция. Еще бы, староверы в избушках, попрятавшиеся в лесу. То, что я не скрыл эту беллетристику, вызвало раздражение Димы, и, когда через несколько дней экспедиция собралась торжественно отмечать завершение полевого сезона, он начал ходить за мной и канючить:
— Зачем ты всем рассказал о моей пикетажке (другое название полевой книжки)?
Этот вопрос он повторил, как современные певцы, раз сорок. Терпение мое лопнуло, тогда я вспомнил об оценках, выданных ему Табацким весной, и сказал:
— Дима, деревянный ты человек, ну, чего пристал? Работа у меня такая!
До Димы, наконец, дошло.
Пельмени, молоко и …гражданская война
Не пугайтесь, я не собираюсь призывать к гражданской войне. Оставим это Василию Ивановичу Шандыбину. Война, о которой пойдет речь, случилась много лет назад у нас на кухне.
А было так. Я тогда работал в Ангарской геологоразведочной экспедиции — в райцентре Мотыгино Красноярского края. Надо заметить, что Мотыгино тогда было еще как две капли воды похоже на приисковое село, описанное В. Шишковым в его «Угрюм-реке». Старинные серые, преимущественно лиственничные избы, окруженные непреодолимыми заплотами (заборами) из того же дерева, амбарами и стайками (хлевами). Вокруг Мотыгино было много золотых приисков, поэтому жизнь в поселке до революции и первые годы после нее, по рассказам старожилов, точно соответствовала шишковским описаниям. А в середине XX века отличия были довольно существенными, и прежде всего в населении — почти половину его составляли ссыльные. И не какие-то там Ибрагим-оглы, хотя были и они, а латыши, эстонцы, литовцы, финны, немцы, французы — люди хорошо образованные. Но больше всего было русской интеллигенции, преимущественно дворянских кровей.
Впервые приехав туда, я застал еще довольно много лагерей вокруг поселка, а в нем — комендатуру, которая ведала жизнью ссыльных. При этом они населяли не только Мотыгино, но и окрестные деревни с веселенькими названиями — Погорюй, Потоскуй, Удерей, Кукуй и т. д. В Мотыгино я познакомился с конструктором шпионского фотоаппарата «Минокс» Мартенсом, познакомился, а потом и подружился с бывшим директором департамента (министром) сельского хозяйства буржуазной Литвы В. И. Тишкусом и другими.
В деревнях селились, естественно, крестьяне, высланные из тех же Литвы, Латвии, Молдавии. Больше всего было уроженцев Западной Украины, которых, независимо от реальных причин ссылки, именовали, конечно, бандеровцами.
Но немало было и так называемых «вольняшек», приехавших по назначению, вербовке или просто в поисках длинного рубля и вольной таежной жизни.
Одним из таких был колоритнейший старик — немец лет шестидесяти пяти по имени Фердинанд Миттельштедт. Он до пенсии был лесничим, а потому носил, независимо от погоды, длинную черную шинель с зелеными кантами, а поверх нее длиннейшую раздвоенную белую бороду, по которым его можно было узнать за версту.
Жил дед Фердинанд бедно: на свою небогатую лесную пенсию содержал маленькую беленькую кругленькую жену Лилю и шестнадцатилетнюю дочь. Она училась в школе, где работала моя жена. Двое его сыновей жили где-то в центрах. Оба инженеры и, как можно было понять из дедовых разговоров, работали в оборонной промышленности.
Свел нас сынишка, которого не принимали в детсад. Нужно было где-то пристроить его, вот жене и порекомендовали Миттельштедтов. Баба Лиля была сразу согласна, дочка Неля тем более. Первую привлекал дополнительный доход, а вторую сам ребенок — что-то вроде младшего братика. Но дед поначалу заупрямился — не хотел показывать свою благородную нищету. Но сын сам решил эту проблему: когда его привели к Миттельштедтам для знакомства, он повел себя так, что дед оттаял. Сын щебетал, читал стихи, рассказывал сказки, листал дедовы лесные книжки, узнавал деревья на картинках. Словом, был принят безоговорочно. У стариков из хозяйства была коза, молоком которой они подкармливали малыша в дополнение к доставляемым мамой продуктам. Так мы сблизились. Дед стал захаживать к нам в выходные — взять книгу в моей приличной тогда библиотеке, покурить и покалякать на кухне о том о сём. А если дед попадал к пельменям или пирогам, не отказывался и рюмочку опрокинуть.
Дед Иван Охримчук был моей находкой. Когда возникли трудности с молочными продуктами для сынишки, кто-то из коллег рассказал о старике-«бандеровце», который носит в некоторые дома творог, сметану и, трудно поверить, талое, т. е. жидкое молоко. Дело в том, что в Восточной Сибири зимой молоко продавали в основном в твердом виде даже в государственных магазинах. Его на фермах разливали в миски, вкладывали в них более-менее обструганные щепки и выставляли на мороз, а в магазины везли уже штабелями. Что уже говорить о частниках… Поэтому дед Иван был просто кудесником. Ведь жил он в деревне Гребень, в семи километрах от Мотыгино, и как умудрялся доставлять свою продукцию не замороженной, знал только он. Морозы-то стояли под пятьдесят градусов. Столковались мы быстро: я свободно говорил по-украински, мог и на западном диалекте объясниться, если была нужда. Потому тот стакан козьего молока, который по воскресеньям приносил сыну дед Фердинанд, был только трогательным подарком, а действительные потребности удовлетворял дед Иван.
Хотя они оба ходили к нам по выходным и праздникам, как-то получалось, что встречаться в нашем доме им не приходилось. Но однажды мы с женой налепили пельменей, она испекла пирожков с картошкой и рыбой, я принес бутылочку водки. В результате получился настоящий праздник. Около девяти часов пришел дед Фердинанд, принес стакан молока в водочной четвертке и книгу на обмен.
Мы уселись на кухне и начали обычную бесконечную беседу обо всем, но больше всего о жестоком морозе — минус пятьдесят два было в то утро. Деда Ивана мы не ждали — слишком холодно было. Мы даже очень сочувствовали деду Фердинанду по поводу его «непромерзаемой» шинели, а он отшучивался, мол, кровь горячая, хоть и старая. На столе появился уже чай, до которого Фердинанд был большой охотник и пил его вприкуску, как полагается настоящему сибиряку.
В этот момент раздался стук в дверь, и в кухню в клубах пара ввалился дед Иван.
— Оце ж прынис вам молочка нэмэрзлого. Хай дытына исть на здоровьячко и растэ велыким и сыльным, а що мороз такый сьогодни, що ж зробышь, це ж — Сыбир.
Я поприветствовал его по-украински, что-то в том же роде сказал и дед Фердинанд, происходивший из тех же краев, что и Иван.
Новому гостю поставили миску горячих пельменей, налили рюмку, и вскоре беседа продолжилась. Но неожиданно она приобрела политическую окраску. А начал дед Фердинанд, возревновавший нашего малыша к деду Ивану.
— Так что, спекулируешь молочком, старый куркуль?
Тот парировал: какая, мол, спекуляция? Детям молоко ношу, да по таким морозам…
Но Фердинанд продолжал наседать:
— А сколько у тебя коров?
— Две. А тебе что за дело?
— Ты на Украине против колхозов воевал, а теперь и тут мироедствуешь. В Гребне, небось, в колхоз не пошел.
— А что я в нем забыл?
Интересно, что дед Иван перешел на чистый русский язык, даже почти без акцента.
Мы кое-как замяли разгоравшийся конфликт, налили еще по чарке и попытались сменить тему. Но не тут-то было. Теперь завелся Иван:
— Ты в первую мировую где воевал?
— В Карпатах. Ох, и досталось там. И газы, и бомбежки с аэропланов.
— А в каких войсках был?
— В сорок пятом армейском корпусе, в артиллерии. Я ж школу закончил перед войной. А ты?
— В том же сорок пятом в пехоте. Ты помнишь нашего генерала?
— Помню.
И Фердинанд назвал немецкую фамилию, чуть ли не Ренненкампф, но Иван отрицательно замотал головой:
— Ты что-то путаешь, — и назвал другую, тоже немецкую фамилию.
Через несколько минут выяснилось, что воевали они по разные стороны фронта. Фердинанд в русской армии, а Иван — в австрийской. Это добавило пыла. Позже с помощью энциклопедии я выяснил, что так и было. На одном участке фронта сражались армейские корпуса с одинаковыми номерами.
Фердинанд вопросил:
— А в гражданскую ты за кого воевал?
— Не за красных же. У нас был свой батько… Потом призвали в польскую армию. Били бандитов Буденного. А ты, хотя и так понятно, с Тухачевским ходил под Варшаву. А как тут оказался?
— Когда демобилизовался, поступил в лесную школу, потом ее преобразовали в техникум. По окончании получил назначение в Красноярск. И вот уже больше тридцати лет здесь. Был помощником лесничего, потом лесничим, а теперь уже пять лет на пенсии.
Иван явно не хотел мирного окончания разговора:
— В последнюю войну, значит, тут отсиделся?
— Тут, однако. Меня не призвали — стар уже, да и национальность…
— Теперь, значит, на пенсии. И много ж тебе платят?
— Мне хватает. Да и сыны немного помогают. Оба выучились, инженерами работают на заводах. Один в Новосибирске, другой в Красноярске. А ты в войну, понятно, по лесам и схронам отсиживался?
— Не отсиделся, как видишь. Как красные пришли, замели меня сюда, в Раздольный, в лагерь, а в пятьдесят пятом выпустили «на поселение», в ссылку, значит. Я выбрал Гребень: и привольно, и Мотыгино рядом, заработать можно. А ты думаешь, что вольный, даже пенсия есть, а на самом-то деле такой же ссыльный, как и я. В армию ж, сам говоришь, не взяли, значит, не доверяют…
— Мы и здесь как на фронте были: лес добывали и золотишко понемногу мыли. Все через силу, да и впроголодь. Да я за эту власть и сейчас в любую драку полезу и кому угодно голову отверну.
Фердинанд тяжело вздохнул и с презрением посмотрел в мою сторону:
— А некоторые даже готовы поддержать врагов открытых и нескрываемых. Вы ведь знаете, что они творили на Западной Украине. Можете не сомневаться, и здесь могут сотворить любую пакость, не задумаются. Это он, пока ему выгодно, такой ласковый да обходительный. А вы для ребенка у него молоко берете…
Дед Иван вскочил, уронив табуретку:
— Это ты не трогай. Я торгую по-честному. Никто пока не жаловался!
Дед Фердинанд в том же презрительном тоне заметил:
— Вот именно, «пока». Когда нужно будет жаловаться, будет уже поздно. У него, небось, для таких, как вы, давно удавки заготовлены, да и карабинчиком, наверно, запасся. Я на них после войны насмотрелся на лесоповале. Все норовили на начальство лесину уронить, когда их из лагеря к нам на делянку пригоняли.
Дед Иван окончательно вышел из себя и попытался схватить Фердинанда за его роскошную бороду, но тут уже я встал между ними и заорал:
— Хватит, а то сейчас обоих выкину на мороз! Ишь раскипятились, петухи старые…
Бойцы, кажется, поняли, что перехватили. Дед Иван напялил свой собачий треух, за ним — полушубок и взялся за котомку, в которой звякали банки. Но уйти побежденным ему не позволил гонор. Он ехидно посмотрел на вешалку и сказал:
— Ты тут за совецьку власть бьешься, а сам у нее, кроме дурацкой шинели и нищей пенсии, ничего не выслужил. Я за одну ходку с Гребня больше имею, чем ты за месяц.
Дед Фердинанд не захотел оставаться в долгу:
— Подавишься ты такими заработками, куркуль проклятый. На чем наживаешься? Люди у тебя для детей берут по твоим сумасшедшим ценам. Иди, иди, Бандера недобитый…
Иван хлопнул дверью.
А Фердинанд принялся за меня:
— Все, больше я сюда не приду. Раз вы таких принимаете, мне тут делать нечего. А малыша приводите, он ни в чем не виноват, да и Неля без него затоскует.
Малыш, который все время был вместе со взрослыми в кухне, глубокомысленно повторил отцовскую сентенцию:
— Петуфи стаые.
Возразить ему было нечего.
Дед Фердинанд не ходил к нам недели три. Потом пришел, набрал стопку книг и опять исчез на несколько дней. Только через месяц после пельменного дня все вернулось в свое русло. Кроме деда Ивана. Он по-прежнему ходил по поселку, но у нас больше не появлялся.
Туруханский Анискин
Я познакомился с ним, когда зашел в Туруханский РОВД зарегистрировать свою партию, как это требовалось в те времена местными властями. Но задолго до того был наслышан о нем и его милицейских подвигах от местных жителей. Рассказывали, как он за полтора часа раскрыл кражу кассы в буфете ресторана теплохода «А. Матросов» в местном порту, изловил вора и возвратил украденное буфетчице. Теплоход шел по обычному енисейскому туристскому маршруту Красноярск — Диксон. Поэтому капитан охотно согласился задержать отход своего судна на час, когда «Анискин» попросил о том, будучи вызван на происшествие. Можно представить себе удивление и радость капитана и буфетчицы при его появлении с сумкой буфетчицы в руках. На понятные вопросы «кто?», «как вам удалось?», «где он?» последовали предельно лаконичные ответы. «У вас списался матрос, он и упёр, сидит в КПЗ, это моя работа».
Когда я зашел в райотдел, дежурный «утешил» меня — начальника нет и нескоро будет, но если мне надо побыстрее, могу переговорить и решить свое дело с заместителем, он как раз свободен. В тесном кабинетике, где едва могли разместиться, кроме хозяина, два посетителя, из-за старого, покрытого дерматином стола, на котором стоял точно такой же старый, потертый телефон, навстречу мне поднялся крупный полноватый мужчина в рубашке с капитанскими погонами лет тридцати пяти. В черных волосах его уже серебрилась легкая седина. Я представился, подал ему свою доверенность на производство работ. На мое представление он ответил:
— Юрченко, Анатолий Николаевич. Заместитель начальника отдела и начальник уголовного розыска. Значит, будете работать на Графитном. Давно уже там у нас никого не было…
— Ну, не совсем так. Мы там уже год стоим. Просто прежнему начальнику все недосуг было к вам явиться. А меня обязали. Мол, непорядок, и случись что…
— А где ж тот начальник?
— Перевели на Подкаменную Тунгуску. Так что все равно в вашем районе.
Он своей длиннющей рукой, не вставая, открыл древний шкаф и вытащил оттуда амбарную книгу, записал туда наше название, фамилии руководства и прочие нужные ему сведения. Потом спросил:
— Где вы остановились? Как и все, в гостинице аэропорта? В этом сарае?
— Больше просто негде. Звал меня к себе наш экспедитор Николай Макаров, но я не люблю стеснять людей и отказался.
— Понятно. А может, решитесь у меня остановиться? Меня вы не стесните, я сейчас один, жена в отпуск на материк уехала, так что бобылюю, но банька у меня неплохая, если не побрезгуете — прошу.
Устоять перед таким приглашением было трудно, тем более, что была надежда разговорить этого почти легендарного дядю, а кроме того, на следующий день я заказал в банке деньги на зарплату рабочим, и появлялась надежда привезти их прямо к борту вертолета на милицейском «бобике». Не откажет же он своему «квартиранту»… Я согласился, хотя и выразил некоторую неловкость. Но он отмел все мои сомнения. Он назвал свой адрес, но на всякий случай мы договорились встретиться в местном единственном «Гастрономе» в шесть вечера.
Так и вышло. В предвкушении баньки и для закрепления знакомства я прихватил бутылку спирта, к счастью, до его прихода в магазин.
Мы прошли по улице, ведущей к аэропорту, и остановились возле светящегося желтизной нового двухквартирного дома, типичного для Туруханска тех лет. Анатолий Николаевич пропустил меня в калитку, отпер навесной замок, и мы вошли в квартиру. Он провел меня в большую комнату, зал, как называют такую в моей родной Дубровке. Усадив меня на диван возле большого книжного шкафа с довольно богатым набором подписных изданий, он сказал:
— Покопайтесь тут, а я пойду посмотрю, что там с баней. Я приезжал, затопил и попросил соседку приглядеть за ней, пока буду на работе. Бельишко есть у вас? А то мое вам не подойдет — разные весовые категории, как говорится.
Времени с первой встречи мне хватило, чтобы сходить в аэропорт и взять белье для предстоящей бани. Банька оказалась довольно большой, под стать хозяину, и гибридной — помесью обычной русской с котлом, печью и каменкой и некими элементами сауны: под каменку были вмонтированы ТЭНы, электронагреватели. Хозяин прокомментировал это так:
— Люблю баню, а топить не всегда есть время. Тогда включаю эту технику — и грейся, не хочу, уже через полчаса. Ладно, приступаем. Вот вам веник, вехотка, тазы на полке. Вам после гнуса там, на Курейке, особенно приятно будет.
Что ж, возражать не приходилось. Мы хорошенько отхлестались и вернулись в дом. Там расположились на кухне над над сковородой яичницы с салом. Мой спирт Анатолий Николаевич, как истый северянин, забраковал и вынул из холодильника обыкновенную «Московскую» водку.
— Она поприятнее будет, чем этот горлодер.
Поговорили о разных пустяках, выпили по паре рюмок (он не без гордости сообщил — «подарок жены на день рождения»). И я решил, что пора, как говорят журналисты, «потрошить» хозяина.
— Анатолий Николаевич, тут про вас целые сказки рассказывают, прямо Шерлок Холмс районного, да и всеенисейского масштаба. Поделитесь, если не жалко, может, и мне ваша помощь понадобится: обстановочка у нас в поселке со всячинкой. Народишко с бору по сосенке. Похоже, и ваши бывшие клиенты есть.
— Языки, они без костей, и у многих сильно чешутся. А насчет Шерлока Холмса, вон он на полке, Конан Дойл, почитываем на досуге, хотя детективов не люблю. Но соображать надо, вот и заглядываю. А клиенты мои действительно есть у вас. И что удивительного — людям надо же где-то работать. А про вас я давно знал, все хотел познакомиться, но вы сами пришли, слава Богу.
— Расскажите историю с почтой, о ней больше всего говорят. Прямо чудеса какие-то: вор сам принес украденное обратно. Как это было?
— Очень просто. Я знаю в поселке всех и каждого, поэтому мне легче вычислить, кто где нагрезил (сибирское словечко, означающее «натворил, напакостил»). А было так. В марте вечера еще темные и ранние. Я только побанился, придя с работы, когда звонок телефона: «Так, мол, и так, ограбили почту, уперли железный ящик с выручкой, чуть не зарезали почтаршу. Высылаем за вами машину с двумя ребятами». Я отвечаю: «машину давайте, а ребят никаких не надо, сам управлюсь». Приезжаю на почту, там одна баба в истерике бьется.
Я гаркнул на нее, как надо, привел в чувство, чтоб могла рассказывать. Ну, и сказала, что перед самым закрытием, без пятнадцати семь, когда все уже разошлись, вдруг вбегает мужичонка, подлетает к стойке, перепрыгивает через нее и начинает ножом размахивать, мол, деньги давай. А она, не будь дура, показывает на ящик железный: здесь выручка. Она перед его приходом закрыла его, а ключ в стол положила. Он: «Давай ключ!» А она: «Ключ начальница унесла», тогда он схватил ящик на плечо и вон из почты. Я спросил, знает она или нет мужичонку-то. Говорит, что видела где-то, но точно сказать не может. Описала его тоже как-то непонятно — то он длинный, то метр с кепкой. А кепка на нем действительно была. Но у нас в марте в кепке не очень-то походишь — и за сорок бывает. Значит, или наш, местный, или нефтяник из столяровской шатии залетный. Покалякал я так-то с ней минут пятнадцать, думаю, чего время терять, его брать надо тепленьким. Далеко он с тем сундуком уйти не мог. Или в доме поблизости, или где-нибудь спрятался и курочит его. Ящичек ведь из четырехмиллиметрового железа, килограммов на двадцать пять. Да и замок в нем сейфовый, так просто не вскроешь.
Анатолий Николаевич помолчал, закурил очередную папиросу и продолжил:
— Я вышел и задумался, куда бы я побежал на его месте, надо ведь извлечь добычу побыстрее. Смотрю, справа почти у крыльца начинается овражек, который идет к пристани. По нему там подальше и лестница к реке проложена. Думаю, тут он и сидит, в этом овраге. Прошелся вдоль, наст хрустит, с этой музыкой только напугаешь его, а он, небось, и так дрожит уже со страху. Срок-то за такое дело немаленький светит. Я отступил на тропинку, пошел по ней, а сам слушаю, не брякнет ли где. Дошел до изгиба овражка и слышу: точно, железо звякает. Тогда как можно тише подошел к овражку. Смотрю, сидит на дне добрый молодец и мается с замком ящика, бедолага в кепке. Я так негромко говорю: «Не получается, помочь?» А он голову поднял, увидел меня и попробовал по другому склону выскочить из овражка. Но не вышло, обратно скатился. Снег там сильно обледенел. Тогда я заставил его поднять ящик и нести его той же дорогой, какой сюда прибежал. Он видит, делать нечего, взвалил сундук на плечо и пошел с ним вверх по оврагу. По дороге два раза отдыхал — тяжелый сундук оказался, но удирать больше не пробовал, значит, узнал меня и понял — не убежишь. Так мы с ним на почту и пришли. А бабенка та так там и сидит, ждет, выходит. Я сказал, чтобы она открыла ящик и проверила, все ли цело. Оказалось, все на месте. Вот такая история. Схлопотал он восемь лет и поехал доучиваться. Известно, не умеешь — не берись.
— А вы ведь рисковали. Что если бы он с тем ножом на вас пошел? Вы ж из дому приехали туда. Пистолет у вас был?
— Я никогда на такие дела оружие не беру. Не дай Бог. Пальнешь, потом не отмажешься… Да и стоит ли? Такого шибздика, как тот, я и так скручу, и никакой нож ему не поможет. А пугать — не в моих правилах.
Другое дело, которое вел Юрченко, развивалось практически у меня на глазах.
И опять трагическое мешалось с комическим. Не поймешь, чего больше. Только в пересказе Анатолия Николаевича больше было второго, что еще сильнее сближало его с героем В. Липатова,
Разыгралось все через полгода после нашей первой встречи, в середине жестокой туруханской зимы. Я прилетел по хозяйственным делам. Нужно было опять получить деньги и закупить продукты. В свободную минуту зашел в милицию и застал приятеля чрезвычайно озабоченным. На мой вопрос ответ был такой:
— Вот ты говоришь, Шерлок Холмс. Кой хрен Холмс (мы были уже на «ты»), когда я, как щенок-несмысленыш, бьюсь-бьюсь, а понять ничего не могу. Понимаешь, пропал Родька, охотинспектор, и уже две недели бьемся, а найти не можем, как в воду канул. Прилетало его начальство из Красноярска, такой хай подняло: «Человек не иголка. Если погиб, так скажите, где и как, хоть похороним по-человечески. Где тело-то?» А что мы скажем, если сами ничего не понимаем. Был человек и пропал куда-то. Мы даже вертолет брали, летали на его зимовье, километров пятьдесят отсюда вверх по Нижней Тунгуске. А морозы, сам видишь, какие, под шестьдесят градусов. Прилетели, осмотрели все с пристрастием и поняли, что он там уже минимум месяц не появлялся. Даже лыжи камусные стоят с порванными креплениями возле избушки. И капканы на стенке висят. Дров в избенке не заготовлено. Похоже, что после осеннего захода он там и не появлялся. Здесь всех опросили. Никто ничего не знает. А девка, к которой он ходил, только плачет и точно ничего не знает. Я уж в аэропорту всех прижимал, подумали было, что, может, мотанул куда, в Игарку там, иди Дудинку, либо на юг — в Подкаменную, али Енисейск, Красноярск. Клянутся-божатся, не было его у них. Наши-то поселки все опросили. И Верхне-Имбатск, и Бахту, и Курейку, и Ангутиху, и Старый Туруханск. Нигде не показывался. Ума не приложу, куда человек мог деваться, да вот так, без следа. А у вас в Графитном он не возникал? Хотя это не его участок… Он по Нижней смотрит, да по Северной. И никакой зацепки.
Понятно, что я ничем помочь ему не мог, да и не ждал он такой помощи. Поэтому после очередной баньки улетел я к себе. Но и там не шла из головы эта странная история. Охотинспектора того я не то чтобы знал, но несколько раз видел в райисполкоме, на пристани, в аэропорту. Высокий, крепкий, с широким веснушчатым лицом, обрамленным окладистой рыжей бородой. Парень, как парень, каких там множество. Насколько я знаю, как и другие охотинспекторы, он и сам занимался промысловой охотой и, как и говорил Юрченко, имел свой промысловый участок на одном из притоков Нижней Тунгуски, впадающей в Енисей в Туруханске.
Снова я прилетел в райцентр дней через десять и сразу зашел в милицию. Юрченко встретил меня веселый, жизнерадостный и спросил:
— Ты надолго? Пойдем ко мне обедать, жена пельменей налепила, да я на днях хорошую нельмушку выловил. Любишь ее? Самая ценная у нас рыба. Летом бакенщики ее продают на теплоходы в два раза дороже, чем осетров.
— А что с Родионом, нашел ты его?
— Нашел, нашел, поймал попросту. Живой и почти здоровый.
— Расскажи, пожалуйста.
— Ладно, сейчас расскажу, пока будем идти до дому. Целая потеха. Куда тому Шерлок Холмсу.
Мы вышли из райотдела и пошли по дороге в аэропорт. Юрченко закурил «беломорину» и неторопливо своим высоким голосом, плохо вязавшимся с его довольно грозной внешностью, начал рассказ:
— После всех наших неудач я решил приняться за это дело с другого конца. Опять-таки с опорой на людей. Ты знал, нет, что Родька крепко закладывает? Так вот пьет он, как и многие у нас, запоями до зеленых чертей. Я пошел в «Гастроном», подошел к продавщице винного отдела и спрашиваю: «Ты не заметила, никто из твоих постоянных клиентов в последнее время не начал брать водки больше, чем обычно?» Она говорит: «Вроде нет, однако». Ну, на нет и суда нет, подаюсь к выходу. Думаю, надо будет другие точки проверить. Магазины, да есть же еще и самогонщики, хоть и мало их. А она кричит мне: «Подожди, я вспомнила. Есть такая бабка, Егориха, живет неподалеку в переулке. Так вот, она раньше брала бутылку-две в неделю, а недавно стала брать по две бутылки чуть не каждый день». Я попросил ее, как придет бабка, позвонить мне потихоньку. Перед вечером — звонок. Пришла бабка и опять требует пару пузырей. Продавщица под каким-то задельем притормозила ее, а я на полусогнутых — в «Гастроном». Пришел, смотрю, стоит старушонка и пихает в сумку бутылки. Я дал ей выйти — и следом. Бабка идет и сторожится чего-то, все время оглядывается. Мне прятаться негде, пришлось в сугробы ложиться, весь в снегу вывалялся. Подошла она к своей избенке, отпирает замок. Я — прыг к ней, говорю: «Чего прячешься, бабка, или кого прячешь? Сознавайся». А она норовит передо мной дверь захлопнуть и все лепечет чего-то. Ну, от меня так легко не отделаешься. Захожу в избу, вроде никого не видать. Я опять к ней: «Так кого прячешь, старая?» Говорит: «Никого я не прячу. Нет тут никого». А я говорю: «Никого? Ну, поглядим». Там в избенке-то почти ничего нет, нищета, бабка давно на пенсии, из ссыльных она и родовы никого не осталось. Там только кровать под стенкой, стол, а на нем миска с какой-то едой да два стакана. Я спрашиваю: «Одна из двух пьешь?» Она, хоть и испугалась, а сообразила: «Сама с собой чокаюсь». Я с ней так беседую, а сам по избе шарюсь. На кровати только тряпье — и никого. Заглянул на печку русскую, и там никого. А она: «Ну, чего ты ищешь, начальник, я ж сказала, нет у меня никого». Я заглядываю за печку, а там полати в проеме, а на них мужик с рыжей бородой. Та-ак, говорю, вылазь, Родька, заморочил людям голову. Тебя уже хоронить собрались, только тела найти не могли. А тело, да вместе с душой, вон где, у Егорихи старой. Одевайся, пойдем, замучался я с тобой. Он чегой-то промычал, но послушался. А бабка озлилась, что я ее дармовой выпивки лишил, чуть на меня с ухватом не кинулась. Отвел я Родьку в отдел, потом домой отправил. Вот и вся история.
Он засмеялся и достал следующую папиросу.
Вот таким был этот туруханский коллега обского Анискина. Я дружил с ним до самого конца своего пребывания на красноярском Севере и сумел только раз вытащить его к себе на Графитный под предлогом рыбалки, но при этом мы едва не угодили в авиакатастрофу. Рыбалка тоже не получилась, так как пришлось ему заниматься прямыми служебными обязанностями. Но об этом расскажу как-нибудь в другой раз.
Зимник
На Севере и в Сибири вообще зимником называют временную дорогу, которая прокладывается и действует, в основном, в зимних условиях. Тогда на реках и болотах лежит лед и они становятся проходимыми для дорожной техники и обычного транспорта. Пользуются зимниками для доставки грузов, которые не могут быть перевезены летом из-за обычного в тех краях бездорожья. Оно-то и определяет «труднодоступность» тех мест. Прокладывают их между действующими предприятиями либо новостройками и пунктами снабжения их: железнодорожными станциями, пристанями, а то и просто между жилыми поселками и городами.
Мне довелось много поездить по разным зимникам. Об одном таком случае и рассказано здесь.
В декабре 1967 года я, тогда старший геолог Ерудинской поисково-разведочной партии Северной геологоразведочной экспедиции Красноярского геологоуправления закончил проект работ партии на следующий год. Поскольку трудился я над ним на базе экспедиции в поселке Тея в почти сотне километров от самой партии, да без выходных, то и дело прихватывая вечера (работа, хотя и знакомая мне, но довольно сложная и нудная, с большими расчетами), я изрядно вымотался. Потому обратился к начальству с просьбой предоставить мне отгулы для поездки в г. Енисейск или Красноярск, где жили мои друзья. Приближался Новый год, и встречать его в Тее или на Ерудинском прииске у меня не было ни малейшего желания. А тут еще, мягко говоря, у меня не сложились отношения с моим непосредственным начальником, главным геологом экспедиции Л. А. Румянцевым. Мы искали золото и нашли его не там, где ему хотелось, а там, где оно действительно было. Как сказал мне мой единственный там приятель, начальник одной из партий Сергей Хорунов, «эту ошибку Лёва тебе не простит». И, как в воду смотрел — Румянцев придирался к каждой букве и цифре проекта, а я делал его под свою находку. Переделывал проект я раза три, сидел над ним целый месяц. А Румянцев все измывался: то одно ему не так, то другое, пока терпение мое не подошло к концу. И, когда я готов был уже швырнуть папку с проектом в лицо Лёве, он вдруг сдался, сказал, что теперь, пожалуй, можно представлять проект в Управление на утверждение. Встреченный в коридоре Серега, выслушал мое сообщение о вроде бы благополучном завершении моих трудов и сказал:
— Не успокаивайся. Его коварство неисчерпаемо. Что-то еще задумал. Меня он так чуть под суд не упек. Придумал, что я вроде старательской артели золотоносный участок продал или подарил. И начал целую травлю. Так что гляди в оба.
После этого разговора я зашел к начальнику экспедиции и попросил отгулы, но он предложил еще утрясти это с Румянцевым. Я пошел к нему. Он неожиданно мягко заметил:
— Ну, что ж, я не возражаю. Отдохнуть вам явно надо. Замучались вы с этим проектом. Только вот что, я хотел бы посмотреть вашу документацию. Поедем до Еруды вместе, а дальше катите, куда хотите. Но сначала предъявите все полевые материалы. Хорошо?
Это был удар ниже пояса. Он прекрасно понимал, что я долго не был в партии и не видел, что там делается, не мог контролировать работу единственного геолога и двух техников. Что там они надокументировали, только Бог знает. Сказал об этом Румянцеву, но он был неумолим, И я вспомнил предупреждение Сереги. Но подумал, что пока доедем до Еруды, успею что-либо изобрести, дабы вывернуться из этой мышеловки.
Поездку готовил заранее. Зашел в отдел снабжения, узнал, когда и какая мащина планируется в Красноярск, встретился и поговорил с водителем. Он против такого пассажира не возражал. Но, когда я вторично пришел в гараж и сообщил о втором пассажире до Еруды, он скривился:
— Терпеть не могу с ним ездить. Всю душу за дорогу вымогает. Во все лезет.
Как бы то ни было, на следующий день, 26 декабря, у ворот экспедиции стоял снаряженный «Урал» и, что называется, «бил копытами». Вокруг него ходил водитель Николай и последний раз перед стартом осматривал свою технику. Обменявшись с ним несколькими словами, я зашел к Румянцеву и сказал, что машина готова и ждет. Он надел меховую куртку, шапку, схватил со стола кожаную папку и выбежал следом за мной. Мы втиснулись в тесную кабину, не рассчитанную на трех мужиков в мехах, и Николай включил скорость. Описав довольно длинную петлю по улицам Теи (Николаю нужно было зачем-то забежать домой перед отъездом), мы выехали на хорошо накатанную дорогу Тея — Северо-Енисейск. Николай сказал:
— Ну, с Богом, помогай нам Николай-угодник.
И путешествие началось.
Немного спустя мы подъехали к развилке, где левая дорога шла на Северо-Енисейск, или в обиходе на Соврудник (Советский рудник), а правая — на прииски Североенисейского района, включая нашу Еруду, а дальше на речной порт Брянку и за нею зимник Брянка — Енисейск. Эта дорога была заметно хуже, чем та, по которой мы выехали из Теи, Сейчас по ней носилось множество тяжелых грузовиков — шел зимний завоз технических и продовольственных грузов на весь золотодобывающий район. И, как только мы свернули на главную трассу, сразу принялись разъезжаться со встречными ЗИЛами и «Уралами». «Газоны» попадались редко. Не было еще и обычных теперь КАМАЗов, а МАЗы были представлены лишь самосвалами, которые здесь использовались преимущественно в технологических целях.
Согласно принятой иерархии я сидел между Николаем и Румянцевым, глядел на приборный щиток, где у опытного водителя стрелка спидометра как примерзла на цифре 70. Обычный домашний наружный термометр был укреплен на стойке ветрового стекла и показывал -37. А у меня не шла из головы предстоящая инспекция, затеянная Румянцевым, и необходимость как-то выпутаться из нее. И я решил еще раз попытаться остудить его злобный пыл.
— Лев Александрович, ну, зачем вам нужна эта проверка? Вы ведь знаете, сколько я сидел в экспедиции над этим окаянным проектом. В партию за все время ни разу не съездил. Что они там без меня надокументировали можно только гадать. Тем более что все трое молодые специалисты. Вот приеду, разберусь, приведу все в норму, тогда милости прошу.
— Вот я и хочу посмотреть, чему и как вы там их учите, своих молодых. Или тоже ни в грош не ставить свое начальство.
Я подумал, что зря затеял эту безнадежную беседу: переубедить его, раз уж он так решил, все равно не смогу. Чего напрасно жечь нервы и сотрясать воздух. Будь, что будет. Но оставаться на Еруде я не буду, пусть что хочет, выделывает. Бог ему судья.
Как говорили фронтовики, переиначив дореволюционную армейскую поговорку, дальше фронта не пошлют, меньше взвода не дадут, ниже рядового не разжалуют.
Больше часа мы ехали молча. Проехали имеющийся на каждом сибирском тракте Дунькин пуп, самую высокую точку маршрута, несколько своротов на прииски и наконец увидели в уже начинающихся сумерках (выехали из Теи мы после полудня) широкую площадку развилки на Еруду. До нее оставалось восемь километров плохо расчищенной ухабистой дороги. Николай свернул на нее, почти не снижая скорости, но скоро не только перешел на пониженную передачу, но и включил передний мост.
Вскоре справа от дороги показалась черная труба затопленной драги — когда закрывали прииск, это была последняя точка, где еще было сколько-то золота. Дальше драге некуда и незачем было идти, вот и бросили ее прямо напротив Холодного ключа, где Румянцев рассчитывал найти источник ерудинского золота. Но я как раз в это не поверил и нашел его на склоне омываемой ключом Кварцевой горы в двух километрах к юго-западу от поселка. А вот и он сам. Темно-серые, почти черные в сумерках бараки и редкие двухквартирные «нормальные» дома. В середине улицы, протянувшейся вдоль речки, самое большое здание поселка, бывшая контора прииска, от которого остался один единственный работник, бывший главный геолог, занимавший самый большой кабинет в некогда шумной, а теперь пустой конторе.
Мы немного не доехали до нее и остановились у небольшого дома, где помещалась наша «камералка», а за стеной — поселковая почта. Население еще не все покинуло умерший прииск. Кое-кто работал у нас в партии, другие на соседнем прииске Вангаше. До настоящей безработицы было еще очень далеко.
Мы с Румянцевым зашли в камералку и застали полный разгром. Встретивший нас начальник партии Толя Пастушенко сообщил, что по поручению своего начальства приисковый ветеран предложил нам перебраться в здание конторы. Вот все наличные, то есть не занятые на буровых, работники и осуществляют этот переезд. Только что трактор отвез на санях мебель, остался только сейф с документами да мои микроскопы.
Румянцев с одним находившимся здесь техником вышел на улицу, а я попытался подтащить опрокинутый «на спину» сейф поближе к входной двери. Схватился за ручку дверцы, дернул и… сел рядом с ним. Острая боль хлестнула в пояснице. Радикулит! Только этого не хватало. Толя помог мне подняться и усадил на треклятый ящик. Но я от боли не потерял голову и сообразил, что вот он, выход. Коротко сказал Толе о предоставленных мне отгулах и решении съездить в Енисейск. Он одобрил и попросил привезти шампанского, что я охотно обещал. Потом протянул руку и сказал:
— Ключи!
— Какие? В твоей квартире бабка-татарка управляется. Ключи у нее.
Я помотал головой:
— Да нет. От сейфа
Он сунул руку в карман, вытащил связку и протянул мне. Я с трудом встал, положил ключи в полевую сумку и подал ему руку;
— Ну бывай. Пока. Прости, что подставляю тебя. Но тебе все сойдет с рук. А мне Кварцевую гору он не простит. Так что не поминай лихом. Будь здоров.
И я проковылял к выходу. Так и разрешилась проблема «инспекции».
Я кое-как влез в кабину, где сидел в ожидании Николай, не выключавший на морозе двигатель. Машина развернулась и покатила к тракту.
Тем временем совсем стемнело. Николай опять взял свою «крейсерскую» скорость, все те же 70 км/час. Мы оба молчали. У меня не шел из головы тот номер, который я проделал над Румянцевым и Пастушенко. Не могу сказать, что мучала совесть. В конце концов Румянцев не из альтруизма затеял свою проверку. Косвенно она ударила бы и по Пастушенко. Не сомневаюсь, что он нашел бы к чему придраться. Затем и ехал. А Толя все-таки начальник партии и отвечает за все, что в ней происходит. Так что сейчас гроза ударит именно по нему. А уже был случай, когда я принял на себя удар, причитавшийся ему, только тогда исходил он от начальника экспедиции и его заместителя по общим вопросам.
Молчание затянулось, а мой опыт подсказывал, что в темноте водители побаиваются задремать и предпочитают болтать с пассажиром — так не заснешь. Скоро случай заговорить представился. Николай внезапно сбавил скорость и притормозил. Дорога шла по гребню хребта и здесь немного свернула вправо на склон. Я удивился и спросил:
— Что случилось? Чего тормозишь?
— А здесь наледь тяжелая, побоялся на полном ходу на нее. вылететь.
Я не сомневался, что он прекрасно знает всю трассу и стал вглядываться в дорогу. Справа был крутой склон, поросший лесом, а слева обрыв, возвышавшийся над дорогой метров на пять. Никаких признаков наледи пока не было, но Николай переключился на первую передачу и включил передний мост. Теперь перед нами возвышался пологий зеленовато-белый бугор, на котором отчетливо были видны колеи.
В левой, прилегающей к обрыву, блестела жидкая вода. На таком-то морозе.
Все было понятно: при прокладке дороги встретили выход водоносного горизонта. Серьезные морозы стояли еще недолго и этот выход пока не промерз, если, конечно, вообще замерзнет. Ведь циркуляция воды в недрах изучена довольно слабо и, если она подходит сюда с достаточно большой глубины, то несет с собой и много тепла. Многолетней («вечной») мерзлоты здесь нет, поэтому охладиться ей негде.
Первый бугор мы проехали благополучно: не было ни пробуксовки, ни скольжения. Я спросил:
— Что, все уже?
— Не-е, это только начало.
И точно, скоро показался другой бугор пошире и поглаже — его правый край уходил за пределы дороги, а правой колеи почти не было видно. Николай сокрушенно проговорил:
— Да, это похуже. А я сдуру поленился в Тее надеть цепи. Думал только на Енисее понадобятся, надену в Епишино. Но ничего, прорвемся.
Он направил машину так, чтобы левые колеса точно вошли в видную колею и дал газ. Машина немного пробуксовала и чуть съехала задними колесами вправо, потом все же послушалась и пошла через бугор. За ним начался спуск. Николай облегченно вздохнул
— Вот теперь все. Ну, ничего, скоро уже Брянка, проверки всякие, а там по Питу до Сухого, потом лесом уже спокойно до самого Епишина.
Действительно, очень скоро впереди появилось зарево. Это светили фонари над поселком Брянка, основной перевалочной базой для всего Северо-Енисейского района. Весной сюда приходили речные караваны из десятков теплоходов, барж, танкеров с наиболее объемными и тяжелыми грузами, которые трудно или невозможно было завезти зимой автотранспортом. Здесь размещались основные склады. А над рекой Большим Питом вытягивали свои длинные шеи портальные краны, впрочем, сейчас, ночью, почти не видимые. Николай завозился на своем сиденье, протянул руку к «бардачку», открыл его, вытащил пачку бумаг и сказал:
— Сейчас начнется. Тут два КПП. Один на въезде, другой на выезде. Будут цепляться.
На спуске к поселку стала видна освещенная большая площадка, а на ней будка с дымящей трубой и шлагбаум — длинная неошкуренная жердь поперек дороги. Из будки вышли двое людей в форменных черных полушубках с блестящими кокардами на шапках. Один из них повелительным жестом махнул светящимся жезлом. Николай послушно принял вправо и остановился. Взял приготовленные бумаги и вышел из кабины. Я тоже спрыгнул на снег, захотелось размяться, тем более что радикулит вроде отступил. Гаишник перебирал документы.
— Куда едете?
— В Красноярск за грузом.
— А этот? — Он указал на меня, — Попутчик?
— Нет, он наш, из экспедиции. Экспедитор.
— Почему не вписан в путевку? Впиши до выезда на зимник.
— Сделаю.
— Можете ехать.
Николай взял бумаги и полез в кабину. Я последовал за ним. Он включил свет и развернул одну из бумаг. Я подал ему ручку. Он записал мою фамилию и объяснил:
— Это на случай, если провалимся на реке.
— А что, такое тоже возможно?
— Еще как! Вот выедем на лед, увидишь сколько там утопленных машин. Река подмывает лед, и многие проваливаются. Ну, вперед.
Он включил скорость и машина покатила вниз к порту. Какое-то время мы попетляли по улицам Брянки, но вот под журавлеподобными кранами с маленькими лампочками на вершинах появилась площадка с будкой, точная копия первой. Только будка была побольше и облицована фанерой с какими-то картинками. Разглядывать их не было ни времени, ни смысла, и мы направились прямо к шлагбауму. Опять увидели двоих гаишников с жезлом, опять вышли из кабины и опять подверглись допросу.
— Далеко ли путь держите?
Да, этот точно сибиряк, раз не стал «закудыкивать». Он вообще обошелся с нами помягче, видимо понимал, что мы уже раз ответили на все эти «куда» и «почему», но после них последовала новая серия:
— Как экипированы?
Николай отвечал:
— Нормально. Все, что положено по приказу. Проверяйте.
— Обязательно, — и полез в кузов. Оттуда донесся его голос: — А дров не маловато? Тут меньше полкуба. Две запаски есть. Брезент в порядке. Масло, канистра, все в наличии.
Удовлетворенный он спрыгнул на землю и добавил:
— Инструктаж ты, я вижу, прошел, теперь слушай добавку. Первое: движение по реке только с открытыми дверцами; второе: по прогнозу к середине ночи ожидается снегопад с резким снижением видимости. Понятно? Тогда распишись в журнале.
Он подал амбарную книгу и ручку. Николай расписался и шагнул к машине. Шлагбаум поднялся, и мы съехали с метрового, примерно, уступа на заснеженный лед.
Здесь Николай сказал:
— Не будем нарушать. Открой замок и придерживай дверцу, чтобы не гремела.
Я подчинился. Он сделал то же, но, поскольку его руки были заняты баранкой, он протянул от колонки руля какую-то тесьму, надел ее петельку на ручку стеклоподъемника и застыл, вглядываясь в расстилавшуюся перед нами ровную ленту реки с торчащими местами острыми гребнями застругов. Свет фар скользил по хорошо накатанной дороге, кое-где выхватывая из темноты своеобразные «метлы» — вехи с пучками прутьев на вершинах, отмечавшие дорогу, как флаги трассу слалома. В приоткрытые дверцы немилосердно дуло, сразу выстудив еще недавно такую теплую кабину.
Я решил выяснить у Николая непонятные мне вещи:
— Коля, а зачем они этот шмон устраивали? И про какой приказ шла речь?
— Шмон — по приказу. А приказ, сейчас расскажу. Зимник устроил «Золотопродснаб», он и поддерживает его в рабочем состоянии. А приказ издал директор Советского рудника, чьи машины в основном здесь и ходят. В приказе все, что относится к технике безопасности и порядку на зимнике. На каждой машине должно быть все, чтобы водитель и кто еще есть в ней, не померзли в случае чего: полкуба сухих дров, тент и прочее. Водитель по приказу, если подломался по дороге, жжет сначала дрова, потом запаски, а когда их сжег, и помощи нет, тогда может жечь груз, а потом саму машину. Но по трассе для предупреждения ЧП ходят трактора и бульдозеры. Каждый водитель обязан помочь терпящему бедствие и сразу сообщить на Брянку об этом с указанием места, где стоит пострадавший. К нему выедет летучка с ремонтниками и врачом. И это еще не все. Кроме концевых КПП на Брянке и в Епишино, есть еще промежуточный в Сухом Питу, скоро подъедем туда.
— Знаю. Был я там. Работал на Питу, да и на Сухом тоже.
— Так вот. Кроме всего есть три пункта питания в Брянке, Епишино и на Черной речке. А в Епишино и на Брянке еще пункты отдыха. Там и поспим. Темно, тепло и клопы не кусают. Приказ для всех, кто едет по зимнику. Да, еще одно, на Брянке держат бригаду водолазов. Если кто провалился, быстренько достанут.
— Живых?
— А это уж, как повезет. Но если дверцы открыты, чаще всего успевают выскочить. Вот затем и мы мерзнем. Или рискнем, закроем?
— Как знаешь. Но не зря говорят — кому суждено быть повешенным, тот не утонет.
— Ха-ха-ха. Здорово ты, прямо в точку.
Он захлопнул дверцу, но мне ничего не сказал, мол, решай сам. Дуть стало меньше, но я тоже захлопнул свою. Впереди появился свет, явно фары, но пониже их было что-то еще мерцающее. Николай сказал:
— Ну, вот и первый утопший.
Впереди стоял трактор С-100, а перед ним на льду горел костер, точнее, масло на листе железа. Когда поравнялись с трактором, Николай сбавил скорость, чтобы можно было как следует разглядеть происходящее. А было видно, что во льду есть прямоугольная полынья, в которой плескалась вода, а из нее выглядывает кабина провалившегося ЗИЛа. Над верхним краем полыньи возвышалась бревенчатая тренога, точно такая, как наши копры над неглубокими скважинами. Вокруг расхаживали несколько человек, при нашем проезде отбежавших в стороны, так как из полыньи выкатилась волна, захлестнув прилегающую утоптанную площадку.
— Как же они вытаскивают машину на лед?
— Обыкновенно. Зацепят тросом за бампер, и через блок на вершине треноги тянут трактором. Передок поднимается, его ставят на лед или щит из досок и выволакивают машину. Чтобы зацепить, иногда шоферу приходится искупаться, если не хочет с водолазами связываться, или они где-нибудь еще заняты. Обычное дело.
— Да уж. А тебе приходилось?
— Случалось раза два. А в этом году пока Бог миловал. Но тут это ерунда. Глубина самое большее метра два с половиной, ездим-то вдоль берегов. А вот на Енисее, где восемь-десять метров, если провалился, пиши — пропало. Вот там и тонут люди: течение сильное, если и вылезешь, то под лед затянет, уже не выберешься. Хотя и там, бывает, спасаются. А здесь редко машина с кабиной уйдет в воду — почти всегда есть шанс. Но приятного мало. Спасатели, когда на такой случай едут, у них обязательно бутылка спирту для сугреву «утопленника» имеется. Ну, и канистра солярки для костра. Еще вопросы будут?
— Спасибо, все объяснил.
— Пожалуйста. Посмотри-ка на термометр. Когда выезжали, сколь было? Как я помню, за 35. А сейчас?
Я присунулся носом к ветровому стеклу и в отсветах от снега разглядел на дрожащем на ходу теромометре, что красная нить спирта поднялась до двадцати трех градусов. Николай сказал:
— И всегда тут так: как за Брянку заехал, вроде в другой климат попал.
Мы проехали мимо еще двух майн с торчащими кабинами и возвышающимися над ними треногами. Только трактор был лишь у одной из них. И трактор поменьше — ДТ-75. Скорее всего и утопленная машина была легкая, вероятно «газон», как определил мой всеведущий водитель. Слева промелькнули огоньки подсобного свиноводческого хозяйства. В этом поселке я часто бывал, когда работал на Питу в Орловской партии. Были у меня здесь и близкие друзья, в том числе необычный участковый милиции, абсолютно русопятый парень с фамилией Гинзбург, с которым мы разбирались в угоне принадлежащей нашей партии лодки с грузом продуктов.
В самом конце поселка мы заметили узкую тропку, ведущую к ледовой трассе, а на ней — человеческую фигуру. Кто-то бежал от поселка к дороге, сильно размахивая руками. Этот кто-то был уже недалеко от своей цели, так как попал в лучи фар, когда дорога сделала петлю в обход очередной майны, из которой был уже вытащен «утопленник». Пешеход успел точно к тому моменту, когда мы поравнялись с тропкой, и опять стал сильно жестикулировать. Николай остановил машину и опустил стекло с криком:
— Чего тебе?
В ответ послышался женский голос:
— Довезите до Сухого Пита, пожалуйста.
— Носит вас… Чего тебе дома не сидится, не видишь, что пурга начинается?
Он был прав: пошел снег, появился довольно сильный юго-западный ветер, который начал заметать дорогу. Женщина уже плачущим голосом прокричала:
— Ну, пожалуйста, возьмите. У меня мать на Сухом больная. Того и хочу доехать.
— Ладно, лезь в кабину.
Женщина мелькнула перед фарами, Я открыл дверцу и сдвинулся к Николаю. Женщина влезла, села и поерзала, окончательно устраиваясь для поездки. Она была одета по-мужски: лисья шапка-ушанка, черный нагольный полушубок, из-под которого были видны черные же суконные штаны, и настоящие (т. е. собачьи) черно-белые унты. Лица ее мы разглядеть во мраке кабины не могли, но голос был молодой, мелодичный, особенно, когда из него исчезли за ненадобностью просительные нотки. Допрос начал Николай:
— Как тебя зовут, молодка?
— Же-еня. — нараспев ответила она.
— Хорошее имя для девки. Я свою дочку тоже так назвал Ев-ге-ния.
— Как вы тут живете в совхозе? Кольбе жив, здоров? Сергей Парфенов? Участковый у вас Гинзбург?
— А вы бывали у нас, что всех знаете?
— Бывал пять лет назад. И тогда, правда, всех знал. Я был начальником партии, что стояла на зимовье Большой Пит в пятидесяти километрах ниже совхоза.
— Буду отвечать по порядку. Живем хорошо, а Кольбе, главный механик, помер два года тому — инфаркт, сказала медичка. Серега, двоюродный брат моего мужика, переехал на Брянку. Выучился на крановщика, в порту работает. Гинзбурга уже нет здесь. Перевели куда-то, он стал чемпионом края по какой-то борьбе, его и забрали. Прислали другого, теперь участковый у нас Володя Петров.
Мои вопросы исчерпались и опять вступил Николай:
— Слушай, у вас здесь есть какой-то больно лихой рыбак Рамазан, а мне надо к Новому году рыбки купить. Как думаешь, продаст он?
— А чего не продать? Он, конечно, сторожится, но кто хочет купить — купит.
В этот момент накатанная дорога вильнула к правому берегу, и в свете фар я увидел устье полузабытой мной речки Каитьбы. И решил обозначить свою осведомленность о предмете разговора:
— А вот как раз устье Каитьбы. Когда мы тут работали, Рамазан поставил здесь заездок, и вверх по речке не было ни одного хвоста. А когда-то речка славилась хариусами, ленками, попадались и таймешата. Так что беспардонный браконьер ваш Рамазан.
— А вы с вашими геологами всегда только разрешенными снастями ловите? — Это вступился за рыбака Николай. Чтобы сменить тему и не исповедоваться но поводу браконьерства, я заметил:
— Снежок-то вроде погуще пошел. Всегда, когда ночью едешь и попадешь в снегопад, кажется, будто снег идет из одной точки где-то там, впереди. Замечали это?
На вопрос неожиданно ответила Женя:
— Точно, так и ка-ажется, — пропела она.
— Э-э, а ты девка ангарская, как я слышу, — неожиданно заключил Николай. Его вывод и на мой взгляд был правилен. Я в те годы, когда бывал случай, развлекался тем, что по говору определял откуда происходит тот или иной собеседник. И редко ошибался. А тут у водителя грузовика такое же хобби.
— Пра-авда. Я с Рыбной. Слыхали, возле Мотыгина? Как вы узнали?
— Не только слыхали, но и бывали не раз. А ты старую ангарскую байку слыхала? «Продавшшица-а, титьки у тебе е-эсть? Е-эсть. Так дай онну, а то баба ушла, а дите реве-от, захлебыватся.» Что ему надо было?
— Соску-пустышку, — засмеялась Женя, — Правда, у нас так говорят.
Помолчали. А тем временем впереди на невысоком мысу появились тусклые огоньки поселка Сухой Пит. Электроэнергии здесь не было. В домах горели керосиновые лампы. Потому и огоньки в окнах пяти или шести жилых домиков были неяркими. Как я знал, в них жили семьи телефонистов, обслуживавших проводную линию Енисейск — Северо-Енисейск.
Увидев поселок, Николай решил поскорее добраться до него и покатил напрямую, благо снег здесь был неглубокий. Вдруг под нами раздался негромкий, но грозный треск. Лед проломился, и машина оказалась по ступицы в воде. Николай зло выматерился и тут же галантно извинился перед Женей. Все было понятно. Я хорошо знал это место. Мыс, на котором стоял поселок в воде переходил в галечную косу, над которой было очень быстрое течение. Лед оказался истонченным, подмытым и не выдержал тяжести машины. Николай быстро сориентировался и вывел ее на мыс, то есть в поселок. Там остановился и сказал:
— Все, красавица, приехала. Вылазь. А нам еще с вашими ментами калякать.
Женя, изрядно напуганная «водной процедурой», скоренько выпрыгнула на снег и побежала к крайнему дому, крикнув на прощанье:
— Спасибо! Дай вам бог удачи и счастливого Нового года! До свиданья!
Мы проехали по мысу и оказались на площадке, на которой дымил желтый новенький досчатый балок, а дорогу перегораживал такой же, как и на других КПП неошкуренный шлагбаум. Только на середине жерди вместо электролампочки светился фонарь «летучая мышь». Из балка к нам вышел один инспектор. Он подошел к машине, долго изучал при свете электрического фонарика бумаги Николая, а потом сказал:
— На эго направление остается час. Я пропускаю вас, но будьте повнимательнее. Если попадется встречный, сдайте до разъезда, не препирайтесь на дороге, а то разбирайся там с вами, кому скорее надо. И имей в виду, на трассе работает бульдозер. Не въедь ему в зад, как тот идиот с Епишино. Заснул он, что ли. Побил машину ни за что.
Николай что-то согласно промычал и выскочил наружу. Несколько минут он ползал под машиной, потом вернулся в кабину и включил скорость. Машина скользнула под шлагбаумом, пересекла речку, довольно широкую здесь, в устье, и натужно заурчала на довольно крутом подъеме. Я спросил:
— Чего ты там лазил?
— Смотрел, не было ли утечки смазки из диферов и ступиц. Вроде не вымыло там, на быстрине. Лучше осмотрюсь в Епишино на стоянке.
Мы довольно быстро поднялись на гору, где дорога практически горизонтально тянулась в довольно густой тайге. Но это я знал по памяти, а сейчас видно было немного. Опять начался снегопад, а кроме того здесь был очень глубокий снег, и дорога шла фактически в траншее — по сторонам ее возвышались двухметровые снежные стены. А ширина ее еле-еле соответствовала размерам машины. Теперь стали понятны предупреждения дежурного на КПП. Разъехаться здесь не было никакой возможности. Николай, видимо, угадал мои мысли:
— Д-да-а, не дай Бог, встречный, да скандальный, тут почешешься.
— А что дежурный толковал про час в эту сторону?
— У них расписание установлено: два часа в Епишино, два часа обратно. Как раз хватает добраться, не спеша. А разъезды…, сейчас увидим. Встречный, вон он пилит, видишь зарево впереди.
Справа открылась щель, въезд в такую же траншею, как та, по которой мы ехали. Николай проехал метров пятьдесят и вдруг притормозил.
— Видно, сильно спешит парень. Давай пропустим.
Он включил заднюю скорость и спятился до въезда в щель. Там остановился, пошарил за спинкой сиденья и вытащил коричневую, как я разглядел в отраженном от белых стен свете, сумку из кожзаменителя.
— Пока он пилит, давай чайком побалуемся.
Он извлек из сумки цветастый китайский термос, открутил крышку, а из-под нее вынул вторую чашку. Чай был хорошо заварен — крепкий, ароматный, но, к моему огорчению, сладкий. За время своих полевых скитаний я приноровился пить чай, «не оскверненный сахаром». В этом была своя логика: приходишь из маршрута усталый, измученный жаждой, пересек десятки ручьев и ключей, но пить не позволял себе — иначе ног не потянешь. А сладким чаем не напьешься, хоть ведро выпей. Отсюда и привычка. Я объяснил все Николаю, отворил дверцу и выплеснул приторную (для меня) жидкость в снег. Николай заметил:
— Знаю эти ваши привычки. Дружок твой, Серега Хорунов тоже сладкого в рот не берет.
— Походи по горам с наше, и ты отвыкнешь.
В этот момент мерцавшее зарево встречной машины выровнялось, спокойно осветив снежный барьер, раздался звук работающего двигателя. С нами поравнялась невидимая за барьером машина. Прозвучал сигнал, по которому Николай открыл свою дверцу, и мы услышали:
— Спасибо, паря, что так пропускаешь. Мне, дух вон, скорее домой надо, звонили в город, жену в роддом забрали, а я в поездке. Малышня одна осталась. Соседи приглядывают.
Николай крикнул в ответ:
— А сколько ж их всего у тебя? И откуда ты?
— Этот четвертый. А я с рудника. Волков фамилия моя.
— Понятно. Ну, дай Бог тебе всего благополучного. И поаккуратнее на реке. Всего!
— Пока! Еще раз спасибо. И передай мое спасибо менту на КПП, что выпустил не в свое время.
Гул двигателя счастливого отца вскоре затих в тайге. Николай сдал назад, выехал на трассу и покатил дальше по основной траншее. После недолгого молчания он сказал:
— А теперь, пожалуй, нам пора и поужинать. На Черной речке столовая, какой ты, наверное, и не видел никогда. Там ужин, как и обед стоит рупь, даже и не рупь, а лупь.
— Как так?
— А так. Держит ее по договору с продснабом частник китаец. Ты их, скорее всего тоже встречал по Сибири. По-русски у него ничего не поймешь, кроме мата. Вот матерятся они совсем чисто. Так у этого пожрешь от пуза и всего рупь. Ему охотники и рыбаки таскают добычу, а картошку, капусту он привез свои из совхоза, где мы девку подобрали. Муку дает продснаб, да чай с сахаром, соль там и прочее. Себе в убыток он работать не будет. Значит, выгодно. Встречал ты таких?
— Таких нет. Но когда работал на Енисее в Абалаковской партии, был у нас Ваня-китаец. Это в русском варианте. Фактически его звали Дян Женчун. В тридцатых годах он незаконно перешел границу. Ему вкатили десятку. Отсидел, вышел, женился на русской, настрогал, как говорится, пятерых китайчат, научился работать на ручном бурении, оказался неплохим мастером. В этом качестве он у нас и работал, Но году в пятьдесят девятом пришло письмо из посольства. Его пригласили в Китай на побывку. Он поколебался и решил ехать. Жена, понятно, в панике: у него там тоже четверо детей осталось. Она и боялась, что не вернется ее Ваня. Не зря же посольство о нем вспомнило. А Ваня, как Ваня, не хуже других китайцев, кого их правительство хотело выгрести отсюда, как специалистов. Или украл, или купил у кого с килограмм победита (говорили, что в Китае это большой дефицит), залил его в кастрюльке топленым маслом и покатил на родину. На границе победит вытряхнули, масло вернули — «Езжай, Ваня». Он и поехал. А дома узнал, что дети его выросли, первая жена давно умерла и фактически никого там у него не осталось.
— Что, совсем никого?
— Так он сказал, когда вернулся. Его старший сын у них какой-то большой начальник. Ему и было приказано уговорить Ваню совсем переехать в Китай. Обещали поставить начальником экспедиции, дать дом и прочее. Ну, он покивал головой и подался в Россию-матушку. А когда приехал, мы спросили его, как жизнь в Китае. И вот тут он много рассказывал, и, как ты говорил, его уже все хорошо понимали. Потому как рассказывал он одними матюгами. И побежал наш Ваня в райисполком просить, чтобы дали ему наше гражданство.
— Дали? Они тогда все просили об этом. На Совруднике тогда очереди их стояли.
— Дали. Мы тогда всей экспедицией за него просили. Уважили нас.
— Ну, сейчас этого экземпляра увидишь.
В свете фар впереди стало видно, как вдруг разошлись в стороны стенки снежной траншеи. Через минуту мы были уже на широкой ровной площадке, слева от которой возвышался большой старый когда-то крашеный дом с едва светящимися окнами. Перед ним стоял большой бульдозер на базе Т-100 и негромко тарахтел дизелем. Его нож, «лопата», как говорят приисковики, был поднят, и казалось, что он сейчас сорвется и пойдет чистить те горы снега, что остались позади.
От дома к нам метнулась маленькая фигурка в обычной стеганой телогрейке, что само по себе было необычно: все, кого мы видели за дорогу, щеголяли либо в нагольных полушубках, либо в меховых костюмах летного типа. Николай нагнулся и посмотрел на врезанные у приборной доски авиационные часы, на которых имелась даже надпись «время полета». Засек время, понял я. Николай впервые за весь путь выключил двигатель и проговорил себе под нос:
— Пока ужинаем, не застынет. Да и мороз послабшал.
Я возражать, понятно, не стал. Тем временем человечек в телогрейке подбежал к нам и закричал:
— Плиехал, да? Ужинать будес?
— Да уж, приехали. Будем ужинать, конечно. Зачем еще к тебе заезжать? Беги, готовь.
Повар китаец, а это был он, быстро-быстро засеменил к дому ногами, обутыми в огромные валенки, а мы вылезли на снег, кое-как размялись. Николай спросил:
— Как твоя спина, не болит? Меня эта болячка тоже часто достает. Знаю, каково это.
— Вроде отпустило совсем. Пошли?
Мы зашли в дом, сбросили свои меха, подошли к здоровенному рукомойнику. Хозяин уже ждал там с большим вафельным полотенцем. Вымыв руки, мы уселись за тщательно выскобленный стол, а хозяин метнулся к плите, где кипело несколько немалых кастрюль. Китаец поставил перед каждым из нас по эмалированной миске пельменей в бульоне и спросил:
— Чай будес?
— Обязательно, хотя у нас есть свой. Но твой все равно лучше, — ответил Николай.
Потом уже с набитым ртом спросил:
— Сохатый, как я понимаю?
— Оннако да. Тунгусы плитассили.
— То-то у тебя всегда то тунгусы, то сам под машину попадет, а мясо никогда не выводится. А оленины нет?
— Совсем нету. Откуда?
— От тех же тунгусов, или русских. Они ведь тоже не хуже стреляют. Ладно, на обратном пути заеду, постарайся, чтоб тунгусы привезли тебе олешка. Лады?
— Как я могу за них лучацца? Будут, значит, будут. Нет, так нет.
Потом мы пили чай с ломтями пышного белого хлеба и колотым сахаром вприкуску, но последнее опять без меня. Отказываться от своей привычки я не собирался даже ради чая, заваренного китайцем по-русски. А чай был великолепен: настой густой темно-красный, ароматный, терпковатый на вкус с едва заметным «ореховым» привкусом. Хозяин, когда я расхвалил его продукт и спросил о добавках, признался, что там добавлен кипрей (иван-чай) и еще кое-какие травки, а также немного китайского чая. Основу же составлял весьма дефицитный тогда индийский чай. Напившись этого божественного напитка мы с Николаем слегка осоловели. Начало клонить в сон, а предстояло еще больше тридцати километров ехать до Епишино. И дорогу эту легкой не назовешь. Правда, мое дело пассажирское — сиди и сочувствуй водителю, какая бы там дорога ни была. Короче, заплатили мы по установленному рублю, оделись, попрощались с хозяином и вышли на площадку к тарахтящему бульдозеру. После жарко натопленной столовой мороз почти совсем не ощущался. Но это, конечно, только казалось. Когда забрались в кабину, Николай включил свет, и мы глянули на термометр, обнаружилось, что его столбик установился на двадцати двух градусах.
Я посмотрел на одинокий и вроде бы тоскливо рычащий Т-100, и спросил, имея в виду его экипаж:
— А эти-то где?
— А ты не видел? Рядом с той комнатой, где мы были, есть другая. Там кровати, там они и спят. Пока не занесло дорогу, отдыхают. А накидает снежку, опять поедут чистить.
Николай запустил двигатель, погонял его на разных режимах и включил скорость. Машина резво взбежала на взгорок и покатила по ровному участку дороги. Николай прокомментировал:
— Ну, а теперь все время вниз, к Енисею.
Это я знал и сам, так как работал в этих местах в 1958–1959 годах и ходил по лежавшей перед нами дороге. Уклон был небольшой, но машина его «чувствовала», и мотор работал без напряжения. Николай достал из «бардачка» пачку «Примы» и протянул мне:
— Задымим, пока все легко. Тут не езда, а радость шофера, если, конечно встречные не придержат. Наше время вроде вышло уже. С девяти часов движение открыто на Пит. Он с наслаждением затянулся и вернулся к старой теме разговора:
— Так твой китаец, говоришь, на победите хотел заработать в Китае? Ну, этот, который нас кормил сейчас, победитом не обойдется. У него другой интерес. Мне ребята говорили, что он помаленьку золотишко у старателей скупает, а у эвенков соболей за спирт. Хотя эти тунгусы народ хитрый и заложат его с соболями за милую душу. Конечно, через границу с таким добром он не попрется. Да и не похоже, чтобы он собирался на родину. Скорее, все здесь определит. У него тоже здесь дети. Построил себе такую «фанзу» в поселке совхоза, целый дворец в два этажа. Видел ты его?
— Нет, когда я здесь бывал, его еще не было, а сейчас впотьмах не мог разглядеть поселка как следует.
В этот момент мы увидели на горизонте покачивающиеся пятна света. Они явно приближались к нам.
— Так значит, все таки будут встречные. И не один, — отметил Николай, — А разъезд еще далеко. Ну, поедем до встречи, а там видно будет, кто вперед, кто назад.
Он нажал акселератор, увеличив скорость, а я стал ждать, когда впереди блеснут сами фары. Здесь на южном склоне гор снега было поменьше: вместо двухметровых гряд по сторонам дороги теперь тянулись менее, чем метровые. Чтобы занять Николая, я рассказал ему случай, приключившийся здесь, на Черной речке во время моего пребывания здесь в прошлый раз. Тогда медведица заслуженно и беспощадно наказала троих, как их называл Джек Лондон, чечако, то есть ничего не знающих и не смыслящих новичков. Они убили и под спиртик зажарили ее медвежонка. Итог: один сразу насмерть, второй порядком изломанный со снятым скальпом, тоже вряд ли выжил, а их начальник, техник-лесоустроитель, который и исхитрился бросить в речку бутылку, дошедшую до людей, отделался только сломанной и покусанной ногой.
— А как же она позволила убить медвежонка?
— Так он залез на сосну посреди поляны здесь недалеко, а она сильно напугалась и убежала, да, видно, недалеко, и наблюдала за ними. А когда напились и завалились спать, она пришла и навела свой порядок. Но нашли их не мы а наш северный сосед тогда, партия Озерского, точнее их старший геолог Гриша Тузлуков.
— Знаю я Озерского и Гришу знаю. Озерский работал на Кубе, а когда вернулся, поставили его первым секретарем Мотыгинского райкома. А Тузлуков теперь сам начальник партии в Ангарской экспедиции.
Все это знал и я, как и то, что наша Северная экспедиция, некогда отпочковавшаяся от Ангарской, всегда внимательно следила за происходящим в материнской. Отсюда и осведомленность Николая в тех делах, которые его, вроде бы, прямо не касались.
Над дорогой уже недалеко заблестели яркие огни фар передовой машины встречной колонны. Николай сказал:
— Та-ак, а до разъезда еще километра два. Они, груженые, пятиться не будут. А нам нужно переть до зимовья, значит. Ну, уж нет.
Когда машины сблизились, Николай вышел из кабины и пошел к встречному. О чем-то переговорил с ним, вернулся, сел за руль и, включив скорость, решительно повернул его влево. Машина уткнулась в снежный барьер и, продвинувшись на полметра, забуксовала. Николай сдал назад и повторил попытку уже с разгона. Теперь мы залезли в снег уже на метр. Еще два рывка и мы уже «по уши» влезли в окаянный снег. Николай в зеркало проверил, не выглядывает ли кузов на дорогу, потом поручил сделать то же мне с моей, правой стороны. Все было нормально и мимо нас поползла встречная колонна. Последняя, шестая машина остановилась и помогла нам выбраться из снежного плена. Николай переговорил и с последним водителем и, захлопывая дверцу, удовлетворенно проговорил:
— Все, больше не будет. В Епишино осталось трое, но они ночуют, хотят днем приехать.
Дальше мы ехали уже спокойно. Я даже задремывать стал вопреки собственным командам: «не спи, нельзя спать, разговаривай». Но разговор затеял Николай, о котором я и хлопотал в своих мыслях:
— Смотри-ка! Значит, уже подъезжаем.
Справа вместо привычного уже ельника потянулось что-то очень похожее на заснеженное поле — белое и ровное, а вдали на дороге сверкнули две красноватых точки. Они исчезли было, на несколько секунд, потом опять появились.
— Николай, что это?
— Не что, а кто. Лисица на дороге промышляет. Шофера часто выбрасывают всякие остатки харча, а она подбирает. Но это ерунда. На том берегу часто встречаем то коз, то сохатых, а перед Красноярском в степях и волки попадаются. Бывает, даже под колеса попадают, особенно поближе к весне. А эту Патрикеевну сейчас турнем.
Он прижал акселератор, машина рванулась вперед и побежала еще резвее. Скоро лисица стала уже видна в свете фар. Пытаясь убежать, она металась от одного снежного вала до другого. Наконец вспрыгнула на небольшое понижение в гряде и метнулась в сторону. Николай сбавил скорость. Тем более, что впереди появилось новое, неподвижное уже свечение на небе, все еще присыпающем понемногу снежком дорогу и все на ней.
— Ну, вот уже и Епишино засветилось, Слушай, ты говоришь работал здесь, так скажи, что это за поле справа. Луг, что ли? Я ж здесь только зимой бываю, никак не пойму.
— Не луг это, а огромное Подтесовское болото. Оно отсюда почти до самого Подтесова тянется. Километров пятнадцать. По карте оно обозначено, как непроходимое. В середине его два озера, на которых мы с вертолета летом видели много гусей и уток, но добраться до них так и не решились. Очень опасное место.
— По-о-нятно. Буду знать теперь, что это за поле.
— А за ним, его северной окраиной устье той самой Черной речки, через которую мы ехали. Я был там с одним московским ученым, так он нашел в обрыве кости какого-то древнего быка и очень недоволен был, когда я не дал ему как следует покопаться: нас ждал вертолет. Мне не хотелось из-за тех костей портить отношения с летчиками, а они уже ругались. Там я и понял почему та бутылка, о которой я рассказывал раньше, выплыла в Енисей. Черная там чистенькая, заломов нет, все промыто.
— Ясно. Ну, еще километрик и все.
Действительно, через пару минут перед нами появился привычный уже шлагбаум, отличавшийся от ранее виденных только одним — он был ошкурен, то есть, с него была содрана кора, и лампочка на его середине была выкрашена в красный цвет.
Человек, появившийся у шлагбаума после долгого сигнала, был не в милицейской форме, а в синей «демисезонной» летной куртке. Хотя гаишный балок и здесь был в наличии и из него доносилась громкая музыка. Человек, поднявший шлагбаум и впустивший нас на епишинскую территорию, подошел к кабине и, когда Николай открыл дверцу спросил:
— Будете ночевать?
— Будем. Выехали поздновато и маленько намаялись в дороге, Так что надо перекемарить.
— Тогда — ключи! — протянул он руку. Николай заглушил мотор и отдал ему ключи.
— Машина будет за оградой на третьей стоянке. Сегодня народу немного. Пока идите в столовую, там у Вали блинчики вкусные. Как раз с чайком пойдут вам с дороги.
Я ничего не понял и спросил:
— Кто это, и чего ты ему ключи отдал?
— Это загонщик. Он сейчас поставит машину на площадку и будет ночью ее через два часа прогревать. Так положено все по тому же приказу. Потому и ключи ему отдал.
Я взял свой пустой рюкзак и мы пошли по площадке над крутым обрывом берега Енисея к одиноко стоящему на краю ярко освещенной площадки явно недавно срубленному бараку, белевшему еще не успевшими посереть бревнами, между которыми торчала и свисала пакля — не почистили строители. Николай с трудом открыл затягиваемую грузом через скрипучий блок дверь и мы ввалились в просторный и полупустой зал столовой. За столами сидело человек десять водителей и их экспедиторов, а из широкого окна выглядывала фигура поварихи в белой куртке и таком же колпаке. Мне повариха показалась знакомой, а Николай просто метнулся к ней с радостным возгласом:
— Валюха! Сто лет тебя не видел, не сразу и признал, кабы загонщик не сказал, что ты тут командуешь, и не узнал бы. Богатой будешь! Да еще перед Новым годом!
Я поддержал его настрой:
— Привет, Валентина! Вот уж воистину, гора с горой не сходятся, а человек с человеком встретятся обязательно.
Валентина в шестьдесят втором году работала поваром в партии моего соседа и друга Виктора Казарова. У нас с ним было общее хозяйство и бухгалтерия. Поэтому я часто ездил в их партию с отчетами и прочими деловыми бумагами и, естественно, питался у них. Поваром Валя была отменным. Но от анонсированных загонщиком блинчиков мы с Николаем дружно отказались, Мы не сомневались в их отменном вкусе, но, во-первых, мы недавно плотно поужинали у китайца на Черной речке, а во-вторых, здесь было кое-что пособлазнительнее блинчиков. Шоферня, как сказал Николай, звякала пивными кружками, и не пустыми: в окне рядом с Валентиной сверкал хромированной трубкой и таким же краном насос, торчавший из большой пивной бочки. От такой роскоши невозможно было отказаться, тем более, что Валя к выданным нам кружкам приложила из своих личных запасов по блюдечку соленого тугуна. Это изумительного вкуса мелкая енисейская килька, почти лишенная внутренностей, зато очень жирная, «родная сестра» знаменитой туруханской селедки. Провожаемые завистливыми взглядами и возгласами «Валя, а нам?» мы уселись за столик неподалеку от раздаточного окна и присосались к кружкам. Валентина остудила претензии на тугуна кратким сообщением, что мы ее старые друзья, а на всех у нее тугуна все равно не хватит. Потом заявила:
— Мужики, закругляйтесь, мне тоже маленько с помощницами отдохнуть надо. Уже двенадцатый час и на ночь нужно все приготовить. Вы-то спать пойдете, а нам с девками всю ночь работать.
Мы допили по третьей кружке, сжевали по последнему тугунку и вместе с другими вывалились за дверь жарко натопленной столовой. На дворе Николай сказал:
— Сейчас отведу тебя в спальню, а сам пойду, найду загонщика, возьму ключи, есть у меня еще дело к Валентине. Покалякаем с ней о том о сём в кабине.
Он отвел меня к приземистому бараку, стоявшему над самым обрывом. Дверь здесь тоже была снабжена автоматикой того типа, что описан в «Двенадцати стульях», Николай еле открыл ее, а закрылась она сама с громким стуком, изрядно поддав мне пониже спины. В душном помещении царил почти полный мрак, из которого послышалось шипенье:
— Тиш-ше вы, обормоты. Люди ж-же с-спят.
Потом я все же разглядел, что у входа стояла тумбочка, на ней — завешенная какой-то тряпкой настольная лампа. Под лампой лежали амбарная книга, авторучка и очки, а за тумбочкой сидела явно немолодая уже женщина. Она шепотом же потребовала наши документы, причем я предъявил служебное удостоверение, а Николай права и путевку. Она записала нас в свою книгу и, посвечивая себе карманным фонариком, повела нас между длинных рядов кроватей, на которых сопели и храпели полтора десятка людей.
Николай, бросив на отведенную кровать свои рукавицы-мохнашки, пошел к выходу, а я увязался за ним, прошептав, что хочу покурить на сон грядущий.
За дверью спросил своего спутника, сколько нужно платить за ночлег. И уже не удивился, когда услышал:
— Нисколько. Ночевка бесплатная. Все тот же приказ. Так что спи себе спокойно.
Утром, вылезая из белоснежных простыней в зашторенной длинющей комнате я еще раз мысленно поблагодарил авторов столь человеколюбивого приказа, растолкал беззаботно спящего на соседней койке Николая, с которым мы хорошо позавтракали уже у другой поварихи. Валя, как сказал Николай, сменилась в шесть часов и ушла к себе домой в деревню, где она жила со своим мужем-слесарем и детьми. Муж ее работал на той же базе, что и она.
В десять часов мы с Николаем переехали Енисей по намороженной на его торосистом льду дороге, а в одиннадцать я был уже в аэропорту у своих друзей-летчиков.
А через три дня, к самому новогоднему празднику мы с Николаем проехали зимник уже в обратном направлении.
Содержание
1. «И места, в которых мы бывали» (из записок геолога) (5)
2. Первый академик (5)
3. Министр на камне (9)
4. Розка (19)
5. Танькин лог (31)
6. Маршрут на Немкину (55)
7. Тайга и медведи (104)
8. Художник (108)
9. Догонялки (136)
10. Деревянный человек (144)
11. Пельмени, молоко и…гражданская война (167)
12. Туруханский Анискин (173)
13. Зимник (182)
Информация об издании
ББК
Прожогин
Сборник
«И места, в которых мы бывали»
ООО «Издательство Киновия»
216500 г. Рославль, ул. Мичурина 196, тел. 6-17-21, 2-22-20
Подписано в печать 21.07.06 г.
Бумага офсетная, формат 60/90/16, усл. п. л. 13
Заказ А — 0428 Тираж 100 экз.
© Л. Г. Прожогин
2006 год

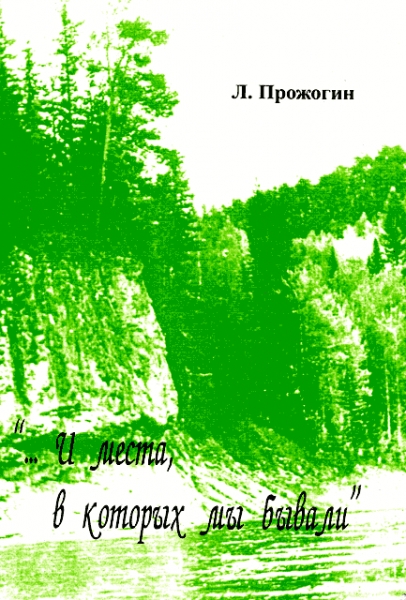

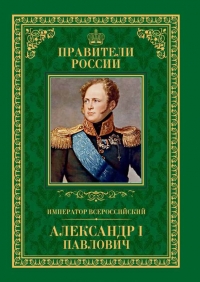


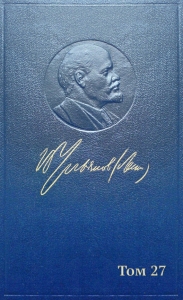
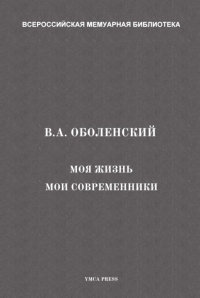
Комментарии к книге ««...И места, в которых мы бывали»», Леонид Георгиевич Прожогин
Всего 0 комментариев