ГЛЕБ ГОРБОВСКИЙ Остывшие следы Записки литератора
Вместо вступления
Одного нынешнего писателя, известного и уважаемого ветерана войны, «народника» интеллектуального склада, спросили в очередном интервью для «Литературной газеты»: доведись заново родиться — как бы вы, опираясь на приобретенную мудрость, распорядились своей жизнью по второму разу? (Писателю в те дни исполнялось шестьдесят лет.) После некоторого раздумья писатель сказал примерно следующее: «Свою вторую жизнь я прожил бы как первую». Иными словами — повторил бы ее от начала до конца. Так как она у него, видите ли, была хорошая. Безупречная. Без единого, стало быть, серьезного изъяна. Каким неоправданным, гигантски раскормленным честолюбием нужно обладать, чтобы не разглядеть в пройденном тобой пути ни единой колдобины, где ты мог оступиться, пусть неосознанно, согрешить (не перед обществом!) перед своей совестью, убеждениями. Прожить шестьдесят лет и ничему не научиться! Не пожелать хоть чем-то обогатить опыт той, первой жизни, пройденной на ощупь, на свой страх и риск. Лично я прожил бы свою вторую жизнь совершенно иначе, нежели первую. И прежде всего — милосерднее, терпимее к соседям по судьбе. Бережливее расходуя время. И чаще — на свету смирения, нежели на ветру тщеславия. И еще и еще в том же духе.
У того же писателя поинтересовались, в чем состоит главное назначение его жизнедеятельности. Писатель ответил: «В служении обществу. В любви к человечеству». А как же тогда с конкретным, отдельным человечком, с тем самым пресловутым ближним, который прозябает возле тебя? — хочется спросить писателя. Любя абстрактное человечество, не обделить бы любовью натурального, всамделишнего страждущего. Состоя на службе народу, не отвернуться бы от… человека. Любить всех скопом — проще. Но разве это любовь? Полюбить каждого невозможно. Любят, как правило, не каждого, не всякого любого, но — кого-то одного. Сперва одного, затем — другого. То есть — по отдельности. То есть — со вниманием. Всерьез.
Ответы писателя на вопросы корреспондента подбили на размышления, и я благодарен случившемуся. В том числе и писателю. У меня даже возникла идея призвать из невозвратной действительности десяток-другой конкретных персонажей, коим, каждому по отдельности, был я в свое время обязан многим, в том числе и любовью. Призвать их погостить в этой книге-элизиуме, книге-острове, чтобы сделать ее обитаемой, одухотворенной.
Эти живущие во мне души и лики будут приходить по одному, усаживаться напротив меня в пустующее кресло и молчать. Нет, мы не станем утомлять читателя затянувшимся созерцанием невозвратного прошлого, мы просто посмотрим друг другу в глаза, и я вспомню главную заботу, подчинившую себе существо моего гостя при его первоначальной, ныне уже отшумевшей жизни. Вспомню и расскажу об этом на страницах книги, хранящей остывшие следы моих друзей.
Иногда в пустующее кресло будут усаживаться люди, еще не завершившие земного пути. Никакой разницы между первыми и вторыми не будет, потому что как те, так и другие — бессмертны. По крайней мере — в моем сердце.
Я приснился сам себе: будто в майскую грозу я брожу в своей судьбе, как в пустом ночном лесу… Душа моя — элизиум теней. Ф. И. Тютчев1
Этой действительности уже нет. Как нет в Ленинграде гостиницы «Англетер», в которой погиб Есенин, а есть ее финская копия; как нет на Сенной площади церкви Успения Пресвятой Богородицы, в чьей прохладной тени съел я свое первое (или второе в жизни) мальчишеское мороженое, как нет самой Сенной, а есть скучная площадь Мира; как нет в живых большинства из моих вчерашних друзей (уцелевшие — дышат на ладан); как нет в маленьком старинном Порхове матерого дуба, под чьими ветвями, первоклассником, влюбился я в некую смутную девочку, а точнее — во все женское на земле; как нет моих следов на прибрежном песке Финского залива, где я только что передвигался: следы смыла вторая стихия — морская вода, если первая стихия — земная твердь; но вот чудо: есть неподалеку от родимой Малой Подьяческой улицы церковь Николы Морского, куда меня тайком от запуганного атеистами отца притащила в начале тридцатых тетка Гликерья, чтобы окрестить, и есть еще эта книга, которую задумал я возле Никольской церкви пятьдесят лет спустя после своего крещения и почти тысячу лет спустя после крещения Руси.
И вторая действительность, заполнившая страницы этой книги, не есть ли моя подлинная жизнь, то есть — жизнь Духа? И не о ней ли надлежит печься и сожалеть, если она не задается, если и ее, как первую, сотрет с лица земли равнодушная стихия времени?
Действие драмы иссякло. Остался эпилог. Который не дописан Автором Бытия. Персонажи разбрелись кто куда, многие — за пределы жизни. Остался театр, его стены: город, Россия, планета Земля. Завтра (вчера, сегодня) кто-нибудь поставит свою драму, раздастся звонок, взлетит занавес, зашуршат подошвами персонажи, продлится действо, но это будет уже другая судьба, другая книга. Театр иных теней.
Что ж, если первая действительность — это явь, а вторая — ее отражение на бумаге, тогда третья, искомая сердцем, не есть ли Истина? И служение ей, поиск этой третьей действительности разве не оправдывает нашу нравственную неопределенность, всю эту предполагаемую трехмерность, трехслойность Бытия?
И если первый слой — суета, а второй, нацеленный на отыскание Истины, преодоление суеты, то что есть Истина? Во всяком случае, не блаженство, не «покой и воля», не итог, не награда за муки, а как раз блаженное ничто в чистом виде, именуемое бессмертием, обретенное нами заживо, за шаг до могилы.
2
Этого человека уже нет. Или — почти нет. А значит, речь как бы и не обо мне. Хотя и от меня. Впечатление такое, что держишь свою жизнь в ладонях, как горячую лепешку или картофелину, выхваченную из огня.
Этот человек проник в собственную судьбу при помощи страстного желания сделаться писателем. На карту было поставлено все. Когда это было? После первого свидания с книгой? Вряд ли. После второго, осмысленного свидания с ней. После которого книгу полюбил я как создание природы, был очарован ее присутствием подле себя так же, как полевыми цветами, морозным узором на стекле, лицом ребенка, шумом ночного дождя, мерцанием небесных звезд.
Всякая книга для меня с тех пор есть живое существо: изящное или уродливое, аскетическое или компанейское, насмешливое или несчастное, угрюмое или уютное, неприкаянное или пошловатое, доброе или злое, но всегда — существо и всегда живое, то есть способное не только жить, но и умирать — в огне забвения или просто на костре, а то и в плесени бездомья или под ножом машины, шинкующей макулатуру, в руках книжного убийцы. Книга беззащитна до тех пор, пока ее не полюбишь. Нелюбимую — можно продать, растерзать, хотя и нельзя разлюбить, возненавидеть. Удел книги — терпеть и ждать своего друга-читателя. Неразрезанная, нечитаная книга — словно мозг эмбриона. В свою очередь, обескниженная людская душа обречена на преждевременное разрушение.
Истинная книга — не от тайны: от вечной правды. От ясной цели. Так же, как и воля, сотворившая эту книгу. Что путного привнесли собой в миропонимание так называемые «черные книги», призванные смущать, а не просвещать? Все эти магии — черные и белые, все эти поиски философских камней, да и все эти «Майн кампфы» и иже с ними, — чем одарили они жаждущего откровений читателя? Сумятицей в мыслях, раздражением, а то и ненавистью в сердце. Истинная книга милосердна, ибо — выстрадана. И не только автором, но и опытом всех предшествующих книге поколений людей.
Из неосознанных, однако застрявших в моей памяти книг первыми были «Гаргантюа и Пантагрюэль», а также толстенный, ларцеподобный том энциклопедического словаря Павленкова. Эти книги постигал я без помощи чтения, путем разглядывания «картинок». Мерцающее впечатление от этих книг, словно от посещения двух миниатюрных музеев, осталось на всю жизнь. Через сорок с лишним лет после разглядывания павленковского словаря ощутил я жгучую тоску по этой, для меня почти мифической, «потусторонней», из страны детства, книги. Не верилось, что такая книга может существовать в действительности.
А вот великий Рабле, точнее — иллюстрации знаменитого рисовальщика Гюстава Доре, произвели на меня не столь пронзительное впечатление, нежели словарь; рисунки к роману воспринимались мной как нескончаемое повторение одной и той же мысли, темы, задачи, тогда как страницы словаря, испещренные неисчислимыми изображениями «деятелей» всех времен и народов, миниатюрными пояснительными рисунками — являли собой для порожнего, алчущего мозга шестилетнего проныры алладинову пещеру невиданных сокровищ; во всяком случае, обретение мной позднее своего «Гаргантюа и Пантагрюэля» чрезмерным ликованием не сопровождалось: я просто раздвинул на книжной полке «французов» и довольно бесцеремонно поселил меж ними гениального сатирика.
Совсем другое дело — букинистическая тоска по словарю Павленкова. Да и вряд ли уместно именовать ее книжной тоской: это была тоска по утраченному существу, по одному из одушевленных персонажей сказки, именуемой Детством. К этому персонажу влекло не бескорыстно, то есть — не без расчета: за сорок минувших лет многое на земле переродилось, деформировалось, а то и вовсе исчезло, — одни люди умерли, другие постарели, как и деревья на канале Грибоедова, как и дом-утюг на Малой Подьяческой, что не единожды перекрашивался с тех пор и даже был надстроен; давным-давно исчезли с лица земли птицы моего детства, все эти хрупкие воробышки, синицы, голуби, ходившие по жестяному подоконнику нашего окна; отбегали по булыжнику и напрочь растаяли в культурном слое города все эти домашние, а также бездомные собаки, кошки, мыши. И только утраченная книга, возбудившая во мне столь острое любопытство ко всему происходящему в мире, наверняка осталась такой же толстой, такой же насыщенной сведениями, такой же уютной, несмотря на огромное число жильцов, населявших ее бумажное многоквартирье и многоэтажье.
Почему-то верилось без сомнения, что книга эта жива. Пусть не та буквально, однако — экземпляр из того же, 1907 года рождения. Лежит он где-то на полке, а то и валяется на каком-нибудь чердаке. Ожидает моего прихода. Чтобы успеть что-то сказать. Еще что-то. Перед окончательной нашей разлукой. Тем более что сведения, таящиеся на страницах словаря, устарели далеко не все. Если англичанин Гарвей, открывший кровообращение, родился в 1578 году, а французский писатель Вольтер — в 1694-м, то, пожалуй, так оно и останется на все века впредь, и если итальянец Гарибальди прожил семьдесят пять лет, то русский писатель Достоевский не дотянул до шестидесяти. Это факты. А факты, как и время, не стареют. Они лишь несколько отдаляются. От наблюдающего их.
Когда эта книга вернулась ко мне из многолетних странствий, я долго не раскрывал ее. Держал на руках. Как свою жизнь. Не взвешивая — убеждаясь, что таковая (жизнь) была возможна. Потом я раскрыл книгу и жадно принюхался к ее плоти. Одна из стальных скрепок, продырявивших обтрепанный коленкор корешка, несильно уколола ладонь, как бы давая знать, что в руках моих не просто осуществленная радость, но и нечто, способное причинить боль. И не только физическую.
___________
Теперь — о первых прочитанных книгах, а значит, в какой-то мере осмысленных. Это они, первые, незабвенные, как первый лес, в котором ты заблудился, первое посещение театра, первая женщина, первый глоток вина, первая рана на твоем теле, первая милость, освободившая тебя от затянувшегося отчаяния, прельстили мой разум, подбив на многолетнюю писчую каторгу, зажгли в сердце незатухающую страсть копошиться в словосочетаниях; это на ее, «отглагольной» страсти, алтарь приносил я затем многочисленные жертвы — покой, волю, дружбу, семью, а если требовалось — и саму любовь.
Первые книги, это они увели меня с гибельной дорожки нравственного одичания. Это в их Зазеркалье уловил я призрачное шевеление одежд вечности, чтобы раз и навсегда усомниться в обреченности всего живого на земле, а главное — внутри человеческой личности.
После раблезиански пышных картинок Доре, после энциклопедического калейдоскопа павленковского словаря, после сказок Пушкина, «Тысячи и одной ночи», после «Кавказского пленника» Л. Толстого, «Слепого музыканта» Короленко и «Гуттаперчевого мальчика» Григоровича, прочтенных мне отцом до войны, вернее — до отправки отца в 1938 году по этапу на лесоповал в северное Заонежье, в общении моем с книгой наступил многолетний перерыв. До войны я успел зачерпнуть знаний из двух классов обучения: первый класс — в старинном Порхове, второй — на набережной Лейтенанта Шмидта в Ленинграде. Книг, прочитанных в период безотцовщины, без проповеднической воли отца — не помню. Может, и были таковые — следа в сознании не оставили.
Затем — четыре года войны, каждодневной заботы о выживании. Житие по Дарвину. Не обезьянье, но и не человеческое. А там уж — с неокрепшей, но уже надтреснутой психикой — послевоенное шпанство, обучение в «ремеслухе» среди подобных себе зверенышей и, как логическое завершение, исправительная колония, где чтение в лучшем случае воспринималось как наказание. Помню, в детской пересыльной тюрьме — адрес: «улица Ткачей, дом палачей» — сажали нас в коридоре с окнами без стекол в марте месяце и читали нам «Два капитана» В. Каверина. Один ряд рассаживался вдоль стены по лавкам, остальные — на коленях у восседавших, и так — в несколько слоев, попутно согревая себя стадным теплом. Естественно, что к роману Каверина впоследствии сложилось у меня особое отношение: чаще всего при упоминании этой книги я непроизвольно и зябко вздрагивал всем телом.
Убежав из колонии, пустился я на розыски отца, отбывшего к тому времени ежовскую «восьмилетку» и поселившегося в заволжских лесах Костромской области. Именно там, в голодной лесной глуши, в бревенчатых стенах сельской школы, в бегах и одновременно под отцовским недремлющим педагогическим «конвоем» произошло мое знакомство с первой самостоятельно прочитанной книгой. И была эта книга громадна. Во всех отношениях. И называлась — «Война и мир».
Вот и сегодня, спустя сорок лет, передо мной проза Л. Н. Толстого. Только что декабрьским беспросветным утром перечитал я «Крейцерову сонату». А вчера с вечера — «Смерть Ивана Ильича». И вот что замечательно: мрак человеческого умирания, телесного и духовного, окутавший мне мозг по прочтении этих беспощадных повестей, ни в коей мере не затмил благодатного света, пролившегося на меня от «Войны и мира» на заре туманной юности. Наоборот. Умирание от рака Ивана Ильича, гниение заживо от безверия и отсутствия милости в сердце героя «Крейцеровой сонаты», не пощадившего слабой женщины, только еще ярче высветил в моей памяти благословенное сияние глаз (цвета мокрой черной смородины!) Наташи Ростовой, мягкую улыбку интеллектуального увальня Пьера Безухова, этого псевдомасона и подлинного добряка; предсмертные озарения Андрея Болконского, победившего собственную гордыню, поверженного и одновременно ощутившего внечеловеческую высь духа; или — мудрейшего из простейших — крестьянина Платона Каратаева, или сознательно смиренную княжну Марью и еще многих и многих, теплых сердцем и светлых разумом созданий, населяющих это величественное построение, этот словесный храм, воздвигнутый гением Толстого на крови и надеждах людей — во имя жизни.
3
«Остывшие следы» — что это? Очередные мемуары? Нет. Скорее — плоды сомнений и догадок. Мемуары пишут от нечего делать. Или — от нечем жить. Еще — от избытка впечатлений. Но чаще — от гордыни: и мы, дескать, не лаптем щи хлебали.
А если — из благодарности к подразумеваемому Всевышнему? Из благодарности за «предоставленную возможность» лицезреть сей мир? Разве не случалось такого?
___________
А теперь — о симптомах сочинительства, об истоках моего неизлечимого графоманства. Но прежде — об искренности, о том, почему «Остывшие следы» — не исповедь. Во всяком случае, не из ложной скромности, не потому, что жанром исповеди пользовались великие, скажем, Жан-Жак Руссо, или Н. В. Гоголь, или все тот же Л. Н. Толстой, а также М. Горький. На исповеди все равны. Смотря, конечно, перед кем исповедуется автор — перед собой, или перед читателем, или перед какими-то высшими инстанциями.
Исповедь подразумевает покаяние. Очищение от содеянного тобой зла — вольного и невольного. Исповедь исключает всяческую игру воображения, не говоря о беллетристике. Истинная исповедь внелитературна. И нужно быть действительно гигантом духа, чтобы отважиться на изъявление, а значит, и на невольное навязывание кому-то своего мировоззрения, своего толкования Истины.
Сия же работа моя — литературна. В том смысле, что это не откровения, не бескорыстная песнь души, а все ж таки — утилитарный продукт элементарного сочинительства, хотя и под грифом «последнего слова», под знаком космогонического бескорыстия.
Но ведь если даже там, выше нас, над нами — «звезда с звездою говорит», то и всяк мыслящий на земле, а тем паче пишущий, говорит прежде всего о себе подобном — с себе подобным. Говорить наедине с Богом мы так и не научились. Говорить с человеком, как с Богом, — вот оно, вечно благое и вечно недостижимое желание всех исповедующихся, несмотря на то, что благими намерениями вымощена дорога куда-то там… И потому — не исповедь, а всего лишь пособие для начинающего писателя или вот… лирический роман. Не просто бессюжетный или бесконфликтный, а, так сказать, эмоциональный, роман с неизбежным, невольным враньем, которое и отличает, к примеру, пение человека от пения соловья, мерцание уличных фонарей от мерцания звезд, гениальную «Анну Каренину» от «Священного писания», из которого автор семейного романа взял эпиграфом пять бестелесных слов: «Мне отмщение, и аз воздам».
___________
Утешает и обнадеживает следующее обстоятельство: желание стать писателем, сочинять, а точнее — марать бумагу, пришло ко мне далеко от стен большого города с его библиотеками, писательскими клубами, лекциями, редакциями и прочими интеллектуальными соблазнами; повторюсь, сообщив, что возникла сия неодолимая потребность в глухих заволжских дебрях, в полуразоренной лесной деревушке Жилино, на исходе шестнадцатого в моей жизни лета, за бревенчатыми стенами сельской школы, возле окна, по стеклам которого расползались ленивые струи затяжного осеннего дождя, то есть возникла и развилась под воздействием одиночества, а также сельских «красот природы».
Оглядываясь теперь в изведанное, пережитое, словно в огромный пустой коридор с многочисленными закрытыми дверьми и с одной-единственной лампочкой в самом начале этого коридора (свет детства!), спрашиваю себя: так чего же в тебе все-таки больше — городского или сельского, геометрически-уличного или плавно-географического, сотворенного разумом, то есть сконструированного или природного, почвенного, то есть навеянного, почерпнутого? И не мешкая хочу ответить: поровну! Примерно так же, как добра и зла. И тут же вспоминаю, что зла в мире, а значит, и во мне, гораздо больше, нежели блага. Просто добро сильнее, отсюда и кажущееся равновесие.
Родился в городе. Причем в прекрасном городе. Измышленном дерзостью разума и воздвигнутом волею Великого Петра. Но детство прошло не в сиятельных апартаментах, а в многолюдной, густой коммуналке, в десятиметровой комнате на троих. И вот что запомнилось ярче прочего: в проходном квартирном пространстве общего пользования, будто на пешеходном мосту, соединяющем «черный ход» коммуналки с основным ходом, под портретом наркома Ежова, на гигантском окованном сундуке жила у нас в квартире «ничья бабушка» из сельских. В свое время кем-то выхваченная из деревни в няньки да так и забытая в коридоре, — то ли младенец, которого надлежало ей нянчить, умер до срока, то ли родители младенца поссорились и развелись, — во всяком случае, бабушка жила в коридоре на сундуке, ела хлебную тюрю с луком, крестилась на свет электролампы, шептала молитвы и, за неимением собственного младенца, ласкала время от времени меня и всех остальных малолеток жилобщины, ласкала, угощала тюрей и вместо сказок рассказывала нам иногда о своей деревне.
Ее рассказы были пересыпаны необыкновенными словами, такими, как «поветь», «поскотина», «пряслице», «загнеток», «лукно», «гумно», «сусек», казавшиеся мне словами если не сказочными, то иностранными. Эти лохматые, грубого помола «скобарские» выражения нравились мне, тогдашнему учительскому сынку, привыкшему к правильной, монотонной речи образованных родителей, так же, как нравились горожанину, очутившемуся в деревне, крестьянский хлеб с парным молоком, разваристая картошка с малосольными огурцами, колодезная вода из ковша.
И тут необходимо отметить, что родители мои сделались образованными незадолго до моего рождения, оба, хотя и порознь, окончили Ленинградский педагогический институт имени Герцена и своей образованностью весьма дорожили и наверняка гордились, так как вне этой образованности, верней — до нее, были они никто или почти никто: отец — крестьянский сын, мать — наполовину зырянская дочь, то есть представительница малого народа, к которому, по словам поэта, «Тютчев не придет». Надо ли объяснять, с каким благоговением относились мои родители к обретенной образованности, с каким тщанием соблюдали ее условности, в частности — отбор и произношение слов. Ясное дело, что преимуществом у них пользовались так называемые «культурные» слова, а всяческие вульгаризмы и архаизмы безжалостно подвергались остракизму.
Поселившаяся в той же коммуналке сестра отца и моя крестная тетка Гликерья (по другой версии — Лукерья), недавняя крестьянка, работавшая на «Скороходе» и старавшаяся выражаться на пролетарский манер, тоже нет-нет да и выпускала затрапезное словечко типа «надысь», «нешто», «сумлеваюсь», «лихоманка», «ушат», «гунявый», «хлобыстнуться». Хотя куда чаще в устах верующей Гликерьи звучали слова молитвенные, церковные, смысл которых для моего социалистического (на груди — звездочка октябренка) мозга был совершенно неуловим. Подглядывая и подслушивая за молящейся Гликерьей, которая истово, просительно смотрела в угол своей шестиметровой комнатки и при этом время от времени взмахивала рукой, словно отгоняла мух, вслушивался я во все эти торжественные «дондеже», «како», «присно», «поелику», «днесь», «агнец», «главизно», «учахуся», «за ны», вслушивался и толковал эти приглушенные, исторгаемые шепотом слова по-своему: так, часто повторяемое Гликерьей «вовеки веков» принимал я за имя собственное, за поминание теткой каких-то Вовиков, «присно» — за искаженное «пресно», а «како» — вообще за ругательство.
После того как однажды в первом часу ночи пришли за отцом и тот, прощаясь перед восьмилетней разлукой, поцеловал меня, спящего, внезапно сделавшегося полусиротой, мое сближение с «природным» в этой жизни пошло по нарастающей, и, подсчитывая теперь разницу лет, проведенных в городе и вне его, то есть в кирпичной пещере городского двора и на чистом воздухе сельщины, прихожу к выводу, что городской я действительно всего лишь наполовину, потому что не менее тридцати лет из прожитых пятидесяти шести провел вдали от Ленинграда, в сладкой тоске по его улицам, невской воде, дождливым погодам, каменным лицам его зданий, храмов, площадей, запахам его сирени, коммунальных квартир, балтийского ветра.
Хотя опять же — природное в мою жизнь вошло еще до исчезновения отца, когда ежегодно всей семьей отправлялись мы на летние каникулы в Скреблово, под Лугу, на изумительной прозрачности озера, Череменецкое в том числе. На одном из островов этого озера взрослые показали мне развалины монастыря, и с тех пор на долгие годы в моем представлении все, так или иначе относящееся к религии, церкви, монашеству, ассоциировалось прежде всего с разрушением, упадком, развалинами и запустением.
Там же, в Скреблове, пропахшем яблоками (необозримые совхозные сады!), был я впервые приобщен к таинству созревания плода на ветке, возникновения полевых цветов, мерцания на лесной вырубке душистой земляничной россыпи, образования на стебле хлебного колоса, а в пчелиных сотах — библейски мудрого меда.
Но главное — в Скреблове шестилетним мальцом успел я застать в живых своего деда по отцу — Алексея Григорьевича, придумщика нашей фамилии (от именьица Горбово), жившего тогда как бы на покое у младшей дочери Евдокии, скребловской учительницы, дремучего, как мне тогда казалось, семидесятилетнего старца, в недавнем прошлом настоящего, доподлинного русского крестьянина Псковской губернии Порховского уезда, к тому же еще и старообрядца, комната которого в скребловской школе была увешана иконами, пахла лампадным маслом, пчелиным воском, самоварным жаром.
Не помню, о чем разговаривал я тогда с дедом, помню лишь, как смотрел он на меня однажды, после очередной «буреломной» схватки со старшими родственниками, которых он называл «греховодниками» и которых тогда прогнал из своей обители, оставшись со мной наедине. Он смотрел на меня со слезой во взоре, как бы ища во мне поддержки. Белая борода его была распушена и вздыблена, будто от головы деда Алексея шел пар. Некурящий и непьющий, он, казалось, постоянно излучал какой-то неповторимо-спокойный, травянисто-банный телесный запах, вдыхать который было вовсе не противно. Так запомнилось.
Природное продлилось затем через год в похоронах этого деда; он словно пожертвовал собой для того, чтобы я впервые узнал и о тайне смерти. Прошло полвека, а я и теперь бываю на его могиле, выдираю вокруг нее буйные сорняки, посыпаю ее подножие речным оранжевым песком. Хорошее место. Правда, ютится оно у самого речного обрыва, подмываемого течением в паводок. Того гляди рухнет. Могила в бездну, или… бездна в могилу. И все это — здесь, наяву. Что же тогда — «там»? На той стороне реки Жизни?
Продолжая вычленение из собственной биографии природно-почвенных периодов, для краткости обойдусь одним лишь перечислением мест своего дальнейшего соприкосновения с натуральной школой жизни, то есть жизни вне «асфальтовых джунглей», жизни без прикрас, по которой шел я чаще всего босиком, с восторгом первооткрывателя земных чудес. Ибо всё тогда, на заре жизни, включая ужасы и уродства войны, было внове, казалось необыкновенным и даже, повергая в трепет, неподдельно восхищало.
На следующий (после прощания с дедом) год — Сиверская с ее речкой Оредеж, где поймал свою первую в жизни рыбку, серенького пескаря, и где впервые ощутил именно течение воды, стоя в ней в «натуральном виде» (скребловские, со стеклянно-неколебимой влагой озера — не в счет, не говоря о величественной, плоской и внешне недвижной невской воде, к которой почти никогда не прикасался). Затем — школа, первый класс. И не в Ленинграде, а в маленьком, «деревенском» древнем Порхове, над которым господствовал старинный холм с каменной, времен нашествия Литвы крепостью, с колокольнями церквей, тихой Шелонью, местными тайнами, сказаниями, поверьями. Причем здание школы — не каменный дворец, не храм науки, а деревенский дом, почти изба, прятавшаяся под сводами одичавшего лесопарка с его грачиными и вороньими гнездами, птичьим гвалтом.
Самое яркое впечатление от пребывания в первом классе, запавшее в голову, — это жуткий конфуз от случившегося со мной на одном из первых уроков. В Порхов тогда завезли вагон арбузов, и малышня налегала на это сочное лакомство. Учительнице надоело отпускать «нуждающихся» с урока. Бесполезно тянул я руку, покуда не понял, что или лопну, или… Со мной сидела аккуратная, чистенькая девочка, дочь местного священника отца Николая, который годом позже, во время оккупации Порхова немцами, будет преподавать нам «закон Божий». В момент, когда из-под меня по скамье побежал арбузный ручеек, соседка моя молча и как-то тактично, незаметно для посторонних глаз приподнялась над скамьей и так, в приподнятом положении, с понурой головой простояла до окончания урока. Нужно ли говорить о том, как зауважал я эту девчонку, как был ей благодарен затем, то есть — по сей день.
Ни в одной школе не находился я более одного учебного года. А, скажем, в четвертом и шестом классах вообще никогда не учился. Обошелся без таковых. Девять классов — девять школ. Случалось так, что один учебный год проводил я в нескольких школах. Отсюда вывод: помимо внешних обстоятельств, определявших кривую моего продвижения по жизни, отмечу в своем поведении возникшую «сызмальства» неудержимую и неукротимую непоседливость, перераставшую порой не столько в неоднократно воспетое бардами свободолюбие, сколько в элементарное неприятие «социальной узды».
Не отсюда ли тяга к творчеству, к обретению нравственной независимости? Панический страх перед цехом, станком, хождением на работу по звонку будильника. Не отсюда ли тяга к работе «вольной» — грузчика, землепроходца в различных экспедициях, «бича», слесаря «Ленгаза», наконец, поэта-надомника? А двести девяносто шесть суток гауптвахты за три года службы в стройбате? О чем они говорят? Больше всего — о неприятии постороннего давления на «душу живу».
Итак, природное, почвенное, изначально сущее благо по великой милости отпущено мне вровень с городским, началом измышленным, сконструированным, отвоеванным волей разума человеческого.
Даже война, с ее дьявольской идеологией умерщвления и распада, не остается бесконтрольной, вне влияния созидающих сил. Тем более — одна человеческая единица. За четыре года войны помимо узаконенных беззаконием ужасов сколько я видел и принял вовнутрь, впитал, осознал добра, пропустил его через кровь и мысль, сколько его, природного и человеческого, планетарно-абстрактного и конкретного — от жестов милосердия до актов сочувствия, выпало на мою долю.
Житие на войне для меня — все та же сельщина, «полевые условия», негородской образ жизни, то есть — скитания, блаженство постижения «извивов бытия». Деревня приютила тогдашних беженцев из города, поделилась с ними припасами. Но разве мог я, десятилетний мальчишка, усидеть на одном месте, когда за окном — война и столько всего стреляющего, взрывчатого разбросано по земле? Нашими игрушками той поры были патроны, снаряды, мины, разбитая техника, а порой — и настоящее, разящее оружие. Мои военные скитания завершились в Прибалтике, на латышских хуторах, в так называемом Курляндском котле — опять же под открытым небом, на «лоне природы».
После войны — детприемник в Луге, розыски родителей, встреча с матерью, попытка приобщения к школе, каникулы в вырицком детдоме. Затем предпринял тактику «большого скачка», поступив сразу в пятый класс (минуя третий с четвертым), и вскоре был отчислен за дерзкое поведение и неуспеваемость и определен в ремесленное училище, откуда попал в исправительную колонию, снова как бы на «волю», на умиротворяющие душу ландшафты заволжских степей Саратовской области и далее, на лесоразработки в приволжской возвышенности, откуда бежал, опять скитался по берегам великой реки, отогревался на ее пароходах, затем коченел от голода и стужи на товарных поездах, сунулся было в Ленинград, но там едва на отловили, выскользнул из дворницких рук и — опять на Волгу, ближе к ее верховью, в костромские леса, к вернувшемуся из лагерей отцу.
Деревня Жилино. Десятка три жителей, столько же волков, сидящих вокруг деревни в морозную лунную ночь. Школа, где отец — и «зав», и просто учитель, и техничка, где в первом классе — двое, во втором — трое, а в третьем — один. В четвертом — и вовсе никого.
Потом — село Богородское Владимирской области, куда меня отправил отец к своей сестре Евдокии и где я окончил семилетку (сказалась настойчивость и педагогический дар отца, который за один год с величайшими жертвами, душевными и материальными, подготовил меня, фактически, сразу за четыре класса).
Какой же я городской после этого? Нет, дорогие товарищи, не городской, и если все же и не деревенский, то какой? А вот какой: типичное ни то ни се. Бродяга, скиталец, беженец на всю дальнейшую жизненную стезю, представитель особой породы (формации) людей, выведенной социальными и моральными потрясениями эпохи. Прямой потомок горьковских босяков. Разве не так?
После Богородского — Ленинград, в котором продержался год, не зацепился и, окончив восьмой класс, призвался в армию. А что такое армия, тем паче стройбат, в который меня определили по близорукости зрения, — это же вологодская Шексна и вновь милая сердцу Волга под Кинешмой, то есть опять сельщина, опять душеласкающие пейзажи, а вокруг — люди, делающие в своих разговорах ударение на «о».
После армии — экспедиция: Средняя Азия, Сахалин, Якутия, Камчатка. И опять Волга, спасительная, отцовская. А затем Белоруссия, деревня Тетерки, в которой обретаюсь и поныне каждый год — по полгода. Так какой же я городской? Нет, просто русский, не более того.
4
Приведенный выше перечень «вкраплений природного» в моей биографии вовсе не говорит о том, что человеку, жаждущему стать писателем, необходимо немедленно махнуть на все рукой и пуститься куда глаза глядят, то есть, как писал проникновеннейший Сергей Есенин: «Брошу все, отпущу себе бороду и бродягой пойду по Руси». Не те нынче времена на дворе, не есенинские, менее романтичные, более трезвые (и это несмотря на утроившееся на душу населения потребление алкоголя). Кругом деловые, прагматически настроенные люди времен Великой Технической Революции. На дворе, слава богу, ни войны, ни какой-либо другой разрухи, когда люди сами собой добрее делаются; бродяжничество переименовали в тунеядство, лишив его романтической дымки и придав ему бранно-криминальный оттенок. Так что в писатели теперь сподручнее всего не идти, а… ехать. На папашиной «Волге» или дядиных «Жигулях».
Но — шутки в сторону. Толчком к моему «уходу в писатели» было не только «природное начало» и не столько сельский пейзаж и окающие люди вокруг меня, тогдашнего, но — и прежде всего! — Книга. А книга — дитя города. Под деревом книги как грибы не растут. Ни в речной, ни в морской воде, ни в земных подпочвенных слоях книжной продукции не содержится, разве что составные ее элементы — свинец, целлюлоза, красители и т. п.
Но повторюсь: все же книга пришла ко мне по-настоящему в деревне. Осознанная книга. Что содержалась в убогом фанерном учительском шкафу Жилинской начальной школы. В этом шкафу проживали, непостижимые по глубине, бездонные гиганты духа людского: Пушкин, Толстой, Гоголь, Достоевский, Ж.-Ж. Руссо, Карамзин, Лермонтов, Сервантес, «Священное писание». Пять или шесть десятков книг, но — каких! Сгусток истин и мнений, достойных Вечности.
Помню, как трепетно держал я в руках однотомную «Войну и мир». Словно дитя мира доверили мне, зародыш планеты. И еще не читая этой книги, захотелось приобщиться к написанию книг — самостоятельно. Кощунственнейшая из дерзостей! Теперь, оглядываясь на те далекие дни, минуты, секунды, когда вспыхнуло во мне сие всепожирающее желание, с печалью и тревогой думаю: неужто одно лишь примитивнейшее честолюбие, жажда присоединиться к великим мира сего, возвыситься над себе подобными — двигало мной тогда?
Теперь, когда действительность, толкавшая меня на писательство, давно отшумела, скажу, не убоюсь: и честолюбие тоже способствовало. Правда, чуть позже, когда удалось вкусить от успеха. Началу же «впадения в грех» писательства, его истоку обязан я все же книге, ее облику, образу, вообще ее феномену, этому «магическому кристаллу» двойственных свойств, чуду материализовавшейся мысли, сгустившемуся на книжных страницах духа, который можно брать руками и посредством чтения вновь возвращать разуму, сознанию, духу. И прежде всего — доступность соприкосновения с этим чудом вдохновила! Как же… вот оно, податливое, шелестит в твоих пальцах. И сотворил его, это чудо, человек. То есть такая же мыслящая тварь, как и я, как все… Типичный постулат вседозволенности любого из начинающих графоманов: «И — я!»
Итак, сперва — очарование (книгой, писательством, возможностями творца), затем — дерзость: «И я!» Дерзость, не всегда подкрепленная способностями. Дерзость как склонность. Но дерзость — это еще не одержимость, а способность мыслить образами — не поэтический дар. Это солдатами становятся, а поэтами всего лишь рождаются, причем обладатели поэтического дара далеко не все подряд превращаются в поэтов. Многие из них так и живут, слывя чудаками, если не придурками, делают свое незапланированное, спонтанное добро и умирают если и не с улыбкой, то, во всяком случае, не с проклятием на устах.
Книгу всегда любил я уродливо (следствие невоспитанности), любил не столько за ее содержание, сколько — за образ. Более прочего пленяло меня старинное происхождение книги. И возникла эта библиофильская патология во мне, скорей всего, еще там, до войны, на Малой Подьяческой, когда я впервые, еще ребенком, но уже не бескорыстно, начал сравнивать печатную продукцию эпохи социалистического реализма конца тридцатых годов с продукцией дореволюционных издательств Маркса, Суворина, Глазунова, Сойкина, Гржебина, Брокгауза и Ефрона, имевшихся в библиотечке родителей.
Позднее, даже после того, как в медвежьем углу отцовской школы в Жилине были прочитаны «Война и мир», «Записки охотника» и другая классика, изданная в годы сталинских пятилеток на быстрожелтеющей газетной бумаге военных и прочих суровых времен, в мои руки попала удивительной добротности и красоты «старорежимная» книга из собрания сочинений Ф. М. Достоевского, а именно — роман «Идиот». Мелованная бумага, крупный, так и льющийся в душу шрифт, изящнейшие виньетки, заставки и прочая полиграфическая «завлекаловка», помещенная в обтянутые коленкором крышки, скрепленные корешком из мягчайшей натуральной кожи с золотом тиснения по этому корешку и обложке, с навеки западающей в память, ярчайшей тканой узкой ленточкой-закладкой, и все это дивное сооружение, весомое, солидное и какое-то не от мира сего (мир хлебных карточек, кухонных склок, запаха керосина), обладало терпким, сладчайшим, «духовным» книжным ароматом! Читать такую книгу было наслаждением, вспоминать о ней — блаженством.
Потом, когда в моей жизни очарование книгой на долгие годы оттеснится многими разрушительными страстями и страстишками и я стану продавать свои книги (в том числе и несравненного «Идиота») за бесценок перекупщику, во мне все ж таки не иссякнет приверженность к книге «вообще», и всякую из них, отрывая от себя, стану я провожать со вздохом, а то и — с символической слезой.
В связи с моим «страстным», полубогемным периодом жизни запомнились некоторые из «книжных» эпизодов, и прежде всего — один телефонный звонок, недавно прозвучавший как бы оттуда, прямиком из моей опрометчивой юности, когда я столь безжалостно расправился с нашей семейной библиотекой.
Жил я тогда на Васильевском острове один: семья наша, о чем я уже упоминал, распалась еще до войны, якобы по вине наркома внутренних дел Ежова; мать с отчимом уехали работать на юг, отец сидел в Жилине, учил грамоте детей, не забывая посматривать в окно, поджидая уполномоченного, так как не верил, что «испытания на прочность» позади, а я, выгнанный из девятого класса, вел самостоятельную жизнь единоличного обладателя тридцатиметровой комнаты, уставленной книжными шкафами и порожними бутылками из-под «плодово-выгодного». В нашей комнате была прекрасная, облицованная старинным кафелем печь-голландка, которую я, начитавшись классики, именовал камином. Усаживаясь перед разверстой печной дверцей в ветхом, продавленном кресле без ножек, смотрел я на огонь в «камине», прихлебывал гнусное «волжское» и не читал, а слезно, почти ритуально-истерично прощался с прекрасными книгами, перебирая реликтовые издания в ожидании звонка перекупщика.
Он приходил, страшный, не имеющий лица, с крючками обгоревших пальцев рук, с короткой и полупрозрачной косточкой носа, с вечно плачущими красными щелями глаз, с лицом, на которое старался я не смотреть — не из брезгливости или сострадания, не из страха даже, а из-за «воображения», что так вот в жизни может случиться с любым человеческим лицом, в том числе и с моим.
Он складывал книги в мешок. Словно слепых котят или щенков, которых затем намеревался топить в воде. Такое было у меня впечатление от расставания с теми книгами, хотя сам-то я неужто не ведал, что принимаю в экзекуции утопления не просто участие, но даю, так сказать, на расправу окончательное «добро»? Знал, понимал, но… не сознавал непоправимости творимого, а главное — не слышал сердцем. Одним лишь зачумленным умишком смекал, как и что.
По нынешним дизайнерским меркам книги, которые уносил от меня раз за разом перекупщик, напоминали не полиграфическую «продукцию», а скорей — ювелирные изделия. Так роскошно и столь добротно были они сработаны: кожа, сафьян, цветной коленкор, золотое тиснение или золотой же обрез, а то как чернь по серебру, — не книги — драгоценные слитки… Полные собрания Чехова, Диккенса, Лескова, Гончарова, Оскара Уайльда, Бальзака, Гёте, Ницше, Ибсена, Гауптмана, Гамсуна, Достоевского. И книги в более дешевом оформлении — Блок, Гумилев, Мандельштам, Клюев, Бальмонт, Северянин, Ходасевич, Вяч. Иванов. Первое издание стихотворений Ф. И. Тютчева с предисловием Тургенева. За него мне Горелый (так в нашем кругу звали перекупщика) отвалил… пять рублей в старом, до реформы 60-х годов, исчислении.
Обыкновенно, стянув горло на своем заглотистом мешке веревочкой, Горелый швырял на круглый наш некогда обеденный стол так называемую «простынку», то есть сто рублей одной бумажкой, на которые при желании можно было сообразить довольно скромное угощение на две персоны. Не больше.
Горелый позвонил мне через тридцать три года. Как в сказке — «ровно тридцать лет и три года». Голос его, какой-то механически-сиплый, с напрочь исчезнувшими человеческими качествами и оттенками, показался мне все же знакомым и в то же время ужасным, связанным в моей жизни с чем-то гнусным, тщательно мной скрываемым, но вот же — явившемся, наконец, под окно моей совести.
— С-сдрасствуй, Ле-ееп, это Сере-ежжа, танкисст, Хоре-елый! — скрежетал в телефонной трубке «потусторонний» голос, явившийся ко мне из другой жизни, имя которой — Юность.
Незадолго до этого похоронили мы замечательного русского поэта-фронтовика Сергея Орлова, бывшего танкиста, горевшего в танке, но затем на долгие годы сохранившего невредимым — и в огне жизнепостижения в том числе — свое доброе, отзывчивое сердце. В первые мгновения, когда в трубке зашелестело: «…Се-ре-ежжа, танкисст…», да еще — «горелый», — сознание мое затрепетало, будто листва на дереве, по которому ахнули обухом топора. Губы и язык почему-то отказывались повиноваться. То, что меня разыгрывают, дурачат, не приходило в голову, ибо сразу почувствовал (не понял — ощутил!): звонит человек, горевший именно на войне, в танке, инвалид и непременно — подлинный инвалид, к тому же из тех, с кем я наверняка общался. В свое время…
— Помниш-шь, Хле-еп, книи-и-ижника, опхоре-ело-го? Ты вот в пиша-а-ателях тепе-ерь, са-ам ки-ишечки выпуска-аешь-шь… Давай увидимся. Есть ш-што с-ска-зать… перед с-сш-шмертью… — свистело в трубке.
И опять сработало мое болезненное воображение, перенасыщенное мнительностью: я почему-то представил себе страшного, теперь уже старого и наверняка нетрезвого человека (такой жуткий голос!), встречу с которым надобно было непременно обмывать и т. д. и т. п. И — отказался от встречи. А зря. Потому что просьба звучала искренне.
Несколько дней жил я под впечатлением этого звонка. Этого голоса из «ниоткуда». Содеянное мной насилие над Книгой аукнулось не просто просьбой о банальной встрече давнишних «подельников», но — призывом к моему милосердию. И я отказал в этой наверняка расстанной, прощальной милости несчастному инвалиду. То есть еще раз проявил малодушие. Совершил преступление против человечности. Книги как бы деликатно пеняли мне за то, что я не прочел их тогда, не напитал вовремя живительным их смыслом свою неокрепшую душу (более позднее прочтение этих книг конечно же принесло свои плоды, но, как говорится, «дорого яичко ко Христову дню»). И кто знает, скольких ошибок не совершил бы я впоследствии, прочти я тогда или просто не отпусти от себя эти книги?
И еще один «книжный» эпизод. Произошел он в 1968 году, для меня знаменательном и даже как бы роковом. Осенью того года мне исполнилось тридцать семь лет, и я всерьез подумывал о закруглении «жизненной карьеры», ссылаясь на многочисленные «гениальные» уходы из жизни именно к тридцати семи годам. Не хватало мелочишки — оттенка гениальности в «личном деле». Это и удерживало скорей всего. От романтического шага.
Где-то в начале 1968 года вышла моя четвертая книга стихов — «Тишина», которой затем изрядно досталось от критики, и не только от нее, но и от элементарных доносчиков; книга сия даже попала в разряд «антисоветских», о чем говорилось в специальной брошюре издательства «Юридическая литература», повествующей об идеологических шпионах и диверсантах. «Тишина» была срочно изъята из продажи, ее редакторы получили взыскания. Короче говоря, раздули из мухи слона. О чем расскажу позднее. А сейчас — о других событиях незабываемого шестьдесят восьмого.
Примерно в марте, через неделю-другую по выходе в свет «Тишины», попал я в больницу, и не в простую, а в натуральную «психушку». На почве излишнего восторга от издания «Тишины». Тогда же — окончательно и бесповоротно — порывает со мной женщина, которой посвящал я свои стихи. Но вот же — нет худа без добра: примерно в то же время в извивах огромного города на одном из книжных прилавков находит «Тишину» другая женщина, которая, чуть позже, станет моей женой. Свидание с ней описано в стихотворении, начинающемся так: «Это были не райские кущи, ей-ей! За больничной оградой — десяток растений. Я увидел ее в перехлесте ветвей, и упала душа на колени…» И все это — в том же 1968-м. Однако я вновь отклонился от сугубо книжной темы.
Перед самой «психушкой» квартировал я у одной сердобольной женщины где-то в линиях на Васильевском острове (тогдашнее мое горячечное состояние духа не позволяло запомнить адрес благотворительницы более отчетливо). Со всей определенностью знаю лишь о том, что выход в свет «Тишины» отмечали мы вдвоем с этой смутной женщиной, сидя глубокой ночью друг против друга, и наверняка молчали, так как за стеной к тому времени в огромной коммунальной квартире все уже давно и чутко спали.
Утром при посещении общественного туалета с удивлением обнаружил я в этом укромном месте экземпляр своей «Тишины», прибитый гвоздем к стене возле порожнего полотняного мешочка для туалетной бумаги.
Как выяснилось в дальнейшем, отмечали мы выход книжки не вдвоем, а втроем. Какое-то время за нашим столом присутствовал еще один человек-призрак. Сосед по квартире, с которым приютившая меня женщина поддерживала дружественные отношения. Был он по профессии художник, окончил некогда Академию художеств. Рисовал преимущественно деревья. «Портреты деревьев», как сам он комментировал свой труд. Но чаще прочих рисовал он дерево, стоящее в каменном колодце двора напротив единственного оконца в жилище художника. Мастерской у этого художника почему-то не было. А имелось именно жилище — жалкое, убогое и все ж таки замечательное, можно сказать — уникальное. Напоминало оно ствол шахты лифта: метров десять ввысь. Башня. Причем при одном окне, расположенном внизу, возле пола. А в вышине светилась одинокая лампочка без абажура. Далекая, как ночная звезда. И еще: у художника не было руки. По плечо. Оторвало в послевоенное время, когда он подростком ковырял мину где-то под Ленинградом. Странный художник. Затаившийся в себе, в своих пристрастиях, обидах, надеждах. Молчаливый, с лицом, запорошенным синими точками — последствия взрыва. Не имевший к тому же «своей руки» среди влиятельных лиц, которые обеспечивают художников мастерскими.
Оказалось, что я подарил ему «Тишину» еще с вечера, а утром он пригвоздил ее к стене туалета. И меня, помнится, более всего поразило то, как умудрился он прибить ее, владея одной рукой, в которой и молоток, и гвоздь, и книга.
Однако теперь, спустя двадцать лет, перечитывая «Тишину», понял я, что казнил художник не книгу, не бумагу и даже не стихи, содержавшиеся в ней, а меня, внешне хоть и неблагополучного, бездомно-богемистого, но ведь — счастливого же! Дождавшегося «применения» своим стихам, получившего за них денежку и весь вечер кощунственно распространявшегося о горьких бедах-злосчастиях, якобы терзавших меня и не дававших мне развернуться. Он преподал мне нравственный урок: не хвастай перед голодающими несъедобным хлебом. А я, неблагодарный, поспешил объяснить себе случившееся элементарной ревностью художника ко мне, вломившемуся в его мирок, заведшего смутные отношения с женщиной, которую он, в свою очередь, может быть, обожал или к которой привык, будто к дереву, росшему под его беспросветным окном.
Оказывается, книги учат добру не только своим содержанием, но и своим поведением, своей жизненной драматургией.
Надо ли говорить, что впоследствии, когда некоторые из страстей, державших меня в узде, отпустили, когда наконец-то в кармане появились не однодневные — стационарные деньги, первым делом принялся я восстанавливать библиотеку, которую столь опрометчиво промотал под идиллическое потрескивание в «камине». Книги в мой дом пришли. Их стало гораздо больше, нежели при отце с матерью. Но книги пришли — другие. Не те. Как пришли в мою жизнь другие времена, другие лица, иные сюжеты. А из тех, разоренных, осталось три тома писем Пушкина. Случайно? Или потому что — не самое интересное для «мешка»? Но как же они любезны теперь моему сердцу, эти три тома.
И еще два слова о невернувшихся книгах. Я верю, что где-то нашли они приют более достойный, нежели тот, что имели у меня. И еще: помнится, на многих книгах, попавших в мешок Горелого, были оттиснуты инициалы прежнего их владельца. Чужие книги. Хотя и купленные в букинистическом. Что разлучило их с хозяином? Нужда, горе, блокадные муки или подобное моему хамство юного невежи? Ясно одно: книги ушли от меня, потому что я не был их достоин.
5
Расхожая фраза «мой Пушкин» конечно же утомляет, а то и нервирует. Есть в этом развязно-капризном словосочетании «мой Пушкин» нечто уголовное, нечто от незаконного присваивания общественной собственности или — от детски-амбициозного «моё!»: «Моя кукла! Мой конструктор!»
Стало быть — «наш Пушкин»? Но ведь тогда, без миллиардно повторенного «мой!», Пушкин делается… ничей. Без «моего», без меня конкретного, личного нет не только Пушкина, но и всей жизни сущей, всей Вселенной. Нет меня — нет Времени. Ибо я — это не столько «эго», сколько — смысл Бытия.
Пушкин конечно же наш, дар его не напрасный — от Бога, божеский, и все же как не соблазниться поразмышлять именно о «своем» Пушкине? О Пушкине в тебе? Да и кто запретит? Кроме разве что совести. Но совесть иногда помалкивает. Совесть сообщает, что степень твоего желания не превышает степени дозволенного. Желания вторгнуться в святая святых.
Каков же он — «мой Пушкин?» Небось такой же, как и у всех, только — с поправкой на мою невоспитанность и самоуверенность, в лучшем случае — на… любовь. Своя любовь к Пушкину — вот право на приобщение к прекрасному. А может, просто любовь, без «своя»? Слепая, традиционная? Вряд ли.
Главное — не навредить Пушкину своим рвением! Не навредить его наследию. Мы горазды на сотворение не только кумиров, но — идолов. А молодежь идолов не любит. Она любит их ниспровергать.
Мне иногда хочется зорко и жадно оглянуться назад, на полторы сотни лет, оглянуться, как в степь или море, на живой огонек, и увидеть «своего» Пушкина, то есть — подлинного.
«Ни огня, ни черной хаты. Глушь и снег». Представляете? Огромная, бескрайняя российская ночь. Вокруг ничего живого. Кони встали. Шуршит поземка по насту. Пушкин соскочил с возка — размяться. Тот самый, гениальный, романтический, неотразимый, которого мы воспринимаем, представляя прежде всего копию с портретов Тропинина и Кипренского, канонизированного сверхчеловека, хотя и завсегдатая петербургских салонов, бывающего при Дворе Его Величества, сверкающего улыбкой и остроумием среди лицейских друзей, неугомонного Сверчка! И вдруг: «Ни огня, ни черной хаты. Глушь и снег». На беспомощном, человеческом его лице тают случайные снежинки. Я вижу его именно таким. Не всегда — последнее время. Теперь, когда я по возрасту гожусь ему в отцы.
Воскрешая в воображении изящный, тончайшей отделки (резец разума, судьбы, молвы) образ Пушкина, я спрашиваю себя: когда он жил? И заставляю свой мозг «вспоминать» Пушкина в быту, в обыденщине, так как знаю: наверняка и у него бывал потерт сюртук, а на сапогах порой лежала дорожная пыль, а то и грязь; он тоже болел, температурил, сникал и возрождался, живя без… машины, без авиалайнера, телефона, то есть — размереннее, и не потому ли — короче (спешил успеть). И — успел, прожив ровно столько, сколько было угодно богу, сколько было отпущено для сотворения себя, гениального.
Меня всегда изумляло и будоражило использование наследия Пушкина враждующими идеологиями, не просто разными, но взаимоисключающими эпохами, а стало быть, и полярными в своих верованиях людьми — читателями, критиками, философами, писателями. Что это? Приспособление к гению? Или наоборот — феномен всеохватности литературного дарования, уместившегося в одной человеческой голове? Откуда у Пушкина, грубо говоря, смешение идеологий? Ведь не простой же смертный. Вот-вот! Не простой, а все ж таки смертный. Способный под горячую руку сказать о своей жизни, а значит, и о своих возможностях — «дар напрасный, дар случайный», а когда нужно — осознать в себе Пророка или прозреть на столетия вперед и с полной ответственностью перед Богом, к которому он шел постоянно, и перед людьми заявить: «Я памятник себе воздвиг нерукотворный».
«Во глубине сибирских руд…» Пушкин написал не тотчас по восстании декабристов, прежде было «И. И. Пущину» — «Мой первый друг, мой друг бесценный», в котором поэт молил «провиденье» озарить «заточенье» друга «лучом лицейских ясных дней!». И только в 1827 году, потрясенный приговором, мужеством и страданиями именитых соплеменников, отныне каторжан, когда голос поэта для сибирских мучеников был нужнее хлеба и тепла, Пушкин не «милость к падшим» призывает, ибо какие же они падшие, эти восставшие, но — заклинает: «Оковы тяжкие падут, темницы рухнут…» Так написать необходимо было с точки зрения гражданина, написать и отослать стихи с женой декабриста на каторгу. С точки зрения поэта, провидца Пушкин в стихотворении «Поэт и толпа» вскоре напишет: «Не для житейского волненья, не для корысти, не для битв, мы рождены для вдохновенья, для звуков сладких и молитв». Что это? Отказ от позиций гражданина? Нет. Здесь прослеживается «живая жизнь», продвигающаяся в направлении Истины, это постижение в себе сверхзадач, усовершенствование Духа. Пушкинская всеохватность только на первый взгляд стихийного происхождения. «Веленью божию, о муза, будь послушна» — это не молния поэтического озарения, это — завещание. В Пушкине нет ни одного случайного слова, произнесенного вопреки «сердечной деятельности» или наперекор суждениям разума.
Не слишком рано и, как впоследствии оказалось, не слишком поздно — в сорок пять лет — удалось мне приобрести у букинистов пятый номер пушкинского «Современника», тот, посмертный (четыре номера при жизни поэта-издателя), в котором Пушкин представлен поздними в его творчестве стихотворениями «Отцы-пустынники и жены непорочны…», «Вновь я посетил…», «Была пора: наш праздник молодой…» и — «Медным всадником». Факт обретения пятого номера вовсе не означает, что я не задумывался над этими стихотворениями Пушкина прежде, но прочтение их в посмертном сборнике, как бы еще таящем тепло мысли поэта, возымело на меня действие волшебное, чарующее, и с тех пор, как правило, читаю Пушкина… наоборот, то есть с конца его дней, начиная погружение в поэтический океан с последних шедевров творца. «Мирская власть», «Не дорого ценю я громкие права…», «Памятник». И все ж таки особенно необходимы опорные строки из «Отцов-пустынников»:
Владыко дней моих! дух праздности унылой Любоначалия; змеи сокрытой сей, И празднословия не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья, Да брат мой от меня не примет осужденья, И дух смирения, терпения, любви И целомудрия мне в сердце оживи.___________
После рассуждений о Пушкине все как бы преодолимо, то есть многое уже не страшно; мысль, зрение разума, словно пройдя огонь, воздух и воду, получили закалку. После Пушкина можно оглянуться на поэзию Блока и не ослепнуть от ее трагической красоты, принять ее за нечто вероятное, то есть не просто явленное Богом, но — выстраданное человеком.
Когда я читаю Блока, сердце мое ликует, когда же думаю о нем, о его пути, о его глазах, о его России, о его Христе, то чаще всего «плачу и рыдаю», как над раздавленной певчей птицей, погибшей под копытами времени. И не утешает, что птица сия песню свою якобы допела до последней ноты. Ужасает сама драматургия многочисленных поэтических финалов. Певчих птиц на Руси и подстреливали (Пушкин, Лермонтов), и подвешивали (Рылеев, Есенин, Цветаева), и секли (Полежаев), и сжигали (Аввакум), и «ликвидировали» (Мандельштам, Гумилев, Павел Васильев), морили голодом, презрением (Ахматова) и просто душили руками (Рубцов) или сбрасывали с поезда на ходу (Кедрин), но чаще — давили… Машиной того времени, в котором они отваживались подавать голос.
Трижды за свою жизнь поднимался я по лестнице в квартиру Блока на Офицерской, и всякий раз — неудачно: не принимали… И поделом: легкомысленно был настроен, идя к кумиру. Ведь знал, что хозяина нет, а тащился, досаждал.
Впервые сунулся к нему, когда квартира его еще не была музеем. Открыла женщина, пожилая, с лицом уставшим и как бы привыкшим ко всяким неожиданностям.
— Простите… здесь квартира Блока?
— У меня на плите молоко, — ответила мне женщина, стоя в дверях, опустив глаза к порогу.
— Александра Александровича… — уточнил я растерянно.
— А в комнате голодный ребенок, — добавила она.
— Мне бы только взглянуть… — канючил я нерешительно, однако уже пятясь к перилам лестничной площадки.
— С ума посходили… со своим Блоком… — донеслось из дверной щели, затем клацнул запор, и я, смутившись, будто мальчишка, потрюхал вниз по ступеням.
Тогда я еще не знал, в какой именно квартире некогда проживал великий русский поэт, и решил, что не туда попал. А затем сообразил, что жильцам этого дома наверняка надоели, и причем смертельно, подобные визитеры.
Вторично пришел я к блоковскому дому, когда на дверях парадной была уже прикреплена фирменная табличка музея-квартиры, сообщавшая, что музей нынче выходной.
И третья попытка не увенчалась успехом: воспротивилась еще одна женщина, то ли гардеробщица, то ли сторожиха, принялась объяснять мне про каких-то иностранцев, у которых экскурсия, только я уже как-то заранее был готов к неудаче, и возмущаться не стал, и даже вздохнул с облегчением, найдя в происходящем подтверждение каким-то своим тогдашним мыслям, и тут же стал тщательнейшим образом рассматривать крутую каменную лестницу, ведущую на этаж к высокому порогу блоковской квартиры.
Пускали в тот день с черного входа, с набережной реки Пряжки, и старинные серые ступени лестницы, а также железные, отполированные множеством рукопожатий нехитрые перильца говорили мне о Блоке ничуть не меньше, нежели, скажем, стол, или какая-нибудь вешалка для пальто, или телефонный аппарат начала века, собранные в музей, как говорится, с бору по сосенке. Вот разве что книги, некоторые из книг, к которым поэт прикасался своим зрением. А за эти перила, холодные и тусклые, брался он слегка дрожащей, к вечеру уставшей рукой, и рука на какой-то миг переставала уставать, замирала, а эти ступени держали всю его изможденную в схватке со временем плоть, а к этим шершавым стенам он прислонялся, отдыхая от голодной одышки. А эта покрытая вековой патиной дверь со следами былой обивки, а вот этот гвоздь в дверной доске с медной, почти антикварной шляпкой… Свидетели живые! Да, живые, ибо они есть. И они наверняка помнят Блока. Его живое вещество. А не только его дух. Его величество Дух.
Итак, Блок не пускал меня к себе, и я не знал — за что именно: скорей всего — за мой неоправданный образ жизни. О, я ведь тоже все это время что-то там такое писал, слагал, рифмовал, то есть прикасался к всепожирающему огню воображения, но почему-то не выгорал изнутри заживо и дотла, не задыхался от бездушья, а все еще обитал в этих каменных улицах, все еще коптил небо, торговал строчками, не верил, но всего лишь надеялся на Бога, страдал тщеславием, ходил по чужим квартирам…
Со стороны может показаться, что я примазываюсь к великому человеку, желаю к нему присоединиться посредством словосочетаний. Так-то оно так, но… почему бы и нет? Желаю, хочу, стремлюсь безотчетно, потому что люблю этого человека. Заворожен, очарован его стихами. Не сознаю, что делаю. Нахожусь под воздействием… Разве не оправдание? Таких даже в армию не берут — лечат. Доводят до кондиции, выпуская из мозгов пар иллюзий. Правда, я свою «армию» давно отслужил. И доводить меня до кондиции в государственных интересах нет смысла.
Понятие «Александр Блок» для меня с некоторых пор шире, чем понятие о поэтическом явлении или понятие о конкретном человеке, к которому в 1914 году можно было дозвониться по телефону номер 61-988, взятому из справочника «Весь Петроград», понятие сие для меня чуть ли не метафизическое; не столько прелестно-земное, сколько предрелигиозное, и прежде всего за то, что понятие это было ко мне милосердно, потому что не раз выручало, даже спасало и возвышало над грязью, потому что утешало в безверии и отчаянии мой разум, отлученный от неба всеотрицающей эпохой.
И еще одно, опять же чисто субъективное ощущение — портретное сходство Блока с ликом самой Поэзии. Нашей, русско-петербургской. Не в облике Пушкина или Лермонтова, Тютчева и Есенина, а вот именно в лице Александра Блока — сходство. Эталон образа поэта. Для меня лично. И не мертвая маска, но мужская, осмысленная сдержанность в облике. Она сквозила для меня постоянно в чертах Блока. Призывала к интеллектуальному мужеству. Которое, как правило, не берется в расчет представителями «сей минуты», владыками «сего дня».
Одержимому да простится. Хотя бы потому, что его никогда не удручало внешнее портретное несходство со своим кумиром, да и внутреннее (поэтическое) — не разочаровывало. Подобное несходство только усугубляло мой восторг. Теперь, когда пришло время не просто оглядываться на пережитое, но и как бы вновь пребывать в нем (время — «вещество» слитное, нерасторжимое), догадываюсь, что помимо блоковских томиков издательства «Алконост» своей любовью к поэту обязан я прежде всего — городу, в котором посчастливилось родиться и в котором все еще живы, не развеялись балтийские «воздухи», обтекавшие жителей блоковской эпохи; не полностью распались видения той поры, разъялась музыка тех судеб. Да и то сказать, отцу моему, живущему в этом городе и поныне, свидетелю блоковского ухода, было тогда уже за двадцать.
И разве не объяснима, разве не простительна моя «сравнительная археология», мой школярский по сути своей поиск элементов родства с прекрасным поэтом? Будьте же снисходительны, дорогой читатель, хотя бы потому, что подобные вольности и шалости, имя которым преклонение, совершаются человеком, как правило, бескорыстно и лишь однажды в жизни.
С тайной грустью прикидывал я: проживи Блок лишний десяток лет, хотя бы до пятидесяти, и тогда я запросто мог бы родиться «при Блоке», причем рядом с его семейной штаб-квартирой, в знаменитой «Оттовке», что через дорогу от университета. А от Подьяческой, куда меня привезли из роддома, до Офицерской — тоже рукой подать. Затем моя двоюродная сестра Марфа Батракова была похоронена в тридцатых годах на Блоковской дорожке Смоленского кладбища, в двух шагах от могилы поэта. Что еще? С актрисой Дельмас Любовью Александровной, которая была дружна с великим петроградцем, довелось мне однажды сидеть бок о бок на телевизионном диванчике. И я украдкой всматривался в ее отороченные морщинами глаза, стараясь разглядеть в них театр Блока, его «Балаганчик», его «Крест и розу», его жест, слово. И… ничего не видел. Кроме безжалостного времени. К тому же у актрисы неожиданно расстегнулась (или порвалась) на шее цепочка с дорогим для нее, слишком дорогим, из «той жизни» кулоном, и Любовь Александровна затрепетала, засуетилась, умоляя меня не двигаться с места, а камеры телевизионные тогда снимали «живьем», и операторы поспешно переключились на других гостей блоковской передачи, я же, ничтоже сумняшеся, просунул разудалую руку куда-то за вырез актрисиного наряда и мгновенно извлек оттуда упавший кулон, с которым актриса мысленно уже распрощалась навеки, после чего был расцелован и овеян духами.
И еще — дерево… Давнишнее, корявое, невеселое, кладбищенское, под которым прежде была изначальная могила поэта. Приводила меня к этому дереву еще до войны тетка Гликерья, моя крестная, приводила бессознательно, не размышляя о судьбе «какого-то Блока», так как имела свою заботу — могилу рано умершей дочери Марфы. А для меня дерево сие стало священным. Теперь на этом дереве медная любительская дощечка, под деревом бетонный холмик, на котором аляповато выведены какие-то слова, в коих как бы и смысла никакого нет, а есть только дерево, тоже обреченное умереть, и есть печаль негасимая от случившегося «переезда» на Литераторские мостки, ибо даже прах смятенного поэта не знал покоя… И конечно же написались свои собственные зарифмованные раздумья по этому поводу.
Есть дерево на кладбище Смоленском. Под ним поэт в смятенные года был молнией низвергнут в прах вселенский, дабы уснуть, казалось — навсегда! И время шло вдогонку неустанно, и листья опадали на плиту. …Но были потревожены останки того, кто здесь сгорел за красоту. Перевезли… На дереве, как птица, висит табличка — вещей жизни след. Поэт сказал: «Покой нам только снится». И в вечном сне — покоя тоже нет.6
Человек выходит на улицу и сразу же начинает не доверять окружающей среде: людям, погоде, технике, собакам, даже голубям, которые могут обрызгать. Хочется проследить в себе истоки этой настороженности в отношении людей, времени, жизни.
Во-первых, — врожденное… из генетических запасов, защитное чувство, накопленное мириадами поколений живых существ всех биологических степеней и рангов. То есть следствие пресловутой борьбы за существование.
Во-вторых, абстрактно-нравственное «имущество», приобретенное по законам совершенствования духа вследствие извечной на земле борьбы двух непримиримых начал — добра и зла.
И в-третьих, — смешение первого со вторым, материального с идеальным, осознанного с подсознательным, а точнее — с личным опытом, с частной жизнью конкретного человека. На них и сошлемся. Как на самое очевидное.
Нет, я не о рефлексах. Не об отдергивании пальца от язычка пламени. Я — об уроках, формирующих характер.
Что напугало меня в жизни основательнее всего? Не сильнее, а проникновеннее, с хроническими последствиями? Не физическая боль и даже не грань, за которой преждевременная гибель. Подобное — боль от ранения телесной оболочки, стояние перед дулом фашиста или под разбойным ножом, возможность самостоятельно утонуть, замерзнуть в чистом поле — случалось со мной до определенного времени неоднократно и всегда неожиданно. Такое, не успев измотать душу, отступало. Скажем, обретаясь в ремесленном училище, однажды повис я на руках, держась за жестяную кромку крыши пятиэтажного здания и, не успев по-настоящему испугаться, был втащен за шкирку на чердак через слуховое окно комендантом училища, недавним фронтовиком, не успев зачерпнуть смертельного холода настолько, чтобы промерзнуть им до печенок. Помнится, вся забота моего повисшего существа сконцентрировалась тогда на пальцах рук: только бы не разжались. Хорошо, что пальцы все еще были целы, чего не скажешь об их дальнейшей участи, когда приходилось терять и пальцы. Всему свое время.
Куда въедливей оказался страх, испытанный мной в более раннем возрасте от ночного вторжения в нашу комнату на Подьяческой незнакомых, неулыбчивых, «пристальных» людей, за спинами которых торчали понятые из соседей по коммуналке.
Вторжение. Непрошеное, властное, безоговорочное, за спинами которого всегда что-нибудь стояло, оправдывающее сам факт вторжения, — вот то, чего я, да и не только я, все мы, пришельцы из эпохи тридцатых, боялись более прочего. Помнится, из всего сказанного тогда чужими людьми в нашей комнате зависло в памяти одно слово — «одевайтесь!». Сказанное негромко, но как-то неотвратимо-внушительно, серьезно, неласково, хотя и достаточно вежливо.
Мать рассказывала мне позднее, спустя лет тридцать, что я в эти грустные для нашей семьи минуты спал, но именно при слове «одевайтесь!» на какое-то мгновение проснулся.
С этих грустных минут начнутся великие испытания: распадется семья, на многие годы потеряем мы друг друга, каждый узнает свое — лагерь, блокаду, оккупацию, одиночество, отторжение от общества, но главное — познает великий страх, который не выветрится затем до скончания дней у всех, кто ощутил его начальный сквознячок именно в ту незабвенную ночь, ночь жизни, за чьей беспросветной спиной, смущенно потупив глаза, стояли понятые. То есть — как бы народ стоял. А мы, все трое, были уже как бы нелюди.
Не менее ярко впечаталось в память еще одно вторжение, испытать которое довелось без родителей, то есть вполне самостоятельно, хотя в ту пору мне еще и десяти лет не исполнилось. Нет, здесь я не просто о войне хочу сказать — о самом первом мгновении контакта с, так сказать, международным насилием, о первом касании с чужеземцем, о соприкосновении с противником, как выразились бы военные люди.
Согласитесь, прожить девять лет от рождения под шелест красных знамен, под яркую, бодрую музыку пионерских горнов и маршей, под аккомпанемент словесной пиротехники («Гремя огнем, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход, когда нас в бой пошлет товарищ Сталин и первый маршал в бой нас поведет!»), с размаху наткнуться не просто на слово «война», для мальчишки в какой-то мере романтического звучания слово, а на бледно-зеленых (цвет сукна полевой униформы гитлеровцев) человечков, кричащих и постреливающих с противоположной стороны неширокой реки Шелони, в тридцати метрах от тебя, выпучившего глаза на эту невероятную новь, хватающую тебя чужими, мокрыми от пота и воды (переправа!) руками.
Нет, не объявление по радио о начале войны, не речь Молотова, не домашняя и соседская в Порхове паника и суета взрослых людей, не первые выстрелы и взрывы бомбежек в окрестном воздухе (это даже интересно для шустрой пацанвы), а вот такое, взгляд во взгляд, касание с немцами, сшибка с людьми иной нации, иных нравов, обычаев, разговорного языка — потрясло и втекло, вплавилось в сознание, не вмятину оставило, но как бы разбавило плоть и кровь, психику небывалой новью официального, совершаемого не в одиночку, но всем общественным миром насилия над человеком в отдельности, в том числе и над тобой конкретным, вчерашним «пионером и школьником», маминым сыночком, в одночасье лишившимся не только материнской опеки, но и детской неприкосновенности, негласно гарантированной нравственными законами цивилизации, права на всеобщую любовь, которую дети ощущают, ибо — заласканы, так приучены, таковы традиции. А тут тебе нежданно-негаданно традиции сии рушатся. И ты хоть и наивен, но остро реагируешь на произвол. Ты потрясен. Униженность и оскорбленность придут чуть позднее, не говоря о гневе. А пока что — шок. Таранящий нервные клетки, взламывающий структуру твоего характера, неокрепшего мировоззрения.
Как сейчас помню берег Шелони, там, внизу, под огородами серенькой деревушки со странным для моего тогдашнего слуха названием Гнилицы. Мы, то есть ребятишки, деревенские и такие, как я, бывшие городские, беженцы, высыпали из деревни, из погребов и землянок после обстрела — на берег реки. Опасность как бы миновала, и нам было интересно узнать, что вообще происходит. За детьми вслед потянулись к берегу и некоторые из взрослых, в основном деревенские дедушки и кое-кто из женщин, старавшихся отогнать детей от берега, заманить их домой, от греха подальше.
На гнилицком, пока еще нашем, берегу ниже по течению простиралось желтое поле поспевающей ржи или овса, в общем чего-то низкорослого и основательно вытоптанного. По этому полю, отстреливаясь, убегал отступающий красноармеец, самый, видимо, последний. Иногда он, прекратив петлять, оборачивался и с колена… не стрелял, а вот именно «производил выстрел» из большой, длиннущей и наверняка очень тяжелой винтовки.
Производил он этот выстрел в сторону немцев, уверенно стоявших возле машин, мотоциклов и велосипедов. Немцы даже не стреляли уже по красноармейцу, многие из них смеялись, и только некоторые время от времени откликались на очередной выпад с колена краткой, ненацеленной автоматной очередью, срубавшей и шелушившей колоски на хлебном поле. Кое-кто из немецких солдат призывно махал в нашу сторону руками, выкрикивая: «Русс! Лодка давай! Абер шнелль!» Что значило — и побыстрей, мол.
Пришельцы, несмотря на жару, явно не хотели залезать в воду в обмундировании, портить внешний вид. А команды на купание, видимо, не поступало. В реке каждому из них самое большое — по горло. Однако раздеваться еще нельзя: бой не окончен. Бой… с одним-единственным красноармейцем.
Никто из ребят перевозить немцев не собирался.
Да и на чем? Лодок в Гнилицах мало. Если у кого-то имелись одна-две дырявые, то были притоплены. Обходились так называемыми комлями, то есть долбленками — два бревна, из коих выбрана сердцевина, связанные в катамаран. Руководили плавсредствами дедушки. В тот момент они почему-то замешкались, засуетились, провожая взглядами красноармейца. И только когда немцы чесанули из автоматов над нашими головами, дедушки опомнились: пришлось им поработать, отрядиться в перевозчики.
Часть немцев, около взвода, переправилась тут же на комлях, остальные, с машинами, прихватив провожатого, пустились на поиски брода.
Немцы поднимались от реки шумные, разгоряченные, в основном молодые, простоволосые, каски висели на ремнях. Помню, что обратил внимание именно на необычную для моего взгляда амуницию: на ремнях висели помимо касок фляжки, обтянутые суконной материей, металлические круглые футляры противогазов, плоские котелки, какие-то подсумки, а за спинами — ранцы, крытые гнедой шкуркой, и еще множество всяких блестящих предметов: крепежные карабинчики, медальоны, бляшки, пуговицы. Рукава мундиров почти у всех закатаны по локоть. Разгар лета. На ремнях — оружие: черные короткие автоматы.
Не скажу о взрослых обитателях Гнилиц — за ними я тогда не наблюдал, — зато уж вся мелкота, оказавшаяся на берегу, во все лупетки разглядывала пришельцев, благо разглядывать было можно: никто даже не шикал на ребятню.
Многого я тогда не понимал. Можно сказать — ничего не понимал. Было не столько страшно, сколько интересно. Как же — война! Собственной персоной. Не по радио, не в кино. Не в книжках. Вон они какие, фашисты знаменитые… Ну, ничего. На войне всякое бывает: сегодня они речку перешли, завтра наши погонят их за эту же речку, если не дальше.
И только вечером, перед сном — некоторое отрезвление от бесплатного «кино», от небескорыстной занимательности происходящего. В голову приходит догадка: стряслась беда, прежней жизни нет.
До прихода немцев мы, то есть беженцы из Порхова, ночевали в гнилицкой школе. Спали на полу в классном зале. В первые же минуты своего появления солдаты потеснили нас из школы. Все так же весело, припеваючи выбрасывали они в открытые окна наши узлы, или «шелгуны», как выражались местные жители. Однако самое невероятное произошло часом позже.
Немцы собрали возле школы все население, вынесли из помещения несколько застекленных рамок с портретами наших вождей и, трахнув ими о землю, начали топтать сапогами, приговаривая ругательства, яростно и одновременно весело сплевывая. Хрустели портреты Сталина, Ворошилова, Кагановича. Топтали наши иконы, изображения наших идолов. Никто даже пикнуть не успел, как все было кончено. И стало ясно: пришло время, способное растоптать не только портреты, но и любого из нас. Именно эта демонстрация врагом наглядного урока с применением наглядных пособий потрясла мое детское воображение до изначальных глубин. Урок насилия и попрания был преподан с такой отчетливостью, что с ним уже ни в какое сравнение не шли события последующих дней и лет, в которые окунуло меня затем всенародное бедствие, и, скажем, развенчание тех же идолов-портретов в дни нынешние пережил я намного спокойнее, нежели тогда, в Гнилицах.
7
Время от времени посещает меня странное видение — земля без людей. Вряд ли это игра воображения. Хотя конечно, правильнее будет сказать не «видение», а «представление», продиктованное волей, а не возникшее само по себе. Иными словами, могу представить планету без признаков пребывания на ней человека. Чаще всего происходит это ночью, перед тем как заснуть в одиночестве, когда в комнате уже погашен свет. Как бы — выпадение из жизни.
Иной раз созерцание безлюдной земли поступает ко мне в лесу или на берегу моря, а то и в воздухе, когда неотрывно смотришь в иллюминатор на волнистую, неровную «изнанку» облаков (лицевая их сторона обращена к земле), тогда вдруг с печалью, с болью в сердце ощущаю, что никаких людей в природе не было и нет, в том числе и меня, и не только там, под брюхом лайнера, но и сверху, над ним. А ведь когда-то именно так и было. Скажем, пару миллионов лет назад. Тогда — что же он такое, наш мозг, помимо известных о нем сведений и функций? Может, он еще и проектор доисторических событий или хотя бы состояний?
Наблюдая в себе вселенское безлюдье, я как-то не задумывался о прочей живности — о зверье, птицах, насекомых, рыбах, — есть ли они? Раз нет людей, нет и всего остального, способного существовать вне человеческого влияния. Одни ландшафты и структуры — горы, равнины, деревья, вода, складки земли. И уж совершенно определенно — никаких заводов, плотин, машин, конструкций. И неизбежно вослед моим фантазиям бежала мысль: если нет людей, то нет и Бога над ними (для чего Бог птицам, рыбам, червям, деревьям, если все они молчат разумом и далеко не все имеют сердце. Бог для живого слова).
И так далеко зайду в своих представлениях, что, вернувшись в действительность по чьей-нибудь милости (шум соседей за стеной, фырк машины под окном, толчок в спину через самолетное кресло, боль в собственной пояснице, наконец!), с блаженным восторгом вспоминаю: ан есть люди-то! Проживают, содержатся. А значит, и все остальное при них.
8
Мрачноватый Леонид Андреев, беседуя с восторженным Максимом Горьким, рассказывает, как подростком бросился под поезд, но почему-то аккуратно угодил вдоль рельсов, и поезд промчался над ним, только оглушив его. Восстанавливая беседу с товарищем по перу, Горький в своих воспоминаниях добавляет: «В рассказе (Андреева) было что-то неясное, недействительное, но он украсил его изумительно яркими ощущениями…» И продолжает: «Это было знакомо и мне: мальчишкой лет десяти я ложился под балластный поезд, соперничая в смелости с товарищами». И далее излагает не ощущения, а сам факт. Рисует умело, отчетливо.
Один передавал ощущения от попытки самоубийства. Другой рисовал картину. О попытке самоутвердиться. Один любил Эдгара По, Метерлинка, Достоевского. Другой — Чехова, Толстого, Короленко. Один, вспоминая «бездну», рассуждал о поисках Истины, себя в Истине. Другой — воссоздавал «правду жизни», ее достоверную матрицу. Как видим, разные писатели, хотя и дружили.
Но сейчас я — о другом. А именно — о своей бездне, о своей былой тяге лечь под осязаемую опасность, вкусить жуткого, чтобы испытать… нечто. Однако дослушаем старших.
— Что влекло нас к такой нелепой забаве? — спрашивал Леонид Андреев.
Горький в ответ говорил что-то про испытание подростками силы воли, но Андреев от этих «испытаний» отмахнулся:
— Не по-детски! — затем процитировал: — «Есть наслаждение в бою И бездны мрачной на краю…» — Но, подумав, отверг и «наслаждения»: — Как-то иначе, только не могу понять — как? — И вновь принимался объяснять ребяческое безрассудство поисками Истины.
Лично я под поезда никогда не ложился. Иные времена, иные нравы. Да и техника на дорогах не та, что при Андрееве. Более устрашающая. Но безрассудных поступков совершил немало. И мои комментарии к этим поступкам неизбежно будут отличаться от дореволюционных рассуждений двух писателей-классиков. Их детство не знало театра войны. То есть зрелище тогдашней их жизни (конец девятнадцатого века) было относительно спокойным, статичным, даже в чем-то наверняка скучноватым. Вот и приходилось время от времени ложиться под поезда. Или прыгать через костер. А в моем подростковом далеке всяческих экстремальных состояний, сиречь забав, хватало самих по себе: их не надо было придумывать, они торчали из происходящего, как колючая стерня из сентябрьского поля.
Более всего любил я взрывное дело. Не имея к тому ни прав, ни достаточного опыта. Из всех видов шизофрении, надо полагать, самой родственной была для моей тогдашней податливой психики мания производить взрывы, производное от пиромании. Тетушка Ефросинья, порховская сестра отца, в чьей семье встретил я приход немцев на псковскую землю, объясняла мою взрывоопасную озабоченность по-своему: «Лукавый попутал мальца. Нечистая сила соблазняет. Храни его, господь, сиротинушку». И многое мне прощала. Хотя сиротинушкой был я не подлинным, временным. Хотя именно тетка Ефросинья одной из первых испытала на себе действие моей «нечистой силы». Это в ее печной подтопок подложил я с вечера горсть винтовочных патронов, и на рассвете они едва не перевернули чугунок с картошкой.
Когда не было под рукой боеприпасов фабричного производства, приходилось использовать взрывную силу газа, для чего заимствовался у немцев карбид. Накрошишь его помельче в бутылку, плеснешь туда же водицы, заткнешь попроворней сосуд деревянной, гладко оструганной затычкой, увернутой в тряпицу, постучишь по пробке камнем для надежности — и граната готова. Успевай бросать и отбегать подальше. Эффектней всего взрывались бутылки толстого стекла, вроде тех, что из-под шампанского. Самым пронзительным, рисковым, как бы теперь сказали — «кайфовым» моментом в манипуляциях с карбидом были те считанные секунды затыкания бутылки, когда стекляшка могла рвануть в любое мгновение, случалось — прямо в руках умельца. Наипервейшим шиком среди ребят почиталось не торопиться бросать заткнутую бутылку — перекинуть ее с ладони на ладонь и только затем уже подбросить в небо. Верх блаженства — это когда бутылка взрывалась в воздухе. Чем, скажите, не своеобразное «залезание под поезд»? Ну, хотя бы — под один только паровоз?
Или такое… И тут самое время поведать читателю про то, как я тоже будто бы воевал с немцами, выполнял свой патриотический долг и т. д. Увы. Не воевал. Заданий не получал. Не сражался. Не убивал. Вот разве что проказничал помаленьку, шкодничал по силе возможности, вредил, но без патриотического умысла, не по наущению, а по склонности своей учинять для взрослых различные неожиданности и непредсказуемости в виде небольших, почти символических взрывов. Среди «невинных» шалостей моего военного детства запомнилось несколько особенно эксцентрических случаев.
В одном из немецких госпиталей работали возчиками расконвоированные советские военнопленные. Человек пять-шесть. При десяти лошадках. Возили с лесной делянки дрова, с карьера — песок, из колодца — воду, из отхожих мест — удобрения на поля. Вообще копошились по хозяйству. Люди эти казались мне пожилыми, смирившимися с обстоятельствами. Возле них можно было всегда обогреться и подкормиться. А если рядом не было конюха-немца Мартына (от католического Мартин), пленники разрешали мне повозиться с лошадьми: поработать скребницей или щеткой, убрать навоз в стойле, а за пределами госпиталя подержать вожжи, поуправлять парой гнедых или саврасых, запряженных в тяжелую пароконку.
Помещение, в котором содержались военнопленные, располагалось под госпиталем, в лабиринте подвального этажа, там же, где и кухня, а также всевозможные кладовые и прочие погребные закутки четырехэтажного старинного здания.
На каменном полу широкой квадратной комнаты — солома, перемешанная с сеном; на двух низких окнах, напоминающих амбразуры дота, железные прутья решеток. Потолки приземистые. Направо от входа — печь. Налево и вдоль стены — деревянные двухэтажные нары для спанья. Посредине — длинный, как прилавок, стол, за которым обедали возчики.
Мужики эти, неразговорчивые, угрюмые, почему-то привечали меня, совали, кто что мог, а иногда ставили передо мной котелок с «вражеской» похлебкой, выкладывали кусок хлеба, а то и немецкий леденец «бон-бонс». Тут же вместе с лошадниками проживал истопник, обеспечивавший госпиталь колотыми дровами, то есть теплом. Этот был вхож на госпитальную кухню, разводил под котлами огонь по утрам и, естественно, выглядел внешне откормленнее остальных. Звали его Кнур. Кличка такая была ему от соплеменников-сопленников. Они же затем и объяснили мне, что Кнур — это кастрированный поросенок. Кнур, усаживаясь за обеденный стол, неизменно разворачивал белую с прожелтинами тряпочку, в которой розовело прочесноченное сало, по-немецки «шпек». Нарезал его на мелкие удлиненные брусочки и долго-долго ел это сало с хлебом и луком. И у всех текли слюни. Затем Кнур принимался за похлебку, а фанерку с оставшимися брусочками молча и небрежно посылал вдоль стола — в сторону опустивших глаза, насторожившихся над своими котелками сожителей. Не благодарили. Склевывали молча. Но — непременно.
Этот Кнур знал, во всяком случае догадывался, что я иногда подбрасываю патроны в огонь, в том числе и к нему под котлы. Взрыв от патрона несильный, глухой. Но если он происходит в момент, когда вы открываете печную дверцу, ничего хорошего не сулит. Во-первых, испуг. Во-вторых, может попортить глаза, выбросить горячие угольки на одежду. А в-третьих, шеф-повар Шибек, нестроевой унтер, контуженный на фронте немец, после каждого моего пусть маломощного взрыва неизменно сам взрывался и тут же начинал гоняться за Кнуром с поварешкой или ножом, выкрикивая немецкие проклятия и русские ругательства.
Однако ему разъясняли, что патроны попали в печь вместе с мусором или дровами, и контуженный в конце концов успокаивался, убедившись, что это никакая не диверсия, а… так сказать, издержки военного времени. Но вот что произошло однажды…
В помещении, где жили военнопленные, имелась, как я уже сказал, сложенная из кирпича печь, то есть плита с вмазанным в нее чугунным котлом, применявшимся прежде для кипячения белья. А может, и для выгона самогонки. Стояло лето сорок четвертого. Было еще тепло, и печкой не пользовались. Тайно от всех устроил я в этой печке своеобразный склад боеприпасов: найду обойму патронов или втоптанную в грязь неразорвавшуюся гранату — несу в подвал, благо двери туда не запирались. Находки свои прятал в дальний конец печного нутра. Чтобы затем, по мере надобности, извлекать их оттуда и подбрасывать куда следует, то бишь — куда не следует (с точки зрения окружающей среды).
В конце августа в дождливый промозглый день заявляюсь к лошадникам и вижу: Кнур на коленях перед распахнутой печной дверцей, подносит горящую спичку к лучине. Перед плитой — хорошая охапка дров. А в плите у меня патронов не одна сотня — и диски, и обоймы, и так россыпью — плюс две гранаты — немецкие «толкушки» с деревянными рукоятками.
Ну, думаю, обнаружил Кнур тайник! Сейчас за горло возьмет. К контуженному Шибеку потащит. На расправу. Вот только куда он все подевал — патроны, гранаты? Под нары затолкал? А может, немцам предъявил? Почему тогда тихо? Не хватают почему, не вяжут? Не бьют — почему?
Кнур, между тем преспокойно затопил плиту. Положил на горящую лучину все до единого поленья. Дрова уже потрескивать начали. В помещении народ собираться стал, уставшие мокрые возчики простирают над конфорками зазябшие руки, блаженно улыбаясь. И вот тут-то как раз — бац! бац! — затрещали в плите патроны. Да так лихо, будто из пулемета веером. Дверца плиты настежь, конфорки — к потолку. Люди кинулись в глубину комнаты, к окнам подвала, к дверям не подойти: из печки поперек входа искры и рваные гильзы со звоном вылетают и шлепаются на каменный пол.
Вот уже кто-то из немцев, кажется шеф-повар, заглянул в дверь и сразу отпрянул, потому что в очередной раз грохнуло. Хотел я забраться в гущу военнопленных и там ждать, когда граната взорвется и противотанковая тарелка сдетонирует, но люди сгрудились плотной массой, не протолкнуться сквозь них, как сквозь стену подвала. И вдруг мужики расступились как-то враз и меня собой закрыли. Я думал, оберегают, потом выяснилось — изловили и держат, чтобы затем немцам предъявить, как устроителя фейерверка.
Начал я плакать, скулить, потому что знаю, чем все кончиться должно вскоре, но признаться или убежать — не могу: ни язык не поворачивается, ни ноги не бегут. Да и прижали — не вздохнуть.
Нескончаемые минуты ожидания взрыва представляются мне сейчас не менее утомительными, чем горьковские минуты лежания под балластным поездом, пусть даже самым длинным и тяжеловесным. Нет, сокрушительного взрыва тогда не произошло, гранаты, скорей всего, были неисправными (потому-то и в грязь дорожной колеи попали, откуда я их извлек). Да, собственно, и речь-то вовсе о другом, и дело-то не в самих похождениях-приключениях того или иного подростка на войне или в «скучное» мирное время, истина — в обобщениях, сделанных нами при благосклонном, хотя и невольном участии великого русского историка и моей незабвенной тетки Ефросинии Алексеевны.
Дотошные немцы пересчитали каждую разорванную гильзу, каждую пулю. Русских пленных и меня вместе с ними поставили лицом к стене. Потом унтер, шуровавший в плите кочергой, подцепил крючком гранату и, закрыв лицо руками, пронзительно закричал, зарыдал в голос: «Ха-ндэ грана-атен!» И все, кто был в подвале, в том числе и я, дружно легли на пол, многие зарылись головой в солому, а кое-кто заполз проворно под нары. Прошло пять минут, а затем объявили срочную эвакуацию раненых из госпиталя.
Под шумок удалось скрыться. И началось для меня кочевье по латышским хуторам в поисках съестного. В заплечной котомке у меня имелись дефицитнейшие четырехгранные гвозди для «подшивания» подков к копытам лошадей (пара увесистых пачек, позаимствованных в конюшне госпиталя), ценимые латышами-хуторянами на вес золота.
Неоднократно затем совершал я дурные поступки подрывного характера, не столько подвергая кого-то, сколько подвергаясь сам смертельной опасности, исходившей на меня как от самих поступков, так и от тех, возле кого эти поступки производились. Одному хозяину, безжалостно конфисковавшему у меня остаток «лошадиных» гвоздей, пришлось подорвать будку с отхожим местом, другому — внешне такую же будку, предназначенную, оказывается, для копчения сала. Двести граммов тола, похожего на полкуска хозяйственного мыла, — и куда корейка, куда грудинка.
На этом магия террора, бодрящая способность искушать себя терпкой опасностью не отпустила, как не отпустила она по вылезании из-под грохочущего поезда будущих классиков Леонида Андреева и Алексея Пешкова, которые затем оба, хотя и каждый в отдельности, дырявили себя из огнестрельного оружия. Добровольно. Магия искушения смертью. Сопротивление необузданного интеллекта надвигающейся неизбежности ухода человека из жизни.
Смерть не только отпугивала, но и прельщала, заманивала. Недаром в народе все эти сказки о русалках и омутах. Вот и со мной: даже после войны, обучаясь в «ремеслухе», частенько отправлялся я с Московского вокзала на станцию Поповку, где каждый квадратный метр земли таил в себе либо мину, либо снаряд, бомбу или россыпь патронов, взрывателей, либо еще какой сюрприз того же характера.
В пятьдесят первом, перед самым уходом на армейскую службу поехали мы в Поповку с одним школьным приятелем, суровым на вид пареньком, ставшим мастером спорта по боксу еще в девятом классе, которого взрослые люди нанимали драться рукопашно, сводить счеты с врагами и соперниками, за что впоследствии получит тюремный срок, человеком весьма задумчивым, книгочеем, сделавшим в юности ставку на физическую силу, а на лагерных нарах перешедшим как бы в другую веру — веру интеллектуального поиска правды. В окрестностях Поповки траншеи, окопы и щели к тому времени подзаросли, «боезапас», не убранный минерами, ушел в землю, замаскировался. И вот находим мы с Юрой Игнатьевым огромную мину от полкового или еще какого (дивизионного?) немецкого миномета, похожую по своему стабилизаторному оперению на авиабомбу. Разводим костерок, причем не в блиндаже, не в воронке, а на крыше заросшей землянки, то есть — на возвышенности. И кладем свою бомбу на огонь. А сами отходим всего лишь на десять метров и ложимся на дно затхлой траншеи — лицом к костру. И начинаем стоически улыбаться друг другу. И ждем. Не знаю, что именно испытывал тогда Юра Игнатьев, а мне, помнится, очень хотелось продемонстрировать ему свои взрывные возможности: ты вот — боксер, мастер спорта, а пригнулся, ушел в глухую защиту, лежишь рядом со мной, а я хоть и слабак по части нокаутов, а руковожу событиями. Ну, чем не искушение властью? Конечно, не такое масштабное, как искушение Христа властью над миром. Однако — дьявольское. Недавно прочел огромную подборку стихов в «Литературной газете», поданную броско, рекламно, со всевозможными графическими завитушками, иконографией автора, и содрогнулся от запоздалого предчувствия несчастья, происшедшего с одним из «ближних», коего надлежало возлюбить, как самого себя. Что это были за стихи? И можно ли их причислять к поэтическому роду? Ни единым своим звуком не тронули они мое сердце. Но лишь опечалили донельзя. Ведь над стихами высилось имя Поэта. Так что же произошло? Кто превратил душу вольного стихотворца в душу раба от Поэзии? Кто выскреб из нее алмазы, зашвырнув в нее под шумок холодные стекляшки? Тот, кто искушал славой, властью не только Христа, но каждого из нас. Но это лишь к слову. А тогда, в Поповке…
Рвануло минут через сорок, когда прогорели бревна и занялся толь, выстилавший землянку изнутри. И все это время лежали мы, боясь пошевелиться, ждали. А я упивался мнимой властью над человеком, который однажды разбил мне губы прямым правым в школьной раздевалке, — так мы познакомились, так подсознательно зародилось во мне желание достигнуть над этим человеком превосходства, если не в боксе, то еще в чем-то, неважно в чем.
Потом дружно тушили лесной пожар, вернее — прошлогоднюю высокорослую надболотную траву. Потом убегали дружно от каких-то официальных людей. Потом… То есть теперь Юра Игнатьев, вернувшись в очередной раз с неумолимого Севера, все такой же молчаливый, внешне сдержанный, а изнутри — «заминированный», претерпевший от жизни несметное количество печали и лишений, звонит мне по телефону, и мы пытаемся увидеться где-нибудь на дорожках Смоленского кладбища, чтобы опять помериться силами, но уже не при помощи кулаков и прочего хвастовства, а всего лишь при помощи взглядов друг в друга, не слишком пристальных, милосердно-застенчивых взглядов-прощений, взглядов-прощаний.
Там, на заре жизни, далеко не всегда и не на все подряд сердце мое откликалось жестокостью на жестокость, не одними омертвляющими душу искушениями питалось. Отчетливо помню щедрые на радость, благословенные дни окончания военных действий в мае сорок пятого. Незабываемую последнюю встречу с проигравшими войну немцами, которые дважды хотели меня расстрелять, но в последний момент передумывали, сомневались, щадили и заменяли расстрел ременной поркой, тасканием за волосы или же за уши, принимая мои взрывные игры за… игры.
Перед отправкой куда следует пленных немцев заперли в сенной сарай, приставили к воротам сарая пожилого солдата-охранника. Разговорившись со мной, дядька предложил:
— Ты мне укажи, который из них всех лютей измывался, на кого зуб имеешь: я его до ветру выведу, а там и шмальну при попытке к бегству.
Открыл он ворота. Смотрю: немцы знакомые прячутся за спины товарищей или глаза от меня отводят. И все — старые, небритые, жалкие. При госпитале к концу войны служили в основном нестроевые, из выбракованных, а также медики. Поискал я глазами лицо «главного» обидчика, и вдруг ловлю себя на том, что его здесь нет.
— Нету его здесь.
— Нету? — Солдат даже присвистнул, запирая ворота. — А ты любого бери. Отведи душеньку. Сразу полегчает. Али не одинаковые они для тебя? Тогда шукай своего в другом месте.
9
С годами, когда конкретная человеческая судьба обрастает последствиями от пережитых событий и собственных поступков, отягощается балластом почерпнутых знаний и сведений, когда интеллект устает от попыток видеть окружающий мир по-своему, то есть приобретает пресловутый жизненный опыт, личность наша в конце концов или тупеет (в озлоблении), или мудреет, смиряясь в любви к ближнему (в мягкосердии). Наблюдаются, понятное дело, всевозможные незначительные отклонения от двух основных итогов — скажем, полная апатия, равнодушие, рыхлость воли, желаний или хитромыслие, лукавость, «ловкость рук», «моя хата с краю», «себе на уме», но это лишь нюансы все того же отупения во зле. Тогда как понятие доброты — всегда определенней, четче. Одежды, покрывающие ее, чище, прозрачнее — к примеру, такие, как жертвенность, терпимость, чистосердечность, неосознанная щедрость, отрешение от блага во имя, прощение обидчика, покаяние, улыбка сердца, просветление от созерцания прекрасного и еще, и еще. Словом, добро — отчетливей зла. Ибо тьму легче замаскировать, нежели свет.
Чем ближе к выходу из лабиринта существования, тем неохотнее мы переставляем ноги, а лично я время от времени ловлю себя на том, что передвигаюсь как бы задом наперед, лицом к прошедшему. Но что можно увидеть в лабиринте? Идя лицом вперед — лишь то, что перед твоими глазами, до очередного поворота; идя лицом к прошедшему, удаляясь, но не имея сил расстаться, можно увидеть все, и даже больше, положим, еще и то, чего в жизненной спешке не удалось как следует разглядеть, на что не хватило сил или внимания, причем увидеть не только памятью, но и «оптикой историзма», постигнуть любовью к выстраданному, наконец — чувством прекрасного (ностальгия по утраченной красоте действенней смутной тоски по красоте неизведанной).
Избирая символ для обозначения царства жизни, я, не раздумывая, остановился на метафоре Лабиринта. Следуя примеру почтенных людей, хотя бы — Яна Амоса Каменского, чья наиболее знаменитая книга называется «Лабиринт мира и рай сердца». Легендарный Дедал, сооружая Миносу критскому дворец, вряд ли был озабочен одной лишь прихотливостью рисунка, очарован всего лишь магией геометрии углов постройки: наверняка имела место идея. И смысл лабиринта, думается, вовсе не в выходе из него, а как раз в блужданиях по его закоулкам. Не сама цель, а ее поиск.
В памяти жива прелесть благоухающих углов моего лабиринта, напитанных терпким сущим, источающим признаки солнца, дорожной пыли, дворовых кошек, горькой полыни, бензинного перегара, первого снега, хлебной соломы, книжной бумаги, музыки духа… Однако не в одних лишь углах прелесть и жуть лабиринта, не меньше очарования в его поворотах. Что за углом? — вот движитель молодости и незамутненного простодушия. С годами восторг перед неизвестностью меркнет, его сменяет прагматическая настороженность, а затем и просто страх. Блаженны те, кому интересно до конца, чей восторг не гаснет даже у выхода из лабиринта. И впрямь, разве не интересно хотя бы предположить: что там, за последним поворотом? Не прав тот, кто утверждает, будто по выходе из путаницы нас ожидает ничто. И математически, и логически, и нравственно-генетически, и как хотите, не говоря уж об интуитивном предрасчете, ожидает нас не ничто, а — нечто. Даже если это нечто нельзя будет потрогать руками (увидеть, обнюхать, вкусить и т. п.), даже если там действительно откроется Пустота, но ведь будет-таки, откроется! Пустота, но ведь не абсолютная! Конкретная. Пустота — это же заманчиво, это же неизведанно, это же своеобразный мир, со своими законами, обликом, последствиями, а главное, мы туда — в Пустоту — вхожи, нам предстоит, мы — достойны. Не-е-ет, не просто пустота, не нонсенс, не измышленный вакуум, а — продолжение, ступенька из бытия в вечность. А будет ли оно, продолжение, во времени и пространстве или еще в каком измерении, субстанции, не так уж и важно путешественнику. Важно, что неизбежен путь. Разве не утешает подобная версия?
Но вернемся в лабиринт. В сравнении с неизведанной, потусторонней пустотой в лабиринте нам уютнее, удобнее, к тому же за годы блужданий по его извивам в нас развились всевозможные эмоции, пристрастия, навыки, и мы уже как бы патриоты своего лабиринта.
Ярче и трогательней прочего высвечивается из пройденной тьмы та именно часть лабиринта, что преодолевалась в детстве. Так и должно быть: первые впечатления не только самые неизгладимые, но и самые преодолимые — легче отринуть, забыть чинимое рядом непотребство, проще отвернуться от неприглядной картины, а значит, первые — они же и самые ласковые, милостивые впечатления, то есть — созидательные, в отличие от разрушительных впечатлений более зрелого возраста, когда нам открываются реалии беспощадных свойств: охлаждение в любви, предательство, утрата иллюзий, обретение недуга, развенчание кумира, привыкание к чудесам, осознание ухода из «бренной юдоли», утрата веры в бессмертие, предчувствие бездны. Блаженны те, у кого этот процесс проистекает как бы в обратном порядке: от ощущения ужаса — к душевозвышающему покою, от распада — к синтезу.
О восхитительные сюрпризы лабиринта! А также его кошмары, наблюдая которые не единожды хотелось проснуться от яви, когда неокрепшее сознание отказывалось верить происходящему. Ариаднина нить нескончаемых видений… Вот одно из самых ранних, ласковое: зимнее, просторное, бело-голубое солнечное утро возле огромного, лохматого от инея Исаакиевского собора. Отец в необъятной медвежьей (почему-то именно медвежьей) шубе держит меня за руку. Мы выходим к собору от Конногвардейского бульвара, где задержались возле гаража (здание бывшего Манежа, ныне — выставочный павильон). Машины выезжали из гаража блестящие, ухоженные и все черные. Гараж принадлежал органам ГПУ. Машин до войны в городе было не так уж и много. Я любовался ими столь же искренне, как животными в зоопарке.
Камни Исаакиевского собора, покрытые пушистым инеем, почему-то ярче прочего легли на мое тогдашнее воображение. Собор в шубе. Шуба отца и шуба собора. Прямая связь. Впоследствии в быту и в стихах (своих и посторонних) я еще долго, и чаще невольно, буду прослеживать эту связь человеческого с неодухотворенным, природным, черпая в пантеистических иллюзиях не только умиление, но и определенные надежды.
Кстати, по рассказам отца, именно эта неразговорчивая и немыслящая шуба на первых порах помогла ему выжить в холодном трюме ладожской баржи и там, под Пудожем, за Онегой на лесоповале, и вообще оставила в его судьбе след, гораздо более отчетливый и милосердный, нежели некоторые из впечатлений, навязанные памяти созданиями «одушевленного ряда».
Позже, встречаясь и разговаривая с отцом уже как бы на равных, не единожды упрашивал я родителя описать хотя бы в отдельных штрихах годы, проведенные им в заключении. Но отец только неопределенно улыбался, глядя куда-то туда, в невозвратное. «Пропадет, сотрется в памяти поколений… — убеждал я его. — Кто, если не вы, расскажет?!» — «Помнить зло — грех», — отвечал мне отец, погасив улыбку. Однако под настроение, чаще всего после «мурлыканья» под гитару, отложив инструмент, прервав недопетый старинный романс «Счастливые годы, веселые дни», начинал рассказывать «про это». Со вновь воспылавшей улыбкой на губах и неподдельной искрой во взоре. И вот что удивительно: рассказывал он только о хорошем — скажем, про то, как в камере, в невообразимой людской гуще, когда пересыльная тюрьма трещала по швам от «перевыполнения плана», какой-то совершенно незнакомый человек уступил ему место, свое, пусть мизерное «жизненное пространство», столь необходимое тогда отцу для короткого, сидячего, воскрешающего сна; иногда в его памяти оживало что-нибудь «веселое»: к примеру, в «Крестах», арестованная за антисоветскую агитацию, сидела в ожидании этапа группа… глухонемых — четыре человека, на которых был донос от такого же, как и они, глухонемого (не приняли в свой круг?); или про то, как в лагерном бараке, в первые дни отбывания, после изнурительной для бывшего учителя работы в тайге замешкался он у котла при раздаче горячей пищи, так как не имел, обворованный на этапе, ни собственной миски, ни собственной ложки, и кто-то протянул ему ложку с миской, не ополоснутые, и он, чтобы не обидеть своей врожденной брезгливостью доброго человека, ел из немытого «прибора» со слезами благодарности на щеках, ел и ничего, кроме радости за людей, за братьев своих по счастью жить, не испытывал. Еще рассказывал о том, как после пересказа в бараке соседям по нарам романа Достоевского «Преступление и наказание» неожиданно перевели его с «повала» на более легкую работу — маркировку бревен, а затем, когда в лютые морозы он совсем «доходил» и, обмороженный, истощенный, попал в санчасть, доктор почему-то оставил его у себя санитаром. Не дал помереть.
Блуждая в лабиринте пережитого, еще не раз буду я говорить об отце, а к видениям этой главки в качестве мажорного аккорда хочу добавить курьезный эпизод из своего омраченного разлукой с отцом детства.
В нашей извилистой, какой-то многоярусной и многоступенчатой коммунальной квартире на Малой Подьяческой, похожей на цепочку труднопроходимых горных пещер, как я уже упоминал, проживала ничья бабушка, спавшая в проходном коридоре на сундуке под портретом наркома Ежова. На другой день после того, как пришли за моим отцом, молчаливая эта бабушка, беззубая, с гофрированными, морщинистыми губами, с ввалившимся, словно зашитым ртом, угощая меня хлебной тюрей с луком, которую замешивала в огромной фаянсовой кружке, почерневшей по краям от былых «замесов», неожиданно открыла рот и, гладя меня по голове, сообщила, жутко при этом улыбаясь:
— Сынок, а батьку твово эвон кто заристовал, — и ткнула вверх и одновременно себе за спину крючковатым костяным пальцем.
— Кто, бабушка Уля?
— А энтот с ромбами, на патрете который. В яжовых рукавицах.
В коридоре горела тусклая пятнадцатисвечовая лампочка. Портрет едва просматривался. Но все ж таки я определил, что никаких рукавиц, тем более ежовых, колючих, на дяденьке не было. А затем решил, что для них просто не хватило места на «патрете», не влезли в раму.
К тому времени я уже хорошо стрелял бумажными пульками-птичками с двух пальцев, промеж которых натянута резинка из трусов. Помню, как с замиранием сердца подкрадывался я к портрету и, выбрав момент, когда бабушка Уля, занятая тюрей, отворачивалась, недолго прицеливался, быстренько стрелял в портрет и стремительно убегал прочь. Но бумажные пульки, как догадался я вскоре, не причиняли портрету вреда, отскакивая от него.
Извлечение видений из жизненных закоулков не есть литературный прием для написания книги, но — всего лишь ритмическая необходимость чередовать «картинку» с толкованиями оной. Таковы подсознательные требования «смекающего аппарата», музыкальные особенности этого деловитого инструмента.
Спросят: зачем публиковать личное, сокровенное, выметать мусор из судьбы-избы? Чтобы делиться опытом? Пусть это делают новаторы производства. Делиться опытом страданий или несбывшихся надежд, опытом обуздания желаний, переоценки ценностей? Кому это надо? У всех свой опыт. В том числе и опыт любви к ближнему. Которого всем не хватает. Опыт самопожертвования. В эпоху стяжательства.
Опыт любви всегда имеет притягательную силу для читателя, и не только в тривиально-клубничном сочетании этих слов; в их возвышенном значении даже еще больше, потому что всякая пошлость мимолетна, элементарна, быстро приедается, не насыщая сознания, тогда как понятие возвышенного хотя и неуловимо, однако фундаментально, не манит, а зовет, взывает, не прельщает — подвигает, не щекочет — разит, не растлевает — воскрешает.
Опытом поисков в себе именно такой, неотчетливой, нематериальной, закадровой любви, сопутствующей нам всегда, но почти всегда принимаемой нами как бы не всерьез, со снисходительностью искушенных знатоков, и хотелось бы поделиться. И прежде — с самим собой, как с наиболее покладистым из смертных.
Там, в хитросплетениях лабиринта, в его чаще дождливых ленинградских полутонах возникала во мне периодическая задумчивость над вопросами смысла и веры.
Под вселенский голос вьюги на диване, в темноте поразмыслить на досуге о Пилате и Христе. …Как же так! — руками трогать воздух истины, итог, в двух шагах стоять от Бога и не верить, что он — Бог. Под тенистою маслиной, на пороге дивных дней видеть солнечного сына и не сделаться светлей! Отмахнуться… Вымыть руки. Ах, Пилат, а как же нам под щемящий голос вьюги строить в сердце божий храм? Нам, не знавшим благодати, нам, забывшим о Христе, нам, сидящим в Ленинграде на диване — в темноте?Там, в закоулках судьбы я вижу свою Россию, которая, по словам Петра Чаадаева, никогда не жила под роковым давлением логики времен, то есть — жила самостоятельно, вне прагматических устремлений Запада. Россия молилась, Запад — мыслил. Католицизм действовал, православие — созерцало. Запад интернационализировался, Россия — хранила себя. Ради других, добавлю я. На пользу ближнему. Даже если этот ближний весьма далек. Тот же Чаадаев в своих «Философических письмах» не единожды упоминал об уроках, которые давала и дает своим историческим примером Россия остальному миру. Соображение об «уроках России» перекочевало в двадцатый век, и теперь уж не предположить, не сказать, а прямо-таки воскликнуть хочется: если столь впечатлительны были сии уроки во времена Петра и последующих радетелей державы Российской, то каковы же по силе воздействия на окружающий мир уроки Советской России?! Уроки социализма? Уроки эксперимента? И сколько миллионов душ пошло во имя эксперимента на переплавку? И где наше профессиональное крестьянство? И где наша вера в торжество коммунизма? И неужели крест, который выпало нести России, должен быть столь тяжек, словно отлит из чистого золота? И еще множество подобных запоздалых вопросов, задавать которые не обязательно, но отвечать на них придется. Грядущим поколениям Отчизны.
Там, в спекшихся от времени, но все еще различимых извивах пережитого вижу я и нечто конкретное, хотя бы тот яркий июньский полдень за неделю до войны, Варшавский вокзал Ленинграда, поезд, отправляющийся куда-то на юго-запад страны через Псковщину, с которого я неотвратимо сойду в маленьком отцовском Порхове.
Там ярче прочего высвечивается образ матери, молодой, красивой, беспомощно-одинокой. И что замечательно, кристаллизация образа началась внезапно, в момент, когда уже тронулся поезд и я разглядел за оконным стеклом бегущую по платформе, все еще прежнюю, но какую-то уже и небывалую для меня, отторгнутую движением поезда (времени!) женщину. Я не помню ее другой — ни домашнюю того дня, ни на вокзале, ни даже в купе, где она долго упрашивала моих соседей по вагону проследить, чтобы я сошел именно в Порхове, чтобы вел себя, чтобы ел бутерброды… нет, я запомнил ее бегущей вдогонку, роняющей сумочку на асфальт перрона и постепенно отстающей от меня навсегда.
Предвоенные дождики лета, на Варшавском вокзале цветы! …Я впервые на поезде еду. Десять дней до Великой Черты. Провожает меня, задыхаясь от улыбок и жалобных слез, мама… Мама моя молодая, золотой одуванчик волос! … … … … … … … … … … … … … … … Провожает меня исступленно, за окном продолжает бежать… И уже до последнего стона будет в жизни меня провожать.Свет всемерной, не меркнущей в нас любви хоть и прикрыт всевозможными бытийными наслоениями, хоть и разбавлен искусственным светом от потребительского фейерверка сиюминутных торжеств и наслаждений, однако ж есть, внедрен, содержится в нас точно так же, как и свет мысли, с той лишь разницей, что свет мысли возгорается с приобретением знаний, а свет любви передается нам с материнским молоком, с материнской кровью и нежностью. И этот свет не иссякает в человеке до скончания его дней: ни в пятилетием детдомовце, от которого отказались родители, ни в трудном подростке, ни в юноше или девушке, которых надули с первой любовью, ни в разочарованном в жизни, непризнанном гении, ни в стареющей красавице, ни в воистину уставшем, искореженном болезнями старце, ни даже в преступнике, не говоря уж о герое или подвижнике, то есть о людях, сильных духом (в отличие от понятия «сильные мира сего»).
Из теснин лабиринта нетускнеющим видением встает передо мной страшная сцена казни русского человека, пожилого, а может, просто изможденного, не обязательно партизана, во всяком случае — патриота, оказавшего врагам посильное сопротивление, не ружьем — так дерзкой улыбкой. В полуживом зимнем Порхове, насквозь пронизанном тяжким морозным скрипом кованых сапог, карательные экзекуции во устрашение непокорных производились в центре городка, на площади у сгоревшего универмага № 13. Возле «тринадцатого» сохранился с мирных времен внушительный столб. На вершине столба — четырехугольная площадка, на которой прежде размещалась какая-то аппаратура. Немцы приспособили столб для вешания людей. Они сгоняли жителей к этому страшному столбу и навязывали людям зрелище, противное нравственным основам обитателей земли. Случались дни, когда на площадке столба были заняты все ее четыре угла.
Пунктуальные немцы неизменно вывешивали списки людей, подлежащих казни. Такие списки пришпиливались кнопками на фанерных стендах, куда при советской власти наклеивались газеты. Людей, подвергавшихся расстрелу, убивали где-то в районе Поляковой мызы, а приговоренных к повешению — возле «тринадцатого». Расстреливали без показухи, буднично, методично, спешили. Выстрелы витали над городком и рассеивались, как снежинки, теряясь в нависшей над страной атмосфере расправы. Сильных над слабыми. Виновных над неповинными. А возле «тринадцатого» происходили гнусные спектакли, публичные действа, изуверский смысл коих разум отказывается постигать даже по прошествии сорока пяти лет. Добро бы какие-то инопланетяне опустились на матушку-землю, со своими обычаями и нравами, а то ведь… существа из одной астральной колыбели. Братья и сестры. Так вот — о казни того пожилого русского человека.
В тот день по просьбе мужа тетки Ефросиньи, у которой я проживал в Порхове, отправился я в свой ежедневный обход центральных улиц городка в поисках окурков. Перед моим уходом дядя Саша, как всегда, произнес традиционную фразу: «Малец, сходи-ка, посшибай окурочков». Эти окурки от немецких сигарет дядя Саша перед употреблением жарил на сковородке.
Обыкновенно шел я по краю тротуара или по нахоженной тропе и, не отрывая взгляда от заснеженной обочины, выискивал в снежной целине желтеющие никотином скважинки от выброшенных хабариков; добычу складывал в жестяную банку с крышкой. Вперед, перед собой, а тем более вверх, на небо в эти поисковые минуты не смотрел. Иногда налетал на редких прохожих, иногда — на неподвижные препятствия. И вдруг очнулся, оказавшись в людском загоне: цепочка жандармов сгоняла обывателей поближе к столбу «тринадцатого». Ясное дело: кого-то будут вешать.
Добровольно смотреть на уничтожение человека не всякий захочет, не всякий сможет. В детстве еще куда ни шло: любопытство необузданно, на сердце еще мало ссадин, вот и смотрит ребенок, распахнув глаза, леденея от происходящего. Став взрослым, неоднократно ловил я себя на желании отвернуться даже от символической казни и отворачивался, чтобы не усугубить унижение, скажем, от человека, уронившего себе на костюм подтаявшее мороженое или некстати чихнувшего. Так вот то — унижение, а возле столба — уничтожение. И приказ: смотри, тварь, потей от страха и помни: ты перед волей власти — ничто.
Конечно, можно было закрыть глаза, сделать вид, прикинуться, упасть, наконец, на снег, в ложную падучую, под ноги толпе. Но вступают необъяснимые законы действа, и ты смотришь, смотришь неотрывно. Женщины — со слезами, воплями, старики — с непонятной задумчивостью, дети — кто с жадностью откровенной, кто с вызревающей ненавистью, кто — панически прижимаясь к ногам матерей или бабушек.
На столбе уже наклеена бумажка, извещающая о факте казни: кого и за что. Чаще всего — за какой-то саботаж. Я этого словечка тогда еще не освоил, и мне почему-то казалось, что вешают за сущие пустяки, за что-то связанное непременно с собакой — скажем, за убийство немецкой овчарки или за то, что чья-то русская собака покусала немецкого солдата.
Я знал, в толпе говорили, что в показательном, устрашающем плане немцы не раз казнили людей за ничтожную провинность; однажды повесили мальчишку, моего ровесника, за то, что он отлил из бочки один литр керосину для семейной коптилки (тоже небось взрослые послали раздобыть горючки). Или за то, что некто слушал радиоприемник. Или за одно лишь подозрение, что казнимый человек мог в перспективе причинить определенный ущерб, не повесь его вовремя.
За что казнили дядьку, которого привезли тогда в белом, замаскированном под снег, холодном, крытым брезентом фургоне полевой жандармерии, я не расслышал, скорей всего — все за тот же саботаж. Надпись на столбе я не разглядел: мешали спины впереди стоящих жителей Порхова.
Необычным явилось следующее обстоятельство (в толпе даже произошло движение). Казнимый человек что-то попросил у двух охранников, стоявших подле него в кузове автомашины. И тут случилось чудо: немцы развязали обреченному руки, стянутые до этого проволокой и доселе невидимые толпе, лежавшие прежде где-то на пояснице мужчины. По всему было заметно, что человек спешил и что подгоняли его куда-то не охранники, а словно бы какая-то внутренняя забота, на которой он давно уже сосредоточился и от которой вынужден был отвлечься на момент прощания с людьми, с белым светом.
И вдруг он произвел странный жест своей затекшей рукой, предварительно поработав пальцами этой руки, словно бы разогревая их от мороза, наполняя кровью, долго не поступавшей в них. А затем поднес эти пальцы к своему лбу, даже как бы ударил ими себя по лбу, тут же опустил их на живот, положил сперва на правое плечо, затем — на левое. И все это — поспешно, как бы взахлеб. И вот, будто вспомнил главное, повел этой же рукой в нашу сторону и перекрестил толпу. А затем отдал свои руки солдатам, которые скоренько замотали их той же проволокой. На небритом, изможденном лице мужчины явственно проступала, затрепетав в углах губ, виноватая, прощальная улыбка.
— Попрощался… — вздохнула возле меня какая-то старушка.
А дальше неинтересно. Потому что — бессмысленно и жестоко. Они убивали человека, который всех простил, и как бы пожалел, и даже попытался улыбнуться, чтобы нам, живым, было не так страшно провожать его в непроглядную неизвестность, которую надлежит изведать всем в свое время и лишь ему — сию секунду.
Не могу в связи с этим скорбным видением не воскресить в воображении еще одно, уже послевоенное, действо, когда тоже казнили, но казнили немцев, ответственных за многочисленные, сопутствующие их вторжению, бесчинства, творимые на земле Псковщины, Новгородчины, Ленинградской области, то есть именно там, где и мне самому пришлось хлебнуть немецкого «орднунга».
Мы бежали и мчались трамваями на эту отдаленную площадь Ленинграда, расположенную возле кинотеатра «Гигант», в предвкушении не просто зрелища, но запоздалого утоления вчерашней боли, обиды, нескончаемой, незарастающей тоски духа, неслись, подгоняемые всею тысячью четырьмястами дней войны, подсознательно желая увидеть именно ее, войны, последнюю судорогу, а не просто каких-то там Гансов и Фрицев.
И все же казнить-то пришлось не абстрактную Войну, а конкретных людей. Плохих-нехороших, жестоких, страшных, безжалостных, пославших на безвременную смерть тысячи и тысячи граждан моей страны, но ведь тоже — людей-человеков… Уж лучше б они предстали сказочными упырями, бессмысленными нелюдями, не имеющими ни глаз человеческих, ни сердец, тогда бы их легче было извести, давить и забывать, как забываешь раздавленного клопа или комара.
Толпа запрудила площадь. Пожалуй, больше всего было там мальчишек, как тогда говорили — огольцов, пацанов. А может, так мне казалось: сверстники ведь роднее и потому виднее, а значит — «удобнее» для памяти. Процедуру казни ожидали мы с нетерпением. А когда она свершилась — были разочарованы ее элементарностью, заурядной механистичностью: не создалось в людях особого настроения, не прибавилось уверенности и кислороду в воздухе, не начали все мы, стоявшие на площади, жить как-то иначе, по другим законам или рецептам.
Отчетливо запечатлелись выражения лиц собравшихся зрителей в момент приведения приговора в исполнение, потому, наверно, и запомнились, что было их мало, выражений: господствовало одно, всеподчиняющее, особенно явственное на лицах женщин и детей, — выражение настороженного тягучего страха. И уж совсем не запомнилось отражение на лицах «справедливого торжества», бахвальства — вот-де мы какие всемогущие. Разве что на отдельных лицах из числа подвыпивших людей отмечались гримасы бездумья и прочие оттенки алкогольного забытья. Всех остальных, пусть на короткое время, объял ужас. Не панический, не суетливый, а, если так можно выразиться, торжествующий, величественный ужас, потому что казнь, убиение (пусть даже из побуждений возмездия) есть действие самое противоестественное на фоне бессмертного храма Жизни.
10
Энергия добра, энергия зла и бытие, как некий аккумулятор этих энергий, излучаемых материальными силами стихий и вырабатываемых силами человеческого духа. Ласковый ветерок и всесокрушающий ураган; левая рука, протянутая для опоры немощному старцу, и правая, тайно опущенная тому же старцу… в карман. Не собираюсь ударяться в очередное моралите, хочу лишь оттенить некую особенность, если не странность воздействия этих энергий на читателя (слушателя, зрителя, вообще — воспринимателя), а то, что воздействовать на умы способны и объекты, заряженные отрицательной энергией зла, факт несомненный. Вспомним стихийные бедствия — скажем, пожар или снежный буран, явление всевозможных сверхчеловеков вроде Наполеона, экстравагантные отрицательные персонажи произведений искусств (Воланд Булгакова или разрушительная предметная пластика образов Сальвадора Дали, коих предварял падший ангел Лермонтова, влюбленный Демон с бескрайними глазами, нарисованный смятенным Врубелем).
И тут хочется воскликнуть: почему?! Почему порождения дьявольские пронзительнее проявлений божеских? Почему исчадие зачастую ярче фимиама? Небезопасные приключения (духа и тела) желанней идиллического покоя?
Естественно, что в своих домыслах придерживаюсь я чисто писательской версии. Отчего, к примеру, массовый читатель предпочитает детективы, то есть те именно сюжеты, где зачастую фиксируется насилие?
Почему даже под пером гения отрицательный персонаж выглядит правдивее идеального — скажем, в «Идиоте» Достоевского Ганя, Рогожин смотрятся достовернее князя Мышкина? Почему вообще проблема положительного героя в литературе выросла в… проблему? Почему, наконец, негодяя, злодея, бестию писать проще, нежели какого-нибудь ангела во плоти? И почему, если уж кому-либо из писателей удается положительный образ — скажем, Тургеневу в «Записках охотника» образ Лукерьи, — то и цена этому успеху соответствующая, то есть непреходящая, а не просто высокая, хотя и бытующая только среди знатоков, а не среди читающих масс? Почему, начав распространяться о добре, мы неизменно вызовем внутреннюю зевоту читателя-обывателя? Почему он воспринимает наши призывы быть добрее, а значит — и совершеннее, как умозрительную болтовню? (Оттого, что сами несовершенны, у самих рыльце в пушку?) А вплетая в сюжет чтива похождения злодея, приобретаем в таком читателе — почитателя? По какому праву? Не оттого ли, что, прослеживая в самих себе агрессивные начала, стараемся оправдать их признанием зла постороннего? С волками жить? Откуда сил тяга на остренькое? Да и в самой жизни, в двадцатом ее веке что более всего запомнилось и повлияло на умы? Изобретение атомной бомбы и ее применение на живых людях, гражданская в России и мировые войны, концлагеря с их абажурами из человеческой кожи и колымские и прочие сибирские, воркутинские, казахстанские Долины смерти, разбомбленный в одночасье союзниками Дрезден, блокада Ленинграда с миллионным кладбищем на Пискаревке, уничтожение делового крестьянства в период коллективизации… Что читают нынче взахлеб, о чем все эти книги и статьи? Опять же — об ужасах (произвола политики, отдельных монстров). Могут сказать: не об ужасах — о правде, которая замалчивалась. Но ведь, скажем, изобретение вакцины против полиомиелита — тоже правда, причем правда милосердная, несущая избавление от страданий. Однако у читателя-обывателя, к сожалению, популярна другая правда, правда о копошении в самих страданиях, о показе «процесса» насилия, а не того, что его останавливает. Чары зла? На фоне стремления человечества к совершенству…
На мой взгляд, как ни печально, как ни греховно, а многих читателей чаще волнует в литературе экстраординарное, резкое, хмельное, бьющее в голову, а не мягкое, рассудительное, трезво осмысленное. Печально, но… факт.
Скажем, разбился самолет. Никто не пострадал. Неинтересно. Даже фраза «по счастливой случайности», комментирующая это событие, кажется скучной, затрепанной, почти дурацкой. А случись, не дай бог, наоборот, и… читают сообщение с жадностью изголодавшихся!
Порезал маньяк репинскую картину, где Иван Грозный (тоже маньяк) убивает сына, или еще один маньяк окатил кислотой «Данаю» Рембрандта — ажиотаж, треволнения, мир потрясен до глубины… И понятно: гениальные полотна пострадали, достояние человечества. А в это время где-то на планете неведомый художник тихо, мирно создал шедевр, не наскандалил, не набедокурил, чтобы прославиться, а просто выразил себя в образах и красках, да так, что замечательно получилось. И что же? Зачастую — тихо. Потому как разобраться, дескать, надо, толково ли получилось. А вдруг — туфта? Не спорю, разобраться необходимо. На это уходит время. Однако творение-то явилось. Акт его возникновения зафиксирован. Роды состоялись и приняты. А где же «жгучий интерес»? К совершению насилия, акту вандализма — пристальное внимание, к проявлению тихой радости, даже прелести — или ноль, или этакое сухонькое, благочинное вниманьишко с казенным налетцем, имеющее факт долженствовать… Отсюда и яростная любовь к свежим мертвецам.
Испокон веку обывателя предостерегали: не убей, не укради, не пожелай чужого, не сотвори… Многие же, если не большинство, делали наоборот. Скучно, видите ли! А когда, скажем, фашиствующие «сверхчеловеки» кинули клич о вседозволенности для белокурых бестий — то-то развернулся германский обыватель. Да и мы на сталинский клич об избиении «врагов народа» с неменьшим энтузиазмом откликнулись.
Так что же — зло и впрямь веселее добра, выходит? Как, скажем, водочка «проникновенней» в сравнении с белым молочком? Соблазн злом активнее уговора добром? Если так, то бескорыстный Дон-Кихот и впрямь воюет с мельницами, а блаженный князь Мышкин любит не погибающую, несчастную Настасью Филипповну, а… себя. И современному «атомному» миру так же далеко до всеобщей любви, братства и гармонии, как и его предшественникам в девятнадцатом веке, вернее — еще дальше.
Взрослея, человек многое утрачивает: простодушие, наивность, открытость, доверчивость и т. п. Дольше прочего сохраняется в нас от детства немеркнущий интерес ко всему страшненькому, когда замирает сердце, а смотреть (видеть, ощущать) все равно хочется. И только когда зло перерастает границы (размеры) зрелища, когда оно становится повседневностью (война, репрессии), люди перестают ему удивляться, поклоняться, восхищаться им, начиная в нем жить, обитать, то есть — сопротивляться или свыкаться, нести крест смирения или протеста. Диво перерождается в дело. Чары иссякают, уступая место трезвым раздумьям.
11
Ранней весной 1947 года я не смог устоять перед соблазном и украл у одного дяденьки никелированный шестизарядный трофейный револьверчик, который имел притягательную силу. В свое время из той штуковинки, должно быть, не только стреляли, но и убивали. Чары зла посверкивали на ее поверхности.
Дяденька был морским офицером. Он приехал в Ленинград на побывку и остановился у нас переночевать. Во время войны дяденька служил вместе с моим отчимом на Балтике. Они были «кореша». Копошась утром в своем трофейном чемодане в поисках бритвенного прибора, дяденька имел неосторожность приоткрыть завесу… То есть случайно вытряхнул из шерстяного офицерского носка свою блистающую игрушку. Второй подобный носок отягощала коробочка с патронами.
За годы военных скитаний в отношении подобных игрушек глаз у меня был наметан. Соблазн обладания оружием, делающим тебя как бы выше ростом, мускулистее, надменнее, мгновенно спеленал мои помыслы, сковал волю, разнуздал воображение. Себе я уже рисовался этаким залихватским уркой, который, придя на урок в ремеслуху, в ответ на резкое замечание мастера вынимает из заднего (непременно из заднего!) кармана штанцов «пушку» и производит предупреждающий выстрел в классную доску. Все расступаются, и я волевым шагом покидаю аудиторию, выбегаю на Малый проспект, прыгаю на подножку трамвая номер 4 и еду на вокзал, и дальше — в жаркие страны или хотя бы в Поповку, где у меня в заброшенном блиндаже есть все — от карабина до пулемета иностранного производства, от ротного миномета до гранаты РГД, не считая пушки «Берта» на железнодорожной платформе, в ствол которой можно было спрятаться от дождя. Все имелось у меня в Поповке. Не было только карманного «личного» оружия, этой вот сиятельной вещицы, что вновь была засунута морячком в носок и небрежно задвинута морячковой рукой куда-то под тряпье, на дно чемодана. После мучительных, хотя и не слишком долгих раздумий решил я присвоить это почти ювелирное изделие, а вместо наганчика затолкал в носок испорченную машинку для стрижки волос, блестящую и такую же увесистую, не забыв приобщить коробочку с патронами.
Так впервые нарушил я законы социалистического общежития, его мораль и права, в том числе и несколько статей Уголовного кодекса. До этого я нарушал преимущественно законы педантичных национал-социалистов, чьи мораль и право, в свою очередь, были поставлены вне закона.
Натура моя, живьем вкусившая в годы войны от «приключенческого жанра», бессознательно требовала продолжения «нескучного кино», теперь уже — в криминальном его варианте. Впопыхах и потому весьма небрежно были сделаны первые наколки на руках (остальные, исполненные основательно, будут нанесены чуть позже — на нарах в карцере исправительной колонии).
К тому времени производственную практику от нашей ремеслухи проходил я на фабрике клавишных музинструментов в качестве будущего столяра-краснодеревца. Пилить, строгать, долбить, шкурить деревяшку было невыносимо скучно. И я уезжал в неразминированную Поповку, в запретную зону, чтобы еще разок «повисеть на волоске», полежать под поездом острых ощущений. Естественно, что вскоре меня «понизили», переведя из модельщиков (столяров-инженеров!) в столяры-краснодеревцы, то есть в нечто затрапезное, патриархально-изначальное.
Музыкальная фабричка после просторного, город в городе, холодного, продуваемого балтийскими ветрами кораблестроительного завода пришлась мне по душе, потому что показалась чем-то свойским, уютным, теплым, как бы и не промышленным предприятием, а неким клубом, где можно было ходить по этажам, слушать музыку, доносившуюся из цеха настройки, вдыхать ароматы лаков и политур и даже кое-что делать в свое удовольствие.
Именно здесь, в пахучей и гремучей фабричке, научил меня один взрослый изворотливый работяга «крутить черта», то есть отделять в политуре шеллак от спирта. Операция была не столько физического (столярно-патриархального) свойства, сколько современно-химического. А главное, в итоге своем содержала она все тот же элемент риска, залегания под поезд, ибо, научившись отделять от спирта посторонние вещества, мы так и не приспособились распознавать, на каком именно спирту сотворена данная партия политуры — на этиловом или же на древесном, смертельно опасном, грозящем всевозможными неожиданностями, вплоть до потери зрения.
Ко времени моего прихода на фабрику с позаимствованным револьвером в кармане в руководстве училища, да и среди сверстников, сложилось обо мне определенное мнение, как о человеке тихом, задумчивом, но порой весьма неожиданном, непредсказуемом. Случалось, я производил взрывы, сидя за партой в аудитории и неотрывно глядя в глаза преподавателю. Всему училищу стало известно «дело с заминированными шинелями», когда я и мой напарник, безответный Никита Мукосеев, калека-горбун, возвратившись из Поповки, были обысканы директором училища, и наши с Никитой шинелишки, набитые под завязку патронами, детонаторами, шашками тола, головками от снарядов и мин, сигнальными ракетами и «макаронами» артиллерийского пороха, были арестованы и заперты в кабинете директора до прихода «органов», которые в тот день почему-то не спешили; из канцелярии училища были срочно эвакуированы секретарши с бухгалтершами, да и вообще занятия в заведении на какое-то время приостановились.
«Повязали» меня в разгар рабочего дня, когда я с двумя партнерами играл в картишки под выбракованным, некондиционным роялем, задвинутым в самый дальний и темный угол цеха (полированную махину в одночасье не разберешь, в окно или на помойку не выбросишь). Под прикрытием этого инструмента-калеки и политуру обрабатывали, и в карты играли, и просто отсыпались «после вчерашнего».
«Менты» подговорили одного нейтрала из нашей группы, с которым был я знаком, но этак шапочно, он-то и вызвал меня на свет божий из укрытия. Как только голова моя показалась наружу, двое ловких и неизвестных мне оперативников мигом поставили меня на ноги, заломив мне руки. От неожиданности я даже забыл, что… вооружен и, стало быть, опасен.
С этого момента началась для меня новая полоса испытаний, и, пожалуй, самая трагическая, потому что из-под этого поезда я мог вылезти кем угодно — убийцей, вором-профессионалом, мошенником, вдобавок наркоманом, а правильнее — мог вообще не вылезти из-под него, остаться размазанным по шпалам и рельсам «жизненного пути».
Рассказ о том, как превратился я в заправдашнего зека, нужен мне отнюдь не для самоутверждения (не тот возраст), да, пожалуй, и не для самоанализа, и не потому, что аттестация сия беспрецедентна, уникальна: согласитесь, не так-то уж часто будущий писатель начинает с тюрьмы, вернее — не каждый в этом признается на страницах своих произведений. О плохом не принято. Ни о зазнайстве, ни о пьянстве, ни о прочих изъянах. Ох уж это «золочение яиц»! А сколько писателей не просто пьянствовало на своем веку, но и элементарно спилось, погибло от этой страшной участи. Я расскажу и об этом.
Вернемся к забракованному роялю, из-под которого меня выманили обманным путем, как одичавшую собачонку на запах колбасы. Тут же в цехе перед строем учеников, не выпуская моих заломленных рук, меня обыскали, составили акт. Держался я героем, помаленьку начиная входить в роль арестованного урки, а мои однокашники выглядели смущенными, отворачивали от меня глаза и не то чтобы порицали — скорее прощались со мной, понимая: в училище я больше не вернусь.
Удивительное дело, оглядываясь нынче в ту весеннюю даль девятьсот сорок седьмого года, я не припомню себя смертельно напуганным или хотя бы удрученным сверх меры из-за ареста — нет! Ощущение крутых перемен в жизни — вот что кипело тогда в сердце, ощущение, равносильное обретению свободы, как это ни парадоксально. Видимо, наскитавшись за годы войны в «гордом одиночестве» — без школы, родителей, вволю поанархиствовав, наигравшись со взрослыми в небезопасные прятки и жмурки, с возвращением в Ленинград, в семью, где мать — учительница, отчим — моряк и будущий юрист, себя я почувствовал не в своей тарелке. И сознательно или по наитию начал склонять свою «биографию» к нарушению обретенного покоя, к выведению жизненной линии на «кривую» незапланированных событий. Ко времени истории с наганом на мне уже висело столько кошек и собак (взрывы, политура, торговля хлебной и мыльной пайкой, кража арбузов из соседней с училищем арбузной клетки, драки, азартные игры, взлом химического кабинета и порча реактивов, подача сигнала воздушной тревоги сиреной с крыши училища, присвоение семейных облигаций, многочисленные приводы в милицию, знакомство с нарами КПЗ), что изоляция меня от общества казалась многим естественным и почти единственным средством, способным привести в чувство шестнадцатилетнего искателя приключений.
Трудный возраст подзатянулся. Обогащение сознания благими намерениями забуксовало. Катаклизм войны, потрясший планету, отразился и на моей микроскопической «жизненной системе». Не стану вдаваться в социально-психологическое толкование проблемы (личность и общество), не компетентен, да и задачи передо мной иные, скорей лирические, нежели научные, одно лишь повторю со всей искренностью бывшего недоросля, безнадзорного перекати-поля: среди всех возрастных категорий подростки есть самые ранимые, жалкие, гордые, безрассудные и поэтичнейшие существа. Недаром великий Достоевский посвятил проблеме прорастания личности отдельный роман. «…Гордая молодая душа, угрюмая, одинокая, пораженная и уязвленная еще в детстве». «Он хочет непременно, чтоб у него просили прощения все, для того, чтоб тотчас же простить всех и любить вечно, неотразимо, страстно», — писал Достоевский в одном из набросков к «Дневнику писателя» за 1876 год, характеризуя своего подростка Версилова (Собр. соч., т. 8, с. 640–641).
С каким мазохистски-жертвенным наслаждением пустился я в «арестантскую жизнь», доселе неведомую, но о которой наслышан был весьма и весьма. Блатные песни, с подражания которым начал я проникание в сочинительство, рассказы о романтических урках, весь этот кастово-воровской жаргон, если так можно выразиться, «камерный» шарм, подготовили меня «теоретически» к принятию тюремно-этапно-лагерного существования как чего-то в высшей степени независимого, героически-приключенческого, в обычной, повседневно-заурядной, занудной действительности — немыслимого.
Помню, как замахивался на меня следователь-дознаватель мраморным пресс-папье, намереваясь бить в лоб, и всякий раз не доносил промокашку, похожую на маленький танк, останавливая замах в каком-нибудь сантиметре от головы, и я ловил кожей лба спрессованный воздух, и замирал в ужасе и восторге, что вот-де, пытают… а я — ничего, держусь. Да и как не держаться: опыт имелся, немцы били, теперь вот — наши стараются. Закалка образуется. Происходило это на Васильевском. Подвели к столику, измазанному черной краской. Сняли отпечатки пальцев. На тогдашнем языке зеков — «поиграл на рояле». Оформили документы, чтобы передать дело в ЛУР, на Дворцовую площадь, или, как выражались все те же зеки, на «площадку».
Попасть на площадку значило официально начать отсидочный путь, путь уголовника. Помню, как было мне воистину интересно и уже абсолютно не страшно входить в этот карающий храм, как в холодную воду — главное, ступить, сделать шаг, а ступил — притерпелся. Бодрило и в какой-то мере возвышало то обстоятельство, что «храм» располагался на Дворцовой площади, напротив бывшего обиталища русских царей — Зимнего дворца. С каким достоинством взрослого человека переезжал я из Василеостровского КПЗ на «черном вороне» в ЛУР. Тюремный фургон в те годы выглядел внушительно, ибо стоял на шасси американского трехосного «студебекера». А дальше… Дальше опять-таки… скучно. Не вспоминается. Так же, как процесс казни на площади возле кинотеатра «Гигант». И впрямь ничего особенного: «шмонали», заглядывали в рот (не пронесу ли я в камеру бритву или ампулу с цианистым калием?), стригли, затем — баня тюремная, камера, нары, качание прав… Горько, тошно. Не аукается. Кричу, а отзыва нет. И слава богу. Хотя возвращаться к деликатной теме на страницах «Записок» еще придется. А сейчас хорошо бы порассуждать о чем-нибудь возвышенном. Для балансировки эмоций. Или, на худой конец, о таинственном. Вот только где его взять — таинственное? В тогдашних, послевоенных небесах (или хотя бы на страницах прессы) не было даже «летающих тарелок», а снежный человек принимался местной (высокогорной) общественностью или как заблудившийся, потерявший ориентировку партизан, или как отбившийся от своих стрелок горно-егерской немецкой дивизии «Эдельвейс».
Я не суеверен. Классифицировать происходящее со мной с оглядкой на приметы так и не научился. Исключение составляет одна примета из области совпадений. Да и та на поверку выглядит закономерностью, нечто вроде эффекта сообщающихся сосудов. Суть его, как известно, в следующем: причинил миру зло — прими сам страдания, сотворил добро — ощути восторг, благое воздаяние. И вряд ли это всего лишь закон возмездия, скорее — принцип равновесия для поддержания на планете «атмосферы бытия». Зло — габаритнее, объемнее; его, на первый взгляд, больше, нежели добра. Отчего же тогда равновесие? Ясное дело — оттого, что добро весомее любого разрушительного, тяжелоатомного урана или плутония. Удельный духовный вес «Элемента добра», плотность его частиц неизмеримо выше тех же качеств злодейства. Вещество зла рыхлее, недолговечнее вещества созидающего. Доказательство этого — длящаяся на земле жизнь. В чем корни ее долголетия или даже — бессмертия? В немалой степени — в добросердечии и неуспокоенности людских душ. Ну, а корни зла, естественно, что — в бездуховной суете, в мелкотравчатой суматохе, в промашке с выбором цели и т. д. и т. п. Во всяком случае — ничего таинственного опять же.
Теперь о совпадениях конкретного ряда. Незадолго перед тем, как лишиться мне свободы, ее обрел мой отец, отбывший на севере восьмилетний срок. Домой заявился он, предупредив о своем приходе мать с отчимом, и последний отправился ночевать к приятелю. Отец мой, как мне тогда казалось, выглядел не ахти. И в сравнении с отчимом, экипированным во все военно-морское, офицерское, критики не выдерживал. Полинявшая гимнастерка «пехотного образца» была несуразно длинна и в паре с коричневыми, на коленях заплаты, гражданскими брючатами навевала тоску. Даже пуговицы на гимнастерке были цивильными, а точнее — самодельными деревяшками, а сама гимнастерка перехватывалась в поясе не кожаным комсоставским ремнем, а какой-то плетеной веревкой. На ногах отца крепились завязками парусиновые тапочки, или спортсменки. Шея у отца длинная, взгляд из-под очков внимательный, строгий, изучающий — педагогический. От таких взглядов я тогда, как правило, отворачивался или вовсе убегал прочь. А тут сиди, как под микроскопом, терпи. Жди, когда тебя полностью разглядят и раскусят.
Отец с матерью проговорили всю ночь, я пытался их подслушивать из-за шкафа, где стоял мой диван, и, естественно, ничего не понял, а затем мне сделалось стыдно за подслушивание и я уснул. А когда проснулся, отца в комнате уже не было. Он уехал куда-то на Волгу, к своей сестре, сельской учительнице.
Отец мне тогда не то чтобы не понравился, во всяком случае — не приглянулся. В нищенском одеянии, неуклюжий, за плечами котомка. И эти очки вдобавок. Я знал, что он — «из тюряги». Но, как ни странно, именно это обстоятельство делало отца в моих глазах не конченным человеком, а заслуживающим хоть какого-то внимания и даже — уважения.
Как выяснилось позже, отец в городе объявился, можно сказать, нелегально, потому что разрешения на жительство в Ленинграде не имел, никакими правами вообще обеспечен не был. В справочке возле отметки о судимости значился некий пунктик, эдакая надбавочка к восьмилетнему сроку — четыре года поражения в правах, или, как говорили все те же зеки, «четыре по рогам».
Одним словом, друга для себя в отце я в тот раз еще не разглядел. Даже чуть позже, убежав из колонии, когда резоннее всего было направиться к отцу, в заволжскую глушь, откуда меня не скоро бы достали, я по инерции помчался в Ленинград, где и был схвачен одышливым дворником дядей Костей, и, если б не мои проворные ноги, заменявшие мне крылья, возвернули бы меня грамотные люди в Саратовскую область, в крошечный городишко с внушительным именем Маркс, на окраине которого располагалась колония, и неизвестно, чем бы все это кончилось — в смысле сюжета моей биографии.
Вот такое совпадение: отец — оттуда, я — туда. О чем говорит примета совпадения? О невыплаченном долге, о пользе страданий. Или… ни о чем, просто примета времени?
12
Оглядываясь теперь на себя, уцелевшего, спрашиваю: почему все-таки не погиб, не разрушился раньше срока? По чьей милости выкарабкался? Неужто чем тернистей путь государства, а стало быть, и человека в нем, тем ближе они к звездам смысла, тем ярче их траектория и благословенней идеалы?
Среди государств, как и среди людей, есть индивиды, отличающиеся как бы излишней скромностью: тихие, невовлеченные, сторонящиеся необузданного огня взаимоотношений, существующие на отшибе от глобальных событий века, вне роковых катаклизмов и прочих всеземных процессов. Такие государства, как правило, не успевают в своем развитии, дремлют в косности, предпочитая огню обжигающих событий внутреннее тепло собственных организмов.
Недаром самые страшные войны, сокрушительные революции и прочие социальные сдвиги, взрывы идей, величайшие напряжения противоборств и противомыслия происходили в основном на утрамбованной разумом почве Европейского континента, где вызрели страны-лидеры, страны-провидцы, народы-художники, нации-философы, государства-агрессоры, убийцы, сообщества-бунтари, двинувшие всечеловеческое развитие далеко — как в сторону «звезд», так и в сторону нравственной преисподней.
Иногда «дремлющие», отшибные государства, словно подражая Европе в просвещенном безумстве, окунают себя в геенну бессмысленных, так называемых региональных войн, не извлекая из огня событий ничего, кроме страданий для своих людей, не очищаясь, но еще гуще покрываясь пеплом и прахом косности (вместо пыли забвения).
Так и отдельно взятый человек, проведший жизнь в нравственном «дупле», малоэффективен, хотя и выскакивает время от времени на свет божий с разъяренным лицом.
___________
В портовом Новороссийске, где я пишу эти страницы, на днях, с первого на второе февраля восемьдесят восьмого года, посчастливилось мне пережить настоящий ураган, не просто заурядный норд-ост, каких в Новороссийске, особенно зимой, несчетное множество, но ощутить как бы не запланированное, затянувшееся на двое суток светопреставление. В этом стихийном радении преобладал, или, как принято говорить у людей погодной науки, господствовал, ветер. Но какой ветер! Воистину величественный. Нескончаемый и очень шумный, ревущий и непреклонный, вырывающий у одних выжидательное оцепенение, а то и отупение, у других — немолчную тревогу или судорожные действия, у третьих — философическую усмешечку, мол, вот тебе, бабушка, и Юрьев день: соображали, прикидывали, мечтали, копошились, перестраивались, вкушали, рассчитывали, сибаритствовали на диванах, вдохновлялись в креслах автомобилей, читали Юлиана Семенова, наблюдали беснующихся электромузыкальных честолюбцев по телевизору, слушали прекрасную мелодию Глюка, обладавшего уродливой внешностью, и вдруг ощутили… нечто наджизненное, от нас независимое, сулящее уход за привычные, накатанные пределы и уклады.
Рев ветра, ломающего деревья, рвущего провода, выдувающего морскую воду из Цемесской бухты, словно кипяток с чайного блюдца, катящего перед собой подскользнувшегося человека, будто бутылку с квасом, вдавливающего в окна зданий непроглядную гущу ночной темени, будто солнечный свет в ослепшие глаза; немолчный грохот этого жилистого ветра, наводящего с некоторых пор на мысль, что именно он вращает планету вокруг своей оси, а заодно и вокруг солнца, не помню, с какой именно очаровательной минуты заставил меня думать как бы изнанкой серого вещества, то есть жить как бы наоборот, не в направлении естественного распада, предписанного всем и каждому конца, но — как бы встречь ревущему ветру, жить, карабкаясь по его упругой, целенаправленной поверхности — к точке отсчета этого ветра, к тому котлу или реактору, где он возникал или вырабатывался, ибо — чуяло сердце — там, в этом начале, где зарождается ураган, — начало всему: солнцу, звездам, вселенной, а главное — мыслящему духу, чьи энергетические заряды выпало нам нести эстафетой бессмертия человечества.
Город в часы урагана погрузился во тьму: оборвались провода, вышли из строя котельные, стало холодать в квартирах, газ в конфорках пошел на убыль. Пятиэтажный дом содрогался от порывов ветра. Я взял молоток и десяток самых крупных гвоздей, укрепил рамы в оконных переплетах, откуда свистело, посыпало и поливало. И вдруг почувствовал себя почти пьяненьким без вина, дерзким от предвкушения вселенского хаоса (будет или было?). Страх исчез. На память пришла русская поговорка: «На миру и смерть красна». И привкус равнодушия — будь что будет — в душе. «Неужели — старость? — спросил я себя. — Неужто — апатия, безразличие, все и вся побоку? А ведь за твоей спиной — жена, дети, Москва, цивилизация». — «Ну и пусть, — нашептывал внутренний, душевный ветерок, — ну и ладно. Лети оно ко всем чертям — и то, и другое, и третье». В молодые-то годы я непременно бы на улицу выбежал, действия предпринял бы, вплоть до борьбы со стихией, — неважно, какими силами и возможностями. А сейчас — углубился в кресло, пледом зазябшие мышцы накрыл, и усмешечка гнусная на устах: дескать, ничтожно все, хрупко, эфемерно, и бомбы никакой сверхъестественной не требуется для ощущения вездесущей бездны, которая сама в окна ломится, сама объемлет городок, бухту, планету, россыпь миров…
К чувству жизни вернули меня голуби, захлопавшие крыльями на балконе, где они укрывались в деревянной тумбочке с оторванной дверцей, будто в большом скворечнике.
Незаметно для себя зашевелился, принялся за дело. Отыскал коробку со спичками, огарок свечи. «Сделал» свет, который и наблюдал до утра, лелея взглядом, будто спасительную мысль о том, что жизнь все-таки прекрасна и вкусна и что ее должно испить всю до последней капли… какого-нибудь майского дождя, стекающего по твоему уставшему лицу.
Утром, когда основательно рассвело, но еще не унялся шквалистый ветер, выбрался я на улицу.
Город нашел я невероятно захламленным, мусор из помоечных баков устилал улицы, вися на деревьях и остатках проводов: особенно много валялось и висело, шуршало и колыхалось… газет, чьи тиражи с приходом гласности существенно возросли. На земле — крошево сучьев и завалы из целиковых древесных стволов; имелись даже свергнутые чугунные столбы контактной троллейбусной сети; стекла, обломки шифера метили город вещественными доказательствами гигантского разбоя, словно кварталы его посетила остервенелая шайка хулиганов в количестве, превышающем численностью население Новороссийска.
На какое-то время появилось отчетливое ощущение прилива сил. Именно вследствие таких вот «приливов» образуется понятие «человек помолодел». Понятие само по себе фантастическое, так как все сущее на земле ежесекундно, ежемгновенно стареет, меркнет, причем неотвратимо, а молодеет с годами разве что наша наивность, точнее — наша вера в бессмертие мироздания, крупицами которого выпало нам быть.
На Северном Сахалине трое суток пережидал я в сугробе буран, под кустом кедрового стланика, питаясь шампанским, за которым вызвался «слетать» на лыжах на отдаленную буровую. Застигнутый в дороге непогодой, спал в этом сугробе, однако во время сна почему-то не замерз (как рождественский малютка): будили ветер, собственное сознание, которое во сне работало исправно, а также воля, с помощью которой толкал себя в бок. Или, скажем, тонул затем в ледовитой якутской реке Джарджан (приток Лены), бегущей откуда-то с Верхоянского хребта, и когда выбрался из ее объятий, то, сидя у костра, благодарил реку за милость. И смущенно улыбался товарищам по работе, поделившимся сухой одеждой. И незаметно, исподволь, не отдавая себе в том отчета, становился независимее от сил зла. Молодел.
А тогда, в Новороссийске, выйдя в развороченное бурей пространство жизни, обнаружил на дверях магазина, торгующего спиртными напитками, объявление: «Сегодня обслуживаются только похороны».
Надпись, несмотря на свой унылый смысл, развеселила. Не потому, что в моем лице прочитал ее убежденный трезвенник, а точнее — бывший пьяница, надпись развеселила подтекстом. Оказывается, в нашем государстве, обслуживая население, иногда предпочтение отдают мертвецам, то есть тем, кому это обслуживание, как говорится, до лампочки. И тогда я поинтересовался у встречного мужчины: «Почему только похороны обслуживаются?» — «А потому, — ответил мне мужчина, — что в другие дни обслуживаются еще и свадьбы».
В стране осуществлялась кампания борьбы с пьянством, то есть — с бедствием отнюдь не стихийного происхождения. Где зарождается сия нечистая сила, где ее гнездо, логово? Скажем, новороссийская бора возникает в цемесских предгорьях, а где утроба для вызревания «зеленого змия?».
Ясное дело — внутри каждого из нас. А значит, и воевать с «гидрой» нужно не кампаниями и походами, не директивами и посулами, не государственными масштабами, а — личностными.
Трагикомического содержания записка на дверях винного магазина заставила меня не только улыбнуться, но и кое-что вспомнить. Некие деликатные подробности земного существования героя этого сочинения.
Примерно за полгода до своего сорокалетия лирический персонаж «Записок» должен был умереть от воспаления головного мозга.
Человеку не хватало романтизма, взрывчатых веществ, шевелящей волосы сказки, его удручала равнинная плоскость повседневности. Требовалась эмоциональная подпитка, инъекция энтузиазма. Человек был беспартийным, то есть — несознательным. За спасением своей души он не мог обратиться ни в партячейку, ни в единственную на Васильевском острове православную церковь, так как был прочно закомплексованным и всяческих советчиков, как правило, сторонился. И тогда человек, выйдя из привокзальной забегаловки, цеплялся за поручни первого попавшегося поезда и ехал «на буферах» между вагонами, выветривая из окоченевшего сознания экологические, политические, социологические и прочие примеси, затруднявшие ему дыхание в осточертевших буднях.
На днях получаю письмо от человека, который в 1956 году, разделив со мной в привокзальном буфете скромную трапезу, увязался за мной в подобный безбилетный междувагонный вояж. В письме он приводил «леденящие душу» подробности той, тридцатидвухлетней давности поездки. Оказывается, на буферах мы скоро пришли в себя, время было предзимнее, руки, ноги и прочие части тела стали охлаждаться и затекать. А поезд мчал и мчал, чуть ли не до станции Бологое, где нас едва отсоединили от металлических конструкций вагона местные работники милиции. Вот ведь как оно было… А я и не придавал значения подобным страничкам в своем календаре. А люди обжигались о них. И помнили…
Человеку не хватало свободы действий. Жизнь перед ним распахивалась настежь, но ее, оказывается, как в музее, нельзя было трогать руками. И тогда человек где-нибудь в укромном фабричном дворике залезал по расшатанным ржавым скобам на кирпичную трубу котельной и, вознесшись на две трети ее закоптелой высоты, внезапно терял самообладание, хмель из его взыскующего мозга выдувало въедливым прибалтийским ветерком, и он, словно испуганный младенец, плотно и безоглядно прижимался к трубе, будто к маме, способной не только утешить, но и уберечь. Затем человека с высоты его романтизма снимали пожарники. При помощи раздвижной лестницы. Однажды к моему восхождению на очередную трубу присоединился художник-авангардист Михаил Кулаков, человек чрезвычайно серьезного внешнего вида, который мог шалить и даже хулиганить, неся на лице брезгливое выражение утомленного научными изысканиями профессора. Еще один художник-модернист, составлявший нам в тот вечер компанию, на трубу не полез: Женю Михнова-Войтенко не пустила туда… собака, не простая, но — член семьи, причем единственный, с ней он ходил на охоту в пригородные леса, с ней квартировал на улице Рубинштейна. Собака держала художника за парусину охотничьего плаща и в горние выси не отпускала. Я верю, что однажды Миша Кулаков вернется из благословенной Италии, куда он лет пятнадцать тому назад уехал учиться рисунку (с цветом у него и в России все было, как говорится, о’кей!), вернется и подтвердит мистическую красоту нашего трубного восхождения, так как кроме него подтвердить сие некому: одинокий, гордый, талантливый, но, как выяснилось, никому в своей стране не нужный, художник Михнов на днях умер. Сперва умерла его собака. Державшая его за плащ, его, постоянно стоявшего перед бездной одиночества. Потом…
Сегодня, по прошествии со дня воспламенения мозга семнадцати лет, никто уже не верит, что ваш покорный слуга был, мягко говоря, «подвержен», а говоря жестко — числился в литературных алкоголиках. Тот человек превратился в призрака и пополнил собой коллекцию теней, то есть — эти «Записки». У нас не принято исповедоваться о болячках подобного свойства. Скажем, об отложении солей или повышенном артериальном давлении болтаем до посинения, о несварении желудка или сердечных инфарктах всю плешь, как говорится, проели друг другу, а тему «вкушения» горячительного — не трожь: неэтично. Не по-мужски, дескать, сор из избы выносить, тем более — из горящей избы-черепа. Тогда как в быту именно из горящего гнезда принято выносить сор-скарб, причем именно того мужчину считают мужественным, кто в эту «горящую» войдет не задумываясь и неоднократно.
О пьянстве нужно говорить вслух. Как кричать «караул!», когда тебя убивают. Это святые молитвы про себя шепчут, ибо обращены — к Богу, которого почитают. А крики о помощи, как и проклятия, мы произносим вслух, потому что они обращены к людям, а не к небожителям. Лучшая информация о болезни — это личный опыт. Делиться опытом — значит одновременно бороться с этим психическим недугом. Опыт преодоления сего всепроникающего бедствия драгоценен так же, как результат наблюдений за самопрививкой холерной бациллы.
Сколько страшных болезней (чума, оспа, туберкулез, полиомиелит, проказа, та же холера) превозмогла или усмирила воля человеческого разума, сколько жертв и просто затрат понес цивилизованный мир, высвобождаясь от очередной «кары господней», будь то дифтерит или глазная катаракта. Безвирусный, незаразный, индивидуально культивируемый алкоголизм оказался неизлечимее любой язвы или чумы. И самое непостижимое здесь в том, что вылечиться от него можно безо всяких препаратов и снадобий, причем, как говорится, в одночасье.
Дело за малым: просто в один из чудесных дней отвернуться от стакана. Мысленно перекрыть «кранчик». Захлопнуть глотку. Многие в подобной ситуации, как последний аргумент, задают вопрос: а ради чего отворачиваться, с какой стати перекрывать, во имя какой цели — захлопнуть? Живем-то все однова — и те, кто зашибает, и те, кто… марки собирает или в церковном хоре поет, и те, что в грудь стучат: люблю Родину! Стучат, но ради процветания оной пальцем о палец не ударяют, а только тянут ее, многострадальную, в уныние и разорение.
Тема пьянства конечно же грустная, ничего героического или хотя бы романтического в себе не содержит, распространяться о ней даже на исповеди — дурной тон… Все равно что о еврейском вопросе. И все ж таки, думается мне, человека, избавившегося от «неизлечимого» недуга, не грех выслушать. А то, что пьянство, метастазирующее в алкоголизм, — рак духа, никак не меньше, сомневаться не приходится. И здесь «свидетельство очевидца» — всегда ценно, всегда притягательно. Сколько трепещущих, заранее, благодарных взоров приковано, скажем, к доктору Илизарову, выпрямляющему и удлиняющему конечности, трансформирующему костные аномалии, дарующему радость избавления от физического уродства, то есть уродства внешнего. И тут мне быстренько возразят: Илизаров — врач, целитель, а герой вашего сочинения всего лишь бывший алкаш, в лучшем случае — выздоровевший пациент (это если верить в его исцеление на слово); так имеет ли право на проповедь врачующийся в отличие от врачевателя?
Уверен (не распропагандирован, а убежден): никто не безнадежен до тех пор, пока в нем жив… исцелитель. Наиглавнейшим врачом (доктором, академиком) в процессе избавления пациента от алкоголизма является сам пациент. Это — по упрощенной схеме. По схеме, близкой к науке, избавителем от добровольного сумасшествия служит воля, точнее — ее остаток. Не жалкое, мечтательное желание, а вот именно воля, диктат выбора. Сила действенная, если хотите, агрессивная. Чем «мускулистее» ткань этого эфемерного остатка, чем богаче интеллект, омывающий бугорок воли, чем способнее натура к верованию в идеалы, чем царственней, величественнее для нее «храм Бытия», чем искренней, горячей у пациента любовь к жизни, тем проще пациенту вынырнуть из непроглядного болота самоизничтожения.
Сейчас я прерву себя, чтобы набрать воздуха, чтобы сориентироваться, ибо толковать о болезни искренне — значит вновь погружаться в ее трясину. На страницах «Записок» я еще вернусь к этой проблеме, когда стану рассказывать о конкретных событиях минувшей жизни. А сейчас, завершая свой хаотически-лирический монолог о пьянстве, добавлю всего лишь о нескольких «китах», на которых держится исцеление моего героя: итак, интеллект, осознающий «размеры бедствия», — прежде всего; воля, то есть отчетливое желание плюс действие к избавлению; затем — идеалы, ради которых нужно стараться, — любимое дело, любимый человек; и как примыкающее к идеалам — смысл, вера, то есть нравственная опора; далее — быт, то есть надежная семья, без которой человеческое существо — всего лишь бродяга, жалкий скиталец; и, наконец, врач-друг, которому ты доверился, как самому себе.
Есть еще три «китенка», несущие на себе ношу избавления нашего героя от «недуга века», о которых я не решался обмолвиться из-за внешней непривлекательности этих «китят». Страх, честолюбие, жалость к себе, любимому.
Страх умереть раньше времени, превратиться в инвалида, боязнь чисто физиологических страданий, с которыми связано хлопотное дело «употребления спиртных напитков». Честолюбие, не позволяющее опускаться в глазах соседей по работе, творчеству, образу жизни. И наконец, слезливая жалость к своему униженному организму, способному докатиться до выклянчивания средств к осуществлению мечты, жалость к стремительно разрушающейся, синюшно-рыхлой, одутловатой (некогда — одухотворенной!) оболочке, обреченной на презрительные взгляды женщин, распад и провисание на костях скелета некогда осанистой и бравой стати, жалость к расплывающемуся в испарениях безволия интеллекту и т. д. и т. п.
Как-то раз в отделе происшествий «Ленинградской правды» вычитал: «В Волхове неизвестный преступник проник в помещение местного морга, откуда похитил два литра отработанного (на промывке!) медицинского спирта». Что ж, до таких напитков в свое время не опускался (или не поднимался?) даже я. Политуру, одеколон, средство от перхоти — вкушать случалось.
Так почему же все-таки устоял, не растекся плевком по асфальтам двадцатого века? По чьей милости уцелел? Ответом должна быть эта книга, вернее — судьба, мерцающая в ней.
13
Молодости свойственно отчаяние, зрелости — уныние, старости — смирение или терпение. Так говорил вовсе не Заратустра, это даже не афоризм из популярной книги «Чаша мудрости». К такому нехитрому выводу приходишь самостоятельно, если повезет переступить порог шестидесятилетия в состоянии размышляющего человека. Во всяком случае, герою этой книги после некоторых соображений показалось, что дело обстоит именно так.
И еще: отчаяние порывисто, его можно сравнить с ветром или морской волной, оно налетает, набрасывается, а затем столь же стремительно уносится прочь, именно отхлынув от вашего сердца, а не попятившись кое-как. В свою очередь, уныние — размеренней, оно как бы посещает или навещает, нудно гостит и, уходя, еще долго не уходит, «тянет резину». Смирение же, скорей всего, нисходит, как благодать, как свет ясных звезд, как зрелая любовь к красоте мира — лицу земли, лику небес, музыке нашего воображения.
Примеров единоборства с наскоками отчаяния, сотрясавшего юность нашего героя, немало, из них одних могла бы составиться остросюжетная, читабельная повесть, но, как ни странно, не они одни определяют глубину той или иной личности, и чаще в обосновании содеянного тобой куда весомее, философски основательнее очередного отчаянного — сюжета личной драмы является статичный, занудный визит примера из эпохи уныния или эры смирения.
И все же один из эпизодов юношеской поры хочется восстановить на бумаге именно теперь, и с отчетливыми подробностями, потому что отчаяние, возникшее тогда в мыслях нашего героя, впервые подтолкнуло его на постановку перед собой «кардинальных» вопросов: кто виноват, а также — за что?
Перемещаясь по стране в поисках утраченной во времени и пространстве детской неприкосновенности и все еще не обретенной личностной независимости, был я затиснут обстоятельствами в так называемый «собачник» пассажирского вагона. Поезда в 1947 году ходили не столь подвижно, как ныне, и хоть расстояние от города Пензы до города Москвы (оставшееся неизменным) огромным не назовешь, истомило оно меня изрядно.
«Собачник» представлял собой довольно уютное, заманчивое вместилище, а именно ящик или шкафчик, приспособленный к потолку в тамбуре вагона, этакие мини-полати с дверцами, предназначенные для перевозки мелких животных и птиц. Высота помещения — тридцать пять сантиметров, ширина и длина — около семидесяти. Вот такое птичье или кошачье купе. Выстланное ароматными опилками, перемешанными с птичьим пометом и кроличьими орешками. (Не отсюда ли понятие о «птичьих правах»?)
Проникать в пассажирские, сулящие благо, «жизнерадостные» поезда удавалось далеко не всем беспризорникам моего послевоенного поколения, большинство из них передвигалось на подножках и крышах, а то и в железных ящиках, что располагались под «брюхом» вагона — на уровне колес. Беспризорный, скитальческого образа жизни пассажир чаще ездил на товарняках.
Август сорок седьмого, пожалуй, был теплым, холодных впечатлений от него в подкорку не отложилось. Хотя на ногах у меня отсутствовала обувь, а на плечах и чреслах висели хабешные, серой масти колонистские рубаха с портками. От Сызрани, в которую скатился я вниз по Волге на колесном пароходе «Глеб Успенский», до Пензы добирался на раскаленной солнцем куче гравия, который еще долго, почти до ночи, отдавал моему телу саккумулированное тепло. В Пензе меня неоднократно отшвыривали от дверей московских скорых и почтовых, и я целую неделю жил на задах станции в бункере забытого, бесхозного комбайна, куда настелил сена, наносил моркови с ближних огородов и откуда меня вытеснил однажды взрослый, более мускулистый конкурент, нуждавшийся в жилой площади.
Внутрь поезда просачиваться надлежало артистически ловко, необходимо было «с достоинством» прошмыгнуть мимо зазевавшейся проводницы, потерявшей бдительность, затем пробираться в людскую гущеру общего вагона, где, спрятавшись под лавкой, выжидать, когда тронется состав. Так я и сделал.
Проводница, подметавшая вагон, обнаружив меня под лавкой, шум поднимать почему-то не стала. Она поманила меня кусочком пиленого сахара, будто дворняжку, и я пошел за ней на край… вагона, в тамбур.
— Тебе куда? — спросила она, шаркая веником по заплеванному полу, оттеснив меня тощим, острым задом к тормозному колесу, в угол площадки.
— В Москву, тетенька.
— Разгонять тоску?
Я не ответил. Тогда проводница подняла на меня глаза и после некоторого раздумья посоветовала:
— Ступай в туалет, оправься… чтобы — надолго. И приходи сюда. Найду тебе место.
В туалете я судорожно обдумывал, что предпринять: бежать в другой вагон или поверить в добрые намерения тетки? И что за место обещала она мне подыскать?
В тамбуре проводница заперла трехгранником двери, чтобы никто не мешал, а мне приказала:
— С богом. Полезай, сынок, в собачник и сиди там до Москвы тихо. Ужотко подсажу тебя, окаянного. Ставь ногу на колесо. Вот так. А дверцы шкапчика я захлопну. От любопытных глаз.
Я очутился в теснейшем ящике, лежа на правом боку, с поджатыми к подбородку ногами. Лицом к глухой стене. На унавоженных опилках. С перспективой остаться в этом ящике если не навсегда, то надолго. С кубиком тающего сахара за щекой.
До того как «забыться и уснуть», попытался перевернуться с боку на бок — не получилось: не пускали вздыбленные колени, а вытянуть ноги было невозможно. Усталость, накопленная в тревожные дни побега из колонии, подействовала эффектней любого снотворного средства. Я с жадностью уснул.
Проснулся под Москвой. От стука проводницы в днище моей колыбели. Черенком швабры. Вначале ничего не понял: где нахожусь, что со мной происходит? И вдруг ощутил: у меня нет тела! Ни рук, ни ног, ни кишок, ничего, кроме ясного сознания, что еще живу. Хотя и не прежней жизнью.
Дело в том, что от необычной, скрюченной позы, от вынужденной недвижности, от перекрытия кровеносных сосудов целые участки моего страждущего существа оказались выключенными, неощутимыми, онемевшими напрочь. Невозможно было шевельнуть ни одним пальцем. Мышцы лица и те лежали на костях черепа парализованными. Язык спекся, прикипел к слизистой, голос в гортани не возникал. Вместо него из недр телесной оболочки просачивался жалкий мышиный писк. И как только голова сообразила, что к чему, в душе мигом, сигнальной мигалкой «скорой помощи» замерцал, заполыхал безответный вопрос: «Почему так темно?» Не «Кто виноват?» или «За что меня этак-то?», а всего лишь тьма насторожила (о причине «отсутствия» тела догадался я как-то само собой). Полностью пришел в себя, когда уловил постукивание колес: еду!
Естественно, что обида на весь свет посещала меня и тогда, в краткие мгновенья раздумий, и чуть позже, когда разыскал мать с отцом. Однако в панические минуты возвращения к действительности омертвелого организма вряд ли искал я виноватого, вряд ли спрашивал с кого-нибудь за то, что подыхаю в вонючем ящике, а не валяюсь где-нибудь на лужайке среди ромашек и одуванчиков. Претензии к миру (людям, Богу) пришли гораздо позже. А разумное истолкование вины и ответственности — еще позже. Спустя сорок лет.
Однако связь — нерушимая, неразрывная — тех дней с нынешними, собачника с казенным «нумером» Дома творчества в Комарове, где я пишу эти строчки, замусоленной, в крови и в слезах, ниточкой тянется, прослеживается во мне и сейчас. Наверняка отчаяние, с которым я воспринял физическое отмирание, всколыхнуло во мне размышления недетские, и не тогда ли, в собачнике, шестнадцати лет от роду, стал я взрослым?
Восстановление подвижности в затекшем теле происходило медленно, и наметилось оно, как и положено, с волевого сигнала, с желания двигаться, жить. Пробовал разлепить веки, чтобы смотреть и видеть. Долго шевелил «шарами», несказанно обрадовавшись их подвижности, хотя видеть в ящике было нечего. И все же не переставал вращать зенками и просто хлопать ресницами. Затем катнул головой по опилкам. Словом, «оттаивание» плоти происходило с головы, с центрального пульта; позже оно передалось пальцам рук, туловищу, ногам. От мучительной истомы в членах захотелось выть в голос, и голос возник, прорезался.
Поезд стоял уже на запасных путях Москвы, проводница, убрав вагон, стучалась в мое убежище вторично и — настойчиво.
— Да жив ли, сынок?!
И тут я мешком вывалился ей на голову.
А затем шел по вечерней Москве босиком. Босиком по асфальту. К Ленинградскому вокзалу. И прохожие люди смотрели на меня благосклонно, как на своего собрата, признавая тем самым мои притязания на жизнь обоснованными, в чем я не слишком-то был убежден.
На Ленинградском вокзале, перекусив оброненным кем-то огрызком яблока, отойдя к семафору, где не было милиции и вообще никого уже не было, я прыгнул на подножку «Красной стрелы», набиравшей скорость, чьи колеса призывно грохотали на стрелках, прыгнул и едва не угодил под металлическое брюхо многоножки, ускользавшей в ночь.
Синие вагоны тогдашней «стрелы» весьма отличались от нынешних красных: под каждой дверью не одна, а целых три деревянные ступеньки, окованные железом и не утопленные, а торчащие из вагона; меж вагонов — кожа гармошкой и металлические стремянки на крышу. То есть для «внешних», безбилетных пассажиров — милое дело.
Но, прыгая на подножку, я промахнулся и вместо первого поручня ухватился за второй, которым кончались ступеньки да и вагон, после которого — лишь подвагонное грохочущее пространство. Ухватись я за первый поручень, меня бы развернуло прямо к ступенькам, и, как теперь говорят, нет проблем. На втором же поручне меня развернуло прочь от ступенек, в сторону следующего вагона. И я повис на руках. А руки у меня всегда были не очень сильными. В отличие от ног. Что же помогло удержаться, не рухнуть в отчаянии? Неужто нужен был еще для жизни? Не отсох, как бесплодная виноградная лоза, таил в себе почки будущих побегов? Или опять-таки воля — своя, всечеловеческая, всевышняя — поспособствовала? Думается, что не без ее участия снизошла милость. Из последних силенок заставил себя подтянуться на руках, колено, правое, некогда раздробленное колесом груженной дровами немецкой брички, нащупало ступеньку и словно приросло к ней, не чувствуя боли, и, опираясь о край ступени, приподнялся на пяток сантиметров, заведя тело в сторону дверей — от межвагонного провала. Отдохнув пару мгновений, уперся в порожек и вторым коленом. Тут и вовсе полегчало. А дальше — ввысь, по стремянке, на выступ кожаного коридорчика, связующего переход из вагона в вагон. А там уж и лечь, укрываясь от встречного ветра за выступом крыши. И не плакать, не кусать губы в отчаянии, а потаенно, как нашкодивший семилеток, улыбаться в ладони, подложенные под голову вместо подушки.
До и после этого случая не единожды бывал я на грани жизни и смерти: тонул, замерзал, стоял под расстрелом, пробирался по заминированному полю, падал с моста в реку и прочее, однако неизменно двигался дальше. По дороге судьбы. Теперь-то мне ясно: так подавались мне сигналы предупредительного свойства, дескать, опомнись, жить должно иначе, по законам благих дел, а не биологических функций. Готовь себя к этой жизни заранее, иначе будет поздно.
Ясно, что и тогда, в сорок седьмом, на заре туманной юности, и до того — от самого рождения был я, как и многие другие, счастливым обладателем «внутреннего мира», но сознавать этого не сознавал. Моим хозяином и учителем являлся мир внешний. Плача-унывая от очередного отчаяния, в которое меня загоняла повседневность, я еще не знал, что плачущие блаженны и что они рано или поздно утешатся, что нет ничего внешнего, что бы прежде не было внутренним (так или примерно так высказывался по этому поводу русский философ-идеалист Сергей Булгаков). Я уже отчетливо различал в себе душу, свою волю, память, любовь и ненависть, свою радость и даже ростки воображения. Одного я еще не знал абсолютно, ни в малой дозе — это снаружи неуклюжую, неудобоприемлемую истину, что виноватого нужно искать прежде всего… в себе.
14
В самом начале этих «Записок» обмолвился я о персонажах, живших в литературе отшибно, которые будут приходить ко мне на страницы по одному, усаживаться напротив и молчать…
Художественный фильм «Единожды солгав» предваряют документальные кадры любительской ленты о давнишней, середины семидесятых годов выставке художников ленинградского «авангарда» в клубе Невского машиностроительного завода. Среди мешанины лиц, из коих я тут же узнал «возвращенца» Синявина и еще одного художника, вскоре после выставки сгоревшего в своей мастерской на Красной улице, а также режиссера Георгия Товстоногова, видимо, неофициально покровительствовавшего новаторам кисти, рассекавшего толпу изгоев искусства, как рассекает американский авианосец скопище катеров и лодчонок с протестантами где-нибудь у берегов Новой Зеландии, так вот среди этого коловращения лиц и личностей, на фоне изысканного хаоса абстрактно-ташистских, сюр- и суперреалистических работ в убого освещенном вместилище и на еще более убогой, пятнистой от времени и качества пленке микрофильма мелькнуло довольно отчетливое изображение человека с прической ежиком, тусклой норвежской бородкой и с характерным, слегка приплюснутым и как бы укороченным носом — лицо Саши Морева! Человека, которого все мы на Васильевском острове 50—70-х годов очень любили, все — это так называемая творческая интеллигенция, пишущая словом и красками, полубогемная, полупрофессиональная, пасущаяся в скверах и садиках острова, обитающая в коммуналках и чердачных-подвальных мастерских, забредающая на чашечку кофе в Союз писателей или художников или — в «Сайгон» (угол Невского и Владимирского).
Александр Морев (Пономарев) обладал художественным зрением и слухом. Для начала он в своей внешне заурядной, церковнослужительской фамилии расслышал… дыхание моря, дыхание стихии (Поно-морев!) и не побоялся извлечь для себя из этой фамилии довольно экстравагантный псевдоним.
Он учился на художника с детства, был затем выгоняем и отчисляем из Академии, писал стихи, потому что был поэтом — поэтом, которого не печатали, но которого с удовольствием слушали. Был он и прозаиком. И проповедником. И странником. Он мог забраться (под взглядом любимой девушки) на самую верхотуру колокольни в Киево-Печерской лавре, собрать толпу и что-то ей крикнуть с вершины, что-то такое, чего толпа никогда не расслышит. Он мог читать свою знаменитую «Мессу» на турнире поэтов, иметь шквальный, стихийный успех и какое-то время затем ничего не делать, сибаритствовать на диване в своей девятиметровой комнатенке, в которой пережил все до единого апокалипсически-судные дни ленинградской блокады и где еще долго после войны сушил и держал под подушкой хлебные сухари — про запас.
И все же одним из самых ярких качеств Морева являлось некое нерукотворное свойство его натуры: Сашу многие любили, чаще, чем других. Все, кто его знал.
На вернисаж авангардизма Александр Морев представил две или три работы — что-то рельефное из металла и наплывов краски. Морев любил и ценил жест, заявляющий о независимости художника. Протестантский дух торчал из него наружу, ежиком волос-мыслей топорщился на вздорной голове. Сам факт участия Морева в подобной выставке был неоспорим и неизбежен, ибо отвечал творческому порыву его натуры. И не беда, что на выставке компоновались работы более ярких, более именитых мастеров — без Морева они-таки не обошлись. Ведь Морев — сам по себе событие.
По выходе из Дворца культуры к Саше привязались какие-то молодые мускулистые люди, скорее всего — науськанные хваты, которые в итоге страшно избили Морева, после чего — потеря сознания, ночь на холодной земле, больница. Семидесятые годы… Время глухое, инертное. Вязкое. Для дыхания искусства — гиблое. И все же кое-что возникало — например, в Москве — так называемая «Бульдозерная выставка», где работы независимых мастеров по распоряжению чинуш от идеологии смахнули с лица земли, как некую нечисть, а не извечный поиск себя в постижении прекрасного.
Томик стихов Александра Морева стоит у меня на полке. Обложка его обтянута «натуральной» мешковиной. Самиздатовский томик. Еще несколько таких из десятиэкземплярного тиража — на руках у друзей поэта. В стихах Морева есть живой нерв, трепещущее чувство. И — обожаемый поэтом — жест. Стихи эти писаны не в домах творчества, не за письменным столом профессионала — они возникали в периоды поэтических состояний и прозрений, в которые окунался интеллект стихотворца, будто в запах цветов или в музыку птиц, в ритмическое шевеление речной воды, в созерцание облаков и звезд на небе или — в собственного изготовления сны. В каждом из стихотворений Морева торчала занозой какая-нибудь вздорная строка или словосочетание, ударяющее в нос блюстителям поэтического порядка ленинградских издательств и редакций той поры. На компромиссы Морев не шел. Зарабатывать деньги «прозрениями и откровениями» — не мыслил. Устраивался «художником» на завод и рисовал… афиши для заводского клуба.
Саша Морев мог позвонить вам по телефону и пригласить на беседу с угощением. И вот вы поспешно принимаете приглашение, входите в его узкую девятиметровую «кишечку». Хозяин достает с полки тазик. В тазике — вино. И вы ничему не удивляетесь, потому что знаете: это не пижонство, это… нужда. Хозяин успел обернуться — сдать бутылки из-под вина и купить на вырученные копейки хлеба и двести граммов «собачьего» студня — на закусь.
В одном из выпусков ленинградского «Дня поэзии» шестидесятых годов неожиданно опубликовали «Мессу» Морева. И это было событие. В поэтических кругах. И затем — ни строчки более — вплоть до ухода из жизни. Итак, что же получается? Поэт одного стихотворения? Хотя и большого, длинного, экспрессивно бурлящего образами, порывами чувства, но все же — одного. Как перст. Как сам Морев. Как все мы, ищущие смысла в красоте мира, чурающиеся толпы, стадности и составляющие толпу, одинокие без бога-смысла, беспомощные на людных площадях и общественных собраниях, выкрикивающие для бодрости и самоутверждения свои безобидные проклятия всемирному хамству.
Однажды летним днем, выбравшись из продавленного дивана, не умываясь и не причесываясь, в домашних тапочках на босу ногу, Морев покинул свое обиталище, чтобы не вернуться в него никогда.
На листе ватмана крупными печатными буквами (чтобы заметнее) набросал последние строчки последнего сочинения в специфическом жанре предсмертной записки. Вот она: «Теперь за всех своих друзей спокоен, за всех, кто окружал меня. Я — выздоровел».
Морева нашли на дне шахтного ствола строительные рабочие, метрополитеновцы. Смерть его загадочна дважды — как всякая смерть и еще как смерть, настигшая человека без свидетелей.
Люди, любившие Морева, ценившие его неповторимость, были не просто огорчены и потрясены его гибелью, но и как бы… завидовали ему в некотором роде, ибо всех еще только ожидала развязка, а Морев уже сделал этот последний росчерк на своем ватмане. И сразу личность Морева стала в нашем представлении кристально завершенной, объемной, цельной. Все, что он в жизни недорисовал, недосочинил, недовысказал — сказалось, нарисовалось в этом последнем росчерке. Собственно, все мы, я говорю здесь о мучениках пера, кисти, звука, чистой мысли, все мы в какой-то мере заложники своих иллюзий, в поисках истины обманываем себя зачастую и, вместо того чтобы жить раскрепощенно, отрадно, в единении с природным началом мира, живем в жалких фантазиях и порывах духа, коверкая интеллект сказкой о бессмертии «художественных творений», которым чаще всего грош цена по сравнению с ценой жизни.
Александр Морев предстал перед лицом жизни личностью своеобразно мыслящей, хотя и мыслящей сумбурно, даже судорожно, взахлеб, проглотившей достаточное количество малых истин, не разжевывая, искавшей «своего Бога» в мире искусства и разминувшейся с ним вследствие неумения сосредоточиться, а также из-за своей бытовой незащищенности и глобального непонимания людьми друг друга.
Нельзя сказать, что остров жизни Саши Морева был необитаем, друзей и врагов на его зыбкой почве хватало всегда. Дело в том, что на этом острове жить ему было весьма неуютно, и в один из роковых дней остров пришлось покинуть. Досрочно? Кто знает. Свидетелей отъезда нет. Кто его провожал — неизвестно. Может, суетливый воробышек, обнаруживший взъерошенного человека на краю черной ямы, попытался отвлечь Сашу от бездны, на мгновение замер в ветвях старой липы и, залихватски чирикнув, занялся чем-то конкретным, насущным, на чем стоял, стоит и стоять будет мир земли, покуда его оплодотворяет солнце.
Саша Морев — с Васильевского острова. Островитянин. Шахтный ствол, в котором нашли поэта, расположен недалеко от Смоленского кладбища, где Морев любил бывать при жизни и где некогда был похоронен Александр Блок, где и поныне покоится прах еще одного поэта, «очарованного» смертью, — Федора Сологуба (Тетерникова). За пределы Васильевского острова Саша Морев, как и А. Блок, прах которого перезахоронен на Волковом кладбище, попал уже после смерти, ибо на Смоленском кладбище давно уже никого не хоронят.
Как-то в один из предзимних дней, в вечерние часы, под первым, сырым и тяжелым снегопадом стояли мы с Сашей у фонаря возле Городской думы — напротив Гостиного двора, и я читал из недавно сочиненного. Одно из тогдашних стихотворений пришлось ему по душе, и Морев попросил посвятить ему эту вещицу. Вообще-то, стихов, посвященных Мореву, у меня много. Однако приведу сейчас отрывок именно из того, «подснежного и подфонарного», выбранного самим Сашей незадолго перед смертной развязкой.
По ступеням к морской разудалой водичке, по уступам из серых граненых камней… Оставляю одежды, надежды, привычки, уступаю воде — приношу себя ей. Мне еще на заре, на вокзалах скитаний обещала гадалка беду от воды. Уступаю воде, но умру не в стакане, — в синем море, где рыбы разводят цветы. Надоело! Устал уступать шарлатанам, хитроглазым машинам, имеющим вес… Уступаю воде — мировым океанам, обжигающим звездам, что плачут с небес.15
Люблю посещать кладбища. С некоторых пор. Особенно после того, как был принят в Союз писателей. Когда вынужден был приобщиться к борьбе за литературное существование. Когда вместо творческого восторга новоиспеченный профстихотворец начинает ощущать всевозможные редакторско-издательские подцензурные заботы и треволнения, а со стороны пишущих собратьев — косые взгляды конкурентов.
Во дни душевного трепета и обескураживающих сомнений как раскрепощенно и независимо чувствовал я себя, приходя на Смоленское кладбище выпить на могилке Федора Кузьмича Сологуба бутылочку «плодово-выгодного», с какой жадностью вдыхал дремучую свободу распростившихся с миром суеты и обмана обитателей становища мертвецов, над которым разросся настоящий, солнценепроницаемый лес, полный запустения и неконтролируемой, одичавшей травы, некогда именовавшейся цветами.
Именно там, на кладбище к моему воспаленному честолюбию, к ощетинившейся загнанности неокрепшего интеллекта прикоснулась идея всеобщего равенства и умиротворения, способная утихомирить в человеческом сердце любые житейские бури. «Ужо, — дескать, — вам!» — мысленно отрезвлял я своих обидчиков и прочих не в меру боевитых сограждан, кипящих там, вне кладбищенской ограды, в своем невыкипающем жизненном котле. И, не задумываясь, причислял себя в этот миг к существам иной, нежели боевитые граждане, формации, к еще не мертвецам, но уже и не к особям, стоящим в очередях, кишащим в общественном транспорте, конструирующим приспособления, развивающим мысли, предполагающим жить всегда, причем — в свое удовольствие. «Ужо вам!» — попыхивал я дешевой сигареткой «Памир», переходя от могилы к могиле, от Сологуба к художнику Маковскому, и тут меня безжалостно отрезвляли «подкованные» шаги милицейского сержанта, дежурившего на кладбище и, скорей всего, считавшего подозрительным мое отстраненно-созерцательное поведение в местах, не столь коммуникабельных.
Самое удивительное, что на кладбище я ни в коей мере не унывал, чувствовал себя отменно и даже время от времени писал там стихи, с опубликованием коих пришлось повременить. Одно такое стихотворение написалось сразу же после утренней гимнастики, которую передавали по радио и которая доносилась до моего слуха из колокольчика-репродуктора, укрепленного на кладбищенских воротах.
Получилось так, что накануне по ряду причин пришлось мне заночевать на кладбищенской лавочке. Ночь была как ночь — земная, знакомая, грешная, в шуме деревьев и слабом попискивании сонных птиц. Зато пробуждение явилось фантастическим! Под звуки радиогимна и всего остального, чем был напичкан в те годы колокольчик громкоговорителя. Окончательно отрезвев от глубокого сна и ошеломляющих впечатлений пробуждения, которое правильнее будет именовать воскрешением из мертвых, нашарив в кармане огрызок карандаша, а в куче мусора клочок оберточной бумаги, я сочинил стихотворение, этакую кладбищенскую балладу, причем составилась она под моим карандашом задолго до прочтения «Дневников писателя» Достоевского, его фантасмагорического видения под названием «Бобок».
На кладбище: «Доброе утро!» — по радио диктор сказал. И как это, в сущности, мудро… Светлеет кладбищенский зал. Встают мертвяки на зарядку, стряхнув чернозем из глазниц, сгибая скелеты вприсядку, пугая кладбищенских птиц! Затем они слушают бодро последних известий обзор. У сторожа пьяная морда и полупокойницкий взор. Он строго глядит на бригаду веселых своих мертвецов: «Опять дебоширите, гады?» — и мочится зло — под крыльцо. По радио Леня Утесов покойникам выдал концерт. Безухий, а также безносый, заслушался экс-офицер. А полугнилая старушка без челюсти и без ребра сказала бестазой подружке: «Какая Утесов — му-ура!» Но вот, неизменно и точно, курантов ночных перезвон… Спокойной, товарищи, ночи! И — вежливость, и — закон.В сороковых победных годах могила Александра Блока перекочевала на Литераторские мостки Волкова кладбища. Вернувшись в город, я долго слонялся по Смоленскому кладбищу, безуспешно разыскивая смертный знак своего кумира.
Не найдя могилы любимого поэта, я принялся расспрашивать административную старушку о захоронении другого поэта блоковской поры — Федора Сологуба. Как ни странно, в кладбищенском реестре могилы Сологуба и его жены Анастасии Николаевны Чеботаревской уцелели и значились под определенными номерами, — «как ни странно» — потому что подобного запустения, каковое царило тогда, да и теперь еще царит на Смоленском кладбище — трудно себе представить даже на общегородской свалке. А ведь на кладбище этом и ныне покоятся косточки многочисленных выдающихся граждан Отчизны, ученых и военачальников, героев и талантов, и так называемых простых смертных, которые, как ни странно, в свое время тоже были людьми, гражданами, державшими на своих плечах государство, эпоху, людьми, которые, по преданию, все равны — перед Богом и перед людьми, живущими ныне в стенах Бытия. У всех у них был один жребий: родиться и жить, совершенствуя себя, чтобы затем не столько умереть, сколько остаться в деяниях своих нетленными. У всех у них имелось и навсегда впредь останется величайшее из достоинств: они жили! В качестве людей. А значит, могут рассчитывать если не на память потомков, то на элементарное (не путать с элитарным) уважение. Почва, рельеф, ландшафт, в который они перешли — плоть в плоть — должны выглядеть прилично, быть если не ухоженными, то хотя бы не отвергнутыми. И вдруг мне отчетливо представилось, на кого именно похожи наши затрапезные, отшибные «пантеоны» — на одиноких, заброшенных стариков, лишенных семейного догляда, неряшливых поневоле, дурнопахнущих, нестриженых и небритых, таскающих на себе уродливые обноски. И мне расхотелось распространяться о печальных, но все ж таки неодушевленных могилах — при неизжитой живой печали «ничьих» стариков.
А могилу Сологуба я нашел. Помогло оговоренное кем-то в реестре указание, что она-де — возле Блоковской дорожки. Сологуб скончался чуть позже Блока и тем самым обрел устойчивый ориентир. В царстве праха. Благодаря Блоку. И я вдруг вспомнил о восторженном отношении Александра Александровича к автору «Мелкого беса» и «Чертовых качелей». О выношенности его любви к старшему собрату по ремеслу.
Как известно, Чеботаревская будто бы покончила с собой, прыгнув в Неву с Тучкова моста. Случись такое при царе и прежних церковниках — не лежать бы ей на Смоленском кладбище. Самоубийц хоронили на стороне. А с приходом нового времени телу несчастной женщины подыскали вполне приличное местечко. Нельзя сказать, чтобы женщина эта ушла из жизни, не выдержав или не приняв новых, постреволюционных порядков в России. Ибо если это так, тогда почему она стала утопленницей в дни получения визы, то есть после разрешения на выезд из страны? Пересекла бы границу и топилась где-нибудь в Лабе, Шпрее или Сене. Родная земля не отпустила? Или «Че-Ка»? Вот женщина, вот подвиг, вот любовь. Или — вот женщина, вот тайна, вот излом? Горячее сердце? Бог ей судья. Ей и ее Времени. Федор Сологуб остался один и, как гласит легенда, до конца дней поджидал жену. Был уверен, что она вернется домой. Несколько лет прислушивался к звоночку в передней.
Могилы у Сологуба и Чеботаревской до недавнего времени были до крайности убоги. Казалось, еще мгновение, пара бурных петербургских весен — и от могил этих не останется следа. Скособоченные, ушедшие «с головой» в землю миниатюрные раки из скромного подсиненного бетона, и все это завалено гнилыми листьями десятков былых листопадов, отшумевших над памятью о русском поэте.
Еще более убогое захоронение литератора приходилось мне видеть лишь однажды: на Литераторских мостках выглядывала из земли могила беллетриста, жившего на стыке веков, — К. Ф. Баранцевича. Рака над этой могилой была столь мала и беспомощна, что создавалось впечатление, что под ней погребен не какой-то взрослый человек, а по крайней мере — новорожденный ребенок или вообще не весь организм, а лишь определенная его часть.
Где-то в начале семидесятых, придя на традиционные посиделки к Сологубу, я обнаружил на его могиле белую мраморную плиту. А вокруг плиты — желтый песочек. Могила Чеботаревской тоже слегка преобразилась — в лучшую сторону. Хотя и в меньшей степени, чем мужняя. Будто кто-то до сих пор подчеркивал: могила самоубийцы. На белом сологубовском камне, голубой, в бутылке из-под кефира, танцевал, раскачиваясь на ветру, цветок, напоминавший колокольчик. После некоторого раздумья я все ж таки переставил бутылку с одного надмогильного камня на другой. Дышать в этот день было легче, мыслить — проще, любить деревья, траву, воздух — слаще.
Давно хочу объяснить себе Сологуба: чем привлекает, притягивает к себе образ этого некрасивого, покрытого бородавками человека? И вдруг догадываюсь: уродством духа. Уродство, заполученное в общении с людьми еще на первой стадии жизни — детстве-отрочестве и далее — в провинциальном учительстве. Передонова Сологуб, в общем-то, с себя рисовал. Потому и убедительно, и пронзительно, и неповторимо. Хлебнувший в молодости уродства несет на себе отпечаток дьявольского копыта. По себе знаю. Отсюда и родство, и тяга к себе подобному. Моя — к Сологубу. По крайней мере — к его стихам. И даже — к могиле. За неимением всего остального. И еще, как мне думается, плебейское происхождение, не помешавшее Сологубу стать самим собой — то есть личностью незаурядной — единит: я тоже не из «графьев». Но, пожалуй, больше всего притягивает к Сологубу побочное обстоятельство, а именно — тот факт, что его любил и ценил как поэта Александр Блок.
А теперь — во след видению — стихи, как второй цветок на могилу, только на этот раз — в бутылке из-под «плодово-выгодного».
На Смоленском кладбище Под непогодой, как под прессом, уходит в плечи голова. И мелким бесом, мелким бесом толчется в воздухе листва… Влезает ветер боком в щели и всё наращивает гнев! Как будто чертовы качели вершины шаткие дерев. И жутко впитывать, и любо мне воздух, от дождя рябой. Там, на могиле Сологуба, цветок танцует голубой. Там голосистая калитка в стене дождя… А дождь — грибной. Там Недотыкомка по плиткам уходит плавно в мир иной. Стою с нездешнею ухмылкой, как перед классом — новичок, И, собирающий бутылки, меня обходит старичок.С друзьями и в одиночку, с цветами и без оных время от времени выбирался я с Васильевского острова в знаменитую Лавру или на Волково кладбище, навещал любимых писателей. Словно они жили там, как в некоем царстве-государстве или… в Доме для престарелых.
Строгая, ухоженная Лавра не позволяла расслабляться, вести себя буднично, раскованно, тогда как на более демократичном и более просторном Волковом кладбище можно было присесть и покурить, а то и перекусить.
Почему-то запомнилось, как закусывали мы шпротами возле «фешенебельной» могилы И. С. Тургенева, я и ныне покойный писатель Анатолий Клещенко. О нем хочется сказать что-нибудь теплое, ласковое. Внешне — это бородатенький мужичок, поэт и прозаик, страстный охотник, бродяга, внутренне — неповторимая личность, относившаяся к жизни с трепетом влюбленного, улыбчивый страстотерпец, отсидевший при сталинщине пятнадцать лет в сибирских лагерях, поселившийся затем в Ленинграде, но к Ленинграду так и не привыкший, махнувший опять в тайгу, на Камчатку и там, где-то среди медведей и зимнего ненастья окончательно замерзший, исчезнувший, словно упавшее дерево — под буранным снегопадом.
А тогда, на кладбище Толя пытался откупорить банку шпрот при помощи пальцев и плоского «французского» ключа от дверей очередной каморки, которую снимал у какой-то современной старухи-процентщицы за «кровные-любезные», так как своего угла в любимом городе не имел.
Это были годы хрущевской «оттепели». Вели мы себя возбужденно, и не только на кладбищах. Пьянели без вина, читая Цветаеву, Гумилева, Пастернака, Ходасевича, Клюева, урывками Вс. Соловьева, Бердяева, В. В. Розанова и, как всегда, Блока с Есениным. Особенно доставалось блоковскому стихотворению «Поэты», которое, как некий катехизис, распевали мы нестройными голосами при первой возможности. И тогда — возле могилы Тургенева — тоже. Хотя и вполголоса. Возле Тургенева имелись реечные скамьи-диваны, а также урны для мусора и пустых бутылок. Словом — комфорт. Тогда как возле Блока или, скажем, Апухтина, где петь и читать стихи как бы пристойнее, нежели возле Тургенева, никаких удобств не было.
Ты будешь доволен собой и женой, Своей конституцией куцей, А вот у поэта — всемирный запой! И мало ему конституций.Шпроты извлекали из «пулевого» отверстия в банке — по крошке, вернее — по капле, поливая смесью масла и рыбной трухи кусочки хлеба. Попутно кормили местных птиц, угощали кладбищенских собак и кошек. Декламация стихов не понравилась человеку, сопровождавшему иностранцев, кажется поляков. К нам подошел милиционер и попросил заткнуться. И тогда мы отчетливо запели: «Разгромили атаманов, разогнали воевод!» Некоторые из иностранцев сочувственно улыбались нам. А некоторые — смущенно отворачивались. И тут мы вспомнили, где находимся, и несколько поостыли. И, попросив извинения у бюста великого писателя, кстати, автора замечательного рассказа «Певцы», двинулись к могиле Всеволода Гаршина, чтобы торжественно возложить на нее красный цветок — основательно привявшую за время вскрытия шпрот гвоздичку.
Пользуясь случаем, доскажу об Анатолии Клещенко. В начале шестидесятых мне повезло подружиться с ним. Звали мы друг друга по именам, хотя Толя был старше почти на десять лет. Ребячлив, неунывающ, задорен на диво, среди писателей чувствовал себя гостем. Содержалось в нем что-то от бескорыстных золотоискателей Джека Лондона, от охотничьей страсти Хемингуэя, когда зверь — не просто добыча или враг, но и соперник, пробующий твои силы, заглядывающий в твои глаза на равных; и еще — от горьковского Челкаша. Врожденная независимость в характере, попираемая в нем на протяжении множества тяжких, однообразно-безнадежных лагерных лет, казалось, так и выплеснулась наружу с приходом освобождения и реабилитации. До войны, а точнее до лагерей Толя писал стихи. После — прозу. Зеленую, из таежного быта изыскателей. До писания «лагерной» прозы дело у него не дошло: не каждый способен залезать к себе в незаживающие раны.
Обитатели Комаровского Дома творчества, в большинстве своем люди городские, с отшлифованными манерами и мозгами, чаще — литературоведы с профессорскими званиями или переводчики, реже — писатели, Анатолия Клещенко откровенно побаивались, сторонились, потому что высказывался он и держался с непривычной для них откровенностью и задором, любил появляться на люди с огнестрельным оружием, а иногда и постреливал, правда — в воздух. Во всяком случае, и я тому свидетель, выстрелы в Комарове частенько раздавались и сеяли панику, разрывая дремотную «творческую атмосферу», будто истлевшую штору (не портянку же!).
В писательском кафе на бывшей Шпалерной стал я свидетелем забавного (по другой версии — драматического) происшествия, связанного с широкой, несломленной и одновременно милостивой натурой Анатолия. В тот вечер в карманах имелись какие-то деньги. Мы сидели с Клещенко за отдельным столиком, что-то пили, что-то жевали, но больше — говорили. Я, пожалуй, читал Толе новые стихи. Имелась такая страстишка. Меж занятых столиков слонялся в поисках «угощения» один весьма подвижный, хотя и не первой молодости стихотворец, к тому времени докатившийся в поисках очередной выпивки до попрошайничества. Обозначим его буквой Н. Ему иногда наливали, иногда вежливо просили отойти прочь, а то и просто гнали.
— Знаешь, Глеба, этого ханыгу? — спросил меня Клещенко. — Думаешь, кто он?
Я ответил, что знаю, что это Н., хреновый, в общем-то, поэтишко, ну и… алкаш, естественно.
— Самого главного не знаешь.
Толя поманил пьянчужку пальцем, и тот, как-то весь извиваясь и едва не плача от усердия, расшаркался, не решаясь присесть к нашему столу.
— Садись давай, — подбадривал его Анатолий. — Рвани рюмаху. Чего уж там обижаться. Все мы люди, все мы человеки.
Н. примостился на краешек стула, порывисто «рванул» и, как мне показалось, совершенно протрезвел. Подпер голову рукой и стал пристально смотреть на Анатолия, однако не в глаза, а так, куда-то пониже, скорей всего на Толину, еще довольно-таки отчетливую, без седых размывов, бородку.
— Ну, теперь ступай… иди. Раз не о чем говорить.
— Пр-рас-сти! — нутряно, будто не сдерживая себя, не сказал, а рыгнул, чревом провещал Н.
— Бог простит, — усмехнулся Анатолий, наливая Н. в порожнюю рюмку новую порцию.
С жадностью опрокинув в себя спиртное, Н. заторопился уходить, смотрел он теперь строго в пол, как бы боясь наступить на что-нибудь скользкое.
— И что же в нем «самое главное»? — поинтересовался я по исчезновении Н.
— Из-за него меня посадили в свое время. Именно этому созданию обязан я Колымой. Я и еще восемь писателей… обязаны. Настучал.
— Почему же ты его… поил?! Привечал? — вспыхнул во мне «праведный гнев».
— Потому что я его простил. Давно уже, — улыбнулся Клещенко, просияв, словно удачно зарифмовал ускользающую строчку.
— Простил? Неужто?
— Понимаешь, Глеба… Однажды я попытался… как бы войти в его шкуру. И мне стало куда страшней, чем было там, в «зоне».
Толя умер на Камчатке. Там он работал охотоведом. Ему очень хотелось убить настоящего медведя. И медведя он убил. О чем говорится в его рабочем дневнике. Мужественное начало в его щуплом теле и мускулистом характере взяло верх. Получило удовлетворение. В зарослях камчатской тайги жил он последние свои дни вместе с неким напарником. Ютились на заимке, в избушке-землянке. Гоняясь за очередным медведем, Толя простыл. Началось воспаление легких. Вовремя вывезти его в Петропавловск не успели. Пуржило. По рации — «непрохождение». Напарник ушел, оставив Толю умирать наедине с природой. Я читал записи из дневника Анатолия Клещенко, которые он вел вплоть до развязки. «Завтра умру…» — нацарапано несомневающейся, еще послушной рукой. Так он написал, ибо знал о себе больше, чем другие. В одиночестве, особенно предсмертном, происходит будто бы кристаллизация наших знаний о самих себе. Назавтра он действительно умер. Выхаркал кровью легкие из груди.
Урна с пеплом долго стояла на столе его жены, Беллы, которая привезла мертвого Толю с Камчатки и еще месяц ждала разрешения на то, чтобы опустить урну в сырой комаровский песочек. Могила Клещенко в Комарове, под Ленинградом. За спиной внушительного креста Анны Ахматовой. На этом же кладбище лежат и другие писатели, которых я знал, с которыми пил вино, верил в «светлое будущее», играл в преферанс, а некоторых из них — просто любил. По-братски.
На «кладбище мыслей», то есть на книжной полке, составленной из книг моих друзей, — несколько томов прозы Анатолия Клещенко, а также — итоговый сборник стихов. Писателем он был одаренным, человеком — незаурядным, судьбы — необыкновенной.
___________
Но вернемся к разговору о кладбищах Лавры и Литераторских мостков, то есть к некрополям с печатью вечности, зрелого историзма, которые сопутствовали Петербургу — Петрограду в его развитии, вернемся, чтобы завершить главу, посвященную деликатной теме, в тонах если не восторженных, то возвышенных, ибо, чем дальше от нас разлука с тем или иным гением, чем глубже в земле его могильная плита или крест, тем освобожденнее наша мысль от расстанной печали, тем академичнее, музейнее, корректнее наше право толковать об этих «садах скорби» без диктата уныния, ибо все, что рано или поздно сливается воедино с землей, обретает не только статус самой планеты, но и — нерасщепленность вселенской космогонической тайны. Все живое, в том числе и конструкции людских душ, остается частью небесного хозяйства, планетарных пространств и структур, и этому их свойству не будет помехой тот факт, что некоторые «конструкции», уходя, оставляют по себе немеркнущую память в умах поколений.
Захоронения значительных людей воспринимаются подчас не как могилы, но как мемориальные знаки, а то и просто как памятники этим людям. Надгробная плита, вмонтированная в каменный пол церкви в Александро-Невской лавре, на плоскости которой выбито: «Здесь лежит Суворов», вызывает у патриотически настроенного посетителя Лавры не кладбищенские потерянные чувства, а чаще — стойкое ощущение гордости за немеркнущую славу русского оружия, солдатского мужества. За отсутствием в городе на Неве памятника Ф. М. Достоевскому, чье художническое око пронизало извивы этого города, ленинградцы, а также приезжие граждане со всего мира приходят в Лавру, чтобы поклониться надгробному бюсту великого гуманиста. А заодно и бронзовому подобию композитора П. И. Чайковского, сидящего на металлическом диванчике в окружении ангелов, словно в окружении дивных мелодий, непревзойденным извлекателем коих из природы российского бытия был этот человек.
И здесь самое время обмолвиться об одном невольном сопоставлении, которое пришло в голову только что. Отдыхая от сочинения настоящих «Записок», а точнее — от импровизации при помощи слова и памяти, вот уже несколько дней малыми дозами читаю в перерывах мемуары Ирины Одоевцевой «На берегах Невы», где она в изящной манере пытается воспроизвести дыхание и изысканные конвульсии литературной жизни Петрограда первых трех послереволюционных лет. В коллекции ее лирического романа содержатся и по мере сил живут известные поэтические имена, ярчайшие таланты — такие, как Гумилев, Мандельштам, Блок, Ахматова, Кузмин, Георгий Иванов и другие звезды «серебряного века» поэтической России, с которыми Одоевцева существовала бок о бок. Она знала их «живьем». Мне же в своих «Записках» приходится довольствоваться знаменитыми призраками, и для этого я вынужден посещать кладбища, куда заботливое время рассовало моих персонажей. А те из живых, что вынуждены селиться в этих «Записках», к сожалению, не столь знамениты, как друзья Ирины Одоевцевой, хотя и неповторимы по-своему, и талантливы, а в отдельных случаях — даже очень.
Было время (в извивах духа присутствовал задор, а в членах — упругость), когда несколько весен подряд наезжал я с друзьями на Литераторские мостки Волкова кладбища с цветами рыночно-романтического свойства, преимущественно с сиренью. Сирени на всех любимых писателей не хватало, приходилось отщипывать от букета по маленькой веточке. И самая первая гроздь — на еще холодный, только что переживший очередную зиму черный камень Тургенева, которого я обожал тогда не столько за гениальные «Записки охотника» и даже не за властно-чарующее высказывание о русском языке («О, великий и могучий…»), сколько за эталонный образ русского писателя, красавца с европейской статью и славянской расплывчатостью лика массивной головы, лика, теряющегося в дремучей, хотя и тайно, исподволь ухоженной, дрессированной бороде.
Вторая гроздь — поэту Апухтину, имевшему сдобную, непоэтическую внешность, страдавшему водянкой; к его массивному, чуть покосившемуся памятнику, к румяному (цвет камня) бюсту стихотворца влекло меня в те годы не столько из любви к его «Паре гнедых» и стихотворению-поэме «Сумасшедший», откуда читающая и поющая публика извлекла строки: «Все васильки, васильки», сделав их на какое-то время популярной песней, — к Апухтину тянулся я из чувства неосознанной вины, так как именно трехтомником Апухтина, снесенным в скупку, расплачивался тогда за насущные, выражаясь языком Саши Черного, «хлеб, вино и котлеты».
Третья гроздь — прозаику Лескову, чья словесная вязь постоянно отпугивала меня от сочинения собственных «рассказов и повестей» своим фантастически недосягаемым своеобразием и совершенством. Лескову, чей ординарный, скособочившийся чугунный крест торчал неприкаянно прямо посередине нахоженной дорожки и на него многие натыкались, как на препятствие, и тогда его обходили, как нечто инородное, возникшее не по правилам и канонам, а почти самопроизвольно. Для меня Лесков — не писатель, а скорее — сказитель, своеобразнейший русич, носитель множества национальных тайн и таинств, акцентов и примет. Лесков уже тогда, в «считанные часы» моей полубосяцкой юности (и литературной в том числе) совершенно околдовал меня магией своей «архиерейской» прозы, и я, безо всякой рисовки, причислял себя к «очарованным странникам» этого мира.
Четвертая гроздь — Семену Надсону, чахоточному красавцу, пожалуй, самому молодому из всех умерших в России поэтов (моложе Лермонтова!), за исключением разве что внешне тоже весьма обаятельного Веневитинова.
На могиле Надсона — роскошный бронзовый бюст, пробитый во время блокадных артобстрелов мелкими осколками навылет. В часы непогоды немолчный ветер играл на этом бюсте, как на музыкальном инструменте, вежливо подсвистывая или удрученно подвывая. Впоследствии пробоины в скульптуре были аккуратно зашпаклеваны, и ветер, налетая, как бы недоумевал, молча обтекая запрокинутую восторженно металлическую голову поэта.
Однотомник Надсона, выдержавший многочисленное число переизданий, весь в сафьяне и коленкоре, тисненный золотом, еще и сейчас можно отловить на книжных развалах у букинистов. Имелся такой однотомник и у меня, тогдашнего литкружковца, не только говорившего, писавшего, но и бредившего стихами поэтов всех времен и народов, в том числе и своими и даже чаще — своими, коими прожужжал уши друзей и знакомых, начинавших непроизвольно сторониться меня, как прокаженного или одержимого.
Стихи Надсона не потрясали, хотя и трогали. Как трогает горячее, «летнее» тело обессилевший от жары ветерок. Добрый до безразличия. И только одна отглагольно зарифмованная строфа, вынесенная эпиграфом ко всему однотомнику, волновала своей псевдоантичной завершенностью, угнездившись в памяти, как жемчужина в раковине моллюска.
Не говорите мне: он умер. Он живет. Пусть жертвенник разбит — огонь еще пылает. Пусть роза сорвана — она еще цветет. Пусть арфа сломана — аккорд еще рыдает!Пятая гроздь — моему будущему кумиру, Александру Блоку. В те дни я еще жил Есениным и ранним Маяковским, открывал для себя Марину Цветаеву, которую с возвращением на родину лишили не только жизни, но и — могилы. И если теперь кому-то приспичит протянуть ей веточку сирени, то положить ее можно разве что на Крымский полуостров или на паутину арбатских переулков в Москве, а то и на городок Елабугу, но лучше — прямо на русскую землю.
Прощаясь с Волковым кладбищем, разыщу глазами неподалеку от ворот металлическую старинную решетку, вросшую в могучее, в три обхвата дерево, углубившуюся прямо в массивный ствол, словно в мясную, наплывшую, податливую плоть какого-нибудь гиппопотама или слона. Давно уж нет могилы, некогда огороженной той решеткой, могилу вытеснило дерево — живое, могучее, пустившее корни далеко за пределы истлевших скелетов, давшее жизнь множеству других деревьев, а также — временный приют и тень — птицам, насекомым и прочим существам.
___________
Есть в Ленинграде еще одно неповторимо-своеобразное кладбище — это кладбище бывшего Новодевичьего монастыря. Далеко не все ленинградцы знают о его местоположении, не говоря о приезжих. Куда известней московское Новодевичье с его престижными квадратными метрами, заполучить которые под «вечный отдых», не будучи членом литературного политбюро или «ракетным» академиком, не так-то просто.
Ленинградское Новодевичье — спокойнее. Потому что на нем никого уже не хоронят. То есть — мертвое кладбище. В сравнении с живым московским. Когда меня завели туда сведущие друзья-товарищи, я так и ахнул от неожиданности, от какой-то инопланетной, потусторонней физиономии представшего глазам зрелища. Кладбище сие расположено за спиной бывшего монастыря, выходящего лицом на шумный, широкий, современной застройки Московский проспект, некогда именовавшийся Забалканским, Международным, а то еще и Сталинским. Фасад бывшего монастыря барочной архитектуры, аккуратно оштукатуренный и покрашенный под серый мрамор, заслоненный от проезжих и прохожих взглядов многочисленными рослыми деревьями, молчаливой декорацией отгораживает от нынешнего горожанина, как говорится, мир иной — в прямом и переносном смысле. Стоит обогнуть правое крыло некогда богоугодного заведения, в котором сейчас квартирует какое-то безликое НИИ или КБ, и вашему взору откроется страшная картина запустения: изнанка здания, образующая монастырское подворье, не штукатуренная и не беленная наверняка еще с послушнических времен, похожа на огромную затхлую пещеру, захламленную современными «ниистами и кебистами», а также блуждающими туристами (интересно, при царе Петре были туристы и как их тогда именовали — калики перехожие или… проходимцы?). Тут же в объятиях двора, в размахе обительских крыльев — величественный храм, крупноголовый, как константинопольская София, но весь какой-то полуистлевший, облезлый, напоминающий древний курган, внутри которого притаилось испуганное время.
Отвернувшись от угасающего «жилмассива», где сидят и работают современные образованные люди, не имеющие ни желания («нет проблем!»), ни средств для благоустройства исторических памятников, обратимся теперь погрустневшим лицом к воротам кладбища, за которыми притих островок городского «леса», возникшего в кирпичной неволе обступивших его зданий, заборных стен, словно в гигантском глиняном горшке. И первая благая мысль: сколько же здесь птиц! Спасающихся от удушения газами города. А где птицы, там и радость, там и жизнь. И покуда на земле поют птицы, земля не оставлена высшей милостью, по крайней мере хочется так думать.
И сразу же, в трех шагах от ограды — черный с золотыми буквами камень, ставший как бы во весь рост, камень, который еще на подходе к вратам просматривался сквозь решетку, как некое запредельное знамя «царства теней», камень над прахом великого русского поэта, народного печальника и заступника — Николая Некрасова. И сразу, как заупокойная месса, в памяти звучат, переливаясь слезным сиянием, строки:
Будут песни к нему хороводные Из села поутру долетать, Будут нивы ему хлебородные Безгреховные сны навевать.И хоть ясно, что не прилетят, не навеют, не достигнут, а все ж верится, что птицы земли поют не напрасно, и поэты — в том числе.
Так вышло, что для меня ленинградское Новодевичье — самое неожиданное из кладбищ. Долгие годы жил я, не подозревая о существовании этого заповедника. А когда обнаружил и углубился в его зеленую пещеру, кладбище принялось удивлять меня чуть ли не на каждом шагу.
В отличие от европейских отутюженных кладбищ наши отечественные родименькие погосты, в том числе и городские заповедные некрополи, чаще всего напоминают собой элементарную свалку. Печать запустения и отчуждения лежит на заросших могилах, на дорожках, покрытых вековым мусором, на больных, обреченных на полугнилое существование деревьях, на стойком бурьяне, на облезлых «нечитабельных» табличках с исчезнувшими именами и датами. Разлитие всесокрушающей бездуховности первым делом сказывается на облике мест захоронения «бесхозных», отживших свое граждан страны. Раз нет выгоды, пользы от скорбного участка земли (отдай под дачный огород — моментально бы запахали и засеяли), стало быть, и нет догляда за ним. Бескорыстное служение абстрактной Памяти непопулярно среди целеустремленных безбожников, деловитых особей «энтээровской формации». А чиновник, ведающий ходом кладбищенских процессов, чаще всего — пониженец, съехавший с прежней должности, весь в обидах, а значит, далеко не энтузиаст своего дела. Вот и приходишь на старинное кладбище, где не хоронят, не как в музей под открытым небом, а словно и впрямь в царство теней, неспособных взять обыкновенную метлу или конкретные грабли и навести в своих владениях «относительный порядок».
А ведь на этих полузаброшенных клочках отчей земли покоятся останки оригинальнейших людей, земной след каждого из коих не только неповторим, но и, по некоторым оптимистическим прогнозам, бессмертен.
Попятившись в глубь кладбища от могилы Некрасова, оказываюсь перед старинным, белого мрамора крестом; ниже креста — древним, пергаментным свитком стелется надгробная плита с надписью: «Раб Божий Федор». Спроси за воротами кладбища, на просторах Московского проспекта первого встречного: «Где могила великого русского поэта Федора Ивановича Тютчева?» И не всякий ответит правильно. Начнут гадать и предполагать: в Лавре, пожалуй, или на Волковом, если не в тютчевском Овструге, на брянщине, или в Москве на Ваганьковском… А то, что Тютчев лежит в двух шагах от «бурной действительности», и в голову никому не придет, потому что, видите ли, тема неприятная, похоронная, не принято о ней распространяться, «о мертвых мы поговорим потом», — гласит современная цитата, а когда, спрашивается, потом, если время не стоит на месте и разговор всякий раз отодвигается? Согласитесь, в чем-то мертвые беспомощнее живых. Но в чем-то и тверже, постояннее, определеннее. Мертвые обитают в памяти сущих, живые — в постоянной зависимости от мертвых, в неизбежности приобщения к клану последних. Повторяя мысленно фразу «О мертвых — или хорошо, или ничего», в быту чаще всего используем присловье: «Умер Максим, ну и бог с ним!» А через какое-то время, глядишь, воспылаем к тому Максиму запоздалой любовью.
Завершая «погребальную» главу своих «Записок», бегло перечислю заупокойный список «Новодевичьих» имен, что стали мне близкими и чья жизнь во плоти, оборвавшись, не стерла значение этих имен на скрижалях Отечества. Поэт Аполлон Майков («Колокольчики мои, цветики степные, что глядите на меня, темно-голубые?»), поэт, о котором наслышан и которым «начитан» с детских лет. Другой, не менее яркий и даже весьма своеобразный поэт — Константин Случевский, без чьих стихов обходился я почти всю жизнь, не подозревая, какой уникальный певец слова обошел меня вниманием (спасибо Михаилу Дудину, протянувшему мне однажды, ближе к «вечеру жизни», старинный томик стихов Случевского «Песни из „Уголка“», который я «посетил» не без восторга цивилизованного дикаря). Корявая, угловатая интонация поэтических словосочетаний Случевского не только весьма созвучна лексической музыке нашего времени, но и лишний раз подтверждает истину: ничто самостоятельное в искусстве не делается по смерти автора беспомощным, но продолжает тянуться к свету людских глаз (душ!), подобно «листьям травы», посеянной волей и разумом Слова.
Там же, на Новодевичьем — внушительное, глыбистое сооружение над прахом смятенно очарованного красотой мира художника Врубеля, а рядом — в метре от врубелевской скалы — игрушечный камушек с обозначением имени русского поэта Константина Фофанова. И все же центральной могилой Новодевичьего кладбища является не могила какого-нибудь писателя или художника, музыканта или философа, путешественника или врача (к примеру, Боткина, похороненного там же, или адмирала Невельского, или родственников Н. Крупской), главенствующее положение среди могил по количеству на ней стоящих горшков с живыми цветами, вообще по ухоженности, надзору, популярности, по торжественности облика занимает могила жены генерала Бенкендорфа, не того приснопамятного шефа жандармов, общавшегося с самим Пушкиным, а какого-то ныне напрочь позабытого, заурядного генерала и графа Бенкендорфа, хотя почему непременно заурядного — просто не того самого, а всего лишь однофамильца или родственника знаменитого царского сатрапа. Могила эта увенчана сооружением из прекрасного карельского шлифованного гранита, напоминающим вместительную шкатулку красного дерева, внутри которой — цветы, а в цветах, как в маленьком саду, величественная статуя Иисуса Христа, покрытая для защиты от кислотных дождей современным лаком, охраняемая посменным, немеркнующим старушечьим оком, вычищенная и вылизанная — ни пылинки, ничего постороннего — этакий пышноцветущий оазис, не в пустыне, а как раз в дебрях города, в древесном и каменном надмогильном хламе. Своеобразный старушечий «неформальный» пост или пикет на добровольных началах. Аренда смысла. По поводу этой статуи написались тогда следующие стихи.
Вдали от глаз живых, от бренного труда на кладбище людей есть статуя Христа. Деревья пышные и птичий всплеск рулад, — не скорбная юдоль, а — Гефсиманский сад! В ногах у статуи цветов живых не счесть, и, шустрые, песком шуршат старушки здесь. Не у фабричных же ему стоять ворот,— Он там, где никого… Где все (но в свой черед). Он там, где тучно громоздится тишина, где правда от мечты стеной отделена; где ветры кроткие в листве… И тень листвы на бронзовых устах, как Жизнь, а не — «увы».Нет-нет, какая ж это печаль, какой страх — все эти священные могилы знаменитых и безвестных людей, принимавших участие в строительстве жизни на земле? Не бойтесь могил. Страшитесь разрушителей священной тишины. Вот я поднимаю взор — и на Святогорском холме вижу могилу Пушкина; опускаю глаза долу — и меж яснополянских деревьев нахожу зеленый холмик Льва Толстого; всматриваюсь в живые камни Москвы — и различаю среди ее вершин и отрогов часовню с прахом Осляби и Пересвета, славных защитников нашей государственности, нашей веры; а неподалеку от Москвы, под стенами Троице-Сергиева монастыря — богоценимые мощи Сергия Радонежского, а также забытая могила талантливого писателя, позднейшего просветителя и философа, дивного стилиста прозы — Василия Розанова… Да мало ли их, священных знаков российского духовножития, расставлено временем по нашей многострадальной землице. И не страх, не печаль, не тьма сердечная обволакивает мой мозг при виде могил отцов, а покаянный трепет и благодарный восторг за свою причастность к сообществу жителей Земли.
16
Главные (любимые?) персонажи моих «Остывших следов» не занимали при жизни высоких должностей, не носили генеральских звезд, не получали спецпайков, не потрясали общественных основ, не создавали внутрипартийных оппозиций, расправы над подобными себе не вершили, судеб ничьих, кроме собственных, не коверкали — занимались в основном отысканием своего места под солнцем, посредством стихов и прозы, красок и музыки гранили и шлифовали так называемое «я», надеясь попутно кое-что разузнать о смысле жизни, о десятке-другом ее относительных истин.
На лихой тачанке я не колесил, не горел я в танке, ромбы не носил, не взлетал в ракете утром, по росе… Просто — жил на свете, мучился, как все.Но оттого, что жили мои сомученики не на политических Олимпах, не в поэтических башнях из слоновой кости, а преимущественно в социальной гуще народной, подвижнический их опыт в освоении отпущенного судьбой времени не сделался менее интересным, нежели опыт какого-нибудь сановного властолюбца или народного героя, любимца журналистов, ставшего затем жертвой пустоглазого бюрократа, в свою очередь смещенного, и т. д. и т. п. «То вознесет его высоко, то бросит в бездну без стыда».
И все же некоторые обитатели моего непридуманного (и в той же мере непродуманного) сочинения вдоволь хлебнули остренького и горяченького от щедрот той или иной мини-эпохи (сталинской, хрущевской, брежневской).
Одной из центральных фигур повествования является мой девяностолетний отец, вкусивший за свою жизнь не только от вышеназванных временных периодов, но и от времен революционно-демократических, становленческих, то есть ленинских, и даже — царских. И потому о нем — несколько подробнее, нежели о других.
Он родился в октябре 1900 года и долгое время считал себя ровесником века двадцатого, покуда я, со свойственной мне вздорностью характера, не принялся разубеждать его в этом, доказывая, что родился он как раз в другой эпохе, то есть в веке девятнадцатом, пусть в самом его конце, однако — в девятнадцатом, а не в моем, двадцатом… Мы поспорили. Затем прикинули, подсчитали, и, когда выяснилось, что до двадцатого отец действительно с появлением на свет не дотянул два с половиной месяца, меланхолически согласился: «Выходит, что родился в девятнадцатом, а жил… жил все-таки в двадцатом!»
И здесь необходимо отметить, что в девятнадцатом он не только и не всего лишь родился, но из девятнадцатого зачерпнул свои вкусы, взгляды, пристрастия, то есть всю мировоззренческую закваску, вызревшую на русской и европейской литературной и философской классике той нравственной формации, что в своем развитии «озиралась» на учение Сократа и Платона, евангелистов и апостолов «ветхозаветной» мысли и на «Мысли» Паскаля, Гегеля, Канта, Владимира Соловьева. Его литературные кумиры — Пушкин и Достоевский, поздний Гоголь, Виктор Гюго и Вольфганг Гёте, Данте и Диккенс, Сервантес и — в какой-то мере — как эталон непобежденной гордыни, но и как «вдохновитель» позднего раскаяния Андрея Болконского — Лев Толстой. В произведениях искусства он прежде прочего выделял не «как», но — «о чем» и если речь шла не о духовно-возвышенном, не о вечных поисках Абсолюта, не о так называемых главных вопросах Бытия, то моментально охладевал и расставался с этими произведениями, как бы хорошо или даже блестяще ни были они созданы художником. «Духовная жажда» в нем постоянно возвышалась над безыдейным эстетизмом.
Родился отец в Псковской губернии в деревне Любые Болота, в старообрядческой семье государственных крестьян-однодворцев, купивших на закате века у разорившегося помещика «землицу» с усадьбой — сперва Овсянниково, а когда эта усадьба сгорела, перекупивших такое же имение в деревне Горбово Островского уезда, что стояла на холмах и на двух озерах — Черном и Белом, разделенных перешейком и соединенных ручьем, вращавшим колесо мельницы.
В повести «Первые проталины» я уже касался «темы отца». Там сия тема подверглась неизбежной беллетризации. Что ж, попытаюсь рассказать об этом человеке без литературных приемов. Почти протокольно. Однако не без поздних толкований и переосмыслений свершившегося.
Генеалогических корней родового древа по отцовской линии никто, к сожалению, до меня не проследил, на бумаге не зафиксировал. Только со слов, изустно. Не произошло этого и по материнской линии. Не из столбовых дворян потому что вышли. И даже не из церковных, так называемых «колокольных» дворян, а просто — из людей. Вышли мы все, как говорится, из народа. А в народных глубинах, как и в глубинах морских, было якобы темно. От безграмотности и слепой веры в Бога. Во всяком случае, есть такое предположение на сей счет. Хотя опять же — кто на берестяных грамотках выводил писалом про всякие там недворянские, грубые вещи — про пеньку да ржицу, про «Ванюшкин должок» да «Ефросиньюшкин поцалуй»? «Грубые» люди, как правило, не распространялись о себе подробно. Не поощрялась гордыня-то, ни верой православной, ни вообще моралью, укладом жизненным. Степенство почиталось.
Да и некогда было распространяться. Работали. Увлекались жизнью.
Прадеда звали Григорием Сергеевичем. О нем сохранилась довольно прочная версия. Прожил девяносто с лишком. И, несмотря на свою принадлежность к старообрядчеству, употреблял спиртные напитки, то есть — знатно зашибал по этой части. Приобрел же таковое пристрастие не сразу, но лишь войдя в самостоятельный образ жизни, где-то после сорока лет. Когда в кармане появилась «наваристая», «льняная» (с торговли льном) денежка. Предание повествует, что у Григория Сергеевича была в хозяйстве очень умная лошадь, какой-то необыкновенно смекалистый жеребчик, знавший все кабацкие адреса вокруг Порхова, Опочки, Новоржева и Острова, на чьи рынки доводилось наезжать Григорию Сергеевичу с возом льна-долгунца, или ранней «картофкой», с березовыми плашками, из которых изготовлялся сапожный гвоздь (а из белоснежной бересты — сапожный «скрип» для форсу), или с блинной мучкой — на «предмет продажи». Обретя городские покупки в виде головок сахара и свечей, подков и железных гвоздей, миткаля на сподники да чего-нибудь из посуды, плюс гостинцы детям да бабам, Григорий Сергеевич на остальные денежки позволял себе как следует «дерзнуть», причем совершал сие, не вылезая из саней или возка, так как боялся в оные уже не вернуться. Черный, отчетливый на снегу жеребец, который шел у него в паре с чалой кобылкой, знал «бражный маршрут» хозяина назубок и всякий раз, завидя на пути очередной шинок, без команды останавливался у его дверей как вкопанный и принимался трубно ржать. Голос жеребца узнавали. Дверь заведения распахивалась, и Григорию Сергеевичу выносилась оттуда чарка, причем, если «Сердеич» спал на возу, его не будили, а просто прислоняли к губам емкость, и он выпивал «в кредит», так как достать из-под армяка или тулупа деньги уже не мог.
Дед Алексей Григорьевич, о котором я уже упоминал и которого, в отличие от Сердеича, мне довелось видеть собственными глазами, прожил лет на двадцать меньше своего отца, а ведь не пил, не курил, соблюдал обряды старой веры, но, в отличие от своего отца, не дожившего до революции, вплотную соприкоснулся с социальными катаклизмами двадцатого века, потрясшими могучий раскольничий организм деда гораздо основательнее шинкарских зелий и забористого «Жуковского» табачка.
Не знаю, сколько раз был женат прадед Григорий, наверняка единожды, чего не скажешь о сыне его Алексее, соприкоснувшемся с «катаклизмами» и поимевшем в разное время трех жен. А дальше — как генетическая закономерность — трижды пришлось «ожениться» моему отцу, трижды не миновала сия чаша и меня. Вот и прикидывай, что это — падение нравов или непредсказуемое «стечение обстоятельств»? Характерной для всех троих «многоженцев» особенностью явилась недолговечность их первого брака, совершаемого, как правило, впопыхах, без глубокой разведки, а в прежние годы и без согласия молодых, исключительно по воле и сговору родителей. Самый короткий «союз» был у моего отца: от своей первой жены он ушел на другой день, то есть — по прошествии ночи.
К началу нового века дед мой Алексей Григорьевич имел под своим началом семью в десять душ и не имел… фамилии. Обходился именем-отчеством. Прикупив Горбово и ненадолго обосновавшись на бывших помещичьих землях, семья деда при составлении купчей вместе с землей обрела и фамилию: Горбовские. При взгляде на обитателей холмистого Горбова, высыпавших, скажем, на сенокос, проезжие из соседних деревень люди наверняка говорили: «Эвон, Горбовские с клевером управляются!» Следы наших предков теряются в непрозрачных глубинах российского крестьянства. Фамильные приметы — голые холмы на месте сгоревшей в войну деревни и два озера — Черное и Белое, как два основополагающих цвета жизни.
Иду коридором сосновым — то хутор мелькнет, то село, а наше родное Горбово фугасное время смело. Спросил я у встречной старухи: мол, где тут деревня была? Но бабка пошарила в ухе и медленно дальше пошла…___________
Среди детей, посещающих наши современные школы, где культивируется «всеобщее и обязательное» обучение, почти нет учеников, воистину одержимых приобретением знаний. Все у нас учатся (или почти все), если и не «шатай-болтай», то как бы по течению, а то и по принуждению. То есть — отбывают время. Отец мой, Яков Алексеевич, обучаясь в трехклассной церковно-приходской села Зарубино школе, к знаниям не просто тянулся — рвался, молитвенно перед ними преклонялся, стремился к ним так же, как стремится к свету из тьмы прозябания зеленый росток или свободолюбивая зверюшка из клетки на волю. И что замечательно — стремление сие пронес он через всю жизнь и по сию пору несет. И не только преуспел в своем благородном рвении, но в чем-то даже «перебрал», и теперь, в преклонном возрасте, время от времени жалуется мне, что знания мешают ему иногда в постижении Истины, отвлекают многочисленными сомнениями и «прелестями» от возвышенных чувствований, соблазняют своей логикой, утомляют «бесстрастной цифирью», уводят в сторону от раскаяния и смирения. Одним словом — энергия разума будоражит совесть.
На помещичьей земле будущие Горбовские не зажились долго: дважды горели, хозяйствовать пришлось себе в убыток — ни лен, ни хлеб не удавался, не хватало средств, опыта. Перед самой войной решили перебираться в ближайший город. Продали Горбово. Купили в уездном Порхове дом — бревенчатую пятистенную избу на Гольдневской набережной. Думается, решению этому в немалой степени способствовало отцовское рвение к учебе, жажда знаний. «Вкушая, вкусих мало меду…» Необходимо было вкушать этот мед и дальше, то есть поступать в Порховское реальное училище (гимназия в Порхове только женская). В реальное отца приняли не по блату или подкупу, а по «объему знаний»: сочинение незаурядное написал да и в глазах — «жажда» немеркнущая, немолчная выпирает духовным томлением — навстречу преподавательскому взору. На приобретение форменной фуражки и ремня с пряжкой, с буквами ПРУ на ней, дан ему был определенный срок, который вскоре безжалостно иссяк, и не видать бы отцу «реального обучения», как своих заплат на штанах во время сидения за партой, не случись с ним тогда в училище нечто ирреальное, сверхъестественное, а именно: отец написал пьесу. И что самое удивительное, пьесу решено было ставить в городском театре, то есть, по провинциальным меркам, событие из ряда вон. Короче говоря — неплохо сочинил.
Называлась пьеса «Осенний сон». И говорилось в ней о насилии и милосердии, о том, что нельзя строить счастье (личное или общественное) на крови невинных жертв, что зло, причиняемое во имя блага, бесплодно, ибо родит зло. Согласитесь, тема не для школьной пьески. Главный герой сочинения, неокрепший нравственно гимназист, в финале действа конечно же стреляется, причем под звуки духового оркестра, исполняющего старинный вальс «Осенний сон». Выстрел производился ударом колотушки в барабан. По воле автора в одной из картин на сцене, в разных ее углах, должны были стоять бюсты Льва Толстого и Иисуса Христа. С бюстами помог директор реального училища, которому идея постановки пьесы его ученика пришлась по душе: дескать, знай наших! Да и милосердный замысел драмы, как видно, не шел вразрез его убеждениям: директор не только не вскипел, но даже как следует не рассердился, когда по ходу пьесы один из гипсовых бюстов был задет кем-то и с грохотом рассыпался на подмостках.
Пьеса, естественно, не принесла автору ни копейки, так как спектакль объявили любительским. Зато уж популярностью юный драматург обеспечил себя с избытком. Реальное училище начали посещать делегации от женской гимназии. И все же главным приобретением отца от постановки «Осеннего сна» явилось распоряжение начальства, дозволяющее реалисту Горбовскому посещать занятия без ученической формы. На подвижнические заплаты отца многие стали смотреть как на элемент богемного существования: что поделаешь, господа, сочинителям и не такое сходит с рук, поэтические, видите ли, нравы-с… А тут еще подоспела Февральская революция, и всяческие лохмотья, не говоря уж о заплатах, сделались чуть ли не знамением времени и атрибутами почитания.
Примерно в эту же пору, семнадцати лет от роду, отец дал миру публичную клятву — никогда в жизни не вкушать спиртного и не курить табака. Клятва была дана после молодежной вечеринки, на которой почитатели «Осеннего сна» отмечали успех премьеры. Душу молодого драматурга посетили сперва отчаяние, затем сомнения, а затем — твердая убежденность: человек, посвятивший себя свету знаний, боготворящий по примеру французских энциклопедистов разум, пить вино и курить табак не имеет права.
Замечательно, что клятва сия в дальнейшем ни разу не была нарушена. Ни при каких обстоятельствах. Ни на фронтах гражданской войны, ни в польском плену, ни в сталинских лагерях, ни в заволжской ссылке. Ни разу — от 1917-го до нынешнего 1991-го.
Порховскую ЧК времен революции возглавляла некто Крашинская. Именно ей, несгибаемой приверженке идей военного коммунизма, молодой и симпатичной, курящей длинные пахитосы из дореволюционных запасов, облаченной в скрипучую комиссарскую кожу-скорлупу, именно этой военизированной, с маузером на бедре, пронзительноглазой революционной даме суждено было сотрясти (однако не разрушить до основания) миротворчески-добродетельные иллюзии юного реалиста, которые он, не без помощи двух гипсовых бюстов, проповедовал в своей якобы пророческой пьесе.
В крошечный Порхов в те дни возвращался служилый, военный люд, разметанный по белому свету военными действиями. Бессмысленной войне, отвлекавшей народ от Великой революции, был положен конец подписанием Брестского мира. В городке объявили регистрацию бывшего «офицерского корпуса» — для привлечения к новой жизни. Золотопогонники обязаны были явиться куда следует — с оружием и документами. Пущенный кем-то слух об офицерском заговоре накалил обстановку. Многие из бывших запаниковали, прослышав, что из ЧК никого живым не отпускают. То были дни, шедшие вслед за эсеровским покушением на жизнь Ленина.
А в доме на Гольдневской набережной имелся к тому времени свой не так давно «испеченный» офицер, старший брат отца Павел. Еще до войны подался он в Питер, в пролетарии, где устроился на завод и смиренно тянул рабочую лямку. Началась война, его мобилизовали. На фронте Павел отличился, и его послали в школу прапорщиков. Грянула революция, и прапор, сориентировавшись, незамедлительно подался в тихий Порхов (не в кипящий же Питер!), под крышу отчего дома. И вдруг — повестка в ЧК. А затем — стук в дверь вооруженного патруля, который ходил по адресам и брал под ружье офицерскую «белую кость». Хотя какая у Павла, вчерашнего крестьянина и рабочего, белая кость? Чего ему-то было бояться? Однако — испугался. И в тот миг, когда в двери дома бабахнули прикладом, нырнул из окна в огородные гряды и заструился, а затем заскакал к лесу, прочь от родимого гнезда — и аж в буржуазную Эстонию вынесло…
Не обнаружив Павла, заложником взяли… моего отца. Впопыхах, когда уводили, вместо своей фуражки, которую ему в конце концов «справили» всеобщими усилиями (на ее кокарде — три сиятельные буквы ПРУ — Порховское реальное училище), отец нахлобучил офицерскую фуражку брата-прапора, в панике забытую Павлом на вешалке. Из-за этой фуражки под горячую руку отца едва не пустили в расход. Крашинская в ЧК приняла его за юного офицера, а когда разобралась, кто есть кто, обвинила в укрывательстве «опасного заговорщика» и, не вникая в тревожную суть, посадила парня под замок — вместе с другими офицерами, в частности — с приговоренным к смерти подполковником Гагаринским, сыном местного мельника, двадцатишестилетним красавцем, атлетом, героем и кавалером многих орденов.
Примерно в эти же дни из-под расстрела на порховском Коровьем кладбище совершил дерзкий побег другой старший офицер, к тому же князь — Гагарин, чье имение располагалось в Порховском уезде, куда он сунулся было, чтобы пересидеть революцию. Но был схвачен. Расстреливали ночью. Коровье кладбище — овраг, где когда-то при очередном падеже скота закапывали коровьи туши. После первого залпа Гагарин, человек в подобных ситуациях искушенный, метнулся на землю, а затем — в кусты, в ночь. По нему палили вдогонку, но — безрезультатно. И когда днем позже арестовали подполковника Гагаринского, красноармейцы, бравшие дюжего золотопогонника, решили, не дочитав фамилии подполковника, что им повезло отловить беглеца князя, и стали ему крутить руки, вязать, а также попытались сорвать с офицера погоны, которыми он гордился. Это и разобидело пуще всего. Гагаринский вскипел.
— Смиррна-а! — рявкнул он полной грудью, весьма умело. Красноармейцы даже опешили вначале. Стали топтаться в нерешительности. А Гагаринский продолжал внушение: — Погоны эти не вами на мои плечи положены, не вам их и снимать! — и хвать себя рукой по бедру, по военной привычке, фронтовой, по тому самому месту, где у него порожняя кобура болталась на ремне. Ну, тут его и повязали окончательно, предварительно помяв и «обезоружив». А когда сдавали подполковника в чрезвычайку, командир заградпатруля изложил на бумаге ситуацию, не забыв отметить, что контра при задержании оказала сопротивление. Это стоило Гагаринскому жизни.
В памяти отца немеркнущим видением остались часы, проведенные в камере порховской тюрьмы на пару с обреченным подполковником. Этот еще совсем недавний счастливчик, здоровяк, бравый и симпатичный малый, которого одна отшумевшая война вывела в люди, дав ему, совсем еще молодому человеку, солидное положение, перспективы, или, как тогда говорили, прекрасные виды на будущее, другая война, гражданская, бросила в камеру, на глазах у моего отца превратился в жалкое существо, катавшееся в истерике по полу, вымаливающее лишний глоток жизни, проливавшее нескончаемые слезы, раскисшее невероятно, сникшее столь беспомощно и неожиданно.
— За что?! — повторял он бесчисленное количество раз, обращаясь в пространство, лишенное не только милосердия, но и всех остальных признаков жизни, если не считать за таковые признаки самого Гагаринского и растерянно взирающего на подполковника юного реалиста.
Когда отца пригласили на перекрестный допрос-собеседование в комнату, где было хоть и накурено, однако светло, где за столом сидело трое людей, решающих в спешном порядке — жить человеку дальше или в спешном порядке умереть, пригласили, дабы выяснить, что он за птица, отец вдруг непонятным образом осмелел и заговорил с «тройкой», в первую очередь — с самой Крашинской, одно имя которой наводило в «определенных кругах» Порхова трепет и ужас, заговорил выспренне и крайне наивно, а стало быть, глупо, как где-нибудь на сцене любительского театра, встав в позу и простерев в направлении прищурившейся от дыма пахитос и махорки Фемиды указующий перст.
— Отпустите невинного! Не терзайте его понапрасну! Я говорю о Гагаринском. Вы перепутали его с князем Гагариным. Подполковник — честный вояка, герой войны, гордость нашего Порхова! Он и вам еще пригодится, как военный специалист. Вы совершаете гнусную ошибку, приговорив его к смерти. Помилуйте невинного! Нельзя казнить правду! Или ваша «правда» — ложь?! Тот, кто несет миру зло, причем зло, не мотивированное ничем, не может быть другом народа, тем более — его благодетелем!
— У нас, голубчик, все мотивировано… именем революции! — хлебнула взасос папиросного дымка Крашинская, а человек мастерового обличья в кожаной фуражке продолжил, разъясняя реалисту смысл революции:
— Именем революции, которая есть — освобождение народов, молодой человек!
— Освобождение… от чего?
— От насилия! От гнета! Вот наша религия. А вы — препятствуете освобождению.
— Освобождение от одного насилия при помощи насилия другого? — не сдавался отец. Теперь это может показаться странным, что деловые, вооруженные люди пустились в рассуждения с каким-то молокососом, но в те сокрушительные и одновременно наивные, непротухшие, некабинетные времена люди, даже враги, могли разговаривать друг с другом искренне.
— По документам вы не из благородных. Тогда почему, спрашивается, вступаетесь здесь? Плевако, видите ли, нашелся! Кровавую контру под защиту берет! Начитаются графа Толстого и пускают… непротивленческие слюни. «Невинная жертва»! А эта невинная жертва, случись у нее в кобуре наган, всю нашу революцию перестреляла бы, не задумываясь. Если ей не сопротивляться! — хлопнул мастеровой по столу ладонью, и почему-то добавил: — Если патронами ее обеспечить.
— Где бр-рат, т-твою мать?! — внезапно переменила тему разговора Крашинская, подбежав вплотную к высокому в сравнении с ней юноше, семеня при этом короткими ножками.
— К-какой брат? — отпрянул было.
— Твой, твой! Павел, прапор! Контрик скороспелый!
— Ясно где… Убежал.
— Почему убежал?
— Испугался потому что. Насилия… И вообще. Решил: расстреляете ни за что. Не его первого потому что.
— Опять за свое?! Клеветать на р-революцию?! То-ва-арищи дорогие, разве не ясно, с кем дело имеем? — обратилась Крашинская к остальным членам «тройки», среди которых кроме мастерового, впоследствии оказавшегося питерским рабочим, сидел и упорно помалкивал изможденного вида красноармеец, скорей всего — из выздоравливающих раненых, с чертами лица крупными, внятными.
— Что скажете, Устин Поликарпыч? — обратилась к нему Крашинская.
— Вражина… Списать, — выдавил из себя Устин Поликарпыч, сверкнув глазками столь беспощадно, что и слов никаких не требовалось в подтверждение его приговора.
— Ну, это вы слишком — «списать», — пожевал губами мастеровой, оказавшийся председателем совещания. — Наверняка распропагандирован… баптистами или еще какими талмудистами. Только ведь и опыт у мальчишки — никакой. Не говоря о политическом опыте. Пустяковый еще опыт. Начитался учения графа Толстого. Не убий. Пальцем никого не тронь. Ударили по одной щеке — подставь другую. Всыпать бы ему по голой… теории! Вицей, причем с оттяжкой.
— Гагаринский ни в чем не виноват. Посмотрели бы, как он плачет в камере.
— Гагаринский, может, и не виноват, — усмехнулась Крашинская, — но правое дело — за нами. И кто на это правое дело замахивается или… за кобуру хватается… пусть даже за порожнюю, того мы… Того мы… — побледнела, затряслась в гневе, словно перед припадком, Крашинская.
— Твой Гагаринский руку на Красную Армию поднял, — пояснил отцу мастеровой.
— Он только… замахнулся. Безоружный, — настаивал на своем юнец.
— Замр-ри, контр-ра! — брякнул несильно по столу немощным кулаком Устин Поликарпыч, и тут его начал бить страшный кашель, нескончаемый и конвульсивный. Бывший крестьянин Устин Поликарпыч побледнел и внезапно сделался в чем-то похожим на Крашинскую.
— Увести! — распорядилась Крашинская, и часовой отвел реалиста в камеру.
Ночью отец и Гагаринский спали обнявшись, чтобы не так страшно и холодно. Перед сном отец долго, искренне утешал подполковника. Затем они плакали вместе и всерьез молились, прощаясь друг с другом. Одним словом, приготовились к самому худшему.
На смутном, сыром и знобком рассвете пришли за подполковником. С минуту он катался по полу. Его уже хотели вязать и выносить на руках. Как вдруг что-то в нем свершилось. Словно один механизм заменили другим. Он встал на ноги, посмотрел на людей. Взгляд его задержался на отце. Затем Гагаринский принялся тщательно отряхивать помятый мундир от сора. Привел на голове волосы в порядок. Спокойно обнял реалиста, как единственного родного человека. И твердо ступил в направлении дверей. В дверях задержался на миг, обернулся. И тут на его губах ожила, зашевелилась улыбка! Но — какая! Осмысленная, ясная — всепрощающая.
Гагаринского увели, а его заветная улыбка осталась в памяти отца. И отец рассказал мне об этой улыбке спустя семьдесят лет. И не было в отце за эти семьдесят лет ни единого случая, когда бы он отрекся от своей «теории справедливости», о невозможности всеобщего счастья на крови невинно загубленных жертв. Сия милосердная теория стала зрением его души на всю оставшуюся жизнь. А рассказ отца о прощальной улыбке навеял стихи, которые я написал параллельно с этими прозаическими страницами. Конечно же, в стихах этих — не только улыбка Гагаринского, но и — отцовская, когда он, уходя в ежовскую ночь, обернулся к нам — моей матери и мне, спящему безмятежно.
Уже в дверях прихожей, на фоне тьмы ночной он оглянулся все же… Но — вяло, как больной. Взирая покаянно На мир, что посетил, он улыбнулся странно, как будто всех простил. Те двое, что развязно пришли за ним — к нему, покашливали страстно, маня его во тьму. Жена, сцепив ладони, теряла цвет лица. Скрипели снегом кони у мерзлого крыльца. …По чьей, по чьей ошибке (измыслить нелегко) владелец той улыбки уехал далеко? Но свет улыбки бедной, питавшей вдовьи сны, возжег румянец бледный на сумерках страны!___________
Проникновение в нравственную структуру отцовской личности далось мне далеко не сразу, причем с превеликими жертвами, главная из которых — смирение собственной гордыни. Естественно, что произошла это на трезвую голову, когда сердце стало биться ровнее, а опыт разума обрел тягу к постижению вечных истин. То есть где-то ближе к пятидесяти годам. Это — что касается элементарного проникновения в более зрелую, хотя и родственную модель миропонимания. Что же касается постижения особенностей оной — то до этого, как мне кажется, еще слишком далеко. Столь далеко, что, боюсь, не хватит отпущенного времени, ибо «копнул-то» отец основательно, и до обнаженных им философских, а также этически-нравственных глубин мне еще пробираться и пробираться.
Мысленно прослежу хотя бы биографическую канву этого человека, его дальнейшую весьма поучительную «ломаную прямую», так как именно ломаной, но отнюдь не кривой выглядит линия жизни этого «реалиста» с идеальными замашками, выглядит теперь, с высоты его нынешних девяноста лет, а также — со стороны наблюдавших эту линию современников.
Сказать об отце, что он законченный и, стало быть, неисправимый идеалист, — это все равно что сказать о яблоке, что оно… круглое. Всего лишь. Он все-таки современный идеалист. Конца двадцатого столетия. Несмотря на классическую (XIX в.) закваску. А это вам, согласитесь, не князь Мышкин и даже не Пьер Безухов. Или — тот и другой, но прошедшие сквозь огонь, воду и медные трубы революционных преобразований, выпавших на долю России, где отцу посчастливилось не только родиться, но и принять страдания, очистительное, а также возвышающее воздействие коих на душу человека, как говорят современные докладчики, «трудно переоценить». То же самое можно сказать о тысячах и тысячах современников отца, и в частности о человеке, учившемся с ним в одном институте и арестованном в 1938 году — чуть ли не в один день с отцом.
Там человек в очках во мрак глядит без тени укоризны: то — Заболоцкий. Он — чудак. Он принял муки в этой жизни.В девятьсот двадцатом отец — красноармеец, участник гражданской войны (о чем я узнал, вернее — сообразил, лишь в недавние дни, когда участникам гражданской и Отечественной войн вручали юбилейные медали, которую отец, естественно, не получил, так как было ему уже не до нее). В армии Тухачевского сражается с белополяками. Под Киевом, тяжело раненный в голову (потеря глаза), попадает в польский плен. Из плена с несколькими напарниками бежит. Демобилизовавшись по ранению, уезжает на Алтай — ликвидировать у местных крестьян не хлеб, а всего лишь — безграмотность, а заодно и… подкормиться (реалист!) чудесным алтайским хлебушком. Затем его, как бывшего армейца и активнейшего просвещенца, в числе немногих направляют на учебу в Петроград, где поступает в Педагогический институт имени Герцена, получает стипендию весомыми, обеспеченными золотом советскими рублями, на которые не просто питается, но иногда форменным образом лакомится — нэповской ветчиной, булками, икрой, балыками, астраханским «заломом» сельдяным и прочей всячиной-вкуснятиной, неизвестно откуда взявшейся после апокалипсически-опустошенных прилавков времен гражданской войны.
В девятьсот двадцать седьмом заканчивает институт и распределяется преподавателем русского языка и литературы в тогдашнюю Коми область, где и учительствует в бывшем Усть-Сысольске в так называемой школе второй ступени, то есть девятилетке. В девятом классе этой школы училась тогда и моя будущая мать — Суханова Галина Ивановна, дочь местных, усть-сысольских интеллигентов, из коих отец — Суханов Иван Александрович, русский, фельдшер, и мать — Данщикова Агния Андреевна, учительница, зырянка, одна из первых коми просветительниц и писательниц (сочиняла пьески для местной самодеятельности, переводила на язык коми драмы и комедии А. Н. Островского, составляла коми букварь для малышей и т. п.).
Женитьба учителя на своей ученице вызвала в городке «моральное потрясение» и даже панику в среде обывателей. Пришлось перебираться из Усть-Сысольска — вначале в коми Лесной техникум, расположенный в бывшем скиту, в глухом таежном монастыре, а затем и вовсе в Ленинград. Мать поступила в тот же педагогический и еще до его окончания, в 1931 году, родила меня.
К тому времени родители заимели ленинградскую прописку благодаря моей крестной тетке Гликерье, которая работала на «Скороходе» и жила в большой комнате. Комнату сию она разменяла на две крошечные в коммуналке на Малой Подьяческой улице, в огромном семиэтажном доме, треугольном остроносом доме-корабле, который чаще именовали «утюгом». Разменяла и в одну из этих комнат пустила брата с семьей.
Дом этот с двумя, как мне тогда казалось, глубочайшими дворами-колодцами, с неиссякающей черной кучей угля возле дверей кочегарки, с немолчным многоярусным шумом кухонных примусов и органно звучащей сантехники, истошным, каким-то итальянско-раскованным криком домашних хозяек, детей, вообще жильцов, шумом, удесятеренным дворовым, «ущельным» эхом, дом этот незабвенный, плывущий и ныне своим курсом по изгибу Екатерининского канала, казался мне какой-то необыкновенной машиной, застрявшей на мели в волнах омытого дождями шишкастого булыжника, которым были вымощены подходы к этому дому. Первый дом моей жизни. Шумный дом. И в общем-то веселый. Дом детства.
Именно здесь, на этом кирпичном обитаемом острове, опоясанном каналом Грибоедова и Малой Подьяческой улицей, внутри и вокруг дома — истоки моего хмурого горожанства, первые бродильные пузырьки его каменной, дворово-панельной закваски, изначальный урбанический туманец моей неиссякаемой ностальгии по извивам петербургской достоевщины в разлучные с Ленинградом дни, а порой годы. Так что — сельщина сельщиной, природное природным, а булыжно-асфальтовое, фонарно-канальное, дворово-дворцовое — при мне. Отложилось. И душа — накопитель всеземного — не ропщет от подобных перегрузок, но, благодарная, ликует в постижении прекрасного, что лежит на поверхности жизни или таится в неисчислимых слоях ее сущности.
В доме на Малой Подьяческой жизнь нашей семьи не получилась прочной, долговечной, такой, как она была задумана отцом с матерью. В тридцать восьмом арестовали отца, летом сорок первого уехал на каникулы и не вернулся я, в блокадную зиму сорок второго, когда в «утюг» угодила бомба, перебралась на Васильевский остров мать. Нас разбросало кого куда. Дом, слава богу, остался стоять на прежнем месте, напоминая кое-кому из его бывших обитателей о том, что в жизни, несмотря ни на что, случаются светлые денечки и даже годочки. Однако случаются они крайне редко и преимущественно в прошлом.
Я не знаю подробностей отцовского ареста, хотя и присутствовал при этом незаурядном событии в качестве спящего свидетеля шести с половиной лет от роду. Видимо, я все же проснулся тогда и даже обеспокоился, так как смутное ощущение тревоги, какого-то неотвратимого вероломства, возникшего в пределах той незабвенной ночи, не покидает мою душу посейчас.
Пришли за отцом в первом часу ночи и довольно долго копошились с обыском; виной тому — книги, которых в «убогом жилище» скопилось изрядное количество. Отца арестовали по доносу, как «затаившегося меньшевика», хотя никогда ни в одной из политических партий человек этот при жизни своей не состоял, кроме «партии Господа нашего Иисуса Христа», как сам он не без улыбки выразился несколько позднее, а именно — в прошлый мой к нему очередной приезд на квартиру в Купчине. А тогда ежовским пришельцам, скорее всего, необходимо было отыскать среди бумаг «зацепку». Вот они и копошились. И конечно же нашли. Тетрадку в черном клеенчатом переплете с полудневниковыми записями отца, с цитатами из мировой классики и тому подобной частно-педагогической канцелярией. Согласитесь: ведение интимных дневников, записи «на добрую память» в семейных альбомах и вообще оставление на бумаге всяческих автографов и рукоприложений, уличающих тебя в способности мыслить, — занятие не для эпохи тотальной подозрительности.
Чуть позже следователь Василеостровского района Готлиб прицепится к одному «откровению» из этой роковой тетради, где отец имел наглость выразиться не по-советски, утверждая, что Пушкин гораздо значительнее Маяковского. А это уже — контра. Смертный грех. За такую ниточку можно не просто потянуть, но и перемотать тебя, всю твою душу на клубок.
Отца увели, а я так и не проснулся полностью, не осознал случившегося. Утром мне было сказано, что отец уехал в длительную командировку или что-то в этом роде. И я не только смирился, но как бы даже согласился с происшедшим: жить без отца было даже проще — не надо ежедневно чистить зубы, мыть руки, стараться не чавкать за обеденным столом, вести себя «должным образом».
Вскоре по исчезновении отца я выкрал в коридоре на вешалке из постороннего, «общественного» кармана несколько «беломорин» и, запершись в уборной, попробовал курить. Из дымящегося туалета меня извлекали всей квартирой. Мать тогда впервые, и одновременно в последний раз, применила ко мне «ремешковое воздействие».
Затем из чувства протеста стал сбрасывать в колодец двора различные мелкие вещи. И однажды угодил сырым куриным яйцом в незнакомого человека в шляпе, который по каким-то признакам сумел определить квартиру и даже окно, из которого выпало яйцо. И меня пытались уличить в содеянном, а я заупрямился, уйдя, как говорили профессиональные уголовники, в несознанку. И в дальнейшем не раз нападало на меня сие паралитическое упрямство, когда я держался своей версии, стоял на своем, и тут уж хоть к стенке ставь — по принципу схватывания бетона: чем дольше уговаривают, тем тверже мое упрямство.
Отца увели, и я знаю, что он держался на допросах в доме на Шпалерной молодцом. Его просили и заставляли признаться в том, чего он не совершал. Он поначалу даже заупрямился, вроде меня, и тогда его ударили по голове какой-то огромной книгой, произведением полиграфического искусства, но вряд ли это была «Библия», скорей всего — какой-нибудь справочник, или словарь, или свод политических речей, а может, и вовсе «Капитал» К. Маркса. От страшного удара по голове у отца выскочил глаз из глазницы, искусственный, вставной, но этого было достаточно, чтобы допрос на тот день прекратился. По-разному действуют на людей всевозможные непредсказуемые эффекты. На нервного следователя выпадение «глаза» подействовало отрезвляюще, если не удручающе. Во всяком случае, принадлежность отца к партии меньшевиков больше ему не вменялась, и в дальнейшем его повели по другому пункту, обвиняя в элементарной антисоветской пропаганде и агитации — ст. 58, п. 10.
Неоднократно упрашивал я отца повспоминать о том времени на бумаге — в виде кратких записок-заметок или хотя бы писем; отец неопределенно кивал, заинтересованно хмыкал, но заниматься сочинительством не спешил: сказывалась застарелая боязнь «репрессантов» к разного рода дневникам и записным книжкам, подчас служившим в тридцатые годы не столько литературными принадлежностями, сколько — вещественными доказательствами.
Довольствуясь устными рассказами отца, я конечно же приведу ниже эпизод-другой из его «политической» эпопеи. Но вот что в связи с этим беспокоит меня. Все наши теперешние мужественные откровения, решительные и смелые шаги в печати почему-то стремительно и благополучно устаревают, требуя не просто Правды, но… сенсаций. А стало быть, раскрепощение общественной мысли идет на каких-то иных, более внушительных скоростях, нежели скорость «приподнятия завесы» над ранее недозволенным. Не успели рассказать правду о Сталине, замерев, как перед прыжком без парашюта, а… тема уже «навязла» и не таит в себе ничего не только пророческого, но и сенсационного, кроме заурядной политической «бесовщины», «шигалевщины». Потому как дело-то, оказывается, не столько в культе или застое, сколько в нашей всеобщей бездуховной нацеленности той поры. То есть в потере ориентации дело.
За два дня до ареста отцу было видение. Отец рассказывал мне об этом видении ежегодно в течение последних тридцати лет. И рассказ его был прочен, с годами не рассыпался в подробностях, не тускнел и не ржавел.
За два дня до ареста отец пришел с работы и прилег перед ужином на диван. Хорошо помню этот диван, других диванов в комнате не было, и еще потому помню, что спинка дивана загораживала собой неглубокую нишу, видимо, бывшую, дореволюционной планировки, дверь, напрочь заделанную в коммунальных условиях. В чем-либо провинившись, имел я обыкновение забираться за спинку дивана и прятаться от сурового отцовского взгляда в нише. Над диваном висела «Мадонна», копия с какой-то западноевропейской картины, в тяжелой золоченой раме, купленная родителями в комиссионке. Картина сия придавала нашей ничтожнейшей комнатушке вид ничем не оправданного благополучия, и прежде всего — внушительностью рамы и темы сюжета.
Единственное окно девятиметровки выходило в глубочайший и темнейший двор-колодец, благодаря чему обиталище сие никогда не посещали солнечные лучи — ни прямые, ни косые, а на стенах длительное время не выгорали обои (хоть какая-то польза от ситуации).
Прилег отец на диван, притомившись на работе в школе, где обучал василеостровских старшеклассников русскому языку и литературе, и, не закрывая глаз, не задремав даже, совершенно отчетливо видит, как в комнату вошла его мать Ириньюшка, умершая пять лет назад и похороненная в ста двадцати километрах от Ленинграда — в Луге. Вошла, присела на диван, в изножие, отец даже ноги подобрал, чтобы ей удобнее сидеть, а сама она плачет, слезами обливается, и небеззвучно, а со всхлипами. Одной рукой подбородок себе подперла, пригорюнилась, другой — слезы с лица сгоняет, согнать не может.
Тогда отец и спрашивает:
— Мама, почему ты плачешь?
А Ириньюшка молчит и все плачет и пла-ачет. Отцу стало неприятно, что мать плачет, а он врастяжку лежит и ничем ее утешить не способен. Хотел приподняться, приласкать старуху, но что-то держит его плашмя, не дает шевельнуться. И тут плачущая, судорожно вздыхая, отчетливо произносит:
— И ждет тебя холод и голод…
Сказала и, жалостливо посмотрев на отца, вышла из комнаты. Будто соседка Пелагея или «ничья» бабушка, живущая на сундуке в коридоре, которые к нам заходили редко, так как боялись хмурого, «ученого» отцовского взгляда.
А в ночь перед самым арестом отцу приснился товарищ Сталин. В тридцатые годы такой сон считался плохой приметой.
Вот как через двадцать лет отпечаталась «меланхолическая» сценка разлуки с отцом в одном из моих «неунывающих» стихотворений — «Визит»:
Постучали люди в черном. Их впустили, как своих. Папа мой сидел в уборной, сочинял для сына стих. Мама ела торт «Полено». Я, дурак, жевал картон. И вибрировал коленом звездолобый «пинкертон». Он стоял в дверях, чугунный, неподкупный — враг врагов. …Торс гитары семиструнной на стене — из двух подков. И, вонзаясь в грудь комода, Пропотели вдруг в труде представители народа — два лица энкаведе. Разве можно книги мучить? Зашатался книжный дом. И упал из шкафа Тютчев к сапогам двоих, ничком… Нехорошие вы люди. Что вы роетесь в посуде? Что вы ищете, ребята? Разве собственность — не свята?Могут спросить: почему столь несерьезно — о трагичном? Особенно те могут спросить, у кого плохо с юмором. На что отвечу так: во-первых, свойство характера — улыбаться там, где не положено; во-вторых, и впрямь слишком много в нашей стране, в ее истории (дальней и ближней) если не смешного, то весьма забавного. Свойство нации? Вряд ли. То есть — гораздо шире. Если у нас — Гоголи да Салтыковы-Щедрины, то у них — Джонатаны Свифты и Франсуа Рабле, у нас — Кирша Данилов и Протопоп Аввакум, у них — Мюнхгаузен и Уленшпигель, у нас — князь Мышкин, у них — Дон-Кихот, и наоборот: у них — Тартарен из Тараскона, у нас — Теркин (с того и этого света).
Смешное не есть преступное. Оно может быть трагичным под воздействием беззакония, насилия. Но оно не может быть безнравственным, потому что по природе своей добродушно. Смешное не есть насмешливое, впитавшее в себя элементы убийственного сарказма, то есть — зла. Улыбка, вытесняющая с лица человека оттенки печали, отчаяния, ужимки скуки, гримасу ужаса, — великое благо, дарованное нам свыше.
Смешное по своей природе ближе к возвышенному, нежели всяческое угрюмство и сердечный мрак, возникающий возле житейской грязи и ядовитых испарений, неважно, откуда исходящих — от диалектического материализма или так называемых религиозных предрассудков.
Недаром в устные воспоминания отца о «године страданий» как золотые песчинки вкраплены искорки смешного или возвышенного, и гораздо реже возникают в них болотные пузыри всевозможной мерзости, сопутствующей человеку, униженному несвободой и прочими производными насилия. Да и полопались они в памяти незлобивой, пузыри эти, боль содержащие, ибо дьявольская природа их противна смыслу утверждения на земле всего сущего, прочно-духовного.
Разве не смешны, особенно по прошествии лет, те смертные грехи отца, на перечислении коих строилось предварительное (следственное) обвинение его в контрреволюционной и антисоветской агитации и пропаганде, а также — принадлежности к «организации»? Перечислим некоторые из них.
Во-первых, создал «меньшевистскую группку» в количестве… двух человек, куда входили отец и его товарищ по работе, некто Посошков, тоже учитель, с которым отец время от времени сиживал за стаканом чая и который довольно искренне поругивал «порядки», подбивая отца на «откровенные разговоры», сводившиеся к крамольному выводу, что власть в стране «захватили жиды». Отец, не поддаваясь на провокацию и уже чуя, что дело неладно, пытался переменить тему разговора, направляя ее в «литературно-художественное» русло. Самое забавное или комичное, по мнению отца, выявилось на суде, то есть в итоге, когда его подельник, активнейший член «группки» Посошков из разряда преступников перешел в категорию свидетелей обвинения, и приговор выносили уже одному отцу, что означало оскудевание членства в «организации» до… одного человека, и что Посошков, пожалуй, являлся вовсе не тем, за кого себя выдавал. То есть — не только учителем географии, но и кем-то еще.
Во-вторых, в обвинительных умозаключениях значилось, что «группка» сия целью своей ставила физическое уничтожение наркома путей сообщения Лазаря Моисеевича Кагановича. Смешно? Комично? Дивно? Учитель словесности, начитавшийся великих идеалистов, с юных лет отрицавший насилие даже «во благо» (в отличие от Родиона Романовича Раскольникова из «Преступления и наказания»), еще при поступлении в институт недавним красноармейцем не побоявшийся на вопрос комиссии — почему не в партии? — честно признаться, что он верит в Бога и положит жизнь «на ниве просвещения русского народа», обвиняется в намерении убить не какую-то там безвестную старушку, а самого Кагановича! Разве не смешно? Разве отец после всего этого — не Акакий Башмачкин, у которого вместе с шинелью «социального приткновения» отобрали свободу, растоптав по доносу сексота наивные отцовские восторги, надежды и верования (не Веру!), развалив его молодую семью? «А шинель-то наша!» И поди докажи обратное. Очень русский юмор. И весьма долговечный. Морозоустойчивый, так сказать.
Или такое. Председательствующий спросил отца в ходе разбирательства:
— Скажите, обвиняемый, вы действительно считаете, что Маяковский как поэт меньше Пушкина?
На что отец в недоумении отвечал:
— Так ведь это любому школьнику известно…
— Вот! — трагически простер руку в зал председатель. — И такое — о Маяковском!
Смешно? Опять-таки как когда. И — кому. Нынче про такое просто не верится. Анекдот какой-то, право. А тогда в зале никто даже улыбнуться не посмел. Или — не догадался. Потому что всерьез шутили граждане, не подозревая, что шутят. Сквозь кровавые, отнюдь не гоголевские слезы смеялись. Над врагами народа. Почитавшими дворянчика Пушкина превыше… кого бы вы думали!
Или вот еще… «Питер», — в дневнике писал, вместо «Ленинград». Представляете, до чего докатился в своей антисоветчине? Игнорировал. И хотя дневничок этот злополучный велся отцом в конце двадцатых годов, когда многие по инерции и просто по привычке все еще называли Ленинград Петроградом и даже Петербургом, не говоря о разговорном «Питер», антисоветская подкладка дневника не тускнеет.
Или однажды на майской демонстрации отказался нести портрет одного из вождей (как назло, выпал все тот же Каганович, не потому ли и «покушение» шили?). И ведь отказался-то не из амбиции, а потому что руки были заняты. Ребенком, сынишкой. Был я еще маленьким, пятилетним, и, естественно, устал, притомился. Пришлось на руки меня брать. В охапку. А от портрета отказываться. И этим своим необдуманным поступком предавать дело, которому посвятил «всего себя» человек, изображенный на портрете. Смешно? Еще как. Особенно при наличии воображения.
Случилось, некто в камерной толчее подвинулся, на несколько сантиметров уплотнился, и в телесном сгустке образовался как бы пузырек воздуха, крохотное местечко. Там отец и пристроился. И частично отдохнул. И с духом собрался.
Благодетелем, поделившимся жизненным пространством, оказался Яков Васильевич Круглов, интеллигентного обличья мужчина, пострадавший, смешно говорить (опять смешно!), за коллекционирование открыток. То есть — филокартист, или как их там различают по собирательским интересам. Неважно. Важно, что его обвиняли в шпионаже. В пользу Аргентины. Собирая открытки, Круглов переписывался с некоторыми зарубежными коллекционерами, в том числе и с латиноамериканскими. Этого было достаточно, чтобы прослыть шпионом. В определенных, весьма влиятельных кругах.
Великое дело для новичка — найти в камере если не задушевного, то хотя бы благосклонного собеседника. Первого, изначального, единственного в двухсотликой толпе. Найти и начать общение. То есть — жить полноценно, мыслить вслух, а не по-звериному рыкать и озираться. То есть как бы заново приступить к «жизненному процессу» существования. Умереть и воскреснуть. Без помощи врачей. Потому-то и запомнился Яков Васильевич Круглов, что поделился, отдал, а не взял. И не только пространством, но и расположением духа расщедрился. А там уж, когда человек не абсолютно одинок, возможно налаживание контактов и с другими соседями по несчастью. И вот, глядишь, ты уже и признан «массой», и как бы прописан в ее владениях, растворен в ее «компонентах», и на тебя уже не обращают излишнего внимания, принимая за своего, слитного.
Были, конечно, и там исключения из правил. Двое держались особняком. Один из них обладал знаменитой фамилией расстрелянного поэта.
«Знаете, кто это? — указал отцу Яков Васильевич на одного из независимых. — Сын поэта Гумилева».
— И ты с ним познакомился? — спросил я отца… по прошествии пятидесяти лет со времени его пребывания в пересыльной тюрьме.
— Пытался, но ничего не получилось. Эти двое — сын поэта и сын профессора медицины Дернова — сторонились толпы. Не подпускали к себе никого. Из чувства самосохранения? Никому не доверяли? Не знаю. Но мне показалось — не считали нужным. Может, я ошибаюсь, но в поведении молодых людей сквозила надменность этаких римских мраморных мудрецов, место которым в Эрмитаже.
Отец не забыл и, я чувствую, не простил до сих пор иной, нежели у него, крестьянского сына, повадки держаться с людьми. Только и всего. Так мне подумалось вначале. А позже выяснилось, что я ошибался: простил, не мог не простить. Однако не забыл.
— Понимаю, что все это было смешно, несерьезно, наивно, — отец бесхитростно улыбнулся, — и то, как держались эти двое с себе подобными, и то, как воспринимал их поведение я, начитавшийся классиков, ратовавших за всеобщее милосердие и равенство (для меня, вчерашнего крестьянина, Достоевский — откровение, для них — в порядке вещей). Все мы тогда хлебнули горюшка — и гордые, и покладистые — одинаково. И я запоздало восхищаюсь камерной независимостью Гумилева, хотя бы чисто внешней.
Лично мне наблюдать сына двух великих поэтов пришлось однажды, в скорбный день похорон его матери — Анны Андреевны Ахматовой. В невообразимой, но какой-то чинной тесноте Никольского собора кто-то из моих знакомых указал мне на человека, фотографировавшего покойную, пояснив затем, что это-де сын Анны Андреевны. Поразило прежде всего не то, что передо мной сын Ахматовой, а то, что он занимался съемкой. В такие страшные минуты. Ну, пусть не страшные, пусть неизбежные, но хотя бы — таинственные. Тем более что в храме проходило богослужение. Не исключена возможность, что приятель мой ошибся и указал совсем на другого человека. Я — за такой вариант. И за неизбежные в этом случае извинения. Однако нависание над ликом усопшей фотоаппарата и как бы его полеты над гробом врезались в память отчетливо, будто вспышки магния в церковный полумрак.
…Вскоре после ареста отца поместили в одиночную камеру, и не в камеру даже, где койка приставная и параша выносная, а в некий каменный мешок или «багажник», где можно было только сидеть, скрючившись, но где можно-таки сосредоточиться и подумать о случившемся не суетясь, в какой-то мере раскрепощенно и даже независимо, — никто, помимо надзирателя, не влезет в душу, не вломится с бесцеремонностью равного. И сразу перед отцом возник вопрос: «Почему я здесь очутился?!» И — ответ: «Потому что ушел от Христа». И строчки Блока воссияли в сознании: «В белом венчике из роз впереди — Исус Христос!» Какой бы длительной и беспощадной ни была заварушка на улицах страны («Ой, пурга какая, Спасе!»), впереди — Свет, Надежда на исцеление. И на второй неизбежный вопрос — «Кто виноват?» — в памяти вспыхнул ответ вразумляющий и мобилизующий, и пришел он из дневниковой и «цитатной», в черной клеенке, тетради, где накапливались свои и «чужие» (гениев мира) мысли, той самой тетради, что послужила следователю «вещественным доказательством». Итак, ответ на вопрос: «Если ты, человек, сам не навредишь себе, не может навредить тебе ни друг, ни враг, ни сам диавол» (Иоанн Златоуст).
Первая ночь наедине с собой оказалась бессонной и в то же время милосердной: в эту ночь вызрело убеждение, что все «не зря», что испытания посланы ему во искупление вины его, заключавшейся в безмерней гордыне и одновременно в слабости духа. С осознанием вины пришло успокоение. А под утро — и сон. Но прежде — раскаяние…
Отец от радости просветления хотел было встать, распрямиться, но крепко приложился о камни «багажника» и малость поостыл в своих размышлениях. Однако именно с этих пор страдания тюремной и лагерной жизни сделались для отца более терпимыми, а сама жизнь — милосерднее и многозначимее. Пришло раскаяние.
Острее и неотвязнее прочих проступков кололо ему сердце одно давнишнее происшествие, из которого, как ему думалось и чувствовалось, вышел он форменным подлецом. Случилось это лет за шесть или семь до ареста, в начале тридцатых. Через всю Россию — к северу и востоку — двигались тогда голодные лишенцы, сгоняемые с земель, опустошенных раскулачиванием. Шли они тогда и через Ленинград в надежде подкормиться. Магазины, универмаги, рынки, бульвары и скверы, парки культуры и отдыха были забиты этими пилигримами.
Однажды, возвращаясь с Васильевского острова, где отец преподавал в Образцовой школе, наткнулся он у Львиного мостика на канале Грибоедова, возле своего дома-утюга, на толпу женщин, что-то громко и яростно обсуждавших, кого-то за что-то срамивших и чуть ли не бивших кулаками. Как выяснилось, ругали прохожую, постороннюю женщину, худущую, с черным, словно обугленным, лицом, обезумевшую от страха и голода, тянувшую руки к свертку с ребенком, которого у нее отобрала толпа. Трясли ее и поносили за то, что она хотела бросить в канал своего ребеночка. Женщина стояла спиной к толпе, глядя в мутную воду канала, и казалось, все еще раздумывала, бросаться ей с моста или нет. Ребенка ей в конце концов вернули, она привычно привязала его платком к себе, и теперь огромный сверток топорщился на тощем, изломанном боку женщины.
— Нет, вы полюбуйтесь! — кричала из толпы самая горластая, пожилая уже тетка. — Утопить дитю надумала! Кровинушку свою, окаянная, не пожалела!
— Да мертвенький он… Холодненький, — оглянулась медленно женщина и так посмотрела на всех, а том числе и на отца, что на мосту сделалось тихо. А мост маленький, пешеходный. И все, как в одной лодочке, на его досках. И отец испугался этого взгляда, заспешил прочь. То есть — поплелся к себе домой, в свое, пусть ничтожных размеров, девятиметровое, убежище, где ждали его — семья и относительный покой.
— Никогда себе не прощал и… до последнего часа не прощу, — говорил мне отец спустя полвека после случившегося. — Надо было за руку взять и привести домой. Пусть тесно, пусть чужая, посторонняя, грязь, вши… Приютить! Дело было к ночи. Пусть бы переночевала. Отдохнула бы, чаю попила. А я вот… мимо прошел. Струсил. Смалодушничал.
Такая на сердце ноша. На всю жизнь. И что знаменательно: впервые осознание вины, как я уже говорил, пришло к нему в одиночной камере. Осознание вины и обретение опоры в грядущих испытаниях. Недаром древний девиз — «Через тернии к звездам» — для отца с тех пор не просто утешающая истина, но — возбудитель добродетели и радости сердечной. А неустанно сопутствующий совестливому человеку вопрос «кто виноват?» получил тогда в мировоззрении отца недвусмысленный ответ: «Я!» Совершенствуя себя, совершенствуем мир. Раз и навсегда.
После одиночки была камера на двоих. Отец обрадовался новому человеку. Жить в необитаемом пространстве он еще не умел. Хорошо рассуждать об интеллектуальном одиночестве, находясь в толпе. Жить наедине с собой, да еще взаперти, может не каждый. Хрупкая человеческая психика чаще всего деформируется от вынужденного безлюдья. Последствия такой деформации непредсказуемы, потому что индивидуальны.
Но вот беда: человек, с которым теперь предстояло совместно обитать, был мрачен, то есть угнетен происходящим до крайней степени, общения сторонился, бесед не поддерживал и, казалось, в отличие от моего отца жаждал побыть наедине с собой.
К тому же человек этот, Безгрешнов Василий Михайлович, по роду своей деятельности (дотюремной, естественно) являлся представителем совершенно неизвестного, а значит, и малопонятного отцу круга людей, еще недавно облеченных властью и располагавших привилегиями. То есть — как бы и свой, российский мужик из крестьян или рабочих и одновременно — чужак, иностранец у себя дома, если вообще не инопланетянин.
По словам отца, «на воле» Безгрешнов был заместителем наркома путей сообщения Лазаря Кагановича, занимался электрификацией Мурманской железной дороги. Под следствием Безгрешнов находился уже целый год, «шили» ему контрреволюционный заговор, шпионаж и террор (убийство все того же Кагановича), то есть дело вели четко к расстрелу Василия Михайловича, но он оговаривать себя не спешил, обвинительного заключения ни в какую не подписывал. «Методы воздействия» к нему применяли самые разнообразные, то есть пытали с пристрастием, но Безгрешнов уперся. Как выяснилось в камере чуть позже, для Безгрешнова непризнание своей вины перед Родиной стало единственным способом продолжения жизни. Не «соломинкой», за которую хватаются в отчаянии, а как бы самим сердцебиением, о пользе которого не рассуждают, а ежели утрачивают, то вместе с жизнью.
Разбудил, расшевелил (если не воскресил!) Безгрешнова отец при помощи чтения книг, русской классики. В тюремной библиотеке Большого дома на Литейном имелась тогда хорошая, весьма «калорийная» духовная пища: «Война и мир», «Воскресение», «Преступление и наказание», «Братья Карамазовы» и даже однотомник Гоголя с «Выбранными местами из переписки с друзьями». На чтение вслух отец, естественно, испросил у Безгрешнова разрешение. Тот невнятно буркнул в ответ, и отец приступил к «озвучиванию» толстовской эпопеи.
Бывший путеец с каждым днем становился внимательнее, за происходящими в романе событиями явно следил, и когда отец, утомленный чтением, пожаловался на свое слабое зрение, Безгрешнов согласился «поработать». Вначале смущаясь, скованно, а затем все раскрепощеннее, а местами даже «с выражением» продолжил чтение «Войны и мира».
Толстого сменил Достоевский. Прочитанное, а для отца-учителя в который раз перечитанное, по ходу чтения пытались осмыслить совместными усилиями. Отец подметил, что Безгрешнову было безразлично то, как написаны великие романы, его совершенно не волновала непохожесть нервного письма Достоевского на степенное письмо Толстого. Бывшего замнаркома интересовал итог: что своим сочинением хотел ему, впавшему в унижение и немилость коммунисту, сказать автор? И есть ли связь меж его, автора, гениальными размышлениями и той жизненной ситуацией, в которую угодил читатель Безгрешнов? И нельзя ли этому обескураженному, отчаявшемуся читателю извлечь для себя из прочитанного утешение? Или хотя бы поиметь вразумительное толкование свалившимся на него бедам?
Речь шла о Наполеоне, а значит, о гордыне; о прозрении и смирении князя Болконского, смертельно раненного на поле боя; о мудром крестьянине Платоне Каратаеве, имевшем нравственные убеждения, которые помогали ему переносить тяготы плена; о повелевающих царях-императорах, посылающих на смерть народы, о ничтожестве этих царей перед лицом высших начал.
— Как вас понимать? — настораживался время от времени Безгрешнов. — Речь идет о… боженьке, что ли? Видите ли, я — член партии большевиков, а стало быть, неверующий. Ни в бога, ни в дьявола.
— А в свою партию? Разве не верите? Человек жив, покуда во что-нибудь верит. Хотя бы в… завтрашний день! В то, что он наступит.
— Если партия мне почему-то не верит… — начал было Безгрешнов, но в голосе его что-то надломилось, Василий Михайлович надолго замолчал.
Потом читали «Преступление и наказание». В перерыве опять рассуждали о гордыне и покаянии, о возмездии и милосердии.
— А я не совершал преступления, в котором меня обвиняют, — как бы случайно, между прочим пробормотал себе под нос Безгрешнов. — Не совершал, однако… наказан. Разве это по-божески? Это… это по-дьявольски!
На что отец согласно кивнул бывшему замнаркома, предложив то ли в шутку, то ли всерьез:
— Хотите, Василий Михайлович, обучу вас волшебному слову? Ни один следователь после этого не справится с вами. Не заставит подписать неправду. Ни один бес не боднет, копытом не лягнет.
— Подписать — значит получить «высшую меру». Я и так уже год держусь. Но силы не беспредельны…
— Потому-то я и хочу вам помочь.
— Вы что, серьезно?
— Повторяйте за мной: «Отче наш, иже еси на небесех… да святится имя Твое…»
Безгрешнов укоризненно рассматривал человека, читающего наизусть какую-то старушечью абракадабру, слышанную им в детстве и прочно забытую. Затем, отвернувшись от отца, размеренно зашагал по камере — взад-вперед, туда-обратно.
— Хотите, растолкую вам смысл этой бессмертной «белиберды», которую повторяет половина человечества? И повторяет чаще в минуты скорби, смертного ужаса, реже — в состоянии радости, из неосознанной благодарности. И почти никогда — в остальное время, то есть — в серые будни повседневности.
Отец толковал, как мог, импровизировал, проникая в слова молитвы, просвещая не столько Безгрешнова, сколько себя, так как прежде почти не задумывался над торжественно-архаичным звучанием молитвы. Потом уже, по прошествии дней, они пели эту молитву на два голоса, и надзиратель предупреждал их неоднократно, грозя карцером и некоторыми другими неприятностями, которые могли возникнуть в тюремной обстановке. Но они продолжали читать и тихо петь, потому что знали: сама тюрьма и есть для них высшая неприятность и что бы к ней теперь ни добавили — тюрьма останется тюрьмой, как жизнь — жизнью, а смерть — смертью.
Через какое-то время Безгрешнова увели на очередной допрос к следователю. Пение бывшим замнаркома «реакционных словосочетаний» походило один к одному на сумасшествие, по крайней мере — на частичное помешательство, и конечно же не производило впечатления духовного преображения бывшего атеиста. Особливо — на молчаливых, ко всему привыкших надзирателей. Дескать, чего только не случается с хлипкими интеллигентами на нервной почве. Каких только фокусов не выкидывают, окаянные. Их и сажают-то наверняка потому, как неизвестно, что от них ждать. Самое страшное для государства — неожиданные люди.
А ведь и впрямь, согласитесь — фантастическое зрелище: заместитель Кагановича распевает «Отче наш»! Даже с высоты нынешних, покаянно-реформаторских времен — впечатляет. Но факт остается фактом, живым историческим оттенком постижения человечеством путей к Истине. Поступком одной не окаменевшей души, запечатленным в другой живой душе — в сознании моего отца.
Со слов самого Безгрешнова, однако не без участия собственного воображения, отец рисует тогдашнюю сцену в кабинете следователя как весьма знаменательную, подвижнической окраски.
Видимо, Безгрешнов вошел в кабинет с несколько иным, нежели всегда, выражением лица, что не укрылось от внимательного, из-под ладони взгляда хозяина кабинета.
— Что это с вами, Василий Михайлович? Никак… решились?! Ну и правильно. Стоило мучить друг друга столько времени. Присаживайтесь. Слушаю вас, Василий Михайлович. Такая улыбка у вас сегодня хорошая… Предвещающая. Что вы там шепчете? Говорите громче. Или вот бумага, перо — излагайте.
Неожиданно Безгрешнов поднялся со стула, и оказалось, что он высокий, осанистый — видный, одним словом. Дряблые складки на похудевшем, некогда полном, дородном его лице расправились. В движениях проснулась военная выправка бывшего комиссара полка.
— Дело в том, что я вас теперь не боюсь, — отчетливо произнес Безгрешнов.
— Не понимаю… — опешил чиновник.
— И вот еще что: я не из тех, кто часто меняет свои убеждения. И если уж проникло что… в сердце — колом не выбьешь!
— Никто и не собирается… колом. Что, собственно, произошло?
— А то, что я теперь знаю: моя жизнь, а стало быть и смерть, не от вас зависит! Не вы мне ее дали, не вам и распоряжаться ею!
___________
В задачу автора этих «Записок» не входит подробное описание тюремно-лагерных мытарств отца или своих собственных, пусть не таких продолжительных и объемных, какими были они у родителя, но — также весьма впечатляющих. Придется обойтись без тщательного изображения всех этих нар, параш, вышек, попок, паек, этапов, бараков и прочих аксессуаров уголовного быта блатняжек или интеллектуальной атмосферы политкаторжан середины двадцатого века. Деталь хороша своей внезапностью, ненавязчивостью. Обобщения — ожидаемы. Долг русского литератора — еще раз напомнить миру, что народ мой, в сравнении с другими народами, принял в двадцатом веке страдания безмерные, безграничные, ни с чем не сравнимые, причем принял их снизу доверху, вширь и вглубь — начиная с кормящего страну крестьянства и кончая всеми остальными мыслящими, творящими, созидающими, терпеливо скорбящими и сдержанно ликующими слоями общества. Принял и устоял. Страдания воспитывают. Делают народ милосерднее и устойчивее. На лице государства начинает просматриваться улыбка. Вместо гримасы ожесточения. Улыбка надежды. Усталая и для стороннего взгляда загадочная.
17
Ловлю себя на желании поскорей разделаться в «Записках» со всем частным, автономным, для читателя малоинтересным, с неизбежными описаниями эпизодов детства и юности, принадлежащими только мне, разделаться, чтобы приступить к описанию событий и мыслеположений широкоохватных, всезначимых, населенных множеством сторонних личностей. Но разве уйдешь от своей судьбы? Пусть недолговечной, пусть для кого-то скучной, заунывной, однако — прожитой, а значит, и достаточно изученной, достоверной. Под определением «частная собственность» чаще всего подразумеваем мы собственность материальную, напрочь забывая о собственности духовной. И что цена этим имущественным категориям — разная. И что устанавливает цену общественная мораль того или иного государства. Отсюда чем нравственнее духовная закваска народа, тем выше на его идеологическом рынке цена за «фунт духа», в отличие от цены на материалистический «ситчик», от цены — на «материю». На фунт лиха. В заключение рассужденческого пассажа добавлю всем известное: чем ниже отметка общественной морали, чем бессердечнее срединные слои народонаселения, тем благоприятнее почва для возникновения всевозможной этнической бесовщины — благообразных тиранов, расточительных мздоимцев и прочих «лжецов и убийц», исповедующих религию зла, делающих темнее, непроницаемее не только свет угнетенной любви или тьму ненависти, но и туманную мглу равнодушия.
Велико желание — оглянуться. В пространства отшумевшего времени. Тобой исчисленного, просчитанного ударами твоего сердца. Что-то постоянно мешает порвать, расстаться с картинами и ощущениями далекого прошлого, всплывающими в памяти по законам эмоциональной (не физической) физики, то есть вовсе не так, как, скажем, всплывают на третий день утопленники в озерах и реках. Всплывают картины, воскресают ощущения, и не отмахнешься от них, потому что причастен… А значит, опять-таки никакой внешней последовательности в изложении. Калейдоскоп. Лабиринт. Чередование частного «сектора» с общественным — как самая на данном этапе развития общества разумная система жизнеосвоения.
Сегодня всплыла колония… И разве отпихнешь? Багром целеустремленности? Если, как сказал Пушкин: «И утопленник стучится под окном и у ворот»?
Ступив на тюремную дорожку, нужно было немедля решать: кем тебе быть? А точнее — слыть? За кого себя выдавать в преступном мире? Выражаясь специфически: за кого «хлять»? Потому что не твое это дело — тюрьма. Не родственное. Вот если бы, как говорится, «такой уж уродился», бедолага, ну и ладно. Судьбу не объедешь. А тут всего лишь — угораздило, занесло. И принимается подленькое, компромиссное решение: с волками жить — по-волчьи выть. То есть опять-таки по Дарвину — Мальтусу, а не по Христу. Не самим собой остаться, а приспособиться, то есть обмануть. Обмануть прежде всего себя. И все из нежелания… страдать. Из трусости. Колония, в которую меня определили, была наполовину воровская, наполовину «сучья», активистская. Итак, с одной стороны — ложный романтизм, с другой — официальный реализм. Не задумываясь над последствиями, я выбрал — первое.
Выдавая себя за представителя ущербного мира, можно было назваться кем угодно — «специальностей» хоть отбавляй: скажем, сойти за обыкновенного хулигана-«баклана», или за грабителя-одиночку — «стопорилу», или за мошенника, мастырщика хитроумных «бандеролей» и «кукол» с несуществующими дензнаками, что требовало определенных способностей, которых у меня, к счастью, не было; на худой конец — промышлять «сявкой», то есть быть пронырой, почти «кусошником», не брезговавшим на воле ничем, вплоть до попрошайничества и незамысловатого плутовства; или — «хапошником», вырывать добычу у зазевавшихся граждан и — давай бог ноги. Кем быть? В новой среде обитания? Лжеграбителем, лжефальшивомонетчиком или, самое последнее, лжеубийцей, лжемокрушником? Чтобы трепетали окрест и преклонялись…
Самой почетной профессией в этой среде была профессия вора. Не обязательно слыть в колонии вором в законе, потому что вранье раскусят непременно, разоблачат рано или поздно, особенно вранье такого ранга: воры в законе — наперечет. Они — «идеологи», имена их передаются из уст в уста, авторитет их проникает сквозь тюремные стены и лагерные заборы, как радиоволны. Главное другое, а именно — чтобы за тобой тянулся шлейф воровской репутации, а кто ты — «щипач», то есть карманник, специализирующийся к тому же по «чердакам», то бишь — верхним карманам, или по «скулам» (карманам внутренним), или по «жопникам» (карманам задним), а может, ты «домушник-форточник» или вокзальный «вертила углов» (чемоданов) — не столь это важно для репутации. Важнее было не выбрать роль, но органически ей соответствовать на людях, пристально наблюдающих за тобой всюду, особенно в первые, обживочные дни твоего обитания в колонии. Принюхиваются и присматриваются к тебе всюду: к твоим «ксивам» (документам) в канцелярии, в изоляторе, в «кандее», то есть в карцере, в бане на помывке, за игрой в карты, за употреблением шамовки, даже во сне.
Утвердиться в «романтическом» о себе мнении местных воришек в какой-то мере помогли мне наколки, сделанные на руках и ногах еще в ремеслухе на уроках черчения, где выдавалась тушь, а игла всегда имелась в подкладке фуражечки, а также — некоторые сведения из блатной жизни, усвоенные за годы оккупации, поездных послевоенных скитаний, обучения в той же ремеслухе. Я уже знал, к примеру, что, когда впервые переступаешь порог камеры и урки бросают тебе под ноги полотенце, перешагивать через него ни в коем случае нельзя, и если ты вор — оботри об него ноги и отшвырни подальше и как можно небрежнее, а затем, когда в камере «толковище» затеется и местное ворье начнет «качать права», выясняя, кого из авторитетных ты знаешь по воле, — называть можно не только, скажем, известного в районе Короля или Креста, но и что-нибудь «от фонаря», лишь бы пообразней, позабористей и одновременно жизненней звучало — к примеру, Пузо, Компот, Гвоздь, Горло, Горох или Чеснок.
Словом, на время пребывания в колонии решено было хлять за вора. Кличка Горб пришла за мной с воли, из стен ремеслухи. Умыкнутое со склада училища хозяйственное мыло, а также пара кирзовых бахил, которые мне «пришили» по делу, отправляя в колонию, давали право на воровскую аттестацию, и хоть судимости по малолетству не было — сто шестьдесят вторая, пункт «г», воровская статья просматривалась за моими отнюдь не ангельскими плечами, как крылышки, дающие право летать, а не пресмыкаться, находясь в зоне.
Привилегированное призвание необходимо было постоянно подтверждать делом, то есть — практикой воровства. Иначе решат, что ты «сявка», «фраер», а то и вовсе «сука», прикинувшаяся пацаном, воришкой, и когда тебя разоблачат, то могут порезать или поставить на кон, поиграть под твою судьбу в картишки.
Отчетливо помню, что руководила мною в принятии греховного решения не корысть, даже не романтика, не жажда приключений и воровской славы, не желание пожить за чужой счет, но прежде всего — страх очутиться в среде уголовников на положении ничтожества, раба, парии, ужасала перспектива жития под нарами или — возле параши. И действовал я почти неосознанно, по негласной подсказке затравленного событиями ребячьего умишки, сердечного чувства, не умудренного опытом сострадания, милости. А ведь согласно идеальной морали нужно было смириться и терпеть, вежливо нести крест мученичества. А нарождающееся чувство собственного достоинства, ростки гордыни и все прочие «сопротивленческие гены» духа и организма диктовали волю бунта, звали, как говорится, на бой с обстоятельствами жизни. Что я и принял безоговорочно, потому что результаты принципа боя — конкретны, наглядны, ощутимы твоим сознанием и оболочкой, тогда как «принципы терпения» если и несут в себе победоносный «конечный результат», плоды его, мягко говоря, умозрительны, произрастают где-то в перспективе; упиться, насладиться ими в ближайшем будущем не предоставляется возможным. То есть — верх тогда во мне взяла теория выживаемости, а более глубинная теория совершенствования отступила еще глубже, в свои потаенные пределы, чтобы напомнить о себе гораздо позже, в зрелые годы моего «пребывания» на земле.
Теперь вкратце — о нескольких эпизодах моего «вынужденного» воровства. Но прежде напомню, что происходило сие грехопадение летом 1947 года, когда мне еще не исполнилось шестнадцати лет, и что воровать я пустился не как все нормальные преступники — до тюрьмы, до наказания за содеянное, а как раз — по взятии меня под стражу. То есть — возмездие ко мне пришло прежде, чем я осознанно совершил деяние, преследуемое по закону.
Сразу же после пересыльной тюрьмы для малолетних на улице Ткачей («Дом палачей»), где нам в мартовскую холодрыгу читали «Два капитана» В. Каверина и где заявить о себе как о воре было нельзя (в тюрьме воровать не принято, там, если что надо вору, он просто отбирает у «фраеров» или меняется), в общем вагоне пассажирского поезда, в котором нас этапировали вместе с обыкновенными, «мирными» гражданами, отведя под нашу преступную братию полвагона, один из моих сопутников, мрачноватый и, как мне тогда казалось, почти взрослый, намного старше меня парень, как выяснилось, наблюдавший за мной по заданию уркаганов с тюремной пересылки, начал исподволь подбивать меня «на дело». Нет, он не заставлял меня воровать в приказном порядке, однако тонкими намеками давал понять, что ждет подтверждения моему воровскому амплуа, обозначенному на кисти моей руки татуированным солнышком. Дескать, ну, что же ты хвастал, или, как выражаются блатные, «хлестался», покажи давай на деле, на что ты способен, благо поле действия — общий вагон, набитый фраерами под завязку — вот он, под рукой, и не один, а целых двенадцать. А конвоирующие преступных малолеток воспитатель и два охранника будто бы сами не прочь поживиться добычей подопечных.
И я решил попробовать. Подгоняло сознание того, что жить мне отныне придется в колонии, что мнение обо мне складывается теперь и что если не докажу, не дерзну сейчас, именно в поезде, в дороге, то в колонии меня «расколют», а затем заклюют, втопчут в грязь, а подаваться в активисты, в «суки» то есть, в оппозицию уркам, даже в голову не приходило. Сказывалось воспитание не комсомолом и школой, а всего лишь — улицей, моралью безотцовщины.
Решив попробовать, метнулся я под нижнюю полку, на которой тесно, один к одному, кильками в банке жались мои спутники, и чьи ноги моментально закрыли меня от посторонних глаз. В те годы купейные отсеки общих вагонов не отгораживались наглухо друг от друга и под лавками запросто можно было проползти вдоль всего пульмана.
Кражу необходимо было совершить чисто формально, верней — ритуально. Потребность имелась в самом акте беззакония, а не в том, что он принесет в смысле материальной выгоды. Поздней, уже в колонии, с теми же ритуальными намерениями, пришлось, не раздумывая, совершить свой первый побег из помещения изолятора, который (побег) тут же шел тебе в «пацанский» (воровской) зачет. Неважно, что тебя тут же, возле забора отловили «попки»-охранники, важно, что по ту сторону забора отловили — за зоной. Побег прибавлял тебе пацанского авторитета. «Цветной» (блатной) обязан был совершить «отрыв». Сия энергичная функция входила в полномочия вора, в отличие от «полуцветных» и просто «сук». Здесь же добавлю, что среди многочисленных слоев колонистского общества имелась небольшая группа ребят, полностью отверженных, как бы меченых, неприкасаемых, из чьих рук нельзя было ничего брать, из чьей посуды запрещалось питаться, чьих хабариков или чинариков не разрешалось докуривать — иначе сам сделаешься «пидером», как их во всеуслышание именовали «цветные» пацаны и те «полуцветные», то есть провинившиеся, бывшие воришки, находившиеся в настоящий момент в услужении у пацанов, на языке колонии — «шестерки».
И еще: самое удивительное, непонятное, странное — это всеобщее послушание в дороге, отсутствие в среде юных арестантиков хотя бы малейшей попытки совершить побег с поезда, или где-нибудь в людской вокзальной гуще, или на волжской пристани, на пароходе и т. д. Возможностей удрать, исчезнуть, слинять было у нас тогда хоть отбавляй. Однако никто даже не помышлял об этом. И прежде всего потому, что урки дали зарок охранникам, отвечающим за нашу доставку, пообещали последить, чтобы был «полный ажур». И все это — в обмен на относительную свободу действий на время передвижения этапа, на возможность заниматься воровским промыслом. Охранникам сверх всего — еще и дармовая выпивка с закуской.
И вот я полез на брюхе по вагону за своим первым подвигом, причем с полным отсутствием какого-либо страха, тем паче — угрызений совести, с одной лишь мыслью: совершить, содеять, победить, встать над собой прежним, над окружающими меня «сявками», доказать уркам, что я не раб божий, но, как и они, божий бич, наказание господне на головы всевозможных скобарей и фраеров, которых необходимо беспощадно «доить», «щипать», «казачить».
Интересно, что сегодня, когда я уже приобщился к складыванию стихов, то есть ведя разговор со своей совестью, позабыв о блатной «философии», как о дурном сне, невольно вспоминая о днях, проведенных в колонии, неизменно хватался я за уникальный эпизод биографии большого русского поэта-мыслителя Е. А. Баратынского, эпизод, случайно почерпнутый мной из дореволюционного жизнеописания поэта. Обучаясь в кадетском корпусе, юный Баратынский был обвинен в краже и отчислен из учебного заведения, так что затем угодил в солдаты, служил на Севере, в Карелии, словом, тоже страдал, причем не по политическим мотивам. Мне почему-то было приятно сознавать, что если уж великие оступались, причем — когда! — в просвещенный, «классический» девятнадцатый век, то уж мне, грешному, рожденному меж двух великих войн, нещадных миропотрясений, в эпоху разрух, междоусобиц, геноцида, концлагерей, массовых уничтожений, — сам рок велел соприкоснуться с кровью и грязью, порожденными насилием. Однако — не захлебнулся же в них! Хватило силенок всплыть наружу, к свету. А с чьей помощью — разберемся потом. В дни великих раздумий.
Находясь под вагонной лавкой, я наверняка не размышлял о губительных для себя последствиях нравственного характера. Меня волновали проблемы попроще, сугубо практического свойства, а именно: как выкрутиться, как не попасться, выйдя на охоту (охотятся ведь не только охотники, но и звери, травимые людьми).
Сейчас уже не помню, что я тогда украл. Какую-то сумку или кошелку, на дне которой лежал кусок хозяйственного мыла или что-то в этом роде, — люди жили бедно. Запомнилось, что в этой почти порожней сумке обнаружился огромный самодельный нож с деревянной ручкой, «придуманный», скорей всего, из обломка крестьянской косы, нож-косарь. Наша братия моментально присвоила стальное «перышко», а сумку и все, что в ней имелось, тут же вернули хозяину, потому что в вагоне поднялся хай. Парень, который посылал меня «на дело», похвально отозвался о моей работе: «Толково!» Потому что, как выяснилось, сумку я вытащил из-под «нужного места» — из-под головы спящего мужика, то есть — действовал квалифицированно. «С-под ног бы — ни в жисть! — констатировал урка. — Сразу бы рюхнулся фраер. С-под головы по сонникам — хоть чего увести можно. А с-под ног — замучаешься».
Дело было сделано, экзамен выдержан. На окружающих меня сверстников отныне посматривал я снисходительно, на воспитателя и охранников — дерзко, с вызовом. Но ощущение бездны, на чей край я тогда шагнул, не отпускало в подсознании, явственно холодило душу, и что-то более грозное и величественное, нежели бездна падения, не позволяло полностью забыться и ринуться, наплевав на все, понестись, сломя голову, в пропасть. Не страх, не разумный расчет, не «окружающая среда» повлияли, а вот именно нечто врожденное и неизжитое, эфемерное, но крепче дамасской стали, на чем свет держится-стоит — сие и помешало сгинуть.
Так что же оно такое, сие нечто, именуемое в дальнейшем — совесть? Какой такой генный механизм вырабатывает в человеке ее хромосомы и «остаточные признаки»? По чьей воле, с какой стати, во имя чего, наконец, бессмертное человечество, как бы низко ни падали отдельные его агнцы, а также поводыри и наставники, — продолжает оставаться в союзе с Духом или со всем тем, что под этим прозрачным словом подразумевается? Ответ в самом человеке. Но зарыт он глубоко. И откопать его в наносных слоях сознания не есть ли наипервейшая заповедь самосовершенствования?
Второй «охотничий» подвиг совершил я тогда же, по дороге в колонию, как бы уже по инерции удачи. Произошло это на одной из саратовских пристаней, под открытым небом, среди скамеек небольшого речного дебаркадера, где томились пассажиры в ожидании своего рейса. Охранники отпустили нас «порыбачить», оговорив условие: если «погорим» — выкручиваемся сами, за кражу и за побег — отвечаем самостоятельно. Никола, так звали урку, опекавшего меня в совершенствовании воровского ремесла, неожиданно и абсолютно спокойно взял в руки чей-то посторонний чемодан, довольно объемистый и, как выяснилось позже, самодельный, изготовленный из фанеры, но главное, тяжелый и… чужой. Выйдя из узкого пространства меж скамеек, на которых спали и дремали сморенные весенним солнышком люди, Никола сунул в мою сторону чемодан, шепнув: «Да хватай же, падло…» То есть, выражаясь профессионально, дал мне «пропуль». Я принял чемодан и, зачарованно глядя, как Никола «отваливает» от меня в сторону соседней пристани, не чувствуя под собой ног, двинул в том же направлении. Страх парализовал во мне все, кроме движения. Я не смел даже оглянуться и сориентироваться. Был уверен, что все на меня смотрят с насмешкой и презрением, как на заглотившего крючок карася. Чемодан, казалось, вот-вот оторвется или взорвется и разнесет меня на куски. И… слава богу.
Но — обошлось и на этот раз. Трясина, так сказать, прогибалась, но — выдерживала. В зале ожидания пристани меня поджидал Никола, наблюдавший, нет ли за мной хвоста. Он выхватил у меня чемоданишко, и мы направились прямиком в какую-то деревянную будку, стоявшую в углу зала и предназначавшуюся неизвестно для чего: на ее стенах не висело телефонного аппарата, не было в ее полу и «толчка», то есть туалетного отверстия, не продавались в ее недрах билеты или газированная вода. Короче — будка-пережиток, будка-атавизм. Поместились мы в этой будке запросто — вместе с чемоданом. В чемодане что-то глухо, невесело брякало, шарахаясь о фанерные стенки, как птица в клетке. На чемодане имелась петля с накладкой, в петлю продет незначительный висячий замок. Никола мигом отпер его, поддев чем-то металлическим. В чемодане опять-таки ничего существенного не было. То есть — имелось два точильных или мельничных камня-диска и еще что-то ничтожное, какая-то сухая палка или корешок. Как выяснилось — домашняя колбаса. Никола моментально вонзил в нее зубы и тут же взвыл от боли: колбаска оказалась железной! Или — тоже каменной. Как диски.
Мы даже не стали брать эту колбасу, не говоря о камушках. Захлопнули чемодан, а чемодан, в свою очередь, захлопнули в будке. Скрипучей дверью. И сделали это вовремя, так как по залу ожидания уже ходил потерпевший в поисках пропажи. То был невероятно тощий, морщинистый и весь какой-то изогнутый вдоль и поперек старик. Он не кричал, не суетился, не метался в отчаянии, он просто и деловито заглядывал во все углы и закоулки, покуда не сунулся в будку. Чемодан вынес оттуда спокойно, как из камеры хранения. На его измятых временем губах играла едва заметная улыбка — заурядная, ожидаемая, тихая улыбка человека, которого ничем уже не удивишь, разве — малость позабавишь, в сотый раз подтвердишь догадку, что жизнь — штука хорошая, да вот беда — прошла, не воротишь.
Помнится, старика даже сделалось жалко. Что-то шевельнулось в груди. Не скажу, что именно посетило тогда оскаленную душу мою — раскаяние или разочарование, однако — посетило.
Третий и последний эпизод моей преступной деятельности, окончательно поколебавший веру в романтическую прелесть «воровского гуляния», произошел на железнодорожном вокзале города Саратова. Как сейчас вижу просторное, выложенное кафелем пространство зала, оконтуренное жесткими диванами, на которых сплошняком теснятся «граждане пассажиры», и мы, этапируемые юные преступники, в том числе. В те годы народ, передвигаясь по стране, держал свои небогатые вещички строго возле себя, не спускал с них глаз, то и дело ощупывал, оглаживал мешки, котомки и деревянные, реже фибровые чемоданишки. Что-либо «увести» из-под такого надзора могли только настоящие профессионалы-фокусники, которых выпестовали полуголодное существование, вселенская нужда и разруха, подаренные миру гражданской и Великой Отечественной войнами.
Наверняка и теперь некоторые воруют. Чаще — у государства. И происходит это не от голодного головокружения, а словно бы по традиции беспринципности, с продолжением эстафеты вседозволенности, возникшей на заре нашей государственности в геенне огненной событий, когда было решено «весь мир насилья» разрушить до основания, и чуть позже, когда сшибали с вершин российского пейзажа не столько церковные кресты, сколько вековечные гуманистические постулаты: не убий, не укради, не прелюбосотвори, не пожелай… недозволенного, но — возлюби ближнего своего, как самого себя, и т. д. Не из крайней бедности сейчас воруют, а чаще — из зависти, и не только у нас, при социализме, но и там, где «загнивающее» изобилие, так что и явление это, именуемое воровством, не столько социальное, сколько психическое, из той же громоздкой копилки, где концентрируются пороки человечества, в отличие от куда более скромной копилки, суммирующей людскую благодетель.
Люди, сидевшие на составленных цепочкой вокзальных диванах, почему-то напрочь позабывали, что сидят-то они не столько на диванах, сколько на энном количестве ничем не заполненного, вытянутого кишкой воздушного пространства, ограниченного с четырех сторон, попеременно — кафельным полом, каменной стеной, деревянными досками сидений и частоколом собственных ног, маскирующих работающего вора, червем извивавшегося в поддиванной «трубе» — с определенными намерениями.
На одну из «ходок» под диваны был запущен и я. Передвижение там осложнялось деревянными рейками-перекладинами, крепящими диванную конструкцию. И все-таки задание необходимо было выполнить, чтобы окончательно убедить Николу в моих намерениях и возможностях, утвердить за собой «авторитет» умельца. Мое внимание привлек темно-зеленый эмалированный бидон литра на три, плотно закрытый крышкой, из-под которой торчала белая тряпица, аппетитно пахнувшая… пчелиным медом! По бокам бидона болтались чьи-то несерьезные, в цыпках и царапинах, давно немытые невзрослые ноги в дырявых спортсменках, из которых сквозь прорванную синюю парусину выглядывали маленькие розовые пальцы.
И тут среди ног, в их лохматой занавеси отметил я две странные, знакомые мне порточины расклешенных брючат с огромными вставными черносуконными клиньями, отличавшимися по цвету от остального полинявшего полотна штанин, в которые эти клинья были вставлены. «Николины шкарята! — осенило меня. — За них и спрячу бидон!» Неслышно подвинув бидон в сторону николиных штанов, что свисали с дивана в полутора метрах от хозяина «вкусного» бидона, я поспешил наружу из воровского тоннеля.
Примостившись затем на диване возле Николы, в ответ на его настырное, беспощадное: «Ну?!» — шепнул ему на ухо: «Бидон с медом увел!» — «Где бидон?» — «У тебя в ногах». Никола заинтересованно и предельно аккуратно пошарил под собой и, обнаружил ворованное, наградил меня теплым, пропахшим табаком словцом: «Молоток!»
И только тогда обратил я внимание на человека, обворованного мной. Это был мальчик лет десяти, белоголовый, худенький, в неярких веснушках, рассыпанных вокруг загибистой, седлообразной переносицы. Наверняка деревенский житель. В застиранной, неоднократно ремонтированной одежонке с чужого плеча. Он уже хватился бидона, обнаружил его исчезновение. Голубые глазенки были широко распахнуты в тихом ужасе. Я проследил за направлением взгляда паренька: глаза его следили за приближением мужчины в сером ватнике, серых кирзачах и такой же серой кепчонке с переломленным козырьком.
— Тя-я-тя-я… — плаксиво запел, обращаясь к приближающемуся мужику парнишка, «пролопушивший» бидон с медом.
— Хр-р-е-ен ли тя-ятя! — передразнил сына отец, который по одному только виду мальца, по плачущей интонации голоса ребенка, на расстоянии понял, что стряслась беда, что, пока он ходил в ларек пиво пить, их обобрали, не устерег «гаденыш» товар. — Хре-ен ли тятя! Разинул варежку, а бидон-то и увели! — и хвать сынишку за ухо и ну — крутить! Парнишка только вякнул, однако кричать не стал, терпеливо сносил истязание. Слезы беззвучно вспыхивали на его щеках.
И тогда моя нога, непроизвольно нашарив под скамейкой бидон, вытолкнула, катнула его на свет божий, посудина с веселым песочным писком поехала, заскользила по отшлифованному подошвами кафелю — прямо к ногам ошалевшего мужика. Он тут же отпустил ухо мальчика, изрядно опешив, затем нашарил рукой проволочную дужку бидона и, склонив голову на грудь, с виноватым видом поплелся прочь из зала ожидания. Сынишка его, перестав плакать, поспешил за отцом, на ходу вытирая слезы рукавом рубахи. Я все ждал, что мальчик благодарно улыбнется. Однако — не улыбнулся. Оглядывался он еще не раз, пока добирался до дверей. А вот улыбнуться не смог. На заалевшем от слез и треволнений лице ребенка не было ничего, кроме недоумения.
— Т-ты это чего, падла? — спросил меня Никола змеиным шепотом.
— Жалко малявку, — усмехнулся я как можно независимее и залихватски, сквозь зубы сплюнул на общественный кафель. — Мужик ему чуть ухо не оторвал, сука.
Сейчас, когда я пишу эти строки, то есть сорок лет спустя после истории с бидоном, за ночным окном моего садового домика — летнее ненастье: неделю уже льет дождь, шумят тяжелые сочные листья июньских яблонь, а в двадцати метрах от окна, невидимая в белесой ночи, несет свои мутные, припухлые от дождей воды Западная Двина; по другую сторону садового участка, чуть выше, на береговом взгорке и тоже метрах в двадцати от моего окна, за кустами орешника, под вековыми могучими соснами — спит сельское кладбище. По радио сообщили, что где-то меж звезд нашей галактики летит американский космический аппарат «Пионер», запущенный в космос шестнадцать лет назад и до сих пор подающий сигналы. На нем имеется табличка с изображением людей планеты Земля — женщины и мужчины. По расчетам астрономов станция будет двигаться еще около двух миллиардов лет.
Оглядываясь на свой путь, проделанный среди земных звезд и который, к счастью или сожалению, завершится куда как быстрее, нежели звездный путь «Пионера», я ловлю себя на мысли, что путь мой программировался не ради механического постижения пространства, это был путь очищения от скверны, которой снабжает нас доля земная, путь, который предлагает смертному грешная жизнь, словно и впрямь готовя его к духовному бессмертию.
Вся жизнь моя прошла в труде высвобождения от многочисленных пороков. Познать радость очищения — вот благо, выше которого не поднимается даже радость творческая, имеющая, «прямой провод» к первородному человеческому изъяну — гордыне, очиститься от коей главное и, чаще всего, последнее желание каждой серьезной мыслящей личности.
Соблазн воровства не прижился во мне. И отринуть его помогли не разум, не трезвые размышления, а способность сопереживать «потерпевшему», то есть качества, с профессией вора не совместимые.
А началась воровская практика еще в годы войны, оккупации, когда взрослые, можно сказать, подбивали ребятишек на воровство у немцев, оговаривая такой способ добычи чужой собственности чуть ли не как подвиг. Украсть у врага значило нанести ему урон, поколебать его устои. А то, что война рано или поздно окончится, что юному добытчику придется жить в условиях мирной морали, в расчет не бралось. Война, дескать, все спишет. Такая, с позволения сказать, мудрость о списании грехов пронизала в военное время все общественные слои сражающегося народонаселения, погубив в нравственном отношении — на корню! — тысячи и тысячи неокрепших душ. Никто у нас об этом отчетливо, вслух до сих пор не говорил, но это не означает, что разлагающего влияния войны на советских людей не оказывалось. Война — это не только подвиги, но и падения. Даже в среде защитников Отечества. Даже в среде героев, не изменивших долгу, но изменивших, скажем, жене, дружбе, пинавших ногой собаку, забывавших ради очередного ордена о ведомом… Скажут: что ж, война — это жизнь. Нет, не жизнь, а ее уродливая, искаженная модель. Жизнь-инвалид. Порождение сил зла. То есть — дьявольское порождение, как сказали бы во времена Отечественной войны 1812 года.
Итак, воровство, слава богу, не прилипло. Не числится за мной ни одного убийства (человека или зверя, собаки или кошки на совести — ни одной). Вот разве что птицу по глупости пристрелил. В тайге, в экспедиции. Птицу кукшу. Бесполезную в смысле употребления в пищу. Не являющуюся охотничьей дичью. Дали подержать винтовку-малокалиберку, ну и взыграло… Военных времен закваска сказалась, убойная магия оружия побудила к баловству. Но сразу и опомнился. Держа за распятые крылышки подстреленную кукшу, дал клятву не брать в руки оружия, по крайней мере — добровольно. Ну и… рыбок в свое время не щадил. И насекомых. А теперь, убивая муху или комара, если и не прошу у природы прощения, то, во всяком случае, вспоминаю, что и они — живые, а значит — чудесные. Итак, душегубцем не был, а ранения — вольные и невольные — наносил. И чаще — людям. И глубже — родным, близким.
Хорошо бы исчислить все свои пороки и слабости, сделать им, так сказать, инвентаризацию, пронумеровать, наклеить на них ярлыки и бирки, выставить на обозрение в музее Морали и Нрава.
Врал, обманывал? Да. В основном по молодости. И по пьянке. Врал, однако не часто и — по мелочам. И чаще не врал, а молчал «до упора», не сознавался, Хоть калеными клещами тащи признание. Это — в детстве. С годами, с чтением великих книг, с принятием опыта «любви и страданий», отпала и эта гнусная заботушка — врать людям. Что же касается личной стороны дела, а именно — не врать себе, то здесь, видимо, еще не все так идеально, потому что внутри себя отделить действительное от желаемого куда сложнее.
Кстати, о пьянстве. Было? Было. Еще как. До белой горячки. Удалось преодолеть? Похоже, что так. Восемнадцать лет не приемлю спиртного. Ни водки, ни вина. Ни пива. Двадцать лет не курю. Что еще? Леность духа? Которую надлежало вытравлять из себя каждодневным трудом при помощи письменного стола, бумаги, машинки и прочих письменных принадлежностей. Там же, возле стола, высвобождаться и от лености телесной. Что дальше? Скупость, зависть, блуд, непочтение родителей? Деликатно промолчать? Ведь если скажу, что избавился от этих пороков или не имел их никогда, кто поверит?
Странно, в общественных пороках копошись сколько угодно, особливо теперь, с включением «сверху» кнопки гласности, а в частных, личных, своих, то есть уникальных грешках — не принято, не этично, а стало быть — и не обязательно. И это — несмотря на вековечный нравственный закон: начинать нужно с себя — очищаться, каяться, совершенствоваться.
Итак, из необузданных, непокоренных слабостей отмечу в себе затухающую, однако все еще вспыхивающую гневливость, беспомощную и оттого еще более омерзительную; затем — страх, впитанный с молоком матери в страшные, зловещие тридцатые, поначалу голодные, позже — доносные, шепотливые, далее предвоенные, с затемнением света в финскую кампанию, с синим светом электролампочек в подворотнях, страх военного произвола и послевоенной неприкаянности, страх тюрьмы, одиночества, отчаяния, пронизавший дух и плоть, мозг и кровь, страх не перед стихийными бедствиями, не первобытно-языческий, но страх цивилизованный — перед вероломством собрата-человека, страх — убийца добра в сердце. Что еще? Нет… Пожалуй, и впрямь ни к чему продолжать. Страх смерти? Имеется. Хотя и постепенно испаряется. Боязнь… любви. Да, да. С годами приходит и такое. Хочется, чтобы тебя поменьше любили, чтобы полегче было расставаться с «дорогими, хорошими», как сказал Есенин.
___________
Дважды в этой главе пытался уйти, отклониться от темы колонии, лагеря, уголовного мрака, но вот же — всплывают новые подробности, без которых не обойтись, и я возвращаюсь «за проволоку».
Местечко или городок, на окраине которого располагалась наша колония, назывался в высшей степени внушительно — Маркс. Где-то чуть выше или ниже (забылось уже) по течению Волги находился и городок Энгельс, впоследствии получивший промышленное развитие (знаменитые троллейбусы). А Маркс захирел. Во всяком случае, на протяжении последних сорока лет ничего определенного об этом городке я не слышал — ни по радио, ни по телевидению, ни из печати.
Когда-то, еще до войны, в Поволжье жили советские немцы. Отсюда и названия городков, именовавшихся прежде как-то иначе. Можно справиться в энциклопедии. Почему-то хорошо запомнилось немецкое кладбище в городе Марксе. На фоне глинобитных, чахлых построек и такой же тусклой растительности кладбище выделялось своими чуть ли не драгоценными камнями надгробий: прежде подобные разноликие шлифованные граниты, шпаты-агаты и мраморы с бронзой доводилось мне наблюдать разве что на немецком императорских времен кладбище Васильевского острова, то есть — на столичных невских берегах, а не в порожних, тоскливых степях Заволжья. Еще запомнилось, что рядом с нашей колонией, забор в забор, простиралась зона лагеря для немецких военнопленных. Удивляло, что среди немцев было много расконвоированных солдат, которые преспокойно разгуливали по городу, тогда как мы, русская и прочая советская пацанва, подсматривали за ними в заборные щели, а если и передвигались иногда по марксовским улочкам, то непременно — под конвоем, с охранником.
Подробно распространяться о своем пребывании в колонии не стану; когда-то в повести «Первые проталины» я уже касался этой темы. А сейчас — только о самом «горячем», о том, что больнее прочего обожгло, о тогдашних ощущениях и нынешних осмыслениях.
Восприятие зоны, загородки, забора (который пацаны почему-то называли «баркасом»), с приданной ему разрыхленной граблями контрольной полосой, с вышками, где торчали «попки» с винтовками, то есть восприятие неволи не происходило у меня столь болезненно, как, скажем, у подростков, не знавших немецкой оккупации. На все эти охранительные, заградительные аксессуары насилия я уже вдоволь к тому времени насмотрелся за четыре года войны.
Еще летом сорок первого в военном городке под Порховом немцы организовали огромный лагерь для наших пленных, и мы, ребятишки, ходили туда отыскивать близких или соседей, носили кто что мог из еды и лекарств, помогали некоторым из пленных бежать. Немцы тогда еще не зверствовали запланированно, все зависело от нрава и характера охранника, возле которого ты терся, стараясь проникнуть на территорию лагеря. Чуть позже многое изменилось: в городке и вокруг него стали происходить диверсии, возле Порхова стали создаваться боевые партизанские отряды, немцев принялись убивать. Пленных огородили еще одним рядом колючей проволоки и не только не стали к ним пускать, но и подпускать близко: можно было нарваться на предупредительный выстрел с вышки, который производился как упреждающий.
Затем, когда в Порхове патриот-одиночка, работавший киномехаником в городском кинотеатре, подорвал во время сеанса для офицеров и медперсонала здание театра, где погибло более двухсот человек, в Порхове арестовали все взрослое мужское население, распределив его по трудовым лагерям и тюрьмам, а тех, кого подозревали или кто не понравился военной администрации, незамедлительно отсылали на тот свет. Мне тогда двенадцати лет еще не было, а в лагеря хватали с пятнадцати. Взяли родственников — моего пожилого дядю и его сына, моего двоюродного брата. И я каждую неделю ходил из Порхова на станцию Дно — двадцать пять километров туда и столько же обратно — носил передачи: десяток морковин, луковицу, пару овсяных лепешек, обмылок немецкого эрзац-мыла, подобранного мной на немецкой госпитальной помойке. Естественно, что в лагерь «посторонних» не пускали. Обычно я караулил колонну лагерников, когда они возвращались в зону со своих котлованов, карьеров и насыпей, незаметным образом вручал свой узелок родственникам, подававшим мне знак. А однажды случилось «благоприятствие», я затесался в их толпу, и таким макаром проник в лагерь, и некоторое время пожил там на правах заключенного — возле двоюродного брата. Обнаружили меня, то есть лишний рот в лагере, на другой день. Продержали в конторе и даже в камере лагерной гауптвахты. Потом, выяснив, кто и что, поддали под зад коленкой. Немцы народ пунктуальный: раз нет на человека документов — значит, иди вон.
Немцев в Порхове хоронили на местном стадионе. После войны, через много десятков лет, поздней осенью, когда выпадал первый снег, на равнинном поле стадиона можно было видеть как бы «стиральную доску» — волнообразный профиль от бывших захоронений, которые хоть и сравняло неумолимое время, но не до основания.
Вспоминая тот памятный порховский «киновзрыв», не могу не добавить, что помещался театр в единственном «высотном», четырехэтажном краснокирпичном здании бывшего горисполкома, возведенном в 1913 году столь надежно, что стены его выдержали страшный взрыв и последующие бомбежки и артобстрелы, и, когда лет через тридцать после войны я приезжал в Порхов погрустить о прошедших днях жизни, здание сие все еще торчало на берегу Шелони, напоминая мне и всем нам, кто пережил в Порхове войну, о смертном ее дыхании, о невозвратных тревогах моего детства, не знавшего понятия скуки.
И все ж таки «закрытый», подконвойный, арестантский образ жизни я ощутил именно тогда, в войну. Да и что они сами по себе — годы войны — как не подневольная, лагерная жизнь, только вот зона пошире — от западных границ до берегов Волги и Невы, от Балтийского моря до Черного. Туда нельзя, сюда нельзя, «стой, стрелять буду!». Саботаж, пособничество. За нарушение — пуля. Взрослые — при оружии, воюют, пайку получают, а ты, представитель мирного населения, как хочешь, так и выкручивайся. Окончится война, загремят победные салюты, воевавшие вчера люди найдут себе место в жизни, а для тебя подыщут спецграфу в анкете: был ли ты или нет на территории, временно оккупированной немцами, — самой постановкой вопроса уже как бы обвиняя тебя в чем-то. А в чем? Крыльев-то не имелось, чтобы подняться и перелететь куда-нибудь за Урал или в Ташкент — город хлебный. Не отросли еще крылышки к тому времени — это у детей, а у стариков — уже как бы отпали, отсохли в тоске и немочи, а не «в борьбе и тревоге».
Одним словом, по окончании войны, то есть при собственной советской власти, у себя дома, оказался я, как ни странно, в заключении.
Что значит — воспитательно-трудовая, закрытого типа колония для несовершеннолетних образца 1947 года? Прежде всего — сообщество людей, но — весьма странное сообщество. Помимо активистов и тех, кто в «законе», — всевозможные «полуцветные», сявки, шестерки… то есть дилетанты в воровском деле. Были еще «придурки-мены», нечто вроде блаженных, затем — вовсе отверженные, «пидеры», изнасилованные ворьем в наказание за что-либо самым скотским образом. До этих парий нельзя было даже пальцем дотрагиваться. Питались они за особым столом, ели из своей, меченой посуды, которую держали при себе, сами ее мыли. Хлебная пайка этих несчастных чаще всего не доходила до их стола, ее заворачивали на воровской стол. Но уж если она дошла, коснулась поганого места — брать ее никто не мог под страхом самому сделаться пидером. Иногда изголодавшийся изгой прямо на раздаче бросался на поднос с хлебом, и все, что он «помечал», доставалось в тот день «сукам». Били меченых только палками или плетками, то есть — на расстоянии вытянутой руки, без непосредственного контакта тела о тело.
Главным занятием на воровской половине колонии была игра в карты. Карты мастерили («мастырили») сами пацаны. Замастырить стос — такая забота возникала чуть ли не каждый день, ибо самодельные картишки быстро изнашивались. Делались «колотушки» из любой оберточной, обойной, даже газетной, в несколько слоев бумаги.
Основным, можно сказать единственным, инструментом в деле является нож (на пацанском языке — «пика», перо, «месар» — от немецкого «мессер») — остро, до бритвенной «жалости» отточенный обломок полотна лучковой пилы или рашпиля, стамески. Ножом бумага нарезалась на определенное количество заготовок, причем, если бумага оказывалась слишком тонкой, число заготовок «двоили» или «троили». Ножом вырезали трафаретки — ромбики, сердечки, крестики. Затем склеивали половинки. Каждая карта была двух- или трехслойной. Это придавало ей эластичность. Для склеивания изготовлялся самодельный клейстер. В ход шла хлебная пайка, которых у ворья всегда был излишек, запас, наигранный в карты и хранившийся под матрасом или подушкой. Из пайки брался только мякиш, кем-либо тщательно разжеванный до полужидкого состояния. Затем месиво протирали на простынке. Чаще всего совершал сию процедуру тот, кто жевал. Четверо держали простынку в натянутом виде, втиратель выливал на нее кашицу изо рта и начинал тыльной стороной ладони втирание. Через определенное время простынку переворачивали и ложкой соскребали с ее испода готовый клейстер. Клейстер наносили на половинки карт, обжимали и прессовали, далее заготовки поступали в сушку. Сушили при температуре около тридцати семи градусов, то есть — натуральным способом: часть пацанов ложилась плашмя вверх животом на коечки, задирали на животах рубахи, на животы раскладывались сырые заготовки и вновь накрывались рубахами. Хорошо, когда в колонии кто-нибудь из своих как следует температурил, тогда его, как горчичниками, обкладывали заготовками, скорость сушки повышалась.
Сухой стос, издающий при сгибании характерный треск, обрезали, предварительно спрессовав и накрепко обмотав веревкой — сперва вдоль, затем поперек колоды. Обрезали по линейке. Затем стос, или, как его еще называли, «бой», парафинили. Для этого плавили огарки свечей в гуталинной баночке и в горячий раствор окунали обрезанные, ошлифованные на камне края колоды. Далее — печатали масть. На краску шли соскребы с бордюра под потолком на стене комнаты, печная сажа или резиновая, с горящей подметки копоть, ложившаяся на подставленное к кипящей резине стекло. Иногда для придания символической яркости и прочности, для везения-фарта в красный цвет добавляли собственную кровь. Для этого слегка «полоскали» бритвой руку меж большим и указательным пальцами и сцеживали в баночку кровь, по нескольку капель — у всех по кругу. Ритуал. Игра. Краску разводили на том же клейстере. Получалось довольно прочно и отчетливо. А если еще к тому же трафаретка удачная, художественная, вырезанная со вкусом, а то и замысловато — тогда и вовсе шикарно выглядело.
Играли в основном «под интерес». Главным образом — под хлебную пайку. Хлеб в колонии — валюта. И вообще — нечто мистически-верховенствующее. (Помню одного белобрысенького, лет десяти на вид мальчика, «придурка-мена», то есть юродивого, который беспрерывно, на ходьбе по территории в зоне и на сидении в корпусе на койке повторял, как заведенный, одну и ту же фразу изо дня в день: «Ешь хлеб, не буду есть! Ешь хлеб, не буду есть!»)
Воры в законе играть на свою личную пайку, «кровняшку», права не имели. Запрещалось законом клана. Урка, проигравший в горячке азарта «кровняшку», по решению «толковища» мог быть объявлен сукой.
В игре ходили, а говоря современным языком — были задействованы пайки многочисленных должников, данщиков, слабосильных и слабодушных «фитилей». У среднего вора всегда имелся под рукой целый список имен и кличек должников и «отмазчиков», на чьи пайки мог он преспокойно рассчитывать, садясь за «подушку» (играли, то есть кидали карты не на стол или скамью, а на подушку — для удобства поддевания пальцем карты, для скорости игры). По этой части имелись свои виртуозы, за ними ходила репутация «исполнителя». Играть старались честно. Однако некоторые из воров «мухлевали», играли на лишних картах, пряча их, как фокусники, в рукава одежды и при малейшем подозрении били напарника по игре в лоб, в момент удара карта из рукава вылетала за спину ударенного, и поди тогда докажи «мухлевку». «Исполнители» пользовались уважением. Им даже охотнее давали «на отмазку» свои пайки. В случае выигрыша взятая на отмазку пайка возвращалась, но далеко не всегда. В благодушном состоянии урка мог шикануть, крикнув голодному данщику-должнику: «Скащаю!» То есть возвращал ему право на одну пайку. Возле воров всегда толпились «кусошники», попрошайки на подхвате, потому что вечером во время игры хорошим тоном было, сняв очередной куш, бросать хапошникам выковыренный из горбушки мякиш, а хрустящими корочками урка пользовался сам, ибо корочки почитались за лакомство.
Играли урки, как я уже говорил, не только на хлебную пайку, но и подо что угодно: под сахарок, жареную рыбу, которой обеспечивала колонию близлежащая Волга, играли на капли из медпункта, пахнувшие спиртом (проигравший обязан был стянуть их оттуда не позднее завтрашнего утра); играли под имущество «вольняшек», то есть вольнонаемных, работавших в колонии; играли на побег, когда проигравший обязан был перемахнуть через забор. Совершившего побег тут же под холостой выстрел «попки» (стрелять в малолеток не разрешалось) отлавливали и учили, как могли, водворяли в «кандей» — карцер. Играли на «велосипед»: проигравший мастырил какому-нибудь спящему, на кого выигравший укажет, «велосипед» — промеж пальцев ног спящего («сонника») вставлялась и поджигалась бумажка, спящий, которого начинал кусать огонь, выделывал ногами движения, напоминавшие движения велосипедиста; играли на удар спящего человека каблуком ботинка по лбу, на облив уснувшего водой из ведра… Играли и на порез ножом активиста, на «сажание на пику», играли и под убийство. Но — крайне редко.
Ясное дело: подобные воспоминания не греют.
Эстетического удовольствия не доставляют. Читать их необязательно. Но разве я вправе забыть о пережитом? Забыть о страданиях не только своей, но и чьей-то еще, более печальной участи? Загубленной юности? Забыть о происходящем в подобных заведениях и поныне? Да, да, смею не только предполагать, но и уверять: изменилась лагерная терминология, «феня», увеличилась пайка, усовершенствовалась технология производства карт, допускаю, что колонистский быт сам по себе сделался благообразнее, но ведь сама-то антигуманная суть этих калечащих, а не воспитывающих заведений, губительная для ребяческих душ, — она-то осталась незыблемой и поныне! Вот почему я вспоминаю, почему навязываю: чтобы не повторилось с другими. А не потому, что мне приятно дышать испарениями прошлого. Да и не стану я продолжать о колонии, довольно тоски, достаточно печали, как говорили немцы за своим забором: «Генук!» (Будя, пожалуй, — это если выразиться по-русски.) Добавлю только, что из колонии я убежал. И, как говорили у нас в городе Марксе, убежал «с концами». И правильно сделал. Своевременно. До того, как моей душе проржаветь насквозь, а ведь именно это ожидало ее в зоне. И еще: стихов о колонии, тюрьме, вообще об арестантском унижении человеческого достоинства я так и не написал. Ни одного. За сорок лет сочинительства. Не вдохновило.
18
Замечено, что люди нашей планеты к концу двадцатого столетия стали меньше двигаться, то есть ходить ногами. Передвигаться больше и чаще, в том числе — на большие, межконтинентальные и даже космические расстояния, а вот «шевелиться» на земле — меньше. Подобрали и обозначение этому явлению — гиподинамия. Подобрали и успокоились, сидя в лимузине, в купе экспресса, в каюте парохода или в космическом аппарате. Прибавился общий вес человечества. Контакты с живой природой зиждятся теперь на сугубо деловой, производственной основе, обрываясь на острие бульдозерного ножа, на алмазном долоте бурильной установки или волне направленного взрыва (туристы с их отчаянными набегами — не в счет). Даже в лес за грибами ездят добытчики на «Жигулях» и «Запорожцах». Любая деревенская бабушка в проходящий автобус норовит втиснуться. Странников божьих не стало… А раньше… Ну вот, скажут, и этот туда же — про «раньше» вздыхает. Нет, нет, не скажите: еще совсем недавно, в начале пятидесятых, люди в России по земле ходили пешком. Из деревни в деревню, из улицы в улицу, из гостей и в гости, на охоту, по ягоды, за правдой и кривдой к начальству, сельские ребятишки в школу из окрестных деревень тоже ножками бегали — весной и осенью босиком, зимой — на лыжах. Нет, я не призываю всех скопом возвращаться в эту пешую эпоху, я, с вашего разрешения, задержусь на ее дорогах, хотя бы мысленно, на этой вот бумаге. Ибо там, в этом послевоенном неолите, не просто связь с землей поддерживалась, скажем, связь босой ступни с дождевой лужей, там — невозвратное. Там — невосстановимое. Утрачиваемое нами время не может стать жертвой обстоятельств, ибо время — категория независимая. Насилуемая, а порой загубленная земля, вода, атмосфера — в ведении человеческого интеллекта, то есть — во власти самой могущественной силы. Разрушительной и одновременно созидательной. Потребительски-разрушительной — от людей, созидательно-охранной — от бога.
Милые жители пешей эпохи — невырубленные леса, обитаемые, не покинутые поголовно людьми деревеньки, не отравленные, не отмеченные на государственной карте (не взятые на учет для уничтожения) рыбные малые речки, не окислившиеся, пресные дожди, простодушные, не загнанные в «комплексы» стада коров и свиней, попутные или встречные, не ипподромно-валютные мохноногие савраски, не отловленные и помещенные в районные «психушки» местные дурачки или вот, прощающиеся со светлым миром земным дедушки, сидящие на завалинках. Да что там… Мы ведь обыкновенной, «натуральной» ночи, которая на смену трудовому дню приходит, почти не видим, отсекли от себя крышами, стенами, экраном телевизора, а ведь какое это чудо, господи, пробираться ночной дорогой, особенно зимней, к светящемуся окошку своего дома, дома, где тебя ждет дружная, устойчивая семья, члены которой не проходили обследование не только на присутствие в крови вируса СПИДа, но и кашляли разве что поперхнувшись, а не простудившись. Неба звездного не видим, не говоря о небе дневном, синем, когда мы заняты «преодолением трудностей» или мыслями о «вкусной и здоровой пище».
Еще недавно в Тетерках, где я пишу эти строчки и где некогда проходил так называемый Великолукский тракт, по которому через Барвин перевоз будто бы переезжала Западную Двину Екатерина Великая, можно было запросто встретить настоящих дедушек, то есть мужчин преклонного возраста, а не дедушек-скороспелок, сиречь — спившихся мужиков, превратившихся к пятидесяти годам в скукоженных старикашек. В тридцати шести избах сплошняком — пожилые женщины, чаще — вообще старухи. Имеются «летние», каникулярные дети. Есть видимость деревенской жизни. А дедушки иссякли. Все, до единого.
Возле этой деревни, в ста метрах от ее обжитого взгорка, на берегу Двины живу я последние двадцать лет, наблюдая со стороны в качестве дачника за крестьянской жалкой жизнью. И невольно сравниваю сельскую жизнь в нынешних Тетерках с сельской жизнью, скажем, послевоенной, голодной костромской деревеньки Жилино, куда, убежав из колонии, подался я и где отец мой, в ту пору сельский учитель, решил «сделать из меня человека». И сравнение не в пользу теперешних Тетерок, куда по четвергам приезжает автолавка с городским хлебушком, маслицем, сахарком, кооперативной колбаской, пряниками и макаронами, не говоря о спичках и всевозможном мыльце в иностранных обертках. И не потому сравнение не в пользу Тетерок, что на тридцать шесть дворов — восемь дойных коровенок и пять овец, а в затрапезном, нищенском Жилине было их больше, вот, правда, молочко от коровок в основном шло на поставки государству, на бычках пахали землю, на бычках же и разъезжали по этой земле, — а потому не в пользу, что Тетерки — никакая уже не деревня, а так… пригородная слободка. Видимость. Сидят старушки и смотрят в телевизор. Как подводники в перископ. Устанут смотреть — сядут в автобус, съездят в город Витебск на рынок или в райсобес. Или на вокзал — встречать каникулярных внучат. В Жилине люди ходили работать в поле, на скотный двор, еле ноги таскали, но ходили, всем миром. Всем миром на сходки собирались, от уполномоченных отбрыкивались, а было их тогда, уполномоченных, как оводов в летний зной — видимо-невидимо. Рельс в центре деревни висел, в который утром шкворнем тележным ударяли. Для бодрости духа. Липа вековая в Жилине росла, под которой так называемый «круг» — место, где пляшут девки с парнями, «дробят» и частушкой вечернюю, жуткую, сталинскую тишину посыпают… Дети были свои, коренные, потому что своя школа содержалась — крепкая, просторная, деревянная, лесная, всей деревней некогда возводимая. Престольные праздники, знаменитая Девята — девятая от Пасхи пятница, когда смех, и слезы, и кровь — да-да, потому что и драки с дрекольем, деревня на деревню… Одним словом — не только лес вокруг шумел, но и жизнь подавала голос.
А сейчас от этого Жилина ничего не осталось. Вернее — осталось что-то, только не приведи господь видеть. Отписал мне один тамошний бывший житель, ныне — кинешимский квартирант, что проходил он как-то в наши дни, возвращаясь «с ягод», мимо той лесной поляны, где прежде ютилось Жилино. Полуразваленные срубы, провалившиеся крыши, двери, скрипящие ржавыми петлями на ветру… И ни единой живой души вокруг. «Хотя бы, — говорит, — молния ударила б и сожгла подчистую этот призрак». Ибо пепелище при взгляде на него если и не исключает тайную скорбь, не оставляет и явного недоумения.
Но вернемся в современные Тетерки. Вчера, поджидая приезд «автолавки», вышел я на околицу деревни, кряхтя опустился на лохматый бугорок. Трава нынче сочная, из-под обильных дождей. Сижу, посматриваю на недальнюю дорогу, на повертку от нее к Тетеркам. И вдруг вспоминаю, что здесь на бугорке не однажды за двадцать минувших лет встречал я в разное время тетеркинских дедушек. Трех или четырех. Нет, я не знал их по именам, не был с ними хорошо знаком. Однако с некоторыми случалось разговаривать. Так, ни о чем — о погоде, грибах, но чаще — просто здоровались, приветствуя друг друга. Вероятно, с этого бугорка дедушкам хорошо была видна не просто панорама милых сердцу окрестностей, но и как бы всей отшумевшей жизни.
К одному из последних таких старцев вышел я из ближних ракитовых кусточков весьма неожиданно. Вышел и тут же попятился назад, в кусты, торчавшие у подножия бугорка. Дед был явно глуховат, подслеповат и, скорей всего, не ощутил моего появления. С замиранием сердца следил я за его блаженным, счастливым лицом, которое он подставил июньским солнечным лучам и одновременно дыханию низинного, напитанного лесной прохладой ветерка, вздымавшегося к расстанному бугорку. Что он видел сейчас перед собой, этот последний деревенский созерцатель, прикрывший слезящиеся глаза уставшими, казалось, окаменевшими веками? Свое босоногое детство? Затерявшееся в облаках памяти смутное лицо желанной некогда девушки? Какую-то неповторимо очаровательную сцену жизни?
Теперь вот и я сижу на благословенном их бугорке. Сказать, что я тоже прощаюсь с жизнью? В свои пятьдесят семь? А почему бы и не сказать? Да, прощаюсь. Не столь уверенно и определенно, как предыдущие восседатели с бугорка, и все же готовлю себя к разлуке. Исподволь, загодя. И что в этом плохого? С некоторых пор прощания сии сделались у меня регулярными, причем обхожусь покамест без умильных слез, тем более — без проклятий. Тренирую душу счастливым смирением в восприятии неизбежного. Наблюдаю мир, который посчастливилось посетить. Вот он расстилается передо мной, живой и сочный, как прежде; слегка опустошенный, в меру отравленный дыханием неумолимого прогресса, приноровившийся к выживанию, все еще пытающийся постоять за себя, балансирующий на грани дозволенного под куполом неистребимого — над бездной непреложного… Мы арендуем этот мир каждый по-своему, кто как может, и все же в молодости характерны для всех безоглядность, захлеб, в зрелости — рассудительность, в старости — сожаление и раскаяние. Мир жизни земной — един и целенаправлен, мир арендаторов разобщен, беспорядочно агрессивен; затухание животворящего огня в наших телесных оболочках, как ни парадоксально, начинает работать на сохранение жизненной энергии в глобальных масштабах; жизнь вечная природы земной приобретает себе союзника в смертной усталости каждого из нас.
Теперь, когда, по выражению Пушкина, «Добро и зло — все стало тенью», глядя со своего расстанного бугорка на зеленеющий мир, на этот уникальный заповедник «распада и преумножения», вижу я не абстрактные философские категории, а неповторимо изящные создания, для изображения коих не нужны вспомогательные краски, заимствованные у искусств, которыми располагает человеческий гений. Достаточно назвать все своими именами, исконными, негромкими обозначениями этих созданий, звучащих как дивная музыка: околица, выгон, роща, поле, скирда, дорога, клевер, ячмень, одуванчик, облака, лошадка, низина, туман, комары, звезды… Достаточно назвать, забыв при этом, что имена, присвоенные людьми всему сущему, есть та же бессмертная поэзия, рожденная человеческим воображением.
Всплывает в мыслях заповедь моего отца: постоянно помнить о главном, чтобы не запутаться в мелочах. Но ведь главное соткано из мелочей, то есть постижение Целого — в освоении частностей. Чтобы прожить жизнь, ее нужно… прожить. А не промечтать или проиграть. А значит, каждую прожилку Бытия — прочувствовать, пролюбить. Это в идеале — каждую. Но пролюбить — непременно. Жизнь и есть любовь. «Не любящий пребывает в смерти», — сказал апостол Иоанн. А Платон в своем сочинении «Пир» добавил: «Любовь — это стремление к бессмертию». Итак, продолжим постижение «мелочей». И по возможности — любовью. Ибо постижение утробой быстро разочаровывает. По крайней мере — здесь, на расстанном бугорке.
___________
В городе Витебске, в десяти километрах от которого я теперь живу, однажды на моих глазах сносили старинную каменную баню, приземистое, вросшее в землю сооружение из красного кирпича, отдаленно напоминавшее (цветом кирпича) тщательно охраняемые итальянским народом развалины древнеримских терм. И здесь необходимо пояснить, что Италию посетил я в свое время отнюдь не потому, что прочел «Итальянские впечатления» Василия Васильевича Розанова, а потому, что городские власти города Ленинграда в середине застойных семидесятых неожиданно позволили мне выехать за кордон вместе с женой, так как поехать туда в одиночку ни за что бы я не решился, что подтверждает последующий мой отказ от поездки в Японию без жены, которую вместе со мной туда не пустили.
И все же — о витебской бане. О ней, навсегда исчезнувшей с лица земли, просвещенному человечеству известно гораздо меньше, нежели о банях Древнего Рима. Так вот, сия витебская баня знаменита была следующим обстоятельством: в ней мылся Наполеон. Да-да, тот самый, единственный в своем роде. Корсиканец. Наполеон Буонапарте. Император всея Европы парился в славянской бане где-то в начале девятнадцатого столетия. Удостоил. То ли наступая на Москву, то ли от ее стен откатываясь. Смывал дорожную грязь со своего миниатюрного тела.
На месте этой бани разбили сквер с цветами и огромный железобетонный мемориал в честь нашей победы над фашистами. В центре — внушительные такие серые штыки, слившиеся воедино и устремленные в небесную высь. Сооружение монументальное, но безликое. Баня у его подножия торчала бы как вдавленный сапогом мухомор. Материал для мемориала конечно же подкачал, но где ж его взять в таких количествах — мрамор и гранит? Почитай, в каждом городе у нас такая «геометрия» высится. В стиле безмерной… скуки.
И все ж таки баня прежде «смотрелась». Не как мемориал, но как нечто одухотворенное человеческим присутствием. Баня была — дом. Почему, скажем, так безоговорочно волнует всех мемориал в Волгограде — Дом сержанта — этот сколок со Сталинградской битвы? Потому что он одухотворен. Предыдущей, происходившей в нем жизнью. В стенах этого дома-остова жили некогда люди — любили, мечтали, пили чай, а когда пришло время, сражались за каждый кирпич этого дома и умирали на этих кирпичах. И я вовсе не к тому подвожу, что какая-то там баня, пусть в ней мылся хоть сам Александр Македонский, нужней миру, человечеству, нежели памятный знак в честь погибших и победивших воинов, я лишь о том веду речь, что знаки сии хорошо бы возводить подумавши, попереживавши за них, чтобы не такая вот вздыбленная «бездыханная» символика со следами древесной опалубки, а — нечто единокровное и даже единоутробное с матушкой-жизнью оставлялось на «исторической поверхности», чтобы наш археологический культурный слой узнавался по своей той или иной одухотворенной «берестяной грамотке», а не по бренной бетонной трухе.
Десятью годами прежде «падения» наполеоновской бани в Витебске сносили воистину уникальный памятник истории нашего государства — церковь Благовещения, возведенную в XII веке на берегу Двины. По преданию, в этом храме венчался Александр Невский. Самое печальное: церковь ломали не в годы постреволюционной разрухи и воинствующих безбожников, а в наши степенные, основательные, так называемые хрущевские времена. Это на его, Никиты Сергеевича, совести десять тысяч разоренных церквей, и конечно же нет прощения местным Геростратам за их «подвиги».
Речка в Витебске — Витьба. Сесть на камень и выть бы! Раньше в Витебске — Хоровод церквей! Город в Русь ушел до бровей. Раньше — было, Теперь — увы. Город Витебск старше Москвы. …Вчера взрывали Двенадцатый Век, — кирпич как брызнет на белый снег! Прораб веселый, как сатана! Весь мир разрушит, и… тишина.Огрызки фундамента из-под храма теперь охраняются мифическим государством. И получается, что одним людям одно и то же государство приказывало рушить, другим — то же самое охранять. В одном государстве умещалось как бы несколько государств одновременно. По принципу матрешки. Вот и сейчас, в наши дни многие с изумлением спрашивают: почему не идет перестройка, почему пробуксовывает экономическая машина? Колбаска вкусная, всевозможная, не мистическая, а сугубо реальная, атеистическая, где? Чтобы повсеместно и для любого-каждого? Спрашивают, интересуются. А то, что в школе уроки совести (не убей, не укради, не измени, не завидуй, не обижай, уважай и т. д.) исключены из программы, благодушно терпим, сносим, даже когда нас, взрослых, и учителей в том числе, наши подопечные грабят, насилуют, убивают на больших дорогах и грязных улицах больного государства. И трагизм положения не в том, что не поставлен диагноз, а в том, что болезнь запущена. А запущена потому, что и за болезнь не считалась — так, что-то вроде всеобщего покашливания. А спохватились, когда уже дышать нечем стало: нравственная чахотка, легкие сгнили.
Многие и на извлечение на свет «радикальной реформы» смотрят как на забавную матрешку: а что, дескать, за ней, то есть в ней? Какой поворот? И еще нюанс чисто психологического (постполитического) свойства: для многих перестройка — прежде всего акт насилия. Пусть бескровный, узаконенный, но… где, мол, гарантии? А всякое насилие (даже добром) вызывает сопротивление. Конечно, не Добровольческая армия типа деникинской организуется, однако налицо тихая, «закрытая», малая, странная, как хочешь ее назови, но гражданская война, где «третья сила» или сторона, причем самая многочисленная, а значит и решающая (к кому примкнет, тот и победит), находится пока что в «стадии наблюдения», ибо горьким опытом научена: не высовываться раньше времени, не лезть поперед батьки в пекло.
А дорога, по которой, если верить преданию, проезжала однажды императрица Екатерина, существует. Небольшой ее отрезок. В два километра. И проходит она возле нашего садового участка. Там она поднимается от Двины — на спуске-подъеме, где некогда был налажен перевоз — Барвин перевоз, место сие и поныне так называется, и до Екатерины так называлось. Сколько произвольно начертанных названий или имея собственных — на мраморе, граните, бетоне, золотом или зубилом — беспощадное и чаще всего справедливое время смыло, стерло, сдуло с тщедушных скрижалей, а название какой-нибудь замшелой деревенька или перевоза через реку живет, гнездится в умах и памяти народной.
Вот и Барвин перевоз… Кто его окрестил, поименовал — на века? Хозяин близлежащего хутора, на фундаменте которого стоит нынче избушка бакенщика? Или — от цветка барвинка? Но, пожалуй, всего вероятнее — от прозвания первого паромщика, от того, кто затеял, основал, наладил. Чьи предки или последователи с трепетом и благоговением перевозила на скрипучем плавсредстве типа плота и карету «матушки-заступницы» — через Двину, затем в гору, по булыжничку Великолукского тракта.
Я видел однажды в укромном месте забытого тракта булыжные сны.. Никто по дороге этой не ездил с времен гражданской войны. Ее заглушили жадные травы, деревья над ней — решеткой ветвей, потому что телега нашей державы однажды взяла левей… А там — болото! Там кровь живая… Возница: в Бога! Увязли, факт… Не знаю, куда заведет кривая, — знаю, помню булыжный тракт. Там пахло светом! Там пели гусли. Там слово было, как на меду. Однажды ночью туда вернусь я и старой дорогой пойду. Туда, в святое, к родному дому, где храм взывает, гудит пчела, туда, где небо, как синий омут, куда русалка звала…Древний этот булыжничек и сейчас кое-где сохранился. И в нем мы безуспешно ковыряемся время от времени, в надежде отыскать екатерининских времен пятак или хотя бы «денгу». Дорога далее идет вверх по течению — вдоль реки, прячась в тени кривоствольных, убогих, дуплистых, ужасно ветхих ивах-ветлах, чьи стволы местами прожжены насквозь, расщеплены зияющими ударами молний, но все еще плачут весной, окутанные серебристой с изнанки, продолговатой, как килька, листвой.
Это — если о мелочах… Понимаю, что пора выходить на прямую, рассказывать о своей профессии, то есть — о писательстве и писателях, о знаменательных встречах в гостинице «Россия», или на знаменитой, «государственной» лестнице, белокаменной, в красных ковровых дорожках, что в Кремлевском Дворце заседаний, или, по крайней мере, в коридорах Смольного. Понимаю и ничего с собой поделать не могу: не вспоминается о подобном. Ничего существенного в проистекании этих лестнично-коридорных встреч не припомню. Да и пешая эпоха не отпускает от бумаги, от стола. А главное — люди, идущие по этой уходящей эпохе, удерживают на себе мой привороженный прошлым взгляд. Потому что с этими пешеходами не просто моя молодость, но — моя любовь, моя наивность, мой страх и моя нетускнеющая благодарность попутчика, соседа, земляка.
И что удивительно, человечеству подаются сигналы: опомнись! Все еще подаются. Как в каком-нибудь четырнадцатом веке — приходом в Европу, в этот смердящий кратер цивилизации, эпидемии чумы, или позже, во Франции, религией разума, которую венчало изобретение гильотины, или там же — явлением «корсиканского вампира», пустившего кровь народам, как никто прежде, или оплетением человечества паутиной колючей проволоки фашизма параллельно с проволокой сталинизма, или — извлечением «атомного джина», или теперь вот еще — поражением, причем межконтинентальным, СПИДом. Удары отрезвляющего колокола: очнитесь, люди, опомнитесь, содрогнитесь. Не однова живете, а — вечно. Есть, есть резон призадуматься. Привлечь себя к очищению. Хотя бы — напоследок. Как тот разбойник на голгофском кресте, нашедший в раскаянии не только утешение, но и спасение. Пусть призрачное, зато никем не опровергнутое, как это случалось со множеством земного происхождения «райских посулов», утопий и мифов, развенчанных Бытием.
19
Свобода, вернее — чувство свободы, — для многих оно заменитель религии, земная, обожествленная страсть. Иллюзия независимости. Многие молятся на такую свободу. И — умирают в сомнениях и отчаянии. О недолговечной сладости вкушения подобной, весьма примитивных качеств и свойств свободы, расскажу теперь на конкретных примерах из «приключенческого» периода своей биографии.
…Ловцы держали меня за руки, за те именно места (запястья), куда накладываются наручники. И все-таки удалось выскользнуть, водой меж пальцев истечь от неповоротливых охотников.
Отчетливо помню этот вечер в каменном колодце нашего двора, дворника дядю Костю, татарина, и еще какого-то общественника-осведомителя, выследившего меня в дровяном чулане, где я ночевал (квартира опечатана, родственники — на юге). Выручил опыт общения с людьми на военных и прочих дорогах. Я не стал канючить, пускать жалостливую слезу, ибо знал: нытьем, резкими движениями «гончую» не проймешь, только сильней челюсти сожмет. Нужно было притвориться мертвым. Вот тогда она может разжать зубки… И я сделал вид, что смирился с участью. К тому же выручило слово, фраза, интонация, с которой я произнес свою просьбу, обращаясь к дяде Косте.
— Держите крепче меня, дядя Костя. А я потом синяки в милиции покажу. Пусть акт составят. Два взрослых дяденьки одного малолетку ломают. Устал я, дядя Костя. Не убегу. Отпустите, пожалуйста, руку… — и долго, не моргая смотрел в глаза дворнику. Гипнотизировал. Во дворе как раз появилась тогда девочка-подросток, моя сверстница знакомая, крылатый светлый сарафан делал ее похожей на бабочку-капустницу. — Отпустите же, неудобно. Потом опять возьмете, когда Жанна пройдет, — и я глазами указал на девочку. Ощутив дядины Костины колебания и сомнения, я тут же добавил: — Давайте посмотрим: остались на коже синяки от ваших пальцев или не остались?
Пятидесятилетний дядя Костя и тот, еще более преклонного возраста общественный человек, малость подумав, разжали пальцы. Этого было достаточно, чтобы я упорхнул со двора. Сизым голубем. Дядя Костя и его напарник упорно преследовали меня, но куда там… Вначале они сопели за моей спиной, затем поотстали. Но вот на пути у меня выросли чугунные решетчатые ворота. Тяжелая калитка, как назло, прикрыта. Пока ее отворяешь — схватят. Не раздумывая, сунулся я в одно из пространств между чугунными прутьями. Наугад. Мгновенно выбрав самое подходящее из пространств. Самое милостивое, то есть — широкое. И — угадал. Пришлось, конечно, ободрать кое-что на теле, однако проскочил. Вот он, миг, запомнившийся навсегда: проскочил и — окрыляющее, возносящее ощущение свободы! Далее понесся будто по воздуху. И даже теперь, по прошествии лет, смею утверждать: самое острое, сладкое, проникающее чувство — именно чувство высвобождения от «пленительных» пут, именно секунды распада, разрыва, разъятия этих пут чаруют, кружат сердце и голову. Слаще любви, ярче выздоровления от тяжкого недуга, желанней злата-серебра.
Обретенную свободу через мгновение можно утратить. И… вновь обрести. И тогда процесс ее добычи становится как бы многоступенчатым. Именно так (или почти так) происходило у меня с добыванием свободы в тот предосенний теплый ленинградский вечер, когда я, вчерашний поднадзорный, лишенец, улепетывал от дворника и его «сатрапа», кстати, обутых в тот вечер весьма тяжело: дядя Костя — в огромные валенки с галошами-клеенцами, сработанными из автомобильной камеры, а его спутник — в неуклюжие боты «прощай молодость». Она-то, обувка, вероятнее всего, и повлияла на мое очередное спасение от погибели, к тому же сам я тогда на ногах имел легкие, весенние спортсменки из голубой парусины, раздобытые в дровяном чулане и являвшиеся наверняка брошенными, о чем говорили многочисленные протертости на поверхности парусины.
Едва оторвался я от преследователей, как возникла реальная опасность быть схваченным заново, причем совершенно посторонним человеком. К счастью, на улице в этот час прохожих было не густо. Моя тогдашняя цель — проскочить, прорваться в глухой, тесный, почти бесфонарный, темный Академический переулок, пересекавший мою улицу (9-я и 8-я линии), по которой я несся на встречу с очередным мгновением свободы.
На углу Академического и 8-й линии стоял человек. Маячила его смутная фигура. Человек стоял несобранно, раскрепощенно, отставив одну ногу и припав на другую. Вдобавок ко всему он еще и курил, держа в правой руке солидную папиросу, наверняка «беломорину», потому что «Ракету» или там «Звездочку», даже «Норд» (теперешний «Север») с моей близорукостью в надвигавшихся сумерках не разглядишь.
По всему было видно, что хватать меня дядя не собирался, хотя бежавшие следом за мной добытчики отчаянно кричали на весь квартал: «Дяр-ржи-и вор-р-а!» Человек, куривший «беломорину», оказался то ли глуховат, то ли хитроват, а может, и вовсе подвыпивши, в той именно стадии, когда «принявший» (в сочетании с определенными чертами характера) делается благодушным и расслабленным, а не игривым — фонтанирующим и фантазирующим.
Решение пришлось принимать молниеносно, не сбавляя скорости, а именно: огибать человека или идти на него тараном, напролом? Предпочел второе. Согнувшись крючком, набычив хилую шею, ринулся на курильщика в надежде припугнуть. Однако тот мою изготовку проигнорировал, даже не сделал мне подножки. Навсегда запечатлелось то, как меланхолично сплюнул он на тротуар и смачно затянулся папиросой. За его нейтральной спиной я и проскочил в спасительный переулок. А там уж… А уж там те, кто знает этот квартал Васина острова, поделенный подобными хмурыми, щелистыми переулками-теснинами, подтвердят, что укрыться там можно не только от погони, но и от возмездия. Естественно — от несправедливого возмездия. Ибо от справедливого не уйдешь даже на необитаемом острове, сам себя сказнишь. Так, во всяком случае, принято считать в цивилизованном обществе.
Очутившись в Академическом переулке, а затем — в одном из его затхлых дворов, куда проник на животе, ползком, подобравшись под ржавые ворота, я вновь обрел и ощутил свободу, но теперь уже не столь остро, как в момент, когда дядя Костя ослабил хватку, разжав клешню. Одним словом, благодаря каскаду обретений я как бы начал привыкать к благословенному чувству: не оно принялось меркнуть, а вот именно сам я к нему притерпелся. Жуткое все-таки наказание отпущено человеку — привыкание к чудесам жизни: к небу, к цветам, деревьям, пище, времени, даже — к любви. И вот оказывается, что и к свободе.
В том затхлом дворе забрался я под лестницу подвала в дальнем от ворот параднике и жадно прислушался: город уже дремал, затихая. И все ж таки я различил их шаги! — дворника и второго дядьки. Тяжелые валенки в автомобильных галошах шумно терли собой известняковые плиты тротуара. Но вот — затихли. Пронесло мимо. Еще раз свободен… Неужто — окончательно?
Только глубокой ночью, ухитрившись забраться в собачник пассажирского «Ленинград — Горький», позволил я себе малость расслабиться.
Гораздо позднее понял я, что никакой такой свободы нет в помине (в природе жизни), и что жизнь сама по себе несвобода — несвобода от условий, условностей, обстоятельств, и что даже душа, покидая тело, неизвестно — обретает в своих измерениях волю или попадает в положение еще более принудительное, нежели утраченное притяжение земных уз. Свободы нет, есть стремление и ощущение. В них — клетка Свободы. И все ж таки ощущение оной слаще, острее стремления, которое может длиться всю жизнь, тогда как ощущение — мгновенно. Даже ощущение Вечности.
Некоторые из этих земных мгновений незабываемы. К некоторым — привыкаешь. Даже к таким, как, скажем, окончание книги, которую «рожал» ты в муках несколько лет, высвобождаясь от истомивших тебя образов и звуков, мыслей и ассоциаций. Не говоря уж о какой-нибудь «искре костра» вроде короткого лирического стихотворения или очередного письма к матери.
Как-то в годы войны в Прибалтике, где я скитался по хуторам и так называемым имениям, где в бывших баронских замках располагались немецкие части, а в одиноких крестьянских домах лампадным огоньком таилась жизнь курземских земледельцев, схватили меня господа германцы, разгоряченные утренним взрывом, происшедшим на дровяном складе, где они хранили свое тогдашнее «горючее», то есть колобашки для газогенераторных машин (в Курляндском котле немцы сидели без бензина-керосина). В часы «заправки» немец-шофер и бывший русский военнопленный, на германском зеленом кителе которого красовалась эмблема «РОА» — Русская освободительная армия, поддели частыми стальными вилами некий шелковый плетеный шнурочек, и враз грохнул взрыв, весьма изранивший немца, а также его напарника. Чудом, или, как говорят теперь газетчики, «по счастливой случайности», немец и власовец остались живы, но заноз этот взрыв понавтыкал им несметное количество. И все бы хорошо, но вот незадача: кому-то пришло в голову, что синий этот шелковый шнурок, за который шоферюгу угораздило дернуть, принадлежал мне, что на этом шнурке, чуть раньше, болтался-де у меня перочинный ножик. И меня, как говорится, взяли за воротник. Шнурок — под стекло. Приехали люди из «безопасности». Повели блиц-следствие. Начали трясти. То есть — бить, рвать уши, пускать из носа кровь и — все остальное.
Правда, немцы занимались мной как бы попутно, сверх основной работы, которую проводили среди взрослых обитателей имения, работавших при госпитале, и среди власовцев в том числе. Но и меня не оставляли в покое целых три дня, держа в подвале местного средневекового замка. Спасло одно немаловажное обстоятельство, а именно то, что немцы проиграли войну, что ко времени нашего дровяного взрыва песенка их была уже спета. Но вот беда: меня, тринадцатилетнего пацана, они почему-то не кокнули, не выбросили на помойку тотчас, а прихватили с собой. Кинули в фургон газогенераторки, где сидели власовцы, «планомерно отходившие» вместе с немцами в сторону моря, то есть к своей погибели в мутных балтийских волнах или к дальнейшим неприятностям — к пленению своими же сородичами и получению по двадцать пять лет исправительных лагерей.
В полдень немецкая колонна, поджидая отставшие пароконные фуры, расположилась возле огромного сенного сарая — в десяти — пятнадцати метрах от асфальтированного шоссе, ведущего… тогда я не знал, куда, собственно, ведущего, скорей всего — в Ригу. «Роашники», не спускавшие с меня глаз, разлеглись прямо на полу сарая, немцы — на сене, чуть выше. Когда большинство захрапело, я попытался выползти из сарая по-пластунски. Дневной полумрак помещения, в котором не было окон (только щели), способствовал этому. На выходе из сарая, возле самых створок ворот, меня кто-то молча сграбастал в охапку, губы мои расплющились о чью-то грудь, я даже крикнуть не успел, как меня оттащили в высокую, уже вовсю желтую, спелую рожь. Держа меня сразу за обе ладони выкрученных рук, мужик прохрипел: «Лож-жись и умр-ри, нишкни! Штобы — тих-ха…» Затем грубо толкнул меня в прохладные заросли хлебных стеблей, куда я так и сунулся ничком, ожидая почему-то не выстрела, не удара штыком, а чего-то менее страшного, снисходительного, потому что успел смекнуть: зачем мужику надо было меня тащить от сарая — пристрелил бы там. Значит, что-то не так. Какая-то иная задумка.
И в тот момент по безлюдному шоссе, с той стороны, куда шла немецкая колонна, пронесся одинокий мотоциклист. Как сейчас его вижу: в целлулоидных желтых очках, под ними разверстый, кричащий черный рот, голова повернута в сторону сарая, немецкого обоза. Он что-то в панике и ужасе кричал, но разобрать, что именно, из-за треска мотоцикла было невозможно. И лишь одно слово не разбилось об этот треск, уцелело: «Панцер!» Дядька, затащивший меня в рожь, брошенную немецким мотоциклистом фразу, должно быть, разобрал, повторив: «Русиш, значит, панцер, мать твою и так далее! Ладно, сынок. Сиди тут и не высовывайся. Русские танки, слыхал? А я — в сарай. Заплечник у меня там… необходимый. Хлеб, сало, понял? Жди меня, парень, и, если так вот свистну, только погромче, тогда откликнись. Со мной не пропадешь. Договорились?» — «Договорились».
Больше я этого дядьку не видел никогда. Не знаю, что он замышлял, но почему-то до сих пор верится, что ничего плохого. Скорей всего — в бега от немцев податься хотел. А меня решил прихватить с собой для отмазки поводырем, дескать, вот пацаненка от смерти спас, приговоренного, который немцам диверсию устроил, и т. п.
Как только дядька, зашуршав во ржи колосками, уполз, захотелось мне сориентироваться в обстановке, и я осторожно, а голова у меня была тогда в ржаных, соломенно-светлых волосах, приподнялся до уровня глаз и вдруг увидел, что по шоссе, со стороны, откуда появился ранее мотоциклист, идут танки! А затем и рев их услышал.
«Наши!» — догадался. Но выбегать на шоссе не стал: кто его знает — наши ли? А потом ведь и наши стрелять умеют. На лбу-то у меня не написано, что я — свой. Среди чужих. Радость хоть и растеклась по крови до сердца, но выйти навстречу своим не позволила.
Я помню пламенную ругань освободителей-солдат, но ею не был я напуган: ее ступенчатый каскад, подобно музыке высокой, ласкал истерзанный мой слух! …Замаскированный осокой, лежал я, маленький пастух. А на шоссе ругались матом. И танки с надписью «Вперед!» несли зелененький, лохматый, неунывающий народ! Родная речь. Слова, как ливень — на раскаленную траву. И не было меня счастливей по той причине, что — живу.В следующее мгновение головной танк поравнялся с сараем, где спали немцы и власовцы, осадил на полном ходу, аж под гусеницами заскрежетало, развернул башню пушкой к сараю и смачно выплюнул снаряд — дымок с кончика ствола так и полетел сизым облачком над дорогой. Сарай загорелся. Немцы врассыпную. А к первому танку второй присоединился, оба принялись поливать из пулеметов. Остальные несколько танков, не притормаживая, пронеслись дальше, вослед мотоциклисту. Над моей головой пули буквально срезали колоски, стригли рожь. Это я хорошо запомнил. И так плотно прижался к земле, что думал — уйду в нее с головой, как в сено. И вот же! — не зацепило. Ни единой пулькой. Однако высовываться наружу, хотя бы и своим навстречу, расхотелось окончательно. И я пополз, пополз в глубину хлебного поля, к смутно голубевшему на его краю подлеску. Помнится, был такой миг: заползая в сырую, низинную чащу, почувствовал, что ушел, что — все! — спасен… Но удержался, не возликовал, не подпрыгнул от земли, а ведь очень хотелось. Снять напряжение. Только чуть прослезился. И тут же забыл обо всем, и в первую очередь — о свободе, которую вкусил. Надо было срочно пробираться к людям, на хутора, где накормят, а может, и спать положат. Взамен свободы подступили заботы. Но весь эпизод запомнился навсегда. Отражением счастья. Так помоечный осколок бутылочного стекла способен отражать лучи солнца.
В какой-то мере.
И еще один вариант ощущения, которое, по нашему мнению, испытывает выпускаемая из клетки птичка. Случилось это в турпоездке по Италии, в Венеции. «Во Венеции» — как говорила наша тогдашняя гидша, чешка или полячка, и звучало сие так же, как «во веки веков». Однажды, выйдя из гостиницы, где мы с женой, как всегда, малость подзадержались, особенно один из нас перед зеркалом, не найдя у подъезда отеля торопливых соотечественников, чьими спутниками в поездке мы являлись, после некоторого раздумья, куда повернуть — налево или направо, повернули направо и, как позже выяснилось, не угадали: делегация наша повернула, как ей и полагалось, в другую, более прогрессивную сторону. В незнакомом городе, да еще в таком ярком, театрально-неправдоподобном (для нас, совграждан), заблудиться можно в два счета. Это вам не темный лес, где нетрудно сориентироваться по солнцу или, скажем, по мху на стволах деревьев. Короче говоря — заблудились.
Самое удивительное: в голову мне тогда так и не пришла крамольная мысль (ни мне, ни моей жене), что я, наконец, свободен, то есть волен поступать о этого момента по своему усмотрению. Наоборот, я крайне обеспокоился: что же нам теперь делать? Как найти в чужом городе своих, не владея европейскими языками? Утратив за собой надзор, я не сделался свободнее, я стал беспомощнее. Очутился в более стесненных обстоятельствах.
Не прошло и получаса, как мы наткнулись на своих: оказывается, Венеция, точнее — исторический ее центр, не устрашает размерами, а на гондолах, которые снуют в лабиринте каналов, мы не катались за неимением валюты. Вообще такие поездки, видимо, рассчитаны на приобретение совгражданами за границей удовольствий чисто платонического свойства, как-то: созерцание окрестностей, упоение иноязычной речью, запахами… При встрече с основной, «подавляющей» массой нашей делегации выяснилось, что мы попали под подозрение как потенциальные «невозвращенцы», а также выяснилось, причем мгновенно, кому было поручено надзирать «за порядком»: у этих внимательных людей лица сделались вначале бледнее, затем — пунцовее прочих.
Так что свобода, на мой весьма утомленный событиями жизни взгляд, понятие весьма растяжимое и неоднозначное. Скажем, высвобождение от «пут государственной принадлежности» оказалось тусклым, неотчетливым, малонеобходимым, тогда как популярная несвобода от себя грешного давила на меня постоянно даже там, где государственная принадлежность воспринимается в размытом, эфемерном состоянии, скажем — на вершине какого-нибудь камчатского вулкана Толбачика или в Якутии, на глухих тропах Верхоянского хребта, а то и на волнах мирового океана, не говоря уж о космосе, на ирреальных просторах коего мне так и не удалось побывать, не считая довольно длительного полета на якобы неуправляемом межпланетном корабле по имени Земля.
20
Добивая шестой десяток лет, все чаще ловлю себя на крамольной мысли: не хочется жить. Устал, притомился. Голова кружится. И если бы — от вина или успехов. В основном — от сужения сосудов. В походке — неуверенность. Зубы пропали, стерлись. Зрение на исходе. Слух перерождается в шум. Ко всему еще — неуверенность: на ту ли карту поставил, принимаясь за писательство? Не правильнее ли было просто задуматься… лет этак на пятьдесят? Лежа на продавленном диване и размышляя о том же, только — без применения письменных принадлежностей и неизбежной писательской маеты?
В зеркало посмотришь — смотреть противно: лицо расплылось, испортилось. Хоть не брейся. Не по этой ли причине люди бороды отпускают? Чтобы не видеть себя? Прежнего, ускользающего? И вообще суета сует, только без начальных прелестей жизни: без трепета первых любовных свиданий, без первой пойманной рыбки в реке, первой земляничины душистой возле старого, сухого пня, без первой соловьиной трели, пробудившей в тебе прекрасные чувства, без первой военной бомбежки твоего детства, да мало ли без чего, без каких неповторимых открытий и событий земного присутствия предстоит тебе жить отныне, теперь, когда все ясно, все понятно. Как бы все. И как бы ясно. И чудеса — разве что в кино или в приключенческих книгах, читать которые не то чтобы не хочется — нету сил.
Мрачноватый пассаж. Но — достаточно искренний. Не можется жить, однако живешь. Спрашивается — почему? Что прежде всего побуждает? А вот что: любовь. Лица детей. И не только своих собственных. Это раз. Поиски Бога, в которые ты углубился, будто в девственную тайгу, и далеко зашел. Это два. И призывы твои в теологических дебрях не безответны, ибо отклик — в тебе же самом; и нельзя повернуть обратно, не из-за потери ориентации, а потому что подобно бабочке стремишься на свет из тьмы. Что еще удерживает? Красота. Скажем, весенний гулкий лес, полный надежд и ликующих звуков. Или живое колыхание океана, морской волны — именно так вздымается грудь дышащей планеты.
Что еще оставляет нас на жизненной тропе иллюзий в минуты отчаяния и невыносимой усталости, что не дает сорваться в непроглядное, усыпляющее окошко манящей трясины забытья? Что — помимо страха? Лично меня — мания сочинительства (в отличие от мании величия), благословенный «миротворящий», словосозидательный кайф. Какое-нибудь внезапное сочетание слов, образующее поэтический смысл, насквозь пропитанное тем или иным чувством — умилением, верой, раскаянием, любовью опять же. Не воспоминания о таких мгновениях возбуждают, не ностальгия по ним, а как раз предчувствие оных!
Покуда живет в тебе предчувствие творца, созидающего начала, все твои мечты о смерти несостоятельны и отдают если и не кокетством, то наивностью. Итак — сочинительство. То есть — служение магии слова. В частности — магии рифмованного слова, поклонение стиху. С чего началось — помню смутно, а вот когда и где — отчетливо. На заре туманной юности, в деревне…
Внешне выглядело таким образом: возле жилинской начальной школы, под двумя большими, «дородными» плакучими березами, в зарослях крушины и орешника «произрастала» аккуратная рубленая подсобная избушка.
Представляете, четыре года скитаний, трупный смрад и пепел, сквозные и рваные раны, окоченевшие трупы повешенных, пустыри и пожарища, бездомье и нары лагерно-барачного кромешного быта, и вдруг — собственный уютный уголок. Причем не комната, не квартира, а дом. Домик в два оконца. Дощатый стол.
Вот так и получилось: сел за стол, посмотрел в окно, по которому тихо слезился нежный, вкрадчивый летний дождь. И захотелось что-нибудь впервые сочинить.
Выпросил у отца дефицитную по тем временам школьную тетрадочку, сел за стол, «окинул взглядом кабинет» и… не сходя с места, начал «слагать», выдав к вечеру пяток «стихотворений», главным свойством которых было разве что элементарное занудство, этакий ритмический бубнеж, навеянный однотомником И. С. Никитина, блатными «жалостливыми» песнями поездных инвалидов. До сих пор при воспоминании того изначального, исходного «писчего» момента удивляюсь собственному бесстрашию, с которым ринулся в беспросветный омут стихописания. Знать бы, чем все это обернется, какие дивиденды приобретешь, каких радостей жизненных лишишься «на почве сочинительства», — подумал бы хорошенько, прежде чем выводить первую строку приблизительно такого содержания:
Прилетели грачи. Отчего мне так больно? Над погостом слепая торчит колокольня…и т. д. —
по открытке с саврасовских грачей, которые прилетели.
Что еще толкнуло? И почему не в сторону коммерции, изобретательства, воинской карьеры? Одному богу известно.
Настораживает и одновременно обнадеживает другое, а именно — выбор темы: полуразрушенная, испоганенная, изглоданная непогодами, безмолвная и безглазая сельская церквушка со сшибленным крестом, приспособленная под хранилище картошки. Далее — стихи о развалившейся, с торчащими ребрами лодке, о лодочном скелете, и еще — целая поэма о покинутой деревне Кроваткино («Мертвая деревня»), что в пяти верстах от Жилина — на глухой лесной поляне, деревня-призрак, без единого жителя, поросшая бурьяном, вернее — проросшая им насквозь, потому что крапива, полынь и прочий чертополох лезли из щелей избушек, из окон и дверей, как щупальца смерти. Все это не столько страшило, сколько настораживало: и это — Жизнь?
Что-то было, какие-то смыслы: то ли хутор, а может — погост? Эти выступы почвы бугристой, словно формулы, буквицы, числа… И — трава в человеческий рост.Как видим, сюжеты прихлынули не из изящных. Отсюда, полагаю, и мое дальнейшее пристрастие — тащить в стихи все ущербное, униженное, скорбно-неприглядное, измученное непогодами Бытия. И уж если какая красивость и вспыхивала на странице, то и не сразу ее хотелось гасить, топтать — вычеркивать, потому как — несоответствие завораживает. А стало быть, и впрямь прекрасное — из глубин жизненных, тогда как идеальное — от созерцания примет бытия: цветка, чьих-то глаз, звезд небесных, творца, подразумеваемого и предощущаемого.
Отец, на которого я безжалостно пролил свои первые лирические опыты, поначалу пришел в ужас, подвергся панике, решив, что с этого дня я непременно заброшу обучение по школьной программе, нравственно сгину, оставшись неучем. Тогда же за ужином был поднят вопрос о предании крамольных опытов огню. Но было уже поздно: я вкусил. Не просто заупрямился, но подвергся сладчайшему из соблазнов. То есть — посягнул на ремесло — сродни божественному. И вот что удивительно: оба мы — отец, одержимый рациональной заботой моего обучения наукам, и я, бессознательно окунувшийся в сочинительство, — ставили перед собой одну (в итоге) цель — вытащить меня из растительно-животного состояния, то есть отслоить от природного мира «чистой материи», где настоящее — миг единый, а то и вовсе ничто, отслоить и передать в мир духа, в царство интеллекта, где проживал бы я, по крайней мере, в трех измерениях — в настоящем, прошлом, будущем, а если повезет — и в воображении, то есть в мире образов и в мире фантазий. Чтобы я в конце концов не просто задумался, но отважно спросил себя: кто я, человек? И не менее отважно ответил: аз есмь мысль, воля и совесть подобия божия, малая ее искра.
___________
О духовной сфере бытия с некоторых пор хочется высказаться определеннее. Не для того, чтобы «закрыть тему», а для того, чтобы не зябнуть в дальнейшем от постоянных сомнений. И предчувствий. Сказать определеннее о нематериальном — значит заземлить высокое, горнее, породнить (или столкнуть?) небо с землей. Скажем, словесно озвучить какую-нибудь тяжелую, нержавеющую, из благородного материала мысль вроде: «Труд есть одухотворенная материя». Подтвердив эту мысль возникновением из «мысленного небытия» любого из предметов, окружающих нас в жизни, — карандаша, стакана, шляпы, книги, лампы, часов, ибо что они, как не воплощенная воля, задумка, идея, фантазия разума, отлитая в определенную форму?
Отец недавно рассказал про смерть своего товарища, солагерника, побывавшего, как и отец, в «ежовых рукавицах». Умирал этот человек уже стариком, в домашней обстановке, в своей постели — где-то в конце семидесятых. Умирал убежденным атеистом, причем атеистом-спорщиком, атеистом-пропагандистом. И тут необходимо сказать, что с моим отцом этот бедолага, несмотря на прочную житейскую дружбу, в одном вопросе никак не сходился, постоянно выяснял отношения, даже конфликтовал, а именно — в вопросе о местонахождении на земле… Бога.
Философствовали, как правило, за вечерним чаем в компании сверстников, то есть людей пожилых, прошедших отпущенное судьбой от края до края. Беседы свои душеспасительные иронически именовали журфиксами. На одном из таких журфиксов товарищ отца, долго и безнадежно хворавший опухолями внутренностей, воскликнул из глубины кресла, в котором полулежал, принимая посильное участие в чаепитии:
— Где он, этот ваш… благодетель?! В каком измерении пребывает? И есть ли ему дело до нас? Почему тогда носа не кажет? Не напоминает о себе? Где его царство-государство расположено? В какой галактике, если не здесь, не на грешной земле? В каком мире его искать? В какой мгле?!
Тогда мой отец отвечает больному словами Христа:
— Царство мое не от мира сего.
— А где же тогда?! На луне, что ли? Если оно есть, то кто-нибудь наверняка его видел или слышал о нем. Кто, кто, помимо мифического Христа и литературного Данте Алигьери, может сие подтвердить? Чтобы — конкретно! На ощупь?! А коли нельзя ни увидеть, ни потрогать руками, то и… заткнитесь вы со своим Богом!
Однако отец не собирался уступать позиций. Оба теперь стояли на краю жизни: отцу — за восемьдесят, его оппоненту — чуть меньше, но у последнего — болезнь, из которой выбраться не чаял. Терять обоим, кроме души, было нечего. Вопрос они теребили, выражаясь социальным языком, архиважный, не просто отстраненно-мировоззренческий, но конкретно-гамлетовский: быть им или не быть в глобальных масштабах, а не в мелких, земных частностях? И тогда отец спросил товарища:
— Вот говоришь — нельзя пощупать… А скажем, пришла тебе в голову мысль, ну хотя бы эта самая, о прощупывании. Ее-то, мысль, можешь ты пощупать? Пальчиками? К тому же — откуда пришла? Не с неба же свалилась? Или вот… внука своего, Андрюшку, любишь. Любовь к нему в твоем сердце имеется. А ты ее видел когда-нибудь, любовь сию конкретную, глазами своими близорукими? Хотя бы при помощи очков? Так где же она? В документах, удостоверяющих личность? В сердце она твоем! Вот и… Бог там. Или, скажем, ненависть к врагам своим. Взвешивал ты ее на весах справедливости? Сколько ее потянуло? И в каком она вещественном виде — навроде песка или жидкая? Да и сам ты на свете — кто? Мешок с костями и требухой или носитель всевышней воли, мысли, века пронзающей, воображения, переносящего тебя хоть на Марс, хоть в колхоз «Светлый путь», совести, не позволяющей тебе до конца дней терять образ «венца природы» — человека? Ведь и ее, совесть-то, кстати, не ущипнешь, не прикинешь на глазок, не обработаешь на вычислительной современной машинке!
Вот такие беседы, такие журфиксы, такие страсти. На последнем витке движения вокруг солнца (не вокруг же себя?).
Без веры в бессмертие души человеческой не только умирать — жить тяжко, даже молодым. А с возрастом — не только тяжко, но и невозможно. И тут важно будет спросить Небо (не воздух же): всем ли на земле дается такая возможность — поверить в бессмертие человеческого духа? И, не задумываясь, ответить: да, всем! Даже самым нерадивым, с подслеповатым разумом.
Увы, не каждое творенье слывет бессмертным наяву, но всем доступно утешенье — в стремленье духа к божеству!21
За три года армейской службы мне удалось отсидеть на гауптвахте двести девяносто шесть суток. Всему причина — дерзкое поведение, И конфликтовал я не с начальством, а так сказать — с миром вообще. Начальство, наоборот, только сдерживало мои порывы и, когда надо было судить «разгильдяя» трибуналом, смягчало впечатление от содеянного мной.
Губило меня анархическое состояние духа, почерпнутое не только на «театре» военных действий или в бегах по белу свету, но, как я теперь понимаю, отпущенное мне природой. Этакое душевное качество вольноопределяющегося. Проступки мои в основном были трех категорий: совершаемые против тупой сержантской муштры, затем — творимые «по пьянке», а также — из жажды свободы. Имелись еще порывы на любовной подкладке, когда тяга к определенному существу женского рода застилала не только глаза, разум, но и чувство ответственности, то есть — страха.
В армию призвали меня весной пятьдесят первого. Прямо из школы, из девятого «б» класса, где я, послевоенный переросток, кое-кому успел намозолить глаза своим, мягко выражаясь, независимым поведением. Ловко это у них получилось, у начальничков, стоявших тогда надо мной (а было их несметное количество — во дворе, в ЖАКТе, в квартале, в школе и т. д.), короче говоря, из одной школы (цивильной) исключили, в другую, армейскую, передали. С рук на руки. Вот эта постоянная передача тебя с рук на руки и возмущала пуще всего. Сердце противилось этой нескончаемой эстафете и, ясное дело, бунтовало.
Даже теперь, спустя почти сорок лет после службы в стройбате военно-морского подчинения, в печати, а также изустно не перестаешь слышать рассуждения о пресловутой дедовщине, о неких внутриармейских порядках и традициях, напоминающих лагерные законы времен моего пребывания в исправительной колонии. Не здесь ли корни этого зла, не в издержках ли казарменно-барачного мира со всеми его нарами, портянками, пайками, картежными играми, чифирением, пьянством, татуировкой и прочими прелестями уголовного мира? В чем же истоки подобного зла, его блатной интонации? Не в подневольном ли характере общежития его подоплека?
Не сравниваю и не сопоставляю долг с наказанием, армию с тюрьмой, но выявлять, а затем и врачевать всем нам близкую боль — урок (подряд!) не только общественно-писательский, но и личный, убежденческий. В мире, где уживаются хотя бы две разноплановые политические системы, армия неизбежна. А значит, армейский быт непреложен.
Однако вернусь на землю, на землю вологодскую, а также ивановскую, где довелось мне служить в условиях, близких к лагерным. И сразу же отмечу: условия эти были созданы не столько закоснелым начальством, сколько самим «контингентом»: процентов на восемьдесят — ранее судимые, или отбывавшие детские годы в спецколониях, или пришедшие этапом из других родов войск (красные, голубые, зеленые, черные флотские погоны так и мелькали при начальном построении нашего брата). Кто-то, где-то и почему-то захотел от этих людей избавиться. «Отчисленные из строевой» — так они значились на официальном языке. Видимо, наш стройбат, а точнее стройполк, являлся неким накопителем, куда спихивали из образцовых частей самых отпетых гавриков. Еще не штрафбат, но уже и не просто воинское подразделение. Каждый второй — с наколками и статьей в личном деле. С прорехой в душе. И строили мы тогда некие емкости, то есть — своеобразные накопители горючих материалов. Так сказать — налицо накопительские тенденции в одном из самых расточительнейших государств планеты.
Начну с того, что за годы службы был я не единожды ранен. В мирное время. Остался без двух пальцев на левой руке; сломал правую ногу и едва не лишился ее, когда в коленном суставе началось заражение крови; замерзал в вологодских сугробах, отморозив при этом уши и отчасти нос, а также — полностью сменив на ногах и руках прежние ногти на новые.
Воинская наша часть была нестроевой, однако за малейшую провинность солдат наказывали беспощадно. Гауптвахту построили ребятки сами для себя, причем каменную и зимой на редкость холодную, беспросветную, злую, с тюремными намордниками на малюсеньких зарешеченных окнах. И хотя караульный взвод обходился винтовками с просверленными стволами, а значит, бездействующими в боевом смысле, приклад у этих винтовок работал исправно. Насидевшись на такой «губе», а «простого» давали двадцать суток, затем несогласным добавляли пятнадцать «строгача», где горячая пища через день, солдатик, выйдя на волю и заглотнув вологодской «табуретовки», пускался в очередную самоволку, бессознательно стараясь компенсировать утраченное на губе здоровье, а также человеческое достоинство. Вдобавок ко всему наша «вэче» базировалась в пяти километрах от «женского» текстильного городка, что само по себе манило и влекло солдата наружу из зоны, и не только влекло, но и чаровало, засасывало. Для иллюстрации расскажу об одном из своих необдуманных поступков, закончившемся для меня хоть и печально, однако не трагично, что тоже не исключалось.
Почти у каждого солдата нашей части была «своя» девушка в текстильном городке, в том числе и у меня. Одни любили своих девушек планомерно, размеренно, в определенные сроки, в основном — когда поощрялись увольнением, другие любили нервно, импульсивно, нетерпеливо, срывались к своим зазнобам ни с того ни с сего, выпучив глаза и распушив ноздри, как юные бычки; третьи любили молча, терпеливо, мученически-подвижнически, затаенно, даже загнанно как-то; четвертые — прохиндейски-расчетливо, изворотливо, махинационно, при помощи взяток, подкупа, мелкой провокации; пятые — еще как-нибудь, а я — безрассудно, как бычок.
В точности не припомню, отпросился я тогда у «непосредственного» начальничка или самовольно, как кролик в удавью пасть, сомнамбулически поплелся через заборы и запреты, через поля и перелески, и прочие препятствия — на призыв чьей-то тоскующей души или на зов чьей-то неуравновешенной плоти, бог весть.
Очнулся в итоге на окраине районного центра под огромным сараем (накопителем сена), стоящим не на сплошном фундаменте, а как бы на ножках, на сваях — бревенчатых и низких. Двумя неделями позже удалось выяснить, что под сарай меня затиснули в «качестве» мертвеца, чтобы спрятать концы… А я непонятным образом очнулся. Правда, с частичным сотрясением мозга и раздробленным коленным суставом правой ноги.
Оказывается, женщина, на чей неразличимый, ущербный зов я тогда стремился, перепутала дни недели, внесла в наши с ней отношения хаос: к моему приходу у нее уже сидел некто. Сидел прочно. С табуретки при виде меня подниматься не спешил. Та женщина была меня чуть постарше, лет этак на пятнадцать. Обладала житейским опытом. А вот же — сплоховала. Мужик, посетивший ее вне графика, тоже был не промах. Особенно — в кулачном размахе.
Короче говоря, пришлось не только поскандалить, но и — поиздержаться. Женщина, выпроваживавшая меня от греха подальше, а точнее — из самовольной отлучки обратно в воинскую часть, рассказывала чуть позже: остановили самосвал, идущий из города в сторону военного городка. Дверь у «ЗИСа» гостеприимно распахнулась. Потом выяснилось, что замок на дверце не действовал и при каждом торможении створка сама собой радушно распахивалась. Женщина, хотя и была малость не в себе, однако заметила, что, шофер самосвала тоже какой-то не такой: голову на руль положил и таким образом ехать собирается. Выяснилось: спит. Меня подсадили к нему на сиденье. И тут голова шофера соскользнула, нажав попутно кнопку хриплого сигнала. Вскоре поехали. А в итоге я очнулся под сараем.
Со слов юных ткачих, шедших тем вечером со смены или на смену, удалось затем выяснить следующее: на мосту, повисшем над неглубокой речкой, впадающей в Волгу, шофер самосвала, внезапно ослепленный фарами встречной машины, машинально ударил по тормозной педали, дверца кабины гостеприимно распахнулась, и я полетел в сгущающиеся сумерки над перилами моста прямиком в речку, а следом за мной — различные приспособления, ранее катавшиеся по полу кабины, как то — заводная ручка, гаечные ключи, порожние бутылки…
Упал я удачно. Судя по тому, что пишу эти строки. Вышел из «ситуации» живым, хотя и несколько поврежденным. Удачно, потому что не захлебнулся после удара о воду и дно речушки, о ее неподатливые валунчики и прочие выступы. Фельдшер Ловейко из нашей санчасти и все мои друзья по службе, а также недруги приписывали мое спасение «определенному состоянию». Оно-то, дескать, и отвело беду. Мол, упади я с такой высоты и с такой скоростью трезвым — ни один хирург бы не отрихтовал мою «облицовку».
Далее — тоже с чужих слов. По слухам, шофер, как бы не заметивший моего появления в кабине самосвала, на мое исчезновение отреагировал поспешно, из машины вышел, у перил моста постоял, на дно оврага, где петляла смутная вечерняя водичка, посмотрел… И, сообразив, что дело пахнет керосином, то есть «человеческими жертвами», вернулся к машине еще поспешнее и торопливо уехал. Подальше от греха. Однако, возвращаясь после полуночи в райцентр, все ж таки решил проверить: а не померещилось ли ему выпадение пассажира? Пассажир валялся на прежнем месте, на речной гальке. И признаков жизни не подавал. И тогда шоферюга почему-то пожелал извлечь меня со дна оврага. Как выяснилось — чтобы засунуть под сарай, находившийся в трех километрах от места происшествия. Гибель моя тогда не состоялась. Я, конечно, благодарен судьбе: умереть под мостом — все равно что под забором… Хотя опять же неизвестно, что лучше: умереть под мостом или — как на роду написано? То есть — как предстоит?
Когда я очнулся под сараем, у меня разыгралось воображение: вдруг показалось, что на земле идет война, я ранен и выполняю задание. Моя цель — проползти на брюхе под сараем до противоположной стороны постройки и там неслышно снять часового. Естественно — вражеского. В узком месте, где земля подступала под самое днище сооружения, я плотно застрял в щелистом пространстве и… окончательно пришел в себя.
Затем скакал на одной ноге, помогая себе руками, далее полз по-пластунски ночным пригородом, будто по дну моря, — над головой раскачивалась тяжелая, смутная, белесая полупрозрачность июльских небес. Нога волочилась следом за мной, сломанная и как бы уже не моя. Часть штанины вырвана, материя вдавлена в рану на коленном суставе. Ползком преодолел я три километра и вновь очутился у рокового моста. Там на пустынном булыжном шоссе встретил я утро и нескольких женщин, испугавшихся моего внешнего вида и обошедших меня стороной. Вдали показалась первая попутка, идущая из города в сторону воинской части. Лежа на булыжнике, я на всякий случай приподнял руку. Проголосовал. Получилось торжественно. И — убедительно. Меня подобрали. В санчасти фельдшер Ловейко, не промыв как следует рану, зашпаклевал ее стрептоцидом. Через какое-то время сделалась во мне температура сорок градусов. Началось воспаление. Процесс. Пока что — не судебный, а всего лишь биологический.
Меня повезли в город на телеге. По дороге в одном месте телега круто накренилась, и я выпал из нее наземь. Возница из слабосильных солдатиков не мог погрузить меня самостоятельно. Помогли случайные люди. Верней — хорошие люди. По моим теперешним убеждениям, на земле не только случайных людей, но и случайных, к примеру, трав, мух, камней — нету.
Всё — закономерно. Подчинено вселенской Гармонии. Жизнь, смерть, бессмертие.
В больнице врач припугнул, посулив, что отрежет ногу по колено. А когда я пригорюнился, взял с меня подписку, в которой я разрешал ему делать с моей ногой эксперимент, то есть все, что угодно. Кроме ампутации.
«А то, что сгибаться она у тебя никогда не будет, даю гарантию», — посулил лекарь. И это — «при благополучном исходе операции». Врач сей, впоследствии оперировавший меня еще дважды, оказался интересным человеком. Во всяком случае, повадки его запомнились навсегда. Вряд ли он оригинальничал — просто действовал нестандартно. То есть — не слыл, а был личностью. Во всяком случае, отстаивал это право. Хотя бы — у операционного стола.
После его посулов и устных рекомендаций, предваряющих священнодействие со скальпелем, человек, перенесший операцию, был готов к самому худшему, и вдруг оказывалось, что все позади и что отрезали ему гораздо меньшее количество мяса или костей, чем ранее предполагалось отрезать. И пациент счастливо улыбается, благодарит судьбу, но пуще — врача.
Этот хирург, помнится, во время операции, которую делал мне под местным наркозом, предварительно убедив меня, что наркоз выдан общий, заставлял меня приподниматься на столе и смотреть на оперируемое место, на привязанную бинтами ногу, поясняя, для чего, скажем, вставляет он под обломок мениска эластичную отводную трубочку и т. д.
Из больницы я ушел на негнущейся, недозажившей ноге. В городе тогда случилась страшная авария на дороге: один шоферишка, пьянчуга и хвастун, решил покатать школьников, целый класс, и вместе с ними загремел на «ЗИСе» в овраг. Больничку забили искалеченными детьми. Дети молчали в болевом шоке, тараща глазенки. У кого торчала сломанная ключица из плеча, у кого… Словом, ушел я тогда из заведения моментально, чтобы не занимать дефицитную койку, и вообще.
Нога и впрямь долго не гнулась. Разработал я ее, сидя на «губе». Превратившись во временного инвалида (а по прогнозам хирурга — в постоянного!), я повел себя несколько раскрепощенней: по территории части расхаживал с металлической тростью, подражая не кому-нибудь — самому Пушкину, держался независимо даже с офицерами, частенько терял ориентацию и мог безо всякой увольнительной очутиться в райцентре на предмет продажи на барахолке пары белья или свежеполученной на складе гимнастерки (на плечах оставалась старенькая, выгоревшая, а за обменную шла кучка тряпья — рукав, подобранный на задах склада, или ворот чьей-то распавшейся на составные форменной одежды). Такие неуправляемые походы завершались вожделенным принятием горячительного и… одиночной камерой гауптвахты, где я разрабатывал ногу по специальной программе, ударяя ею с возмущением в окованную железом дверь камеры. Иногда — с разбега.
На медосмотре в госпитале, предварявшем медкомиссию, дюжий медицинский полковник, засучив рукава белого халата, спросил меня вкрадчиво:
— Что… не гнется?
— Не гнется.
— Совсем не гнется?
— Совсем.
— А вот мы сейчас проверим… — и с этими словами ухватил мою ногу правой рукой за лодыжку, а левой — за подколенье и резко нажал вниз. Я взвыл. Тогда полковник, уловив в скрипе сустава какой-то «положительный тон», нажал вторично, сильнее прежнего, и еще, и еще, приговаривая: — А это что?! А это что?!
Нога гнулась. Я хоть и возопил истошнее прежнего, однако «положительный тон» улавливал тоже, и в глубине души радовался происходящему, даже ликовал: кому охота в двадцать лет шкандыбать по дальнейшей жизненной дорожке с палочкой?
Потом я… замерз в сугробе. Опять же — не до конца. Случилось это в Вологодской области. Был какой-то престольный праздник в соседней с частью деревеньке, носившей необычное название — Ардаматка. «Престол» совпал с выборами в Верховный Совет. По местному — «выбора». Тогда, в начале пятидесятых, в вологодских деревнях еще проживали юные девушки. Имелись и пареньки, у которых солдаты переманивали любушек. В тот день случилась очередная драка. На почве ревности. Стенка на стенку. С применением колышков, штакетника и прочего дубья. В сельсовете выбили стекла и порвали какие-то списки, а также призывы. Лично мне дали колышком по лбу, и я очутился в сугробе. Где и заночевал с помятой внешностью. Утром ехали возчики в лес по дрова, на делянку, — двое старослужащих из хозвзвода, и один из них, который повнимательнее, обнаружил торчащие из сугроба кирзачи. Хотели подобрать бросовые сапожки, как трофей после вчерашней битвы, да не тут-то было: в сапогах — чьи-то ноги!
Пришлось выковыривать меня из снега. И опять будто бы «определенное состояние» способствовало выживанию: если б не оно — замерз бы, как пить дать, рассуждали возчики. А мне думается: если б не они… и еще — если б не судьба, и еще… в который раз по Лермонтову — «не будь на то господня воля»… С тех пор каждый месяц в выплатной день отламывал я от «наркомовской» тридцатки львиную долю и ставил своим спасителям неизменную поллитру. Как свечку господу. Правда, к концу службы — безо всякого уже энтузиазма расплачивался, даже спрашивал иногда: за что, дескать? И тогда они напоминали. Что ж, все правильно. Несмотря на потерю ногтей. Ведь приобрел-то больше. В том числе — веру. Для начала — в случай. В счастливый случай.
Самую ощутимую физическую травму получил я в конце третьего года службы, перед демобилизацией. На календаре — старый Новый год, 13 января 1954 года. Я его встречаю на губе, в своей личной камере № 5 (чаще всего меня почему-то определяли именно в пятую камеру). Настроение упадническое. Стихи не пишутся: не удержать в пальцах карандаш — такой мороз. Снаружи — тридцать, внутри помещения — ноль. А в голове стихи примерно такого звучания:
Ты танцуешь, а юбка летает, голова улеглась на погон. И какая-то грусть нарастает с четырех неизвестных сторон… Ударяет в литавры мужчина, дует женщина страшно в трубу! Ты еще у меня — молодчина, что не плачешь, кусая губу. Офицерик твой — мышь полевая — спинку серую выгнул дугой! Ничего-то он, глупый, не знает, даже то, что он — вовсе другой…Во всей десятикамерной гауптвахте — только мы двое: я и еще один, крестьянского происхождения малый, за три года службы впервые посаженный под арест, здоровенный, косая сажень в плечах, и кроткий нравом. Посадили его за то, что не стерпел, плюнул в сердцах на пол каптерки, где над ним измывался старшина роты, заставляя приседать… двести раз. Короче — сорвался малый, не стерпел, не снес. Даже такой кроткий и с виду нерушимый. Плюнул и растер. И вот ему трое суток ареста. Под старый Новый год.
Сидим в разных камерах, потому что разные режимы схлопотали: я — строгача, малый — простого. И тут вышла нашему начальнику штаба, капитану Исайкину, нужда в колотых дровишках: жена в штаб позвонила, дескать, так и так, муженек, пришли пару солдатиков дровец заготовить, а то — холодрыга. А в сарае — пусто, одни щепки. Капитан позвонил в караулку, распорядился отрядить. Открывают дверь камеры, заявляют: ступайте туда-то. А я их в другую сторону посылаю. Потому что не имеют права снимать меня со строгого режима на частные работы. В тридцатиградусный мороз. Без рукавиц и вообще — скрюченного от холода, не принимавшего сутки горячей пищи. Я тоже законы знал — как-никак служба кончалась, три года сроку позади. Опыт. Подкованность.
Тогда они выстраивают в коридоре гауптвахты караул со своими просверленными ружьишками, поставленными к ноге, и предлагают мне идти на заготовку дров в приказном порядке. За невыполнение такого, по всей форме отданного приказания могли прямиком отдать под трибунал, а уж добавки строгача на «губе» жди тогда непременно. Ладно, думаю, пойду, коли в приказном порядке. Будьте вы трижды неладны и так далее.
Пришли в сарай. Положили на козлы чурку. Взялись пилить. Погонный метр на четыре части. Потому что печки в офицерских «финских» домиках — маленькие чугунки, чуть больше ведерного самовара. Пилим. А сарай весь в щелях, холоднее, чем на улице. Ветер сквозь него так и гуляет. А варежек не дали. В сарае имелись брезентовые голянки — пальцы из них в дыры выглядывают. Все же напилили кое-как. Настало время мельчить, колоть чурки. А вместо острого топора выделен был грубый колун, тупой, тяжеленный и вообще похожий на утюг.
Напарник довольно сноровисто махал колуном, держа его в одной руке. У малого бицепсы от природы — будь здоров. Но и он взопрел в конце концов. Протягивает орудие труда — дескать, ваша очередь молотить, гражданин городской житель. Попробовал я одной правой обходиться — ничего не вышло: мышца на руке не та, мясо на костях онемело в одночасье — плечом не шевельнуть. Схватился тогда обеими руками — полешки врассыпную пошли слетать с плахи. Малый не успевает наклоняться и шарить, разыскивая наколотое. Тогда порешили совместить усилия: малый будет колоть двумя руками, а я — придерживать чурки, чтобы не разлетались. И в какой-то миг я, должно быть, зевнул, задумался, да и руки от холода потеряли сноровку, гибкость. Вот колун и пришелся по моим пальцам. Нанося удар, малый, видимо, в последний момент все ж таки почувствовал неладное, смекнул, что железо придется по живому, и в какой-то мере ослабил удар, но полностью предотвратить его уже не мог. Тупой колун не отрубил — элементарно переломал пальцы на моей левой руке — средний и указательный, которые повисли на лоскутках кожи, будто посторонние. Крови не было ни капли: мороз оттеснил ее в глубь тела.
В санчасти, куда мы вбежали с малым, не выпускавшим из рук колуна, фельдшер Ловейко, глянув на мои пальцы, иронически усмехнулся, молча отстриг специальными ножницами указательный палец, который с отчетливым стуком упал в таз для отходов. «Лепила» изготовился уже изымать второй палец, но я почему-то отвел руку за спину.
— Чего? — выдавил из себя неразговорчивый Ловейко.
— Не дам больше. Хватит…
— Ну и дурак. Отлетело — не приставишь. Без пользы он теперь.
— А вы замотайте покрепче. Может, прирастет…
Забинтовали. Наложили шинку. И отправили в город. К хирургу, который в свое время едва не отрезал мне ногу. То есть — вот именно не отрезал — спас. Теперь же хирург, пришив палец, не забыл «обрадовать»:
— Вряд ли прирастет. Ну, а если и случится чудо, то гнуться он у тебя никогда не будет.
Прирос. Помогла морозная погода: охлажденная ткань не омертвела, покуда ее обрабатывали. Приросло и даже гнуться со временем стало. Все, как с ногой, только… с пальцем.
Отскочи у меня нога — мне бы и слова не сказали в осуждение, списали бы, уволили — и дело с концом. А стоило отскочить пальчику, начались проверки, дознания, комиссии: а не самострел ли я, не членовредительство ли учинил? Хорошо, что малый-свидетель все как есть подтвердил. А потом, когда выяснили, кому и в каких условиях рубили мы дрова, и вовсе дело замяли. Потому что в противном случае капитана Исайкина следовало наказать, привлечь. А это ни к чему — привлекать начальника штаба, сор из избы выносить и т. п. Дело закрыли, тем более что я не жаловался. Мне даже нравилось по госпиталям разъезжать — все не так скучно, разнообразие в жизни, а главное — от казармы подальше.
Что меня спасало в армии от потрясений более ощутимых, от наказаний тюремных за все мои выкрутасы, от последствий, которые шли за мной по пятам? Как ни странно — стихи, то есть и они тоже. Прекраснодушная Муза, взявшая надо мной покровительство. В момент, когда над моей головой до предела сгущались тучи, милосердная Муза подсказывала залихватский стишок в полковую газету или заставляла выступать на политинформации с лекцией о творчестве великого русского поэта Некрасова (бывшие урки, когда я им напевал «Меж высоких хлебов затерялося…», неподдельно плакали); Муза писала за меня сценарий праздничного концерта, пересыпанный бойкими частушками и пародиями на «актуальную тему». И глядишь — на груз многочисленных взысканий наслаивалась очередная благодарность, исходившая, скажем, от начальника политотдела, которая и покрывала своей весомостью тяжкие грехи моей солдатской молодости.
Стихи в армии писал я двух планов: для печати и для «народа» — для своих друзей-сослуживцев. Двойная мораль в творчестве была тогда как бы запрограммирована общественной моралью, о так называемой, буржуазного происхождения, «свободе творчества» никто даже не помышлял всерьез. Все еще было актуальным понятие «неосторожное слово», которое не только не печатали — за которое давали срок. Мои стихи «для печати» резко отличались от «народных» своей причесанностью, благообразностью и совершенной бессердечностью. Мертворожденные — так бы я окрестил их с высоты утраченного времени. Самое удивительное, что стихи эти… не печатали. Ни «Советский воин», ни «Советский моряк», ни «Работница» с «Крестьянкой». Вот уж действительно — Бог уберег. В этих непечатавшихся «печатных» стихах было все, что нужно редактору того времени: верность Родине; кремлевские елочки; бесстрашный юный воин, охраняющий склад с припасами; величавая Нева, по которой солдат грустил. Сталина, правда, в них никогда не было: сказались жилинские, за вечерним самоваром беседы с отцом, у которого за восемь лет лесоповала сложилось об этом человеке определенное, весьма далекое от поэтических идеалов мнение. Не присутствовало в печатных стихах разве что… поэзии. Искреннего чувства. Не ночевало оно там. И вот что примечательно: стихи эти исчезли. Все до единого. Смыло их, как серую пыль с лица земли. Не сохранилось при мне ни единого листочка с их начертаниями. И как же я благодарен тем литконсультантам из «Советского воина» и «Работницы», раскусившим мои гнусные намерения — выдать рифмованное вранье за крик души.
Стихи второго, «народного» плана были непечатными по другой причине: из-за своей безудержной откровенности, из-за присутствия в них так называемых непечатных слов. То есть совершенно иного рода крайность. В дальнейшем, на пути к профессиональному писательству, мне постоянно приходилось сближать обе крайности, как два непокорных дерева, грозящих разорвать меня на две половины. И слава богу, что одно из этих деревьев оказалось в своей сердцевине гнилым и треснуло, обломилось. Так что и сближать в себе с некоторых пор стало нечего, а вот очищаться от бесконечно многого — пришлось. Под знаком очищения от самого себя, от наносного в себе и прошла моя «творческая деятельность», и процессу тому не вижу завершения при жизни.
Из тогдашних стихов «народного» плана наиболее характерным опусом являются стихи, ставшие довольно известной песней (в определенных кругах, естественно) «Фонарики».
Когда качаются фонарики ночные И темной улицей опасно вам ходить, Я из пивной иду, я никого не жду, Я никого уже не в силах полюбить. Мне дева ноги целовала, как шальная, Одна вдова со мной пропила отчий дом. А мой нахальный смех всегда имел успех, А моя юность — пролетела кувырком. Лежу на нарах, как король на именинах, И пайку серого мечтаю получить. Гляжу, как кот в окно, теперь мне все равно, Я раньше всех готов свой факел потушить. Когда качаются фонарики ночные И черный кот бежит по улице, как черт, Я из пивной иду, я никого не жду, Я навсегда побил свой жизненный рекорд!Что дала мне служба в армии? Многое. Закалку, мужество, смекалку, дополнительную выносливость, уроки братства, ростки скептицизма и цинизма, ностальгию по свободе подлинной и презрение к свободе мнимой, хотя от запаха гнилых портянок я и до службы не морщился. А что взяла? Гораздо меньше. Остатки иллюзий. Поскребки детства. Да вот еще… пальцы. Плюс — равнодушие к слову, научив в какой-то мере отличать слово продажное от слова сердечного.
22
Сейчас ночь. Я один в квартире. Мои близкие в Крыму. За окном в ветвях тополей шумит летний дождь. Он, видите ли, располагает к размышлениям. Вокруг меня шкафы с книгами, картины друзей-художников. Стол завален газетами, журналами: сейчас в них много интересного. Страна вживается в атмосферу немыслимых прежде перемен. Впечатление такое, что никто этих перемен как бы уже и не чаял. Настолько разуверились все в возрождении правды, свыклись с ярмом лжи.
Основные события моей жизни позади. Роковые страсти, лишения, гибельные падения, захватывающие душу повороты, жажда успеха… Все это отшумело (и надеюсь — навсегда), как минувший день за окном. Среди книг, собравшихся в моих шкафах, есть книги, измышленные и воображенные моим мозгом, моим сердцем, то есть явившиеся как бы из ниоткуда (не будь меня — не было бы их, а ведь я, по теории «материи», ничто — мясо, уготовленное червям). Бренное тело мое простерто на уютном диване, напоминающем полку спального вагона. Ничто не болит. Даже зубы. В квартире никого. Хотя почему же… Есть рыжий кот. Большой и молчаливый. Умница. Я с ним безуспешно разговариваю. Кормлю его. В основном за то, что он молчун. Меланхолик. Не искрит. Не располагает энтузиазмом. Иногда он смотрит на меня долгим человеческим взглядом.
Смысл земного существования для меня все так же размыт, неопределенен, непостижим для ума. Но предчувствия не столь безнадежны. Интуиция милосердней разума: она подсказывает, что впереди если и не выход, то — отдохновение от поиска. И еще: в глубине души теплится благодарность к миру, к солнцу, к людям за ниспосланную радость общения с ними.
Вчера приехал с одной из окраин нашего Отечества, откуда-то из кустанайских степей, двоюродный брат Александр, тот, с которым довелось вместе странствовать все четыре года войны, оккупации. Тогда он был на пять лет старше меня и пытался мной руководить, а теперь мы как бы одинаковы. К старости люди как бы подравниваются. Перед последней примеркой. Последнего футляра.
Вспоминали с ним, сидя в Купчине, в квартире моего отца, годы военного детства. Отец молча слушал наш «захлёб». Потом, когда я уже вернулся к себе на Васильевский, отец позвонил по телефону и сказал, что ему сделалось тяжело от наших воспоминаний. «Какое страшное детство…» — прошептал он перед тем, как пожелать спокойной ночи. Это сказал человек, которому в революцию было семнадцать лет. Семнадцать, а не десять, как мне с началом войны. В десять лет он разучивал молитвы в церковноприходской школе, а дома пересказывал их матери, разъяснявшей сыну премудрость этих молитв, изысканную жизненным опытом православной крестьянки. К семнадцати годам был он вполне готов к встрече с семнадцатым годом.
Мне же иногда кажется, что сердце у меня вовсе не овальной формы, а, скажем, граненое, четырехугольное. А если все же овальное, то — рубчатое, с насечкой, как осколочная граната-лимонка. Метафора, отлитая в «пещи огненной» детства.
Завтра с Александром поедем в Лугу на Вревское кладбище. Навестим дорогие могилы. Посылает нас туда мой отец. Последствия недавнего мини-удара не позволяют ему отправиться вместе с нами, как в прежние годы. Дорожка туда наезжена именно отцом. Но, как ни странно, я и сам теперь ощущаю тягу в том направлении: поездка в Лугу становится для меня чем-то необходимым. Видимо, начинает действовать закон срастания с неизбежным. К тому же на Вревском торчат кресты над прахом воистину дорогих мне людей, особенно — сестры отца, тетки Фроси, которая в годы войны заменила мне мать, да и после войны любила меня бескорыстно. Не то что я ее. Память о ней священна. Александр поедет на могилу своего отца, Павловского Владимира Алексеевича, при Сталине дважды репрессированного, то есть мученика. Там же могила нашего с Александром деда — Алексея Григорьевича Горбовского, а также бабки Ириньи Ефимовны, в девичестве Зарубиной, крестьянки из псковского села того же названия. Словом, завтра, 31-го, у нас праздник, к тому же последнее воскресенье июля — день Военно-Морского Флота. И это совпадение — не черный юмор, а как бы «торжество жизни над смертью».
Утром из открытого окна ломилось в комнату солнце. Шумела обсыхающая от ночного дождя листва тополей. В комнате валялось множество крылатых насекомых-однодневок, залетевших ночью на свет. Некоторые из них еще подавали признаки жизни, как бы ворочались, засыпая вечным сном.
___________
Поездка в Лугу навеяла тогда воспоминания о двоих близких мне людях, оказавших на меня влияние в далеком отрочестве, и прежде всего тем, что люди эти… страдали на моих глазах. Причем невинно. То есть не просто жили возле меня, но — жили мученически.
Дядя Володя. И дядя Саша.
Я знал его с довоенных времен, еще по Скребловской школе, где наша семья дачничала, проводя у родственников летние каникулы. Но осознал его гораздо позднее, в сорок восьмом, во владимирском селе Богородском, куда ему было назначено поселение после первой отсидки. Его жена Евдокия — «очередная» родная сестра моего отца — совмещала в себе невероятную экспансивность, крикливость, задорность, даже некоторую судорожность характера с добротой и улыбчивостью. Темная, цыганистая, ветровая — возле рано обеззубевшего, шамкающего, постоянно улыбавшегося как-то вбок мужа, не выпускавшего изо рта ядовитой цигарки с махрой, слезившегося светло-голубыми глазами, зимой и летом не снимавшего с больных, охоложенных в лагерях ног «валенцы», способного внезапно и очень искренне захохотать посреди серьезного разговора или несерьезной перебранки о супругой. При этом беззубый рот его напоминал черную топку печки, откуда чадящей головешкой торчала цигарка, ухитрявшаяся во время искрометного хохота не вылетать изо рта.
У него был крупный, стоячий, отчетливый почерк выпускника петербургской гимназии. Таким образом, в Богородском тогда обреталось целых два «писателя» — он и я. Он составлял свои «Записки», прозаически озаглавленные «История одного судебного дела», я — вовсю километрами выматывал из себя стихи. Отсутствие в названии «Записок» романтического начала обусловливалось не только математическим складом ума Павловского, но и постоянной готовностью отвечать за составление тех записок перед «суровым законом». А правильнее сказать — перед беззаконием, царившим в стране. Чем суше, протокольнее записи, тем меньше в них всяческой «подлянки», то бишь иронии, издевки, скепсиса, которые при определенных обстоятельствах могут свидетельствовать о том, как глубоко твоя пишущая душа погрязла в махровой антисоветчине, морально прогнила, и бдительным работникам «своего дела» ничего не останется, как добавить тебе еще пяток северных лагерей, где твои простуженные «копыта» окончательно откажутся ходить по земле и ты их отбросишь — на радость соседа по нарам, который успеет воспользоваться за обедом твоей отныне бесхозной пайкой.
В Богородском, особенно зимой, как-то непривычно пронзительно и далеко виделось — и в буквальном смысле, когда соседняя деревня Макарово, расположенная в пяти километрах от Богородского, представала, как на ладони, со всеми своими сугробами заснеженных избушек, потемневшей от запустения церковью, и в смысле прозрения, то есть взгляда в будущее, когда надвигающаяся жизнь рисовалась как нечто восхитительное и уж теперь, после всех передряг, наверняка нерушимое. И все, что сопутствовало мне в этом блистающем мире, вошло в мое сердце как производное добра, порождение прекрасного, даже собак тамошних хорошо помню, даже рыбий пируэт над гладью пруда, даже деревенские пляски, переходившие в драки, чаровали, не говоря о лунных, снежных, скрипучих ночах, по фарфоровому насту которых бегал я на лыжах к пугливой девчонке… Все, все было дивно, первозданно, сулило вечность любви и нескончаемость жизни. Недаром первая любовь к некой девчонке вспыхнула именно там. Там же — и первый урок сострадания, когда какой-то негодяй пальнул в бесхозную Найду из дробовика, нашпиговав ей кишечник свинцом, и то, как мучительно долго выхаживал я эту Найду и она вознаградила мир своим воскрешением. Там же поехал я, без предварительного обучения, на велосипеде, там же впервые самостоятельно сходил в церковь, там же ощутил в писании стихов некий спасительный смысл, уводящее от ядовитых жизненных испарений благо, когда поздним вечером при запашистом керосиновом свете можно было уткнуться в свою заветную тетрадочку и не волноваться за неизбежный пережог топлива в лампе, так как рядом с тобой, за тем же столом, увлеченно дымя цигаркой, выводил свои стоячие, «печатные» буковки Владимир Алексеевич.
Сейчас, заглядывая в бесхитростное сочинение моего дяди, я хоть и не вижу на его страницах поэтических прелестей, но вчитываюсь в его строки с трепетом, ибо передо мной не просто документ, один из многих, ныне всплывающих из мутной воды нашего не столь давнего прошлого, а вот именно — неповторимо-стойкие буковки, рождавшиеся там, под абажуром из районной газетенки, местами обуглившейся, под абажуром, где хватало места и света и на протокольную правду тюремного быта, и на бесхитростную ложь моих первых ритмических опытов.
Своему сочинению В. А. Павловский предпослал посвящение. Вот оно: «Работникам советской юстиции посвящаю эту правдивую повесть из моей жизни. Пусть прочтут они ее и подумают о моем печальном примере, когда будут разбирать дела других преступлений. Я буду счастлив, если загубленные годы моей жизни и этот мой скромный труд хоть в сотой доле помогут оправданию одного невинно осужденного».
Замечательно, что слово «преступлений» в посвящении дается автором без кавычек. Он и знает внутренне, что большинство из репрессированных «невинно осужденные», и как бы еще не осмеливается сказать об этом определенно. Интонация времени.
И еще. Разве не удивительно: посвящая труд работникам юстиции, он все же думает не о них, и даже не о себе, а вот именно — о других, будущих невинных жертвах. Это уже мировоззрение.
Ниже я процитирую отрывочек, произвольно извлеченный из этой рукописи, чтобы внести в свои беллетризованные «Записки» акцент и ясность подлинника.
Одна из глав «Истории судебного дела» посвящена смертникам. Работая в райвоенкомате Великих Лук, В. А. Павловский еще до своего ареста стал невольным свидетелем казни. Вот как описывает он страшное событие.
«Засиделся однажды за работой далеко за полночь. И вот на рассвете, подойдя к окну, выходящему на крепостную площадь, в глубине которой располагалась тюрьма, сделался невольным свидетелем редкого зрелища. Тюремные ворота раскрылись, и из них вышла небольшая группа людей. В рассветной полумгле можно было ясно различить, что двое людей тащат под руки обессиленного или упирающегося третьего. А за ними идут еще двое. Ни лиц, ни одежды рассмотреть было нельзя. Процессия вышла из ворот и направилась к полуразрушенной церкви. Заинтересовавшись, я стал внимательно вглядываться в группу и вдруг совершенно отчетливо увидел, как один из шедших позади поднял руку и в упор выстрелил в человека, идущего впереди. Была видна вспышка выстрела и как бы слышен удар. В тот же миг люди, которые держали смертника, отпустили его. Смертник, оказавшись на свободе, сделал, словно по инерции, еще один шаг, потом вдруг высоко подпрыгнул в воздух, упал на землю и больше не шевелился. Люди столпились вокруг неподвижного тела, а из ворот тюрьмы выехала телега, на которой и увезли труп. Возвращаясь через несколько часов домой, очевидец ужасной сцены, подстрекаемый болезненным любопытством, нарочно прошел как раз по тому месту, где на рассвете совершено было убийство, но ничего особенного, кроме засыпанной песком площадки, не нашел».
Вот такая цитата. Из нее хочется выделить одно место: «Смертник, оказавшийся на свободе, сделал шаг, потом высоко подпрыгнул». Стало быть, свобода тоже разной бывает. Даже вот такой… посмертной. Свобода после того, как тебя убьют.
___________
Вскоре после войны, в конце сорок пятого или в начале сорок шестого, в дверь нашей комнаты постучали. Вошел изможденного обличья мужчина. На изнуренную его внешность обратили внимание даже хватившие лиха жильцы нашей коммуналки, пережившие блокаду. Помимо худобы, землистости и всяческой прочей запущенности человек этот был… съедаем гнусными насекомыми — вшами. Смириться с пьющими твою кровь паразитами значило приобрести выражение обреченности. Именно этот предгибельный оттенок и сквозил в облике пришельца.
Несмотря ни на что, дядю Сашу, а это был он, узнал я моментально, настолько характерным вылепила ему природа лицо: удлиненное, вертикальное, нос, как рюха, резкие стоячие складки морщин, в поперечной щели беззубого рта одиноко торчащий оранжевый от никотина зуб, русые, цвета пакли волосишки, растущие чрезвычайно медленно и вследствие этого казавшиеся прикленными к черепу, «повадка» головы понурая, лошадиная.
Дядю Сашу стали угощать чаем, продуктами, но он не приступал к еде, медлил, мялся. Потом вдруг шепнул мне на ухо: «Винца бы, малец…» Я передал его просьбу матери. Водку тогда выдавали по талону № 60. Этакий магический бумажный квадратик зеленого колорита. Все остальные продукты отпускались по карточкам, отпечатанным на бумаге более скучной расцветки.
Выпив стопку-другую, дядя Саша, не закусив, начал плакать. Из его светлых, синеньких глаз, загнанных вглубь, под нависшие наплывы век, вываливались тяжелые редкие слезины-горошины. Человек на мгновение расслабился. Позволил себе отдохнуть, но не надолго, как воздуху в легкие набрал перед очередным прыжком в многоступенчатую бездну.
Явился он к нам откуда-то из-под Луги, где полгода просидел в лагере. Там его «фильтровали», выясняя, чем занимался в годы оккупации. Вроде повезло человеку: отпустили. Дознались, что с фашистами не сотрудничал, и разрешили дышать дальше. Но как же сильно напугали там дядю Сашу за эти месяцы, какими ядовитыми парами окурили ему нутро, не требуху — душеньку! С тех пор в глазах его затравленных торчком стоял страх.
Перед самой войной дядя Саша работал на почте родимого Порхова. По выходным любил выпить водочки. После чего пел: «Сухой бы я корочкой питалась, водичку холодную пила б…» Или, встав на одно колено перед женой Ефросиньей, довольно сносно выводил; «Прости, небесное созданье, что я нарушил твой покой!» Было ему тогда лет пятьдесят. Призыву в красноармейцы не подлежал. Псков наши войска оставили очень быстро, Порхов — тоже. Пришли германцы в тяжелых сапогах, установили новые порядки. Дядю Сашу сперва принудили пилить дрова для госпиталя, затем назначили на село — волостным головой. В первую же ночь его деревенского правления пришли партизаны, стянули «начальство» с печки. Вывели босого, в кальсонах на заснеженный двор, попросили отвечать на вопросы. Дяди Сашины ответы партизан удовлетворили. Расстреливать «голову» не стали. Передумали. От должности немецкой он тут же навсегда отказался. И слово свое сдержал: на другой день пустился из Ясенской волости в бега, долгое время скрывался, от немцев, перейдя на нелегальное положение. Потом в Порхове произошел терракт: во время офицерского сеанса взорвали кинотеатр. Дядю Сашу замели в облаве. Потом отпустили. И так много раз: хватанут — отпустят, хватанут — отпустят. То немцы, то наши. И стало сердчишко у мужика, как мышь, пугливое. Трепещет непрестанно. Война окончилась, а сердчишко знай дрожит по-прежнему. Решила тогда тетка Фрося переправить дядю Сашу из Порхова в глухую деревню, подальше от разных «органов» власти и прочих треволнений. Но дяди Сашино сердце было уже не воскресить. Случается, что мозг в голове еще функционирует, человек ведет себя внешне разумно, а сердце у него как бы «заговаривается». Не с ума человек сходит, а вот именно что — сердцем повреждается. Так и с дядей Сашей получилось в итоге. Сошел человек с сердца. От страха, от вины, от казни над собой.
Конец его впечатляющ. И совсем не такой, как в моей повести «Снег небесный». Намного ярче. В повести по просьбе редактора журнала пришлось мне кое-что присочинить, смягчить, спустить на тормозах. А в жизни было все куда драматичнее, круче, талантливее. У жизни-то если и есть свой редактор, то, во-первых, не такой трусливый, как наш, кабинетный, а во-вторых, не такой затюканный. То же самое можно сказать и об авторе повести.
А грустное дяди Сашино дело завершилось так. Раздражителем, порождающим страх, переросший затем в панический, маниакальный ужас, послужил… паспорт. «Документ», как с ненавистью и одновременно с подобострастием величал Ваулин удостоверение личности. После войны выдали ему так называемый временный паспорт, то есть листок гербовой бумаги с гербовой печатью, сложенный пополам и действительный всего полгода. Переехав в деревню, дядя Саша больше ни о чем уже не думал, кроме как о продлении своего «временного». Для этой цели нужно было идти в Порхов, в органы. А в органах, ясное дело, покажись только, мигом припомнят все и тут же поставят к стенке. Вот и ходил он за продлением раз этак восемь — десять, и все — мимо органов, то есть — до базара, до пивнушки, до первого стакана, а там ноги сами несли его обратно в Сорокино, в беспросветное, беспаспортное, а значит, бесправное житие, хотя в лесной деревушке никто у дяди Саши предъявления документов так ни разу и не потребовал. До самой смерти.
Тетка Фрося рассказывала после:
«Сделался Сашенька не в себе. Задумался, не разговаривает почти ни с кем. С почты своей придет, меня увидит, улыбнется. Да этак жалостливо, виновато, будто прощения просит. Пищу принимать в последние свои денечки перестал, я и не ведала про то. А Сашенька сухари уже сушил, паек свой до крошки сохранял: для меня запасы делал, как выяснилось потом. Не догадалась я про его планы, а задумал он смерть принять. Примета имеется: кто про смерть балаболит лишнее, тот никогда себя не тронет. А Сашенька молчал. Знала, что тяжело ему, но чтобы до такой степени… Я-то богу молилась, на всевышнего полагалась. А Сашенька — сам по себе. Вот и надорвался. Револьвер у него почтовый имелся, для сохранности ценностей — „коровина“ звался. И держал он эту свою коровину завсегда в ящике несгораемом, а тут, смотрю, под подушку стал класть. „Для чего, Сашенька?“ — спрашиваю. „Замочек в сейфе барахлит“, — отвечает. Потому-де и под голову кладет. Самое, дескать, надежное место. Там, под подушкой, верней, глубже, под матрасом, после его смерти и деньги почтовые обнаружили. Все до копеечки. И бумаги ценные, и заявление о принятии им смерти добровольно — на имя районного начальства. И — сухари… Чтобы не подумали, будто запутался по матерьяльной части. Потому что честным работником всегда был. До крайней степени. А нашли его за деревней, у ручья. Там, где промоина. Видать, водицу студеную пил. Охлаждался. Жарко ему стало. Курил. Много раз окурки бросал и затаптывал в снегу. Потом на колени встал возле березки молоденькой. Будто прислониться к ней хотел. И курок нажал. А лицом — на Егорьевскую колокольню, которая из-за холма выглядывала, соседнее с нашей деревней село. На церкву смотрел перед смертью. Прощения у господа Бога просил. Грех ведь. Такой проступок — себя порешить. К вечеру мороз ударил, сковало его, как статую. Голова на грудь опущена, а сам на коленках. Обнаружили на другой день только. Я думала — в район уехал или еще куда запропастился… спьяну. А потом заявление под подушкой нашла. И деньги. Тогда и кинулись его искать. А Сашенька под березкой стоит на коленях. Огородили его проволокой на время следствия. С неделю за проволокой простояли… Он и березка».
23
Сколько бы мы в припадке искренности или благотворительности ни заявляли печатно или изустно, что старость беспомощнее, ранимее молодости, зрелости, функциональный эгоизм последних не позволяет им подняться над добывательски-обывательским эгоизмом и поровну разделить социальные дивиденды. Старость всегда обделена — здоровьем, надеждой, достатком…
«Уж не мечтать о подвигах, о славе. Все миновало, молодость прошла». И это написано до сорока лет. Потому что истинные поэты взрослеют в иных темпах, как бы один к двум, и, скажем, тот же Блок умер не в сорок, а — за все восемьдесят, это если взвесить накопленное его интеллектом. Что же касается чувств или сердца поэта — здесь и вовсе иные измерения, не поддающиеся повседневному исчислению.
Могут подумать, что апологию старости затеял я слишком поздно, как-никак самому уже под шестьдесят. Где, мол, раньше был? Там и был. Возле стариков. Мне они всегда нравились чем-то. Вначале бессознательно тянуло к ним. Прелесть какая-то всегда таилась в их поведении, позах, взглядах. Эффект обреченности. Жалеть тоже ведь приятно, а порой — просто радостно жалеть! И что уж совсем замечательно: оказывается, жалеть — полезно, даже выгодно.
Это я для деловых, добычливых: пусть учтут, пусть преумножат плоды.
Меня частенько (хотя и вежливо) укоряли, ставя на вид, что в стихах, вообще в моей писанине многовато всяческих обносков, разнообразных ветхостей — деревенских и городских дедушек-бабушек, которые от частого их появления на страницах делаются назойливыми, а сами страницы — мрачноватыми, как бы морщинистыми. Что ж, как говорится, с кем поведешься. Старики, дети, собаки, птицы. И еще деревья. Вот — население стихов. И все они чаще старые, ущербные. Даже — дети. Вот и в этой книге: старик отец, его тетки, их мужья… Почему, спрашивается, из ярчайшей картины детства не запомнились мне мои сверстники, даже девчонки, а стариков — хоть отбавляй? Потому что старики ближе не столько к смерти, сколько — к бессмертию. Недаром головы стариков даже снаружи светлее прочих голов. На плечах истинных стариков — тяжесть жизни, в глазах — отблеск страданий, в сердце — свет милосердный, не космоса, не просто неба свет — возвышенный свет совести, очищенный от мирских язв.
Старость — самая ответственная пора — так или почти так высказывался о ней Лев Толстой, написавший не только галерею образов зрелой жизненной поры, скажем, князя-отца Болконского, мужа Анны Карениной, Хаджи-Мурата или отца Сергия, но и создавший образ самого старца-писателя, не просто Льва Николаевича Толстого, но — философскую легенду начала двадцатого века.
«Хорошо умереть молодым», — говорил поэт Некрасов, но ведь это фраза из контекста, а на самом-то деле умирать молодым плохо, не только плохо — жутко несправедливо, трагично, гибельно, и великий Некрасов, вечно балансировавший на гранях услад и страданий (позднее — состраданий), на острие земных слабостей и на высокой проволоке душевных терзаний, наверняка, принимая предсмертные тяжкие муки, знал цену не только молодости, когда «хорошо умереть», но и цену старости, когда не только умереть, но и жить — подвиг.
Сколько замечательных, свыше одаренных людей ушло из жизни, не дожив до мудрых мгновений старости, не уяснив для себя главного смысла, не завершив благих намерений, не освободившись от суетно-хищнических задатков звериной закваски в человеке. Сколько дивных поэтов, художников, музыкантов, ученых недораскрылось, недозрело, недобродило. О гениях не говорю. Гении способны, как я уже сказал, жить иными темпами, и, скажем, Пушкин в России в тридцать семь — это седая вершина, так же, как у себя — Байрон, Моцарт, Рафаэль… А сколько их могло быть еще выше, доживи некоторые из погибших в молодости до возраста Гёте, Толстого или хотя бы Шекспира, Рембрандта, Баха. Есенин в России велик, но явно загублен, подкошен, сражен на полдороге. Также и наших времен поэт Николай Рубцов. Или художники Васильевы — минувшего века пейзажист и нынешний, чья живопись былинного настоя… Кто они все? Жертвы? Неизбежный «процент» золотого отсева? Или… слезы жизни? Не алмазные, живые — теплые, соленые. Да, если смерть съедает юное создание — это слезы, рыдание рода людского. Если умирает старик — это вздох всего лишь. И чаще — вздох облегчения.
А сколько совершенно неведомых, непознанных (никем!) загинуло в мире, не только не расцветши, зеленых листочков не выпустив? Сколько их, несчитанных, попавших под колеса клеветы, репрессий, водки, болезней и прочих «механизмов» зла, рожденных под неблагоприятным расположением земных звезд?
О, старость — это не только запах тлена сырой земли, но и величайшее благо, дар щедрый природы, который мы зачастую не только не ценим в себе, но и не чтим в других, разве что — в песне: «Старикам везде у нас почет!»
Где причина нашего, чаще закамуфлированного, потаенного, пренебрежения к старости? В чем она? Если не в общественной морали, которая достаточно мудра и опытна, тогда — в чем же? В нас самих. Внутри каждой конкретной частной жизни. Червячок трусливой брезгливости к морщинистому лику дряхлости. Боязнь ее одышливого дыхания за спиной каждого из нас. Иногда боязнь старости невыносимей страха смерти, могилы. И тогда петля на шее в какой-нибудь глухой Елабуге — желанней или неизбежней бесконечно беспомощного истаивания в предгибельном одиночестве. О, старость — не радость, она — героизм. Ее боль, ее смрад, ее подвиг — в каждом из нас. Как и пренебрежение к неизбежному. В каждом, а значит, и в тебе, в нем, во мне.
Однако существуют более размытые, огульные, широкозахватные (не от «я» — от «все» виноваты) определения, оценивающие пороки людских масс, толп, народоскоплений. Скажем, влияние (как эпидемии!) «первородного греха», имя которому гордыня, чьи производные — эгоизм, тщеславие, равнодушие, безбожие — колючей проволокой, как невесомой паутиной, опутали нашу житейскую сущность, и вырваться из нее до прихода старости отпущено далеко не каждому. Ведь многие из нас не просто живут-поживают, а как бы постоянно хвастают чем-либо: внешностью, здоровьем, образованием, зарплатой, престижными приобретениями, перспективами, как молитву твердя при этом формулу желаний: «Не хуже, чем у людей», — а ведь это только присказка, на самом-то деле нам постоянно нужно, чтобы лучше, всенепременно лучше, нежели у других. Безумная, страшно нерасчетливая (при всей своей внешней заданности) гонка за призрачным успехом. А гениальные старики меж тем приходили к мысли: не шуми, не гони, а вот именно «смирись, гордый человек», не противься, не возникай, как теперь говорят, а сядь-ка на пенек и подумай, как в мире с самим собой жить, как очиститься от нажитой скверны.
Вот и сам я со своей писаниной разве только очистительную цель преследую? Разве не помышляю (подсознательно) о славе, ну хотя бы — об известности? Разве от положенных деньжат откажусь? Хотя бы в пользу одиноких стариков? Не откажусь… По крайней мере — не от всех (у самого, мол, семья). Но вот милость: и очищаюсь, размышляя, и строю себя нового (достраиваю), не без этого — видит Бог! Потому что в старость захожу не как в райские кущи, но и… не как в болото. Примерно как в деревенский лес — после шумного города. Который, в свою очередь, не проклинаю, уходя, но — благословляю. Ибо хоть и далек еще от совершенства, но уже помягчела «структура» солей, отложившихся в сердце, полегчал, очистился от примесей состав и удельный вес «газа», возносящего оболочку моего мирка к высотам миропостижения. И, скажем, спроси меня теперь на страшном суде: «Поэзия или Родина — выбирай!» — отвечу не сразу. Но отвечу. Правда, в этот миг в мою голову уже не придет догадка, что подобный вопрос — провокация, и я успею подумать: «Счастлив тот, для кого эти понятия (Поэзия, Родина) неразделимы», — но отвечать-то все-таки придется. Не юля. И выберу я Поэзию. Не потому, что к старости выветрилась во мне любовь к Родине, к людям, а потому, что Поэзия — понятие внеземное, вселенское, из которого нельзя уйти, как из города, страны, планеты; Поэзия — понятие божественного ранга, заключающее в себе и энергию Любви, в том числе — любви к Родине, людям, вмещающее в себя объемы Земли, Галактики… Не отсюда ли одно из не часто употребляемых определений Поэзии: «Поэзия — есть Бог в святых мечтаниях Земли»?
Замечали: летние яблоки в вашем саду — белый налив, крапковка — хоть и слаще поздних, зато менее ароматны, нежели штрифель, анисовка, особенно чудесен аромат антоновки, самых поздних, предзимних сортов.
___________
«Нет ничего прекрасней бытия», — сказал Николай Заболоцкий. Как представитель XX, весьма расчетливого века, он мог бы выразиться трезвее, реалистичнее, например: «Нет ничего помимо бытия», — но… произнес то, что произнес. Такова воля мысли поэта или подсказка его интуиции. И действительно, иной раз ловишь себя на восторге оттого, что просто вышел на улицу и видишь этот спелый августовский день, дорогу, деревья по ее краям, ветер, копошащийся в листве, коровью лепешку, бронзовеющего красавца жука-навозника, встречное лицо человека, птичий промельк в небесах, воду, таящуюся на дне колодца, озабоченную ничью собаку, готового к отлету аиста на вершине водонапорной башни. Видишь мир и благодаришь судьбу за возможность быть в этом мире живым участником свершающихся таинств.
И все ж таки… «нет ничего прекрасней бытия». Прислушаемся к музыке мысли. Поэт не говорит нам, что помимо земного бытия ничего на свете нет и быть не может, он лишь уверяет, что нет ничего прекрасней нашего бытия, и как бы оставляет надежды на нечто… Но даже если и есть что-то «кроме», то оно, это неведомое «кроме» или «свыше», не может сравниться с нашим, земным, превосходным, прекрасным. Вот какая святая уверенность. И причина возникновения этой уверенности — любовь.
И потому как следствие восхищения бытием — никакой внешней последовательности в изображении пережитого, по крайней мере — мною, в этой книге: любой штрих, любая встречная малость — есть милость неповторимая. К тому же последовательность изложения исключает столь необходимые сердцу читателя (да и писателя тоже) приятные неожиданности. Эффект лабиринта! — вот подлинное наслаждение от восприятия чего-либо. Разве не так? Даже в любви к женщине, даже в постижении музыки… Магия все тех же резких поворотов, за которыми — новь, в худшем случае — неизвестность. И… последовательность подспудная, интуитивная.
24
Теперь — о литературных наставниках. Не о тех, которые… книги, которые — люди. О самых первых, а значит, и самых дорогих, незабвенных. Помимо отца родного, о ком я уже говорил и кто, как ни странно, сделался для меня «литературно полезным» гораздо позже, когда понадобились сведения не столько о ритмах и рифмах, сколько о смыслах, так вот, помимо отца — это прежде всего поэт Глеб Сергеевич Семенов и прозаик, сказочник, литературный мечтатель Давид Яковлевич Дар (Рыбкин).
Теперь, по прошествии не просто лет, но львиной доли судьбы, в назидание молодым поэтам скажу откровенно, бесстрашно: самым вредным, губительным, тлетворным желанием для начинающего поэта является желание как можно скорее опубликовать свои стихи, жажда напечататься. Для шлифующегося таланта (а талант хоть и врожденное свойство, однако развивающееся, оно далеко не алмаз, но — эмбрион), так вот для вызревающего дарования нет ничего более гнетущего, разрушительного, иссушающего, чем желание… славы. Желать должно себе совершенства. И не просто желать, а постоянно его в себе возводить (как себя — в окружающем мире). По кирпичику, по ступеньке, молча и, по возможности, подальше от редакций и всяческих окололитературных соблазнов и соблазнителей. На наших глазах выросла целая плеяда поэтов, чьи имена, чья скандальная репутация, а значит, и участь — жалки. Скандал может обеспечить известностью, даже ославить, но он же способен внести в поэтический организм инфекцию суетливости. В погоне уже не за славой, а за поддержанием ее свечения стихотворец становится своеобразным литературным алкоголиком, для которого глоток паблисити дороже всех таинств поэтического действа. И наоборот, мы знаем энное количество писательских имен, чей труд в поэзии был для них священным, всепоглощающим, для кого поэзия не идол, а сама вера, на чей алтарь поставили они, как сумели, свет своих сердец, изъязвленных не столько тщеславием, сколько невозможностью очистить свою поэзию, свое мировоззрение до идеальной степени.
О конкретных писательских именах — чуть позже. Внутренне подобрев, поуняв характер. А пока что — о себе грешном, о том, каким нравственным уродом, с какой потаенной двуликостью, выпестованной двойной моралью тогдашней лжеидеологии, предстал я пред светлые, но отчетливо страдающие очи Глеба Семенова, всю свою жизнь имевшего склонность помогать начинающим литераторам разбираться в самих себе и в окружающей их обстановке. Глаза его кричали, терзаясь сомнениями, но… кто расслышит глаза? Язык его не мог выговориться, ибо, как и все прочие языки страны, был скован страхом еще не остывшей, хотя и бесспорно издыхавшей эпохи. Сквозь измученный город, приходящий в себя от войны, политических дел, постановлений о журналах, успения вождя, шел заторможенный, как бы пребывающий в шоке 1954 год.
С одной стороны (или с одной головы двуликого Януса), хотелось мне тогда выразить в стихах себя — свои отчаяние, боль, гнев, накопленные за двадцать три года жизни, с другой — попытаться тиснуть, пропечатать стишки (любой пробы!) во что бы то ни стало. «Увидеть свет!» — так это называется, не без проникшего в эту фразу сарказма, ибо что может увидеть слепой котенок? Помышляющий (утробой) о кормящем сосце? Магия печатного слова… Для поэта, не обретшего своих убеждений, она воистину губительна. Ибо идешь ты тогда на поводу у властей предержащих, диктующих условия проникновения твоего слова в печать, в их печать. Другой печати не было и нет. Помимо самиздатовской и — «потусторонней». Нельзя забывать, и прежде всего человеку, собравшемуся «в поэты», что в его распоряжении не только пресловутая свобода слова, но и нетленная, неотторжимая от его совести свобода мысли. Утратить свободу слова ничего не стоит, утратить свободомыслие — конец всему.
Заняться «потусторонней» литературной деятельностью мне даже в голову тогда не приходило: во-первых, страх; во-вторых, патриотический замес в сознании слишком густ. Вновь обретенная после войны-разлуки Родина, любовь к ней, почерпнутая и впитанная из классической литературы, как из крови народа, скитания по истерзанной родимой земле, где каждая живая душа взывала о сострадании, чаще всего безмолвно взывала, — все это не позволило даже думать «в другую сторону», даже мысленно отвернуться от пережитого.
Иное дело — самиздат. Он произрастал как бы сам по себе. Не требовалось особых усилий (в том числе насилий над собой) для его функционирования. Стихи, которые не шли в печать — а поначалу таких было абсолютное большинство — разлетались, как светящийся пепел от костра на ветру. Эти несеяные стихи как бы сами собой прорастали в жилищах горожан, имевших отношение к поэтическому слову.
Недаром в середине пятидесятых кое-что из моих стихов, а также поэма «Мертвая деревня» фигурировали на судебном процессе, когда за «антисоветскую деятельность» и за связь с иностранцами судили ленинградского писателя Кирилла Косцинского (псевдоним Кирилла Владимировича Успенского), бывшего фронтовика, полковника Советской Армии, спасшего в войну от смертельных «неприятностей» недавнего австрийского канцлера Бруно Крайского. Косцинский написал интересную книгу «Труд войны», изданную в издательстве «Советский писатель». Был он осужден на пять лет мордовских лагерей за то, что сопровождал по городу Ленинграду приехавшего из Штатов тогда еще молодого и не столь известного музыканта, дирижера и композитора, руководителя симфонического оркестра Леонарда Бернстайна. Кирилл Владимирович был рекомендован американцу в негласные гиды, так как владел в совершенстве английским — привилегия бывшего фронтового разведчика, — и жестоко поплатился за проявленное гостеприимство.
Как же попали мои стихи в «дело» Косцинского? У меня рукописей не изымали. Обошлись тогда без ареста и обыска. Просто некоторые вирши ходили по рукам. Привилегия самиздата. Дома у Кирилла Косцинского с удовольствием собирались поэты, особенно неприкаянные, неиздававшиеся и главным образом молодые. С удовольствием еще и потому, что там… кормили. И поили. Блаженствуя и несколько распоясываясь, сочетали фамилию хозяина с главным собором Петербурга: «Косцинский-Исаакий» — шутка поэта Михаила Еремина, предполагавшая некий писуарный смысл, как бы внутреннюю рифму в нелепом словосочетании. И вообще в этом очаровательном доме, заставленном книгами, со стенами, завешанными современной живописью, в этой старинной бескрайней коммуналке с двумя входами у Косцинского можно было встретить кого угодно, даже молодого писателя Валентина Пикуля с огромным романом «Океанский патруль» под мышкой, но чаще всего встретить там можно было радость общения, вкусную выпивку, ласкающие самолюбие оценки твоих поэтических опытов.
Вот ведь, не причисляя Косцинского к своим литературным наставникам, все ж таки не мог обойтись без воспоминаний об этом странном, ни на кого, естественно, не похожем человеке, вечно куда-то торопившемся, подвижном, с лицом рельефным до крайности: большой нос, впадины глаз, худоба лица такая, будто все лишнее из него выбрано стамеской. Работал он в мордовском лагере прозектором, а кончил жизнь от пятого инфаркта на чужбине, при австрийской пенсии, назначенной ему за оказание помощи гражданам этой страны во время великой битвы народов.
А к Глебу Семенову впервые пришел я не на чай-кофий и даже не на литературные посиделки, но — как к лицу официальному, работавшему кем-то в молодежной газете «Смена», куда я принес в чемодане стихи, «предназначенные для печати». Литконсультант газеты Бальдыш, порывшись в чемодане, посоветовал мне учиться у классиков, почему-то именно у Пушкина с Маяковским, из-за которых, как я уже знал, в тридцать восьмом пострадал мой отец. Но… классики классиками, а писатель Бальдыш, не пустивший меня с ходу в печать (за что я ему посмертно благодарен), познакомил мэтра Глеба Семенова с двумя-тремя моими стишками, что и решило мою дальнейшую писчепечатную судьбу.
Моя неотесанность в изящной словесности была безмерна. Приобщить меня к своему поэтическому кружку Глеб Сергеевич не пожелал, но все же не отпихнул напрочь, пожалел, присоветовав обратиться в Дом культуры профтехобразования, к ремесленникам, где кружком «Голос юности» руководил не менее своеобразный человек — Давид Яковлевич Дар.
Это в какой-то мере неформальное общественное «образование», объединявшее юных и не столь юных поэтов и прозаиков, в основном выходцев из рабочей среды, а также студентов техникумов и учащихся ПТУ (тогда — РУ), существует в Ленинграде до сих пор, то есть почти сорок лет, и является настоящим долгожителем среди подобных кружков.
Руководил «Голосом юности» человек маленького роста, напоминавший сказочного тролля или карлика, а по теперешним книжным и мультяшным кумирам — и Карлсона, который, правда, жил не где-то на крыше, а в шикарной многокомнатной квартире на Марсовом поле. Хозяйкой квартиры была писательница Вера Федоровна Панова, тогдашняя жена Дара (правильнее сказать: Дар — тогдашний муж Веры Пановой). До сих пор не знаю, что в этом человеке было ярче — внешность или интеллектуальное наполнение? Пожалуй, и то, и другое выглядело для многих неожиданным (для многих, впервые соприкасавшихся с умом и манерами Дара). То есть неожиданен был он при ближайшем рассмотрении, а где-нибудь в толпе, в уличной стремнине, вообще на «подмостках бытия» разглядеть его миниатюрную фигурку не всегда удавалось, особенно случайному, неподготовленному зрителю. Зато уж кто пригляделся к нему — тот понял: в карлике сем и форма, и содержание недюжинны.
Нос картошкой, губчатый, да и все лицо как бы из вулканической пемзы. Длинные волосы, огромный рот, во рту — гигантская трубка, увесистая и постоянно чадящая ароматным трубочным табаком. Дыхание хриплое, астматическое. Движения порывистые, как бы сопротивляющиеся болезни сердца и легких. Речь рассыпчата, невнятна, как бы с природным акцентом, не с акцентом иностранца, а с оттенками пришельца откуда-нибудь с гор, пустыни, словом — из мира одиночества.
Оригинален до крайней степени. Кабинет его на Марсовом поле не похож на писательский. Комната малюсенькая, узкая, о которых говорят — «скважина». Почти всю площадь кабинета занимает необъятная тахта под засаленным ковровым покрывалом. На этой тахте он, как футбольный мяч на поле, подвижен, увертлив. Имеет под рукой чайные принадлежности, а также графинчик, сладости, дешевую колбасу — это все угощения для кружковцев, для себя — капитанский табак. О ваших стихах говорит, откинув голову назад, вынув трубку изо рта и чуть ли не плача — то ли от восторга, то ли от разочарования, то ли от едкого табачного дыма.
Дар обожествляет в стихах деталь, предмет — конкретность видения. И — краткость изложения. Он заставляет меня фокусировать словесное зрение на «кирпичиках бытия», на отдельных представителях предметного мира. Он публично проклял, предал анафеме все наши литературные рассуждения о любви, патриотизме, справедливости, о мире и войне, неважно о чем, важно, что рассуждения, словоблудие, пресловутую риторику, веками поносимую умозрительность, растекаемость по древу, с которой подчас не могли справиться даже «самые-самые», зоркие сердцем и разумом гиганты поэзии.
В моей тогдашней тетрадке стали появляться стихи-предметы, стихи-запчасти, стихи-существа, сами названия которых говорили за себя: «Зеркало», «Телефонная будка», «Почтовый ящик», «Комар», «Муха», «Ерш», «Ослик на Невском»… Для иллюстрации приведу это стихотворение 1954 года полностью, как эталон даровской, кружковской стихо-эстетики и стихо-педагогики.
Рыжий ослик, родом из цирка, прямо на Невском, в центре движения тащит фургон, в фургоне — дырка: «касса», билеты на представления. Ослик тот до смешного скромен, даже школьникам он послушен. Город-грохот так огромен! В центре — ослик, кульками уши. Скромный ослик, немного грустный. Служит ослик, как я, искусству.Лирика здесь как бы насажена на гвоздь басенной основы с непременной тогдашней моей концовкой, в которой — «соль», или, как требовал Дар, концовка, подсвечивающая картину — снизу вверх. Главное — чтобы резко, контрастно, выпукло, экспрессивно. И — кратко. Вот стиходельческая концепция Дара. Его поэтическая идеология. Чтобы словом, как кулаком по морде! — тоже его пожелание. Дар не был столь интеллигентен, как, скажем, Глеб Сергеевич Семенов, и здесь я говорю о чисто внешней стороне его личности, то есть ставлю оценку за поведение и прилежание, а не за глубину и выбор его познаний. Здесь Дар ближе к тому же Косцинскому, «обнародившемуся» за годы военных скитаний, опростившемуся до начальных ступенек цинизма, когда можно и… матерком вполголоса, особенно в стихах, и на запретную тему плотской любви поколебать лирическую струну, и что-нибудь социальное, в виде глухого протеста, и в меру аполитичное, а то и скандальное провозгласить ненароком. Можно и нужно — все для той же яркости, броскости, крутости стиха, чтобы не просто запоминалось — втемяшивалось, впечатывалось в читательско-воспринимательскую память.
Что мешало Дару завладеть нашими сердцами полностью? По крайней мере — моим сердцем? Ведь Дар не был скучным, постным, традиционным; мужик, как говорится, что надо, особенно для нас, тогдашних архаровцев, внутренне раскаленных, а внешне сморщенных от текущей литературы, как от навязанного, каждодневного разжеванного лимона, от антипоэзии, которой нас пичкали официальные лирики того времени. Дар читал вслух ходившую в списках Цветаеву, цитировал Гумилева, Ходасевича («Камень» О. Мандельштама из остатков семейной библиотеки я принес на занятие лито и подарил его Дару), он обращал наши взоры к здравствующей, но полуопальной Ахматовой, знакомил с Зощенко, драматургом Володиным, с «Лукоморьем» Леонида Мартынова, часами читал в упоении смешливо-аляповатые опыты стихотворцев «обэриутовцев», «Столбцы» Заболоцкого… Весело было, ярко — с Даром! Почему же тогда потянуло на сторону? К каким-то другим берегам и ощущениям, скажем, к «горнякам», которых объединил тогда Глеб Семенов и куда помимо меня пришли такие «сторонние» Горному институту начинающие поэты, как студент педагогического Александр Кушнер?
У Дара в кружке я как бы питался одной оболочкой, кожурой, под коей не то чтобы ничего не оказалось — ничто не поманило в даль жизненную. Я мог бы сейчас выразиться определенно, то есть грубо, скажем: Дар не верил в бога. А кто верил? Из нас? Сие покрыто мраком… личного одиночества. Визуально Бог не просматривался не только в нашем атеистическом обществе, но и повсеместно. К тому же — официально — как бы отменен вовсе. (Бога нет, а борьба с ним ведется, перпетуум-мобиле какой-то неосуществимый, хотя и осуществляемый постоянно.) Стало быть, Дар даже символически не верил в возможность существования высших начал? Ведь можно-таки не верить, не ходить в церковь, не класть поклоны, однако жить по Богу, по его заветам, по законам христианской морали, потому как законы сии не противны морали коммунистической: не убий, не укради, почитай и т. д. Тогда кто же он, Дар? Примитивный безбожник? Вряд ли, ибо — не глуп.
Дар — жертва обстоятельств, продукт эпохи.
В какой-то мере все мы — Павлики Морозовы и Кавалеры Золотой Звезды. Жить вне морали — легче, сподручнее. Жить блюдя (в отличие от блудя), то есть соблюдая принципы морали — великий труд. Жить вне труда духа, вне подвига — легче. Даже так называемому интеллигенту. И все же жить без элементарных убеждений невозможно — даже примитивному отбывальщику земного времени. Таких людей, обходящихся в жизни без масштабной цели, без трепета сердечной мысли (а не мышцы), без молитвы, хотя бы обращенной к солнцу, я называю живущими без ангела-хранителя.
Оглядываясь теперь на благие намерения наших отцов и дедов, вдруг обнаруживаешь, сколько же вреда нашему строю, нашим упованиям, да и всему облику нации нанесла так называемая мораль бескомпромиссной борьбы, сокрушения (читай — разрушения), «вечного боя!», постоянного напряжения мускулов, то бишь — бесовская мораль, в отличие от созидающей, милосердной, сострадальческой. Мораль «упоения в бою» опостылела народам, так как несла удовлетворение исключительно самим кровопускателям, а людям, обществу ничего, кроме духовного краха и экономического распада, не подарила. Ничего не только возвышающего или воскрешающего, но хотя бы врачующего, хотя бы анестезирующего.
Даже в творчестве, в таинстве поэтического восприятия мира люди «без ангела» вынуждены обходиться без кардинальной опоры, без хозяина духа, полагаясь на одни только внешние эффекты, жесты, фейерверки; культ внешности, слова ради слова, мелодии вне глубины музыки, сюжета для глаз. Так происходит обожествление оболочки, удовлетворение восприятием — начальной стадией проникновения в искусство, философию, исповедь. И от этой беды не спасает ни чтение классиков, ни потребление гениальной музыки, ни даже эмиграция на Запад…
Скажем, поэт Иосиф Бродский, признанный авторитет, лауреат Нобелевской премии, наличие дарования у которого не подлежит сомнению, до недавнего времени оставался для меня тем же человеком «без ангела», ибо тоже — продукт эпохи, личностный фундамент коего скреплен теми же компонентами, что и наш, грешный. Думается, недаром в роскошной ткани его сочинений, такой густой и замысловатой, нет-нет да и высунется выраженьице типа «верзать» (то есть — гадить) или вообще матерщинка, бесовский отрыг, похабщинка лютая проглянет. Потому как — без ангела, как без зрения сердца.
А Давид Дар уехал в Израиль, чтобы там умереть. Переменил климат. На пользу это ему не пошло. Как-то, еще до его смерти, кто-то из кружковцев «Голоса юности» показал мне фотографию Дара «оттуда». Страшная фотография. Во всяком случае — впечатляющая. Писатель изображен за столом (письменным), по бокам от него стоят синие кислородные баллоны, такие же, как наши, отечественные (фотография цветная). Нехватка воздуха.
___________
В который уже раз спрашиваю себя: зачем пишу эти «Записки»? Неужто помирать собрался? Сочинял бы себе очередную повестушку. Благо соображения на этот счет и кое-какие сюжетные картинки — перед глазами. Так нет же, тянет высказываться о себе, себя в героях представить. А для чего людям, читающим журналы и книги, знать, как выглядит современный писатель, тем более — изнутри? Достаточно знать, как выглядят его книжечки. От чего, от каких ошибок хочу предупредить постоянно растущего, так сказать «вечнозеленого», читателя, когда эти самые ошибки у каждого свои собственные, как почерк или рисунок на подушечках пальцев? Кому это нужно?
Это нужно мне! Как вот вылечиться от болезни, имя которой — Прошлое. И самое отрадное здесь знать: болезнь сия излечима. Последние ее симптомы покидают наше сердце с последним его движением.
Итак — жизнь. Она же — и наша болезнь, и наша гибель, и наше бессмертие. И наша Любовь.
О, как мы любим признаваться в любви к жизни! Особенно вслух. «Я люблю тебя, жизнь!» Однако не бескорыстно: «И надеюсь, что это взаимно». И тут мы горазды перечислять, за что любим. С таким, извините, энтузиазмом любим, так себя при этом в грудь колотим, что порой хочется спросить: а за что мы ее… не любим? Что нам, лично, в Ее Превосходительстве не по нраву или даже претит? За что мы ее не только не благодарим, но зачастую проклинаем?
Ах, ах! Разве можно про такое — во всеуслышание? Оказывается, можно. И не любим мы нашу владычицу прежде всего за непостоянство. За то, что рано или поздно… уйдет от нас. И хорошо бы к другому ушла, на буддийский манер, пусть даже к будущей обезьянке, от которой, если верить разочаровавшемуся в религии ученому, все мы произошли, так нет же, уйдет куда глаза глядят, исчезнет напрочь. Сгинет. И чаще всего — бесследно. Вот и попробуй полюби кого-нибудь за такое коварство. А ее любим. Ей все прощаем: наше одиночество, безденежье, увечье членов, затянувшуюся невезуху, измену ближних, немощь в старости, зависть к более удачливому, утрату надежд и, наконец, разлуку с ее теплом, улыбкой, образом, сутью, и не просто разлуку, а ее окончательный, невозвратный вариант. Прощаем? Или… А вот это как когда, вернее — как получится. Зависит от подготовки.
Улица, слякоть. Рассветная дымка. Люди теснят и толкают меня. Может, для них я теперь невидимка, жар потаенный без дыма-огня? Голос прозрачный, сосуд опустевший, мыльный пузырь? Или — просто душа, что отделилась от жизни сгоревшей и продолжает свой путь, не спеша, вдоль по проспекту, где хаживал Гоголь, где Достоевский курил табачок, где и тогда обходились без бога (разве — помянет в сердцах мужичок!)? Вот и машины бездумно-безбожно пренебрегают фигуркой моей, будто и впрямь ее шансы ничтожны, будто и впрямь раздавить ее можно… Можно. Фигурку. Но речь — не о ней.___________
В «Голосе юности» Д. Я. Дар очаровывал своих лирических ребятишек орнаментом, инструментовкой стиха, остротой поэтической фразы, отточенной метафорой, легко вонзающейся в утомленный повседневностью мозг читателя стихов и застревающей там надолго. В лито Горного института у Глеба Семенова акцент творческих усилий падал на идею, на пробуждение вольной мысли, на противостояние, а то и противоборство официальной литературной политике, на участие в духовном обновлении общества в тумане нравственной оттепели тех времен.
Грянули венгерские события. В пятьдесят шестом некоторые из нас участвовали в осенней демонстрации, ежегодной и почти обязательной. Однако в этот раз среди монотонных портретов и лозунгов мелькали самодельные транспаранты с надписями: «Долой клику Булганина и Хрущева!» Подобные же мысли выкрикивались прямо из студенческой колонны, в том числе и на Дворцовой площади. Правда, недолго выкрикивались. У выхода с площади на бывшую Миллионную (Халтурина) улицу самых забывчивых и крикливых похватали и запихнули в «черные воронки». От университетского лито был схвачен, а затем и судим поэт Михаил Красильников, от Горного института — студент по прозвищу Китаец. Помню, как перед самой демонстрацией многие из нас, разодетые «под Русь», в косоворотках, подпоясанных шнурками, в смазных сапогах — демонстративно пили у общественной бочки квас, крошили в него хлеб и лук и хлебали, одни — с насмешкой над так называемым «квасным патриотизмом», другие — не сознавая насмешки. Во всяком случае, как нам тогда казалось, в действиях наших присутствовал его величество Протест. Тогда же, под знаком все того же протеста, было написано много кричащих и ворчащих стихов. Покрытых глазурью иронии — откровенно гражданственных. Наиболее отчетливые и острые написала поэтесса из Горного — Лидия Гладкая. Вот некоторые запомнившиеся строчки из стихотворения, посвященного венгерским событиям 1956 года.
Там красная кровь заливает асфальт. Там русское «стой!», как немецкое «хальт!». «Каховку» поют на чужом языке, и наш умирает на нашем штыке.Заканчивалось это стихотворение печальной констатацией незыблемости произвола, к которому тянули страну приверженцы и соавторы недавнего сталинизма.
«Аврора» устало скрипит на причале, мертвящие зыби ее укачали.Достаточно сказать, что один из двух стихотворных сборников, составленных из сочинений литобъединенцев Горного института и отпечатанных в период «оттепели» на ротапринте в количестве 300 экземпляров каждый, был затем по прямому указанию Фрола Козлова, тогдашнего «первого» в Ленинграде, предан аутодафе и публично (хотя и тайно от «широкой общественности») сожжен во дворе Горного института.
Вообще состояние протеста было нам свойственно в ту пору, и все мы проявляли его, как могли, — иногда наивно, иногда задорно, но всегда в определенной мере артистично. В даровском «Голосе юности» вместе со мной занимался тогда и замечательный ленинградский поэт Виктор Соснора, человек, очарованный музыкой слов, в какой-то степени колдун ритма и рифмы, магистр и маг метафоры куда больший и рьяный, нежели москвич Андрей Вознесенский. Поэтический слух был у нас с Виктором разный; можно сказать — полярный; я смахивал тогда, внешне во всяком случае, на Есенина, Соснора — на Уитмена, Маяковского и Блока, вместе взятых.
У каждого из нас имелось тогда по роскошной шевелюре: у Сосноры — цвета ночи или воронова крыла, у меня — элементарная, светло-русая, цвета пакли или прелой соломы, но густая и такая же, как и у Виктора, объемная. Мы тогда уже вовсю поклонялись Бахусу, причем поклонение получалось нескучным, экстравагантным, в меру нагловатым, словом, таким же, как физиономия стихотворения, о котором позаботился наш руководитель — Дар. И вот, предчувствуя заморозки «оттепели», а заодно и крах венгерских событий, сидя на лавочке в «Сашкином саду» возле Адмиралтейства, решаем мы расстаться с величественными шевелюрами, принести их в жертву во имя свободы человечества — ни больше, ни меньше. Идем в ближайшую парикмахерскую и стрижемся «под ноль». У Сосноры при этом обнаруживается в области темечка ямка, как бы жерло уснувшего вулкана, у меня — две макушки и оттопыренные весьма уши — как бы символ некой неопределенности или двойственности, вроде той, общеизвестной — от неслияния добра со злом.
Даровский «Голос юности», выращивая поэтические индивидуальности, порой из милейших задумчивых пареньков создавал озабоченных собственной неповторимостью монстров, причем многие из них надолго, а некоторые навсегда забывали, кто они есть на самом деле, для чего призваны в жизнь, и с увлечением начинали заниматься несвойственным их душевному складу ремеслом, то есть не тем, чем надо.
И здесь, как нечто характерное, в памяти всплывает судьба одного из кружковцев — Славки Гозиаса, с которым я познакомился в «козявке», то есть в садике, расположенном за спиной клуба завода имени Козицкого. Там под маркой игроков в домино и шахматы местные пацаны и паханы играли в свои грешные игры, в основном в картишки — в буру или секу, очко или «третями» («бито-есть»), а кто «пограмотней» — в терс или рамс. Именно в этом садике проиграл я однажды новенькое пальто, которое мне, уже взрослому оглоеду, справила мать, приехавшая из Новороссийска навестить самостоятельно живущего в Питере сыночка.
Славка Гозиас обладал театральным, смазливо-броским лицом, высоким ростом, ужасно нравился женщинам, особенно зрелым, опытным, короче говоря, имел для занятий любовью все, что надо, и не имел четырех пальцев на одной из рук, не помню уже, на какой именно — правой или левой. В свои девятнадцать или двадцать был он официально признанным инвалидом труда, получал от завода, на котором лишился пальцев, солидную пенсию. Пальцы потерял он под прессом или штампом, а может, и под паровым молотом, потерял в одно мгновение. А пенсия, что-то по тем исчислениям рубликов шестьсот, растягивалась для него с тех пор как бы на всю оставшуюся жизнь. Спрашивается, кто из нормальных советских людей откажется от подобного материального блага (вознаграждения?) добровольно? Только тот, кто побывал в членах литобъединения «Голос юности». У кого внезапно прорезалась «яркая индивидуальность» по части писания стихов, за которые он в дальнейшем… не получит ни единого рубля гонорара, по крайней мере — в советских дензнаках.
Жил Гозиас в одном из старинных домов на 10-й линии Васильевского острова, причем в отдельной квартире, правда крошечной, и даже не однокомнатной, а с каким-то привеском в два квадратных метра, однако в аппендиксе этом наличествовали самостоятельное окно, и диван, и даже карликовый стол, где писались стихи. Двери меж комнатами заменяла дырявая занавеска, сквозь которую просачивался смачный пьяный мат славкиного «непросыхающего» отчима, бывшего «маримана», ходившего в неснимаемой тельняшке и беспрерывно матерившегося. Мать у Гозиаса, Анна Григорьевна, была неродная. Вернее — мать-тетка, мать-родственница, являвшаяся подлинной Славкиной родительнице сестрой. Вот и жил Славка при родителях, но как бы и без оных одновременно. На пьяного отчима самостоятельно мог рявкнуть, заткнуть ему «курятник», а от «старушки», как величал он тетку-мать, потребовать дополнительную тарелку щей и гуляша для своего кореша, то есть для меня, ибо оплачивал эти обеды своей, кровно заработанной пенсией.
В начале нашего с ним знакомства стихов Славка не писал. Во всяком случае — легально. Не до того ему было на заводе и в садике-«козявке», тем более — дома, под родительским матерком. Однако некое окошко в его груди для восприятия лирических откровений имелось. Отдушинка величиной с тюремный глазок. Вот в нее-то, в эту отдушику, и начал я заливать, а затем нагнетать кое-какие стишки — свои грубого помола, а также посторонние — классической пробы. Уж я старался вовсю: и сочинял, и декламировал. К тому же посещал престижное литературное объединение, а несколько моих стишат предполагалось кем-то в скором времени опубликовать. Кажется, в коллективном сборнике молодых ленинградских поэтов «Первая встреча».
Спрашивается, почему я столь подробно о Гозиасе? Потому что поучительно. В назидание будущим мальчикам и девочкам, реже — пенсионерам, хватающимся от нечего делать за перо и начинающим рифмовать километрами, а затем еще долго, иные — всю бессознательную жизнь, возмущающимся, что сочинения их не печатают, не дают им хода. А то, что их писанина, мягко говоря, не выдерживает критики, только подогревает азарт и апломб «творцов». Если сравнивать грубо, но доходчиво, то подобное сочинительство, на мой взгляд, сродни употреблению спиртных напитков, которое может стать болезнью, манией, писчим алкоголизмом, причем мрачным. Это не означает, что все истинные поэты — трезвенники, но их «даровитый порок» излучает улыбку удачи. Подлинное, врожденное поэтическое дарование, отшлифованное затем трудом мысли и чувства, поначалу, пожалуй, мало чем отличается от грамотных словоизлияний бездарных умельцев. Тут-то и таится опасность впасть в безудержное словоизвержение на бумагу. Найди ученые вирус писательства — и сколько сразу отпало бы забот и бед, сколько дополнительной пользы принесли бы граждане своему отечеству. А дело определения истинности среди стихотворцев и прозаиков свелось бы к элементарному лабораторному анализу: сдал каплю крови — и тут же, в лучшем случае на другой день, получай результат. И занимайся отныне своим делом. Со спокойной совестью и сбалансированной психикой. Некоторые сравнивают настоящих поэтов с мнимыми на примере сравнения садового яблока с лесным дичком. Это компромиссное сопоставление абсурдно. К дикой яблоне можно привить благородную ветвь и через пару лет ожидать съедобных результатов. Бездарному стихотворцу что ни прививай — результат один: кисло, челюсть на сторону воротит, если вкусить.
В те годы и Славка, и я грешили стихами на равных. Поди разберись, кому эта хворь органична, а кому — нет. И все ж таки каюсь: в случае с Гозиасом я невольно смутил его душу своей писаниной, когда разбрасывал пьяненькие стишата направо и налево, подогревая соблазн. Наглядевшись на это, Славка засел за стихи. И весьма надолго.
Спрашивается, а сам-то я разве имею право на подобные рассуждения? Не рано ли — до сошествия в могилу — взялся рядить? Да и вообще — не судите, да не судимы будете. Разве не так? Так. Но в случае с Гозиасом я обвиняю себя, а не его. Уж он-то ни в чем, действительно ни в чем не виноват, разве только в том, что прикармливал меня в трудные месяцы жизни. Привечал. Прокаженного. За что и поплатился.
Ведь вот же другой мой приятель из той поры, Виктор Бузинов, с которым учились в одной школе на Васильевском и с которым также нередко питались из одного котла и пили из одного стакана, стихи писать поостерегся. А ведь у него и отец был сочинителем, правда малоизвестным, однако книжки выпускал, и мама у Бузы грамотная — партийный работник, и книг у Виктора в комнате побольше, чем у Гозиаса, имелось, а вот поди ж ты, не соблазнился, не клюнул на чарующую удочку. Писал затем публицистику, работал на радио, да и сейчас там обретается, причем в каких-то радионачальниках. Устоял. Не раскис. Наоборот — нашел себя. Из двух зол выбрал одно — карьеру журналиста. И честно ходит на службу. Каждый день. Тянет лямку. Порой даже с любовью, то есть — с увлечением. Живет по-прежнему в любимом Ленинграде. Интересный, известный в городе человек. То есть оригинальный. Самостоятельный. А Гозиас… Тот уже далеко. Где-то на чужбине. И, по слухам, разводит декоративных рыбок на продажу. Уехал, а в стране, то есть дома, наступили иные времена: можно теперь и в России разводить рыбок на продажу. И даже не обязательно декоративных. Можно открыть кооператив и разводить… Хоть угрей. Выходит, и здесь, в смысле рыбного дела, промахнулся Славка.
И все-таки могут спросить: почему прицепился я именно к Гозиасу? Уж не оттого ли, что мужик уехал куда-то там в Париж или Вену и теперь за него заступиться некому? Не оттого ли, что, по слухам (опять-таки «по слухам»), Гозиас выпустил там некие мемуары, в которых якобы нелестно отозвался о Горбовском, как о «пьянице и антисемите со школьной скамьи»? Вряд ли из-за этого только… На «пьяницу» обижаться смешно, тем более мне, саморазоблачившемуся в этом грехе. Обижаться на «антисемита» — грустно, потому что провокационная суть подобного заочного клеймения — ненаказуема, а несостоятельность и лживость обвинения — недоказуема.
И все же — почему прицепился? А потому что Гозиас оттуда… Не «оттуда» — из-за кордона, а оттуда — из нашей юности. Из пространств незабываемого, неиссякающего и невыцветающего, как безоблачное небо. Жаль терять свидетелей невозвратного праздника. Вот почему. Хочется объяснить себе человека, удаляющегося от тебя не только материально, как, скажем, последний вагон поезда, помеченный красными огоньками, но и — сердечно.
Рифмовать Славка поднаторел изрядно, вошел полноправным членом в «Голос юности», рассуждал там и горячился, как все, однако с печатанием стихов — не получилось. И тогда он с невероятной серьезностью (и поспешностью) переключился на живопись. Начал «красить» — как сам он выразился на живописно-богемном сленге при встрече со мной лет через несколько после нашего с ним сидения в василеостровском «аппендиксе». Занимаясь живописью, подражал абстракционистам, примитивистам-сказочникам, однако ни Джексона Поллака, ни Пиросмани Нико не перещеголял. Потому что опять не за свое дело взялся. Не восхитился, а возжелал. Несбыточного. Продолжая жить на поводу у собственной гордыни. Вплоть до финала. То есть — до отъезда, когда и от Васильевского острова пришлось отказаться, и от пенсии, и еще от многого.
Последняя наша встреча с Гозиасом произошла в районном ОВИРе. Славка сидел в коридоре заведения на лавочке и ожидал звонка над дверью в кабинет, где выправлялись для него документы на выезд. Седоголовый, все такой же импозантный, статный, внешне — не сломленный. На лице — прощальная решимость (разрешение получено!). Мы узнали друг друга мгновенно. К тому же — эти пальцы… А ведь не виделись много лет. И почему-то не кинулись на шею друг другу. Отвыкли. Сейчас я отчетливо знаю, почему не кинулся я. И скажу об этом предельно честно. Мне, похоже, было стыдно перед Славкой за то, что я печатаю свои стихи, выпускаю книжки, числюсь в членах Союза. Не знаю отчего, но было мне как-то неловко перед этим отъезжающим на чужбину человеком. Словно это я его выпроваживаю, изгоняю, а не сам он, добровольно, сознательно лишается гнезда, прочно любимого нами Васина острова, на продуваемой балтийскими ветрами земле которого выросли, жили и вот теперь встретились и сидим в милиции, чтобы затем расстаться навсегда друг с другом, а Славке — еще и с этим благим Островом нашей весны, нашей зари жизни.
___________
В литературном объединении «Голос юности» возникали порой ребятишки, отмеченные настоящими писательскими способностями. Вся беда в том, что эти способности не закреплялись за их владельцами намертво, а значит, и не совершенствовались затем на протяжении всей их житейской практики. У нас в литературных кружках занимаются исключительно выявлением талантов, отловом золотой рыбки, констатацией «наличия», а там — живи, как хочешь, а надобно закреплять изображение тех способностей, иначе они, как незафиксированные фотоснимки, буквально на глазах начинают терять очертания, покуда не исчезнут полностью. Собственно, то же самое происходит и в общеобразовательной школе: идет плановое скармливание знаний, а точнее — сведений, и не совершается никакой работы с каждой отдельно нарождающейся для жизни личностью; выявляются, далеко не всегда, способности ученика, ставится условный значок, помечающий эти способности, звенит звонок об окончании школы, и дети, теряя на ветру жизни приобретенное в школе, уходят существовать недоразвитыми, лишенными… себя, неподлинными, в чьих душах не произошло соитие величайших мировых истин и личных устремлений к этим истинам.
Помимо вышеупомянутого Виктора Сосноры, с которым в «Голосе юности» объявились мы одновременно (кстати, и в Союз писателей затем через десять лет принимали нас в один и тот же день), так вот, помимо Сосноры человеком, обладавшим писательскими данными, причем выпуклыми, отчетливыми, был в даровском кружке прозаик Юрий Шигашов, в дальнейшем, за пятьдесят лет жизненного пути, опубликовавший всего один рассказ, но в течение последних тридцати лет писавший постоянно, как каторжный, и соорудивший в конце концов труд, обросший легендами, полумифический роман-монолог под названием «Остров».
Над постелью Шигашова ангелом-хранителем, а то и демоном-искусителем, но правильнее сказать — негаснущей укоризной повис литографированный Достоевский — духовный пророк Шигашова. Если вспомнить, что над постелью одних висит самоубийца Хемингуэй, над диваном других — убийца Сталин, а над раскладушкой третьих — убиенный рок-музыкант Джон Леннон, то выбор Шигашова как бы нейтрален и в то же время объемлющ, примиряет и тех, и других, и третьих.
Шигашов — один из самых любимых мной соучастников штурма писательского ремесла, этого призрачного бастиона, за стенами которого ничего, кроме разочарования, утраченных надежд, ранней неврастении, приобретенного синдрома беззащитности и, в лучшем случае, мании величия. Образ и облик этого писателя-призрака, вся его многотрудная судьба трогают меня еще и тем, что вот — не печатается, а живет все-таки… как-то, каким-то образом. А еще и пишет, к тому же — в стол. Не скурвился, как некоторые, не продался. Может, и кощунственно звучит, но порой я отчетливо завидую Шигашову, у которого и роман-судьба написан, и совесть вроде бы чиста, тогда как ты, голубчик, весь в моральных долгах, как нищий во вшах.
Не могу не вспомнить добрым словом еще одного явно одаренного начинающего прозаика (что особенно ценно, так как начинающих поэтов — как звезд на небе, не счесть), посещавшего «Голос юности», чья участь трагична. По меркам земным. Так как человек этот, будучи юным, невинным, принял мученическую смерть. Стал жертвой. И на мой взгляд — не жертвой обстоятельств, научно-технического прогресса и т. п., а чего-то большего, философски непостижимого.
Звали его Алешей Александровым. Писал он правдивые, отчетливые рассказы, чьи сюжеты были им почерпнуты из своего короткого, длиной в семнадцать лет, пережитого. Его лицо — прозрачного еще паренька, девичье-милого и одновременно серьезного от предчувствия миссии, возложенной на него судьбой, жившего в многолюдной семье, занимавшей подвальное помещение под одним из бывших доходных домов на бывшей Дворянской (ныне Куйбышева) улице, — и сейчас стоит у меня перед глазами, хотя после гибели Алексея прошло уже более тридцати лет. В то время, едва успев окончить «ремеслуху», работал он на одном из ленинградских заводов, был кормильцем в многодетной семье, помогал одинокой матери воспитывать братьев и сестер. На заводе Лешу послали однажды в помещение-камеру, где хранились газосварочные баллоны, послали починить выключатель, который барахлил (видимо, Алексей получил в «ремеслухе» специальность электрика). В подвале, где хранились баллоны, стоял полумрак. Чинить выключатель на ощупь Алеша еще не научился. И тогда он — некурящий и непьющий — сунул руку в карман и обнаружил в кармане… спички. Спички, которые никогда до этого при себе не носил. Леша чиркнул спичкой по коробку, и тут же полыхнул взрыв. Парнишка так весь и занялся огнем, будто облитый бензином.
На крик прибежал мастер. Он принял мгновенное решение: прочно задраил стальную дверь в хранилище. Вместе с горящим там Алексеем. Чтобы перекрыть доступ в камеру воздуха, лишить огонь питания. Действовал мастер в противопожарных целях, спасал от огня цех, битком набитый горючими материалами. А то, что в камере могли взорваться баллоны, проигнорировал. А то, что в камере…
Мастеру было слышно, как Алеша Александров бился изнутри о дверь и кричал. В подвале имелось зарешеченное окно. Щуплый паренек, мальчонка еще совсем, Алешка страшным усилием раздвинул толстые прутья и, все еще продолжая гореть, продрался сквозь тюремное окошко на улицу, то есть на заводской двор.
Ожог получил он самой крайней степени. Более восьмидесяти процентов телесной оболочки погибло. Умер он в больнице. При полном сознании. И в страшных муках. Лицо ангела превратилось в маску монстра. Тело неимоверно разбухло.
Своей жуткой смертью Алеша Александров, помнится, подействовал на всех нас настолько отрезвляюще, унес с собой в могилу такую внушительную долю наших поэтических и чисто житейских иллюзий, что многие из нас не просто содрогнулись внутренне, но и мгновенно повзрослели. Сердцем.
Оплакивая участь Алексея, можно было бы словчить и представить, в свое и его посмертное утешение, скажем, следующее обстоятельство: дальнейшая-де писательская судьба этого человека, скорей всего, могла не задаться (сколько примеров!), что стал бы он обивать издательские пороги, унижаться, мучить себя и своих близких понапрасну; или — сослаться на рок, а то и на неблагоприятное расположение звезд… И так далее, и тому подобная лукавая, никого не утешающая муть, ибо жить — пусть нищим, пусть калекой, пьяницей беспробудным, «врагом народа», обманутым мужем, доходягой, обреченным на медленное умирание, да кем угодно, лишь бы все-таки жить под солнцем или звездами, жить — час, день, лето, даже гореть в жизни факелом, но… гореть долго, даже бесконечно — это уже много в сравнении с могилой.
Спрашивается, за чьи тяжкие грехи (своих-то кот наплакал!) принял муки этот рано посерьезневший юнец? Чью вину, боль и скорбь разделил на своем кресте? Тема «невинной жертвы» всегда волновала умы, а также сердца человечества. Даже такие гиганты духа, как Достоевский, не могли порой найти оправдания пролитию невинной «слезинки». А что же тогда нам, простым смертным, остается делать? Особенно когда смерть выхватывает нашего близкого? И особенно когда «в расцвете сил»? За что?! — кричим мы в небо. Или — в подушку. И не можем примириться, и ежели взываем при этом к Богу, то проклинаем его, грозим ему кулаками. Тогда как именно на этих невинных жертвах, «слезинках» держится неусыпность всечеловеческой совести. Нельзя оправдать свершающего жестокость. Жертва жестокости оправдана и вознаграждена — слезами и памятью людей, любовью Мира. Благоговением перед ее отныне непреходящей чистотой и величием. Не за наши ли, общечеловеческие грехи принял страдания этот мальчик, не нашу ли, общелюдскую скорбь, боль, вину разделил, взяв на себя ношу смертную? Вечный покой его душе.
Рассказывая читателю о кружковцах «Голоса юности», я не хочу, да и не могу кого-то из них таким образом обессмертить, как не могу и воскресить.
Рассказывая о кружковцах, я как бы намеренно приоткрываю для несведущих глаз завесу, предлагая на их обозрение некие частности и подробности таинства превращения людей в писателей, метаморфозу перерождения отдельных нормальных представителей нашей страны в людей, одержимых литературным творчеством, а попутно и непомерным тщеславием, сумятицей в мыслях, неосуществимыми проектами, реже — каторжным трудом, граничащим с подвижничеством. Так что цель у меня самая практическая.
Читателям «Записок», если таковые отыщутся, необходимо знать, что литературное наше кружковство или поиски себя в творчестве — это моя минирелигия, не миссия, не задача, не установка и директива, а моление о помощи, пощаде, спасении, моя «политика сердца», не игра в буриме, не составление «перевертышей» и акростихов, а то, чем жили мы в поисках истины, а значит, и самое драгоценное в жизни. Отказаться от пережитого, изъять эту «религию» из опыта всей моей судьбы — невозможно. «Трудно менять богов», — сказано гением. И здесь, в подтверждение сказанного, в голову могут прийти всевозможные аналогии из обтекающего нас времени и событий, конструирующих это время.
Взять хотя бы объяснения тормозам и заслонам процессу теперешней перестройки. Почему не все, как один, кинулись от одного борта корабля к другому? Почему — лишь самые бойкие, то есть просвещенные, подготовленные размышлениями и отчаянием, ринулись в гласность, в дискуссии, в ошеломляющую новь? Почему не большинство отшатнулось от прошлого? Не из подсознательной ли боязни, что посудина от единодушных перемещений с борта на борт может перевернуться? Почему некоторые не только не побежали в сторону перемен, не только не пошли и даже не поползли в этом направлении, но — на примере Нины Андреевой — и вовсе как бы устремились в другую крайность, то есть — вспять?
И тут необходимо посочувствовать, а не топтать. Необходимо предположить, что гражданке Андреевой не сам лично товарищ Сталин дорог и необходим, а что ей болезненно трудно расстаться не столько с принципами, сколько с кровной атмосферой того времени, с тем бульоном, где она выросла, где возникли ее родители, с той закваской, которую впитала она всем существом. В конечном-то итоге ей не Сталина жаль, а себя. И так всем «ностальгирующим» по эпохе «соколов» и повального энтузиазма, жившим в унисон «музыке масс», жаль себя. Запоздалая любовь к своему «эго». Потому что в эпоху массовости этой любви ей не то чтобы недодано — не подразумевалось вовсе. И жаль ей себя. Ибо все, чем и ради чего жила, в одночасье объявляется ересью, и неважно, что и впрямь — ересь… Прав, тысячу раз прав Ф. М. Достоевский — «Трудно менять богов». Безбожникам всегда легче. Труд веры — тяжкий труд. Особенно если он еще и рабский. Подневольный. Навязанный. Но и в том, и в другом случае труд этот — выстраданный. И когда вдруг объявляется, что грош-де ему цена, — вот тут и взвоешь ненароком. И ничего странного. И чем искренней взвоешь, тем быстрее опомнишься.
Перед тем как углубиться в дебри моей «литературной деятельности», имя которой — Труд, Созерцание, Заработок (как — имя, фамилия, отчество), назову еще несколько кружковцев-даровцев. И прежде всего — Олега Охапкина. На моих глазах — весь его печальный, даже скорбный поэтический путь — от белоголового, румянощекого подростка в «ремесленном кургузом пиджачке» до уставшего, изможденного, беззубого человека «под пятьдесят», писавшего свои стихи всегда интересно, но всегда, на мой взгляд, несколько вымученно, в «отрыве от сердца», по указке; и здесь парадокс — по указке не каких-то официальных, главенствующих над умами страны сил, а как раз наоборот — под нажимом сил протестующих, конфликтных, диссидентских. Охапкин — единственный из поэтов «Голоса юности», кто впоследствии напечатал свои стихи в сборнике ленинградского авангарда «Круг», но это свершилось уже с приходом «великодушного марта» 1985 года.
И все же, зная жизненную закваску этого стихотворца, заглянув еще тогда, на заре нашего кружковства, в его мальчишеские глаза, полные добрых намерений и доверчивости к миру, смею утверждать: Охапкина сбили с пути. Замутили ему душу. Лишили ясности видения мира. Сперва Дар постарался, ибо сбивать юное дарование с жизненного толка входило в даровскую литературно-воспитательную методу: взъерошить мысли молодого человека, взъерепенить его душу, исказить монотонное восприятие мира, внести экспрессивную судорогу в узнавание предметов и образов повседневности, и такими, уже искаженными, зримыми под другим углом, выплескивать на бумагу в стихах или иных жанрах. Затем потрудились авангардисты, к которым Олег примкнул вследствие даровской взбудораженности. Мы — то есть Соснора, я, Алексей Емельянов, позже Наталья Галкина, Алеша Любегин — сочиняли и помаленьку печатались; Охапкин и его окружение только писали, а если и печатались, то где-нибудь за рубежом, вдали от русского читателя, потому что на Западе русского читателя нет, а есть отдельные читающие люди. Потерять или не найти своего читателя — это вторая, отнюдь не маленькая беда после беды первой — потери своего лица, своей органики, истинности, подлинности. И здесь — лучше уж тривиальность, простоватость, неотесанность, но — своя, узнаваемая, не искаженная хитрыми умами и обстоятельствами, нежели — чужая оригинальность, псевдонеповторимость, авангардистская крылатка с чужого плеча.
Одно могу сказать определенно: стихи и стиль Охапкина всегда были духовны или, по крайней мере, обряжены в ее, духовности, пресветлые ризы. Когда его левацкие побратимы писали разнузданно, порой — о какой-нибудь полухулиганской чепухе, лишь бы позаковыристей, понепечатней, в стихах Охапкина постоянно присутствовал некий почти державинский, торжественно-выспренний витамин серьезности, причем серьезности многоохватной, божественного слога и слова. Не хватало пресловутой сердечности, трогательности, пережитости, которая призвана волновать неискушенного читателя, бесхитростного наива в «переваривании» высоких истин, торжественных словосочетаний.
Однако же, когда Охапкину предоставилась возможность печатать свои стихи (далеко не все, понятное дело) в официальной «Неве» или «Звезде», он кротко на этот шаг согласился. Он и все остальные воители-протестанты, казалось, навеки замкнутого «Круга». Тяга к своему читателю возобладала. Ибо для поэта сие — как задержанный в груди вдох — можно задохнуться. По крайней мере — потерять сознание.
Подобное, но уже гораздо позже, едва не произошло с весьма одаренным деревенским, тверским пареньком Алешей Любегиным. Он тоже успел застать в действии и на себе прочувствовать сокрушительное учение Д. Я. Дара. Лешину неокрепшую поэтику тоже поначалу потянуло в сферы изыска, в псевдоинтеллектуальные заоблачные выси. Но в случае с Любегиным верх взяла не искушенная в городских мытарствах природа недавнего деревенского жителя, непорушенная доброта сердца и нрава существа, общавшегося с «ландшафтами» русского Нечерноземья, неистребимый наив человека-дитяти, благодарного за одно только присутствие «на театре жизни».
Кстати, помимо нас с Соснорой и Алексеем Емельяновым (который почему-то, видимо, опять не без исказительной миссии Дара, урезал свою фамилию и в дальнейшем публиковал прозу — и чудесную повесть «Чур, мой дым!» в том числе — под псевдонимом Ельянов, то есть — под фамилией-инвалидом), так вот, помимо этих троих в Союз писателей были приняты, стали как бы профессионалами — Галина Галахова, Наталья Галкина и Алексей Любегин, гораздо позже — А. Степанов, принятый в Союз через тридцато лет после кружковства. А талантливого прозаика Володю Губина вообще потеряли: исчез с горизонта. Хотя никуда из России не уехал. Ушел в себя. Процессу писательского оперения Любегина помог Дмитрий Терентьевич Хренков, тогдашний главный редактор Лениздата, присутствовавший на одном из публичных выступлений «Голоса юности» и обративший внимание на стихи Любегина — а стихи эти действительно выделялись, и не заметить их было нельзя. Хренков там же, в зале Дворца профтехобразования предложил Любегину заключить с издательством договор, что случалось в те поры не часто, верней — никогда не случалось. Чаще происходили сии сделки тайно, по знакомству или рекомендации. Так вот и была издана затем книжка А. Любегина «Мои стихи», к которой Хренков попросил меня написать небольшое предисловие.
А теперь бы хотелось повспоминать о некоторых фигурах, писавших стихи в литературном объединении Горного института, из коих один только Андрей Битов писал стихи потаенно, а может, и вовсе не писал, принося на кружок вирши брата Олега, и, не выдержав в дальнейшем стихослагательской конкуренции, перешел на повествовательный слог, посредством которого и прославился.
___________
Однако прервусь. Так как в дверь моей хибары постучали. Пришла Эрна Робертовна — тетеркинская крестьянка, родом из латышей-переселенцев.
— Про колбасу слыхали?
— Нет, не слыхал. А что?
— А в лесу четыреста восемьдесят пять килограммов колбасы нашли. Четырех сортов. Копченой, полукопченой, тминной и чесночной. И мясо бескостное в пакетах. Фасованное. Полтонны. Один мужик колбасу домой принес — собакам. А потом и сам поел. Ничего!
— Как же так? — спрашиваю у Эрны, задирая брови от удивления и возмущения, догадываясь, что с колбасой — не придумки, не анекдот, а так и было: нашли в лесу! Не слух, а факт.
— Кто ж знает… Може, спугнули кого. А може, спрятали да забрать не успели. Но всего скорей — вредительство! Горбачеву соли подсыпают. У нас полтонны, в соседнем районе полтонны — глядишь, в городе жрать нечего. Не говоря о деревне.
Далее выяснилось, что в здешних Тетерках проживает Анна Филипповна, которой сто четыре года. Сама клубнику еще обрабатывает, на лавочке каждый день сидит. Голова у нее тоже хорошо работает — все помнит бабушка. А в соседнем Букатине — ее одногодка. На два месяца моложе Филипповны. Я сам знал, слыхивал, что в Белоруссии немало долгожителей, но чтобы вот так, под носом… Хожу два раза в неделю мимо лавочки, на которой Филипповна с белым светом прощается, и не всегда поздороваюсь, потому как боюсь: не расслышит, и слово мое повиснет, как бы на ветер выброшенное. Обидно, видишь ли. А то, что кланяться ей до земли надобно, как самой земле — в голову не приходит.
___________
Так вот — об отдельных именах литературного кружка Глеба Сергеевича Семенова, и вообще — о кружке, о «горняках», как звали нас тогда среди пишущей братии, хотя далеко не все, вроде «учителя словесности» Александра Кушнера и меня грешного, недоучки, имели тогда профессиональное отношение к Горному институту.
Влияние этого кружка на мою конкретную судьбу — неоспоримо, неизгладимо, незабвенно. И весьма благотворно.
Прежде всего, кружок свел под одну крышу немало способных людей, не одного-двух, а сразу десяток, если не больше. А это уже само по себе чудо. Во-первых, руководитель кружка «самолично» писал хорошие стихи, причем пребывал не на каком-то недосягаемом поэтическом уровне, а, выражаясь горняцким языком, в одном со всеми горизонте. Литературно-этические поиски, которыми занимался тогда наш учитель, совмещались с тогдашними поисками его учеников. Учитель уже отрекся от своих прежних, ранних опытов, изданных во мраке оптимистического реализма, и сам сделался учеником, чтобы постичь свет надежд, пролившийся на страну после марта пятьдесят третьего года. Горняцкое лито при Семенове было одним из самых радикальных и правдоискательских в городе, одно из самых свободомыслящих и свободомыслимых. А то, что в нем занимались именно поисками элементов истины, видно хотя бы из названий некоторых стихотворных книжек «горняков»: «Поиски» — так назывался первый сборник Владимира Британишского, «Поиски тепла» — Глеба Горбовского…
Ранее, в кружке Дара я и впрямь поднаторел в отделке стиха, то есть — наружной стороны проблемы. Среди «семеновцев» это обстоятельство было, конечно же, отмечено. Однако в Горном, как я уже говорил, занимались другим делом, а именно — поисками в поэзии себя, личной неповторимости, а также поисками в себе величия Мира. Хотя бы. То есть для начала. А что? Искать так искать. В Горном, выражаясь опять-таки специфически, «обогащалась» словесная начинка лирических опытов.
В дальнейшем, благодаря связям с геологами и геофизиками, начал я бывать в экспедициях, то есть уже не только фантазировать, сочинять, но и попросту жить в полевой обстановке, бытовать по законам рюкзачно-скитальческого клана романтиков тайги, гор и равнин, ибо тайна поэзии не менее глубока и необъяснима, нежели тайна всей человеческой жизни, и проникнуть в первую из них можно, лишь неустанно постигая вторую. При условии, если повезет. И еще при множестве других условий.
С помощью друзей-горняков удалось мне посетить Ферганскую долину в Средней Азии, Долину гейзеров на Камчатке, Верхоянский хребет в Якутии и нефтепромыслы Северного Сахалина, Тикси и Амдерму, Лену и Амур, а также подножие вулкана Тятя на Курильских островах… Словом, повезло. Но главное: в кружке Горного института повстречался я с бесподобными людьми, познакомился с их мыслями, идеями братства (кружковского и всемирного), удалось сблизиться с сердцами, бредившими свободой, преображением страны, молившихся ее священному лику, проступающему из-под толщи духовного ледника, который все-таки сдвинулся и пусть медленно, однако неотвратимо начал обнажать правду земли, на которой все мы родились и где не могли не любить — даже сквозь ледовитую толщу отчуждения.
Глеб Семенов и Борис Слуцкий (московский покровитель наших тогдашних устремлений), Владимир Британишский и Леонид Агеев, Олег Тарутин и Александр Городницкий, Лидия Гладкая и Елена Кумпан, Андрей Битов и Александр Кушнер, Евгений Кучинский и Михаил Глозман, Эдуард Кутырев, Саша Гдалин и Гена Трофимов, Генрих и Саша Штейнберги… Не всех уже помню. Пути разошлись. А такие поэты, как, скажем, Лев Куклин и Нина Островская, кружок Семенова при мне не посещали. Не все из кружковцев выбились в писатели, но в чем я уверен абсолютно — все остались «хорошими людьми», мечтателями, очарованными странниками, способными восторгаться дождем или снегом, травой или камнем.
25
А теперь расскажу о своей первой публикации в официальном печатном органе, коим стала для меня районная газета города Волхова, называвшаяся тогда «Сталинской правдой». Сразу же оговорюсь, что никогда ни до, ни после этой публикации в данном городе я не бывал. Ни одного дня. Я к тому, что в некоторых городах и впрямь приходилось бывать всего лишь по одному дню — скажем, в Ялте, Калуге, Николаевске-на-Амуре, Милане, Секешфехерваре, Саратове, Сызрани, Пензе и ряде других, а к примеру, во Франкфурте-на-Майне и того меньше — какой-то час. В международном аэропорту.
Повесть, по страницам которой плыву я в данный момент, прежде всего — результат переживаний, а уж затем раздумий. Не правда ли, признание не из выгодных? Зыбкая у него подоплека, шаткая. Из тех, что на руку противнику.
А есть ли противники? — вправе усомниться скептики. Достанет ли оппонентов у человека, опирающегося, к примеру, не на цветущее дерево, а всего лишь на аромат, источаемый его цветами? Есть ли завистники у человека, бредущего во тьме или тумане и добровольно отказывающегося от компаса? Но скажите мне: для чего компас… в туннеле? Направление задано раз и навсегда. Может, для того, чтобы не повернуть обратно? Не пойти вперед затылком? Но жизнь все-таки не кинематограф: не отмотаешь вспять ленточку. Да и несподручно пятиться. К тому же, кто знает, может, туннель-то по кругу ведет? Как московская кольцевая в метрополитене?
А что касается первой публикации, то до нее, признаться, была еще одна, как бы… минус первая. В многотиражке «Горняцкая правда». Безгонорарная публикация, потому и — со знаком минус. Как сейчас вижу эту тщедушную полоску бумаги и немногочисленные тексты на ее поверхности, оттиснутые почему-то синей типографской краской. Синяя шапка сверху полосы, синяя передовая, синие заметки, синие фотографии, синие стихи и даже синий кроссворд на закуску. Поэты нашего кружка очень любили этот сине-белый печатный орган. Быть оттиснутым на его нешироком, как бы заснеженном голубом поле — воспринималось как праздник, как милость жестокого времени, внезапно расщедрившегося на улыбку. Стихотворение, опубликованное в «Горняцкой правде», называлось «Муха», и в нем рассказывалось, как жизнерадостная муха отравилась красотой мухомора, то бишь — его внешностью. Этакая лирическая басенка из десяти строчек.
Параллельно с жизнью, которая клубилась внутри и вокруг литературных кружков и синеглазых печатных органов, текла и по-своему завихрялась еще одна жизнь, гнездившаяся в коммунальных квартирах Васильевского острова, где проживали мои школьные и просто уличные, дворовые друзья, с коими временно разлучила служба в армии, но связь не оборвалась. Да и как ей было оборваться, если обвивала она опять же сердца, а не умы, зиждилась на всевозможных трепетах и сантиментах юношеской дружбы послевоенного выпуска, а не на прагматических выкладках и комбинациях озабоченных мужчин, коим нынче — несть числа.
В тридцатой школе, чья башенка с флюгером и ныне возвышается неподалеку от станции метро Василеостровская, в тысяча девятьсот пятидесятом году учитель словесности Кукушкин организовал литературный кружок, куда вошли ныне покойный Володя Шапиро, Владлен Кузьмин, знавший наизусть всего «Золотого теленка» и выборочно — «Двенадцать стульев», писавший юмористические устные романы, то есть писавший их не пером или карандашом, а как бы в уме, без применения достижений современной канцелярской техники; далее — я, сочинявший стишки, одновременно под Маяковского и Есенина, а так же — Виктор Бузинов, прирожденный репортер, газетный и радиохват, кажется, с рождения своего мастеривший всевозможные фельетоны, репортажи, очерки, реплики, врезки, поступивший затем на факультет журналистики Ленинградского университета, выросший затем в истого профессионала «скорого пера», отдавший журналистике всего себя и все, что его окружало и окружает по сию пору. А для меня он еще и человек из прекрасной страны Юности. И что немаловажно — веселый человек, не занудный. Не столько жизнерадостный, сколько жизнестойкий, искристый, отчетливый, нацеленный, умевший не забывать о деле не только за письменным, но и за дружеским столом, а то и в более безвыходных обстоятельствах.
Примерно тогда же, на последнем году обучения в школе, Бузинов умудрился подхватить туберкулез легких. Болезнь по тому времени роковая. Но ее вовремя у него обнаружили. С болезнью быстро справились. Но, боже мой, сколько было вокруг нее трагического шепота, мрачных предначертаний, предсмертных тостов и речей, торжественно-клятвенных монологов, вообще какого-то особого, чахоточного шарма, даже стихов, посвященных «умирающему» собрату Бузе. Воистину захватывающая страничка перевернулась тогда в анналах нашей веселой компашки. А в стихах, если не ошибаюсь, были такие строчки:
Витя, друг, жили-то помнишь как! А теперь по барабану легких — палочки Коха!Помимо немногочисленных, преимущественно призрачных достоинств, которыми я тогда располагал, имелось у меня нечто реальное, существенное, а именно — тридцатиметровая комната в доме на 9-й линии, в квартире с еще только одной взрослой соседкой. Ребята нашего круга весьма ценили это обстоятельство, так как жил я без родителей, и комната служила нам убежищем, пристанищем, вертепом и райским уголком — одновременно. Естественно, что ко времени моей первой публикации книг в домашней библиотеке значительно поубавилось: искусство, как известно, требует жертв.
Однажды, начитавшись Достоевского, ходили мы с Виктором Бузиновым по густо-зеленому Большому проспекту Васильевского острова, и нам очень хотелось убить старушку-процентщицу, коих в Ленинграде к тому времени было уже не густо. Всем своим видом, внешним и подспудным, заявляли мы окружающему нас обществу протест против того, что в стране по-прежнему тихо, скучно, вяло, в газетах, по радио и в кино жуют бесконечную жвачку из трех десятков «государственных слов» и что вот нельзя даже убить старушку-процентщицу, и вообще, Сталин уже три года как помер, а небо над нами не раскололось, земля под ногами не треснула, Нева все так же течет из Ладоги к Финскому заливу — скучно! Именно в эти мучительно однообразные, как нам казалось, вялые деньки обманутых надежд вызревали в наших головах резкие, ворчливые мысельки и стихи, вроде нижеприводимых.
Проклятие скуке Боюсь скуки, боюсь скуки… Я от скуки могу убить. Я от скуки — податливей суки, бомбу в руки — стану бомбить! Лом попался — рельсу выбью, поезд с мясом брошу с моста. Я от скуки кровь твою выпью, девочка, розовая красота… Скука, скука… Съем человека. Перережу в квартире свет. Я — сынок двадцатого века, я — садовник его клевет, пахарь трупов, пекарь насилий, виночерпий глубоких слез… Я от скуки делаюсь синим, как от газа!.. Скука, наркоз. Сплю, садятся мухи. Жалят! Скучно так, что — слышно! Как пение… Расстреляйте меня, пожалуйста, это я прошу — поколение.Тогдашнее наше с Бузиновым шествие по Большому проспекту обращало на себя внимание прохожих. Причиной проявленного интереса послужили не столько наша протестантская наэлектризованность, сколько эпатирующие наряды, в которые мы облачились в тот день. Во-первых, яркие женские шляпы. Старомодные, из довоенных материнских залежей. Шляпы с вуалетками, перьями и огромными полями. В своей шляпе я проделал ножом отверстие и выпустил наружу залихватский клок волос. На спинах у нас алели бубновые тузы, нашитые на жилет и кофту, опять же — не из нашего с Бузиновым молодежного гардероба. На штанах — вызывающие заплаты, которых в послевоенные, отнюдь не джинсово-хипповые годы почему-то все жутко стеснялись. В таком виде, держась на людях как можно невозмутимее, заявились мы в библиотеку имени Льва Толстого. И потребовали выдать «Дневник писателя» Достоевского, чем еще глубже повергли своих зрителей в уныние и трепет, ибо «Дневник писателя» слыл тогда чуть ли не запрещенной книгой. Получив отказ, мы запросили брошюру критика Ермилова «Достоевский — мракобес и реакционер», которую предусмотрительно взяли из дому и держали до поры до времени за пазухой.
Получив из трепетных рук молоденькой библиотекарши брошюрку (а надо сказать, что в районной библиотеке был я записан еще с доармейских времен), мы откровенно накинулись на сию жалкую книжонку и с диким рычанием на глазах изумленной публики порвали ее на мелкие клочки. Дело подходило к вызову милиции, когда из-под полы кофты была извлечена копия, и мы, извинившись за причиненное беспокойство, покинули заведение. Не знаю, что о нас подумали библиотечные работники, а также читатели, находившиеся «в гуще событий», и почему все-таки не была вызвана милиция. Должно быть, в действиях наших, а также в словах и выражениях лиц публика уловила нечто осмысленное — не откровенно хулиганское, а — затаенно-взыскующее. Нами как бы была нарушена щемящая скука, взбаламучены некие застоявшиеся осадки, слегка помят и даже помассирован нравственно-психический отек, набрякший не только в помещении библиотеки, но и за ее окнами.
Возвратясь домой и сняв шутовские наряды, мы погрустили над бутылкой дрянного фруктово-ягодного вина, которое лет через двадцать в нашей стране нарекут странным, ворожейно-колдовским словом «бормотуха», и я пошел провожать Витю с 9-й на 1-ю линию. По дороге попалось объявление, говорившее, что производится набор учащихся в Полиграфический техникум, и Бузинов ткнул в объявление пальцем:
— То, что нам нужно! Учти, старик, никто стихов твоих при Советской власти издавать не будет. Но печатать вирши необходимо. Иначе превратишься в графомана. Есть такая разновидность тихого помешательства. Окончишь Полиграфический, станешь работать в типографии, скажем, на Печатном Дворе. И сам преспокойненько оттиснешь стишки. На отходах от лучшей, скажем, веленевой бумаги. В двух экземплярах: тебе и мне. Годится? Тогда пошли в храм науки.
Таким образом, с легкой руки Бузинова поступил я в Ленинградский полиграфический. После службы в армии брали туда без экзаменов. В группе на переплетном отделении, куда меня, двадцатичетырехлетнего мужика, определили на обучение, было сорок девочек и один мальчик, и все они, как на подбор, оказались моложе меня ровно на десять лет.
В аудитории сидел я на первой парте (близорукость), и по утрам преподаватель математики Коган, подозрительно принюхиваясь ко мне, изрекал, втягивая голову в плечи и одновременно выпрастывая в моем направлении указующий перст:
— Он весь пяный! — причем в последнем слове всякий раз обходился без мягкого знака.
Туда же, прямо на адрес техникума, пришло однажды письмо из города Волхова: в конверт были вложены два экземпляра «Сталинской правды» с моими стихами. А «устроил» публикацию все тот же расторопный Виктор Бузинов, к тому времени обучавшийся на факультете журналистики и побывавший в редакции газеты на практике. Там-то он и пристроил подборку моих стихов. Решимость опубликовать стихи, то есть взять на себя политическую, юридическую, моральную и прочие ответственности за этот акт, отважился работник газеты по фамилии Зырянов (Ю. М.).
Стихи в подборке были безобидные, даже наивные. Тот же «Ослик на Невском проспекте», та же «Муха», отравившаяся красотой, стихи про зеркало, которое отражает действительность без цензуры, стихи о почтовом ящике, телефонной будке и еще — про столовую…
У студента суп с грибами, пахнет суп сосновым бором, рыхлым пнем… Лови губами с ложки суп с грибным набором. Ешь, студент, не торопись, в ложке, друг, не утопись. Вот бухгалтер, он небрит. Ест бухгалтер суп молочный. Он, бухгалтер, худосочный, у бухгалтера — гастрит. Ешь, бухгалтер, поправляйся, сил молочных набирайся. А рабочий любит щи. Для него в тарелке — мелко. Для таких, как он, мужчин, — огород бы на тарелке! Ешь, рабочий, ешь плотней, Будешь лошади сильней.Стихи как стихи — студенческие, непроблемные, даже бодрые. Бытовые, заземленные. Но вот — последняя строчка… Беда в том, что подобных стихов в «Сталинской правде» никогда прежде не печатали. Помещали стихи к Первомаю, к Ноябрьским, Дню Военно-Морского Флота, а тут… И разразился скандал. Местного значения. Один почтенный стихотворец, теперь уже покойный, руководивший в городе Волхове литкружком, написал разгромную статью об этой подборке. Зырянову дали выговор. Затем сняли с работы. Человек заболел. Карьера его как бы наскочила на мель. Поговаривали о душевном расстройстве.
26
Есть в Ленинграде неподалеку от Московского вокзала небольшая улочка со значительным, а для детей России, для их духа — венчающим названием — Пушкинская. Как попал я на Пушкинскую улицу, каким образом удостоился этой чести? Об этом теперь речь. И речь пойдет не о переезде, не о перемене адреса всего лишь. А как бы еще о чем-то, более значительном, мировоззренческом. Жить на Пушкинской улице — это ведь как бы продолжать его, Пушкина, святое дело.
Чисто внешне возникновение мое на Пушкинской улице выглядит весьма прозаическим, примитивным, даже унизительным: менялся, причем все время «на понижение», чтобы получить мзду за утрачиваемые квадратные метры — с тридцати начальных на четырнадцать промежуточных, по возвращении с Сахалина — на девять окончательных, «пушкинских». Кстати, о Сахалине, связанном в моей биографии с Пушкинской улицей как бы прямым проводом…
Уехал я туда по приглашению женщины и провел там два ни с чем не сравнимых года. Сахалинских впечатлений и приключений хватило бы на отдельную книгу. Но речь сейчас не об этом. К тому же с сахалинской женщиной я поссорился, с Сахалина сбежал, как тот бродяга, о котором поется в песне. Только бежал я не «звериной узкою тропой», а железнотранспортной тропой середины XX столетия, для разбега и приобретения минимальных средств подавшись в грузчики, в портовый поселок Москальво, что на северной оконечности острова, где и отстоял навигацию 1959 года под вьючным седлом «бича». Заработав средства для перемещения на материк, переехал через Татарский пролив не на бревне, а на морском трамвайчике. Далее — от Николаевска-на-Амуре колесным пароходом до Хабаровска. На пароходе под горячую руку спустил почти что все заработанные каторжным трудом рубли. За исключением заначки на железнодорожный билет, спрятанной столь тщательно, что не смог ее обнаружить несколько дней, проведенных в Хабаровске на вокзале (деньги оказались зашитыми в козырек кепки, меж двумя его картонками, не прощупывались вовсе). Билет пришлось брать самый примитивный, в общий вагон, и сразу лезть на третью, верхнюю полку — подальше от любопытных глаз и языков. Питаться было не на что. Решил терпеть. Восемь суток. Лишь бы не унижаться перед попутчиками. Для чего прикинулся больным, потерявшим аппетит. Рассчитывал продержаться на здоровом сне и туалетной воде (не в парфюмерном смысле, а по месту ее, воды, нахождения). Волосы, взявшиеся на разгрузке муки колтуном, пришлось тогда же, на побережье состричь «под ноль», и в вагоне попутчики принимали меня за освободившегося зека, разговаривали со мной с неестественным почтением, приглашая на коллективные перекусы, от которых я до поры неизменно отказывался.
Где-то на четвертые сутки пути, исследуя дрожащими от голода руками запасные брючата, взятые для прикрытия дыр на первых, основных, и временно служившие мне подушкой, обнаружил я в одном из карманов сплющенный конус кулька с остатками соевых «Кавказских» конфет, твердых, как бетон, и принялся их употреблять. Среди спекшихся конфет наткнулся я на красную денежку, червонец! Многократно сложенный в квадратик, каким-то образом оказался он среди окаменевших сладостей. Отмыв дензнак в туалете и там же просушив его на встречном ветру в окне, пошел я в вагон-ресторан и заказал первое блюдо, солянку. Ел ее с дармовым хлебом. Хлеба умял не менее килограмма. От второго блюда отказался, так как на оставшийся рубль рассчитывал закомпостировать в Москве билет до Ленинграда. Остальное время пути действительно проболел. Животом. От хлебного перебора. Но — обошлось и это.
При себе имел я тогда рекомендательное письмо к одним москвичам, которые будто бы меня накормят, напоят и спать уложат — солидарность островитян. Адресок оказался отдаленным, уводящим куда-то на шоссе Энтузиастов. Шел я туда часа три пешком. Денег на трамвайный билет или на метро спросить у прохожих постеснялся. Украсть не догадался, да и не умел. Когда пришел по адресу, выяснилось, что нужный мне дом не так давно снесли. Налицо — остатки фундамента. И строительная техника. Чувства при этом, испытал ни с чем не сравнимые. Редкостные. Пришлось двигать пешком обратно, к трем вокзалам. Спасибо, один шоферюга продуктовый сжалился. Возле магазина. Я ему помог ящики-тару погрузить. Он меня в кабину посадил и поближе к цели подбросил. При этом шофер спросил: «Чалился, корешочек?» И я ему ответил утвердительно, чтобы не разочаровывать человека. Да, мол, чалился, срок тянул на Сахалине. От самой бывшей каторги пробираюсь-де. Поиздержался вот… и т. д.
Зато уж в Ленинграде адресок у меня имелся надежный. И даже не один. Помимо собственного, весьма призрачного адреска, по которому тогда квартировал одинокий военный подполковник (я сдал ему четырнадцатиметровую на время своего дальневосточного странствия), располагал я адресами друзей. Друзей, которые писали, читали или просто любили… стихи. А располагая в молодости адресами подобных восторженных людей, можно забыть не только печаль, но и собственный адрес.
Сойдя в Ленинграде с поезда, я даже в записную книжку не стал заглядывать в поисках пристанища, вспомнил: в двух шагах, на Пушкинской — Штейнберги! Так я впервые прошел мимо этого странного, кстати, опекушинского памятника Пушкину, затиснутого в щель узкой улочки, какого-то потаенного, прячущегося и весьма низкорослого, чуть ли не в натуральную величину, сооруженного в Петербурге замечательным скульптором, автором московского «популярного» Пушкина, а также — пятигорского Лермонтова, петербургской Екатерины и новгородского монумента «Тысячелетию России». Так я впервые прошел еще и мимо дома, в котором через полгода стану жить на законном основании, так как еще раз сменяюсь на понижение.
Штейнберги, братья Штейнберги, жили высоко, под самой крышей старинного семиэтажного дома. Лифт, конечно, не работал. От старости. Время на дворе — дачное, предки Штейнбергов наверняка за городом. Один из братьев запросто мог находиться в экспедиции, другой — в командировке. Так что в отдельной их квартире могло никого не оказаться. А я, мягко выражаясь, устал. За месяц пути. Силенки подыссякли. Вера в светлое будущее затуманилась. На лестничной площадке имелся обширный подоконник, и я уже оценивающе присматривался к нему, рассчитывая там растянуться, но дверь на звонок отворилась, на пороге стоял старший из братьев — Генрих, знаменитый в будущем вулканолог, истый супермен (с пеленок), в бытность свою пионером поднявший на спор тяжеленный «взрослый» лом тысячу раз — против ста разков соперника, человек, о котором известный писатель Андрей Битов напишет затем ироническую повесть «Путешествие к другу детства».
Родителей в городе не оказалось, но Генрих в квартире был не один. В гостиной на диване, вольготно, по-купечески широко развалясь, сидел молодой человек с необыкновенно самоуверенным, «московским» выражением красивого (или смазливого?) лица. Весь его пренебрежительно-насмешливый вид, нагло-открытый взгляд серо-голубых, «ницшеански»-раскрепощенных глаз говорил мне, что передо мной еще один супермен, что в квартире не иначе как сходка доморощенных суперменов, сверхчеловеков с клеймом «Сделано в СССР».
Покаюсь, что мысль о надменном суперменстве ребятишек с Пушкинской пришла ко мне чуть позже, а тогда, на пороге очередного зигзага в Лабиринте бытия, мне было не до того, да и Генрих встретил меня радушно.
Человек, барственно восседавший на диване, оказался московским художником Михаилом Кулаковым, приехавшим поступать в Ленинградский театральный институт на оформительское отделение к Н. П. Акимову, тогдашнему театральному авангардисту, привечавшему художников левого толка, изгоняемых из консервативных заведений типа Академии художеств. Михнов-Войтенко, Кубасов, Кулаков, М. Шемякин, Олег Целков, чей «Автопортрет на унитазе» потряс воображение многих тогдашних поклонников раскрепощенного искусства. Список художников, изведавших покровительственное крыло Акимова, можно продолжать, но речь идет лишь о тех из них, кого я знал и запомнил.
О Кулакове хотелось бы рассказать подробнее, но подпирают другие проблемы и образы, а потому — вкратце. Отрывками. Выборочно. Под настроение. С ним я впоследствии сдружился, и Миша оказал мне любезность, оформив два моих поэтических сборника — «Спасибо, Земля» и «Тишина». Каюсь, что суперобложкой от «Тишины», которую Кулаков рисовал довольно старательно и гораздо дольше, нежели какой-нибудь очередной «холст», поливаемый нитрокрасками из распылителя, а то и просто из клизмы, так вот — суперобложкой пришлось пренебречь ради тиража, то есть — ради денег. Директор издательства Попов поставил тогда суровые условия: или суперобложка и мизерный к ней тираж, тысяч в пять экземпляров, или — без супера, но — пятьдесят тысяч. И лишние сто процентов гонорара вдобавок — за массовый тираж. И я выбрал последнее. Денег всегда не хватало, то есть — не было их постоянно. А тут — замаячили.
Генрих Штейнберг представил мне Кулакова, который вдруг резко поднялся с дивана и пошел на меня, и я вынужден был метнуться в сторону, чтобы пропустить художника, который прошел сквозь то место, где я ранее стоял, как сквозь стену, и не прошел даже, а прошествовал с выражением лица ожесточенно-серьезным и даже аскетическим, если бы не его, Кулакова, при этом розовато-холеная кожа на лице и весьма добродушные толстые губы-нюни, как бы слегка раздутые от обиды на весь мир. А ведь я его тогда и за художника-то не принимал. Для меня тогда художник без бороды — не художник. А прошел он тогда с вышеописанным апломбом, скорей всего, в туалет по нужде. И вообще театрален Миша был всегда до крайности, во всех своих проявлениях. Человек жеста. Подозреваю, что он и в Рим-то перебрался не без эффектного порыва, не без того, чтобы покрасоваться. Хотя бы перед своим зеркальным отражением, если не перед шедеврами эпохи Ренессанса.
К моменту моего появления «нибелунги» с Пушкинской собирались принять второй завтрак, что неизменно вот уже неделю совершали в близлежащем кафе ресторанного типа «Универсаль». Мне в ожидании их возвращения предложено было принять ванну. Что я и сделал безо всякой охоты, ощущая вялость в членах и волчий аппетит в желудке. На подоконнике ванной комнаты обнаружил я привявший, как бы заржавленный кочешок капусты. Лежа в чудесной, мягчайшей ладожской воде, с упоением грыз воскрешающий душу овощ. Там, в огромном эмалированном корыте, я и уснул. Вода медленно уходила сквозь щели неплотно прилегающей затычки, и только благодаря этому обстоятельству я остался живым, не утонул. Вулканолог с художником обнаружили меня спящим на дне емкости, как на дне кратера, из которого по канализационной трубе ушла жидкая лава (обратно, в глубь планеты). Я молча спал, в руке была зажата капустная кочерыжка, на лице — блаженство человека, уцелевшего при кораблекрушении.
___________
Люди, подобные Генриху Штейнбергу, Михаилу Кулакову, Наполеону Бонапарту, а из ныне прославленных — Владимиру Высоцкому, Евгению Евтушенко и в какой-то мере глазнику Станиславу Федорову, не только порывисты духом, энергичны в излюбленных деяниях, талантливы, одержимы, честолюбивы, неповторимы и непреклонны, они еще и движут телегу прогресса, да, да, везут на себе новь, пробивают бреши, раздвигают завалы, проламывают стены, точат плотины обывательско-бюрократического уклада. Они уникальны. Их мало. И слава богу. Иначе мир треснул бы и развалился. От их суперэнергии. Они есть в любой среде, не только в кругу поэтов или художников, вулканологов и артистов. Это из их числа так называемые «прорабы перестройки». Наверняка они кого-то раздражают, а кто-то им поклоняется, не вундеркинды, а вундерлюди.
Один из них — Генрих Штейнберг. Он не только обшарил все вулканы Камчатки и Курильского ожерелья, не только ломал себе кости, а начальству — самолеты и мирное течение жизни чиновников от науки, он еще и заманивал в эти свои разлюбезные, обожаемые экстремальные условия товарищей и друзей — меня, грешного, Андрея Битова, даже сибарита Иосифа Бродского, который в последний момент передумал и вместо него на Камчатку прилетел другой человек, по фамилии Мейлах.
Вулканы Генрих любил, да и по сию пору любит неподдельно. Стал бы он фотографировать извержения, от нутряного тепла которых пленка в кассете кукожится, фотографировать и дарить эти цветные фотографические извержения художникам-абстракционистам, подтверждая тем самым, что их устремления не напрасны, что красота цвета, энергия линий, пластика разлиты всюду, но более всего — в ночном полыхании огнедышащего вулкана.
До поры до времени Генриху в самоутверждении везло: о нем писали в газетах, его снимали на пленку документального кино, вставляли героем в повести, он защитил кандидатскую, написал докторскую, мечтал слетать в космос, но именно здесь, на звездной дорожке, поджидало его не только разочарование, но и — сильнейшая подножка в карьере, подножка, от которой он еле оправился лет через десять, а когда приподнялся с вынужденных четверенек, годы были упущены, вера в справедливость надломлена, в орлином прищуре иронических глаз появилась незатухающая искорка обиды — то ли на судьбу, то ли на людей, то ли на фортуну, которая выше Ключевской сопки в небо не подняла.
Подножка будто бы случилась во времена испытаний некими специалистами тележки лунохода. Залитые извергнутой и застывшей лавой подножия вулканов якобы представляли собой идеальный полигон для подобных испытаний, почти копию лунной поверхности. На какой-то стадии испытаний у специалистов кончилось горючее для вспомогательной техники. В лунных условиях. Достать топливо в камчатской глубинке, в непроходимой тайге, прорезанной горными цепями и резвыми реками, а также дышащими аммиаком и серой болотцами вулканического происхождения, — и впрямь задача не из легких, все равно что доставать горючку непосредственно на Луне. И тут вспомнили Штейнберга. Попросили постараться и раздобыть, обеспечить. Поманили и одновременно попросили. Попросили как начальника одной из вулканологических экспедиций. Поманили как восторженного человека. И Генрих клюнул на приманку. А клюнув, достал, обеспечил. Что само по себе было чудом — выложить на краю света энное количество металлических бочек с топливом. Так сказать, маленький хозяйственный подвиг. Уж не знаю, что луноходные спецы пообещали Генриху взамен, скорей всего космосом искушали, суперпрофессией. Стоило уехать космической команде восвояси, как на Генриха тут же полетел донос в инстанции: расхищение народного добра, преступная самодеятельность, авантюризм. В итоге — подсудное дело. И никто не защитил человека. Ни одни специалисты, ни другие, ни земные, ни небесные. Пришлось защищаться самому. Пришлось уйти из института, работать электриком в кочегарке ЖЭКа, смирять гордыню, гасить соколиный взор, а главное — не сгибаться до степени раба, ходить по земле в полный рост.
Да, Генрих Штейнберг остался действующим вулканом. Совсем недавно в дверь комнаты Дома творчества в Комарове, где я пыхтел над этими «Записками», постучали, вошел Генрих, которого я не видел много лет. Он был все такой же резкий, легкий, «обезжиренный», на плечах «несносная» куртка-кожанка, по-моему, та же, что и пятнадцать лет назад. В глазах — улыбка нашей молодости. Оказалось, что он по-прежнему дружит с вулканами, только летает теперь чаще над Курильской грядой. Защитил докторскую. Куда-то его вновь приглашают, он собирается к зарубежным вулканологам на симпозиум, кажется, на Гавайские острова, куда прежде не пускали… Словом, устоял. Хотя и поостыл. Чуть-чуть. Я не стал его расспрашивать, доволен ли он жизнью, я знал, что многое из того, что он любил, исповедовал, ему безжалостно отсекли, испохабили, разграбили. Однако не в правилах Генриха жаловаться. Да и что произошло, собственно? Ах да, две трети жизни миновало. Только и всего.
А Миша Кулаков прислал письмо. Туда же, в Комарово. Письмо из Италии. Откуда-то из-под Рима. На цветной фотографии он позирует возле какого-то грота, отнюдь не камчатского, не всамделишного, а пожалуй, декоративного, увитого садовым плющом. Стоит Миша по пояс обнаженным. Показывает свое все еще красивое тело. Слегка располневшее. Правда, самую малость. В меру. Взгляд все такой же демонический. Пугает. Мышцы напряжены. Дошли слухи, что в Риме он подрабатывает на курсах по обучению каратэ. Что у него уже — профессиональный пояс определенной степени, «дан», который присваивают приверженцам каратэ. И что картины он пишет по-прежнему в авангардной манере. И за это спасибо: не переметнулся на Западе во что-либо конъюнктурное, вышеоплачиваемое, к примеру, в какую-нибудь матрешечную «а-ля рюс». Знай ищет себя в новизне. А ведь было времечко — чуть ли не иконы писал. Кричал всевышнему: «Ау!» Но, видать, не докричался. Однако за внешностью своей следит. Хорошая у Миши внешность. Отчетливая. А вот картины свои живописует туманно, расплывчато, но именно так, как считает нужным. А выглядит, наверное, потому хорошо, что за долгие годы живописания стерженек наработал, на котором вся духовная конструкция по сию пору держится. Без опорного стерженька выглядел бы иначе.
Когда-то в давнишней своей поэме «Зал ожидания», в одной из главок, пытался я изобразить некий собирательный абрис друга-художника. В бормотании тех строк я и поныне улавливаю для себя нечто кулаковское.
Ровно в полночь трагично появляется друг. Он одет неприлично, невесом его стук. Спросит: «Можно?» — чуть слышно. Кашлянет и войдет. Его кепка, как крыша жестяная — гудёт. Он приносит картинку, и прекрасна она. Он снимает ботинки и стоит у окна. Я впиваюсь в творенье, что кричит на стене! Я горю, как поленья на кудрявом огне. Появляются молча два стакана… И вот: «Знаешь, холодно очень… Знаешь, я — идиот». А затем только песни, только — с ног кувырком. И соседка как треснет по стене утюгом! …Дураки мы, дурашки. Разве нам обмануть то, что бьется в рубашке, не желая уснуть? Глянь, летает картинка! Не желает ползти… Он залезет в ботинки и не сможет уйти.Есть, есть в этих словесных размывах нечто кулаковское, хотя одно обстоятельство этому «нечто» весьма противоречит: Миша Кулаков никогда не одевался неприлично. Даже в самые бедственные периоды своего российского местопребывания. Ни он, ни поэт Виктор Соснора. Хорошее, здоровое тело помимо хорошего, добротного духа подразумевает еще и хороший, во всяком случае, приличный гардероб.
Незадолго до переезда с Васильевского острова на Пушкинскую, в самом начале шестидесятых, лютой зимой, по совету Миши Кулакова, квартировавшего временно на полу моей четырнадцатиметровой (спал он за шкафом на спинке от дивана), и не без моего молчаливого согласия — сожгли мы в печке-стояке полное собрание сочинений Вольфганга Гёте, к несчастью изданное на родном автору немецком языке (готический шрифт!). Но как издано! Один том из двадцати пяти каким-то образом уцелел по сию пору. Время от времени я снимаю его с полки и принюхиваюсь: не потянет ли дымком юности?
Тогда же, в суровую зиму извели мы почти всю мебель, неделями не выходя на улицу. Крошили ее, как сейчас помню, старинным литым утюгом. Вслед за Гёте пошла на костер «История XIX века» Лависса и Рамбо. Близился переезд на «понижение» в девятиметровую комнату, и нам хотелось избавиться от лишних вещей, которым на Пушкинской улице как бы уже не место. Да и не влезло бы (обширное прошлое — в утлое настоящее).
Примерно тогда же, перед самым переездом, в ожидании транспорта была написана песня «На диване» — ностальгия по уходящей молодости.
На диване, на диване мы лежим, художники. У меня да и у Вани протянулись ноженьки. В животе снуют пельмени, как шары бильярдные. Дайте нам хоть рваных денег, — будем благодарные. Мы бутылочку по попе стукнули б ладошкою. Мы бы дрыгнули в галопе протянутой ножкою. Зацепили бы в кино мы по красивой дамочке. Мы лежим, малютки-гномы, на диване в ямочке. Уменьшаемся в размерах от недоедания. Жрут соседи-гулливеры жирные питания. На диване, на диване тишина раздалася… У меня да и у Вани Песня оборвалася.Имущество перевезли на микроавтобусе-рафике, его выделил поэт-геолог, семеновец Леонид Агеев, работавший начальником партии. Солидарность обреченных (на муки стихослагательства).
Комнатка на Пушкинской оказалась мизерной, с одним окном, окном деревенских размеров, выходящим на «третий» двор. Лежак под окном да ломберный столик у стены (писчий станок), над ним — пара полок с книгами. С остатками книг. И старинное глубокое кресло внизу. Кресло-яма. Для обдумывания мировых проблем. Из кресла клочьями пробивалась то ли болотная сухая трава, то ли звериная шерсть.
Почему, спрашивается, столь подробно, с таким размахом — о девятиметровой на Пушкинской улице? А потому что в этой комнатушке перебывало много интересных людей, отверженных и отрешенных, гонимых собой и внешними силами поэтов и художников, чьи творческие усилия были самостоятельны. Сообщество уникальных людей напоминало убогую лавку древностей — настолько каждый экспонат отличался от другого неповторимостью и своеобразием. Общим для всех являлась разве что высокая, антикварная цена каждого в отдельности. А всех вместе сподручнее, конечно же, окрестить словом «богема». Это ежели с официальной точки зрения. С точки зрения истории российской изящной словесности и художеств уникумы сии имели право на почетное звание… живых душ, пытавшихся на закате деспотизма, а затем и в разгар догматизма сказать свое непродажное слово в поэзии, прозе, живописи, а также — во времени и пространстве.
Это вам не фешенебельная «стрит», — Наша улица бандитами пестрит…Таким вот распевным двустишием, помнится, начиналась поэма о Пушкинской улице, славившейся до революции своими привокзальными притонами, всевозможными хазами и красными фонариками борделей — сказывалось соседство со знаменитой Лиговкой, «улицей дна», о мазуриках, да и вообще о веселых жителях которой ходили и по сию пору ходят легенды.
Пушкинская коммуналка, где я выменял девятиметровку, хоть и насчитывала шесть или семь самостоятельных семейств, безобразной не выглядела; всего жильцов или съемщиков существовало в ней не более десятка, семьи были компактными, в два-три человека, а в некоторых комнатах — по одному. Впечатление было такое, что все друг другу доводились родственниками. Обедали, а также играли в шашки и шахматы — на кухне. За общим столом. Там же — выпивали. Мужчины и женщины. С одинаковой неизбежностью. Самой заметной личностью в квартире смотрелся благообразный, еще румяный и сдобный старичок «замедленного действия», передвигавшийся по квартире осторожно и молча в постоянном кухарочном переднике, так как до последних своих дней стряпал на кухне шикарные обеды чуть ли не на весь коммунальный клан. Позже от этих обедов, время от времени, перепадало и мне. И даже моим гостям. Савельич был неподражаем. О нем ходили легенды. В прошлом — высочайшего класса и ранга шеф-повар, руководивший готовкой в лучших ресторанах Петрограда — Ленинграда, овеянный пожухлой славой чуть ли не бывшего царского кухмистера. К восьмидесяти годам сохранил он мужественной свою плоть, взлелеянную отборными харчами и приправами, но утратил дух. А может, его, духа-то, в нем и не было Никогда. В достаточном количестве. Старичок имел в квартире жену, тощую даму лет сорока. И я отчетливо различал их семейную идиллию, так как перегородка меж мной и кухмистером была возведена при советской власти.
Там же, в пушкинской коммуналке, проживали бывший спортсмен, чемпион Европы времен нэпа (вид спорта не упоминался за давностью состязаний), бывший моряк, не снимавший тельняшку даже в бане, а также бывший милиционер из псковских крестьянских детей, к тому времени спившийся и уволенный из органов. Однажды, за игрой в шахматишки, глядя в уставшие глаза экс-милиционера, сочинил я нехитрую песенку о пропащем постовом, которую спустя тридцать лет услыхал, сидя в такси, звучащую с магнитофонной ленты шофера.
У помещенья «Пиво — воды» стоял непьяный постовой. Он вышел родом из народа, как говорится, парень свой. Ему хотелось очень выпить, ему хотелось закусить. Хотелось встретить лейтенанта и глаз подлюге погасить. Однажды ночью он сменился, принес бутылку коньяку и возносился, возносился — до потемнения в мозгу… Деревня древняя Ольховка ему приснилась в эту ночь, сметана, яйца и морковка и председателева дочь. Затем он выпил на дежурстве, он лейтенанта оттолкнул! И снилось пиво, снились воды, как в этих водах он тонул… У помещенья «Пиво — воды» лежал довольный человек. Он вышел родом из народа, но вышел и… упал на снег.К проживанию в очередной коммуналке был я хорошо подготовлен. Житейским опытом. Помимо многолюдных бараков, серых и сырых землянок, зловонных камер, пятидесятиместных воинских палаток, десятиместных больничных палат и экспедиционных будок-балков — классическая коммуналка на Малой Подьяческой, затем такая же на 12-й линии, далее — на 9-й, и вот еще одна, похоже, последняя — на Пушкинской (не считая конечной коммуналки на одном из кладбищ России).
О том, что коммуналку познал я в достаточной степени и мере, что она отложила на моем «унутреннем мире» свой несмываемый отпечаток, а правильнее сказать — свое тавро или клеймо, говорит тот факт, что этому социальному явлению посвятил я немало стихов и даже поэм, одна из которых, «Квартира № 6», была в конце пятидесятых годов весьма популярна среди литературной молодежи и даже ходила в списках. Печатать подобные стихи было трудно, и они, за малым исключением, пролежали до нынешней благословенной поры мертвым грузом.
Существовала договоренность: постоянные посетители моей девятиметровой, чтобы не будоражить воображение жильцов, в дверной звонок не звонили, а бросали в мое окно спичечный коробок, или медную монетку, или еще что-нибудь по мелочи, благо окно располагалось на доступной, бельэтажной высоте. Причем преимуществом посещения обладали те из пришельцев, кто, посигналив коробком, предъявлял в смотровую щель окна дополнительный пропуск, а именно — торчащую из кармана металлическую «белую головку» бутылочной пробки. В квартире помимо меня проживало множество пьющих мужчин и женщин, способных угадывать по глазам и другим признакам — с чем пришел посетитель, и тогда, в самый неподходящий, ответственный момент разлития драгоценных капель в дверную щель могла протиснуться посторонняя, дрожащая от алкогольной усталости рука с граненым стаканом уличного происхождения. И нужно было скрепя сердце, с кровью отцеживать в этот стакан пару капель, потому как соседи — живые люди и на их улице бывает праздник, и тогда они тоже не скупятся на жертвоприношения. «Торчит сосед, торчит бутылка водки…» — это из рубцовского стихотворения «В гостях», которое он написал, побывав у меня в «салоне».
Там, на Пушкинской в девятиметровой, как в зале ожидания, нередко останавливались приезжие люди из Москвы, Дальнего Востока, Молдавии, нечерноземного Севера и прочих мест «необъятной родины». Иногда по престольным праздникам, а также в дни чьих-либо рождений в мою девятиметровую набивалось до сорока «стоячих» гостей. Но чаще всего возникал посетитель-одиночка, посетитель-уникум со своими стихами, картинками, молитвами и проектами. Возникая, долго не задерживался, уступая место другим надеждам, другим прожектам, иллюзиям.
Мог объявиться веселый человек по имени Темп, по фамилии Смирнов. Темпуля, как все мы его звали. Желтозубый куряка-красавец с Невского проспекта, «стиляга» и завсегдатай ресторанов, застенчивый сочинитель юмористических рассказов, о которых ходили слухи, но которых никто из нас не читал, сезонный работник изыскательских экспедиций с греко-римским профилем, несколько припухшим после «вчерашнего», там, у себя на Невском, не скупящийся на залихватские жесты и слова и женственно сникающий при слушании посторонних его разуму стихов, погибший на Кольском полуострове при аварии экспедиционного вертолета, когда будто бы пытались подняться в воздух, чтобы сдать десяток ящиков бутылочной стеклотары в ближайшем приемном пункте, а вертолет, едва оторвавшись от земли, рухнул и загорелся (или грозил загореться), и все успели выскочить, кроме замешкавшейся собаки, любимой всеми лаечки, и Темпуля вернулся в дымящуюся машину, и, когда открыл дверь и вошел, — грохнул взрывом топливный бак. Орденов за такие подвиги не дают. А жизнь — отбирают.
Мог наведаться величественно-простодушный, гнусаво-басовитый поэт Евгений Рейн, трезвый и, в отличие от Темпули, насквозь пропитанный текстами изысканной, труднодоступной (жильцам коммуналок) поэзии Запада и российского декаданса, сам слывший к тому времени одаренным стихотворцем, обладавший бурлящим произношением слов, этаким медвежьи-косолапым косноязычием; устоявший в пустыне тридцатилетнего непечатания, поддерживаемый проницательным Евгением Евтушенко и, наконец, издавший книгу своих заиндевелых стихов, как будто внезапно вспомнивший по прошествии этих неумолимых глухих десятилетий некий пароль, по которому «пущают» в область литературного признания и процветания.
Швырял свою вопрошающую песчинку в мое окно (за неимением спичек, а значит, и монетки) вечный скиталец городских чердаков и подвалов, исторический драматург Гера Григорьев, ни одна из пьес которого так и не увидела театральных подмостков, не говоря о журнально-книжных страницах. Гера, окрещенный этим престижным именем кем-то из сомучеников на Невском проспекте, а на самом-то деле не Гера, а всего лишь Георгий, умудрившийся тридцать лет (из пятидесяти) прожить в Ленинграде без прописки, так как не просто любил или обожал этот город, но и буквально не мог без него жить, трижды за эту свою сентиментально-лирическую провинность судимый, прошедший лагеря и тюрьмы, но вот чудо — ни разу не укравший, не обманувший — сохранивший себя неразбавленным, цельным, не опошлившимся на нарах, где, за неимением воздушного (читай духовного) пространства, сочинял не объемные драмы и трагедии, но всего лишь складывал в голове стихи, которые, если их издать, имели бы куда более отчетливый успех, нежели успех доброй половины писательской организации великого города. Города, без которого Гера не мыслил жизни. Гера, имевший внешность стопроцентного цыгана, черно-курчавую шевелюру, карие искрящиеся подспудным, труднообъяснимым весельем глаза, упрятанные в кипящий прищур жизнерадостных морщинок, бесшабашный нос и широчайший, некогда белозубый рот губошлепа-добряка. И прозрачная, а значит, безвредная плутоватость во всем облике, нажитая в гонениях и увертываниях, но абсолютно чуждая его натуре. На днях он опять освободился, отбыв очередной срок, как бы съездив в неизбежную командировку. Позвонил, похвастал свежим паспортом. Договорились встретиться. Я долго размышлял перед нашей встречей, что бы мне такое сказать ему — утешительное и одновременно разумное, действенное (письма в милицию, хождение к следователю, прошение в Прокуратуру РСФСР и прочие «инстанции» не помогли), а когда встретил его на Комаровской платформе — ничего не сказал, только беспомощно ткнулся в его лохматую, излучающую немеркнущее мужество физиономию и замер на миг, словно машина, избежавшая на дождливом осеннем шоссе столкновения с беззащитным зверем.
Мог оповестить о себе монеткой, и не обязательно медной, некто одетый во все заграничное, экстравагантное, в руке подразумевающийся стек или предполагаемая трость — всегда тощий, всегда изящный, всегда юноша — Виктор Соснора. Не теряя королевской осанки и врожденной гусарской выправки, он пройдет через кухню среди играющих в шашки или разливающих ароматную фирменную селянку, замастыренную Савельичем, пройдет, словно сторонний наблюдатель, словно бессмертный Вергилий в Дантовом аду, просквозит, бросив его обитателям что-нибудь отвлеченно-безобидное, вроде: «Будто будет будка Будде, — Будде будет храм на храме, а тебя забудут люди со стихами и вихрами». И никто не оскорбится его выправкой и его фразой, потому что сигналы сии органичны их испускателю, присущи орлиному носу поэта — как бы пришельца из других, более симпатичных, античных времен, совершенно случайно заглянувшего на коммунальный огонек, а на самом-то деле — работавшего на одном из ленинградских заводов слесарем и одновременно изобретавшего восхитительные рифмы и ритмы, напоминающие разговор инопланетян, оставшихся на земле по доброй воле, то есть — возлюбивших земные красоты и обычаи.
Приходил не такой, как все, пожилой уже человек, опиравшийся на вполне реальную палку, и не бросал в окно коробок, а вытягивался в струнку и стучал своей бородавчатой клюшкой по жестяному подоконнику, а когда у него заживала нога и отсутствовала в руках палка, приводил с собой спутника помоложе, чтобы тот швырял за него коробок или взметывал ввысь оторванную пуговицу, ибо у самого Георгия Викторовича Мельникова физических сил постоянно недоставало. Внешность его была впечатляюща, даже потрясающа: лицо ходячей мумии, причем на голове ни волоска, кожа туго обтягивает дыньку головы, на коже — струпья, последствия облучения радиоактивной «пушкой», потому что у Жоры застарелый рак кожи. Щеки из-за худобы лица, похоже, касаются друг друга изнутри, зубы не препятствуют касанию щек, потому что зубов нет. Худоба объясняется язвой желудка, удаленного на две трети. За глаза многие из нас, даже искренне любящие Мельникова, зовут его Черепом. При первом взгляде на Черепа в вашем сердце неминуемо возникает тревога: человек этот обречен, дни его сочтены, но проходят годы, десятилетия (с Мельниковым я знаком уже более тридцати лет), а феномен ходячей мумии, слава богу, не разрушается, наоборот, с годами как бы крепнет. Это — снаружи. Внутренняя сущность Черепа не менее стойка, несгибаема: в годы сталинизма, застоя, а по инерции и в нынешние дни он молчаливый протестант домашнего диапазона, коммунальный диссидент, поклонник поэтического экстремизма и декаданса, а также лагерной лирики, собиратель редких книг и рукописей, отдающий предпочтение литературе так называемых «сидельцев», то есть людей, некогда репрессированных и реабилитированных, ставящий «Один день Ивана Денисовича» выше «Поднятой целины», лично знавший писателя Юрия Домбровского, друживший с ним как сиделец с сидельцем, а «правоверному» Льву Кассилю доводившийся дальним родственником и в какой-то мере стыдившийся этого родства из-за благополучной, весьма далекой от лагерных условий биографии «совклассика».
Такой, как сказали бы в прежние времена, нездоровый интерес Черепа к творчеству бывших «сидельцев» объясняется довольно просто: Г. В. Мельников сам из репрессированных. В тридцать седьмом году на одном из литературных вечеров, официально посвященных, кажется, столетнему юбилею со дня убийства Пушкина, Георгий Викторович выступил с чтением стихов своего любимого Гумилева. По окончании вечера в вестибюле клуба или Дворца культуры к нему подошли двое в штатском и попросили не дергаться, спокойно выйти наружу: там, дескать, его ожидает машина. То есть была оказана честь прокатиться в черном лимузине до подъезда Большого дома. В итоге — восемь лет лагерей. За несколько романтических стихотворений расстрелянного мэтра петроградских акмеистов. Дорогая цена у изящных творений Николая Степановича. Но Мельников, заплатив ее, не почернел душой. Он даже гордился под настроение своей щедростью, граничившей с мотовством. Думается, что и все его физиологические знаки и отметины — такие, как отсутствие желудка, волос, вообще мяса на костях, — не что иное, как производное той высокой цены, плоды-ягодки тех «Романтических цветов» (название одного из сборников Гумилева), чей аромат не просто кружил Георгию Викторовичу восторженную дыньку, но и являлся для него ароматом судьбы. Ходит легенда, что Череп сам когда-то писал стихи, что к моменту рокового выступления в клубе у него вот-вот должен был выйти собственный сборничек, который и задробили моментально в связи с арестом автора, что имелся будто бы сигнальный экземпляр этого сборника, называвшегося «Огни святого Эльма». Никто не знает, какими они были, стихи Черепа, но одно известно доподлинно: за чтение оных никто, кроме их автора, не пострадал. То есть, что цена у этих его стихов несколько иная, нежели у стихов обожаемого мэтра.
На пару с юным художником, будущим поэтом Олежкой Григорьевым, как Гомер с поводырем, мог пожаловать художник, будущий прозаик Виктор Голявкин, автор знаменитого лозунга: «Привет вам, птицы!», писавший в то время языком нарочитого примитива короткие рассказики, не чуждые невинного эпатажа и дурашливого парадокса, которые именовал птичьим словом «скирли», и в то время окончательно еще не решивший, быть ему живописцем (заканчивал Академию художеств) или переквалифицироваться в писатели, причем не в «замечательные детские», что с ним в итоге и произошло, а в писатели бальзаковского масштаба, так как всем и каждому на полном серьезе заявлял тогда, что пишет свою «Человеческую комедию» двадцатого века, что написано-де уже больше половины и что получается намного интереснее, нежели у француза-классика. До того как была задумана «Человеческая комедия», Виктор Голявкин не менее серьезно занимался боксом, был чемпионом города Баку, имел мощную шею, массивный корпус и «отбивное», без признаков художественной утонченности лицо, что не мешало ему ненавязчиво, хотя и постоянно, в разумной мере интеллигентно острить; тем самым создавалось впечатление, что разум этого человека помещен создателем в некий иронический рассол и, плавая в нем, насквозь пропитался изящным сарказмом. Люди, подобные Голявкину и Олегу Григорьеву, долгое время как бы не жили, а — шутили. Год шутили, два, десять… И вдруг — не смешно. И тогда Голявкин написал чудесную повесть, умную и теплую, серьезную и ласковую — «Мой добрый папа». А неизрасходованные запасы юмора плюс боксерская закалка помогали и помогают ему выстоять в приливные часы отчаяния. Однажды, когда от прежнего веселья, похоже, ничего уже не осталось, Голявкин, сам того не предполагая, весьма позабавил поклонников своего таланта, да и не только их. В журнале «Аврора», в самый разгар «дремотно-воровской» эпохи, в дни, когда отмечалось семидесятипятилетие Брежнева, напечатали рассказ Виктора Голявкина «Юбилейная речь» — из прежних голявкинских, весьма «насмешливых» запасов. Внешне, то есть в отрыве от государственного юбилея, рассказ сам по себе совершенно невинный. Типичная придурковатая невнятица «примитивного» Голявкина, где речь идет о каком-то псевдописателе, продукте эпохи. Рассказ как рассказ. И вдруг — снимают с должности главного редактора журнала Глеба Горышина, вдруг — шум, шорох, шепот и гомерический смех в окололитературной среде, а в «высоких сферах» — форменный переполох. И смотрите, дескать, как все хитроумно сработано: семьдесят пять лет главному юбиляру, чей портрет на обороте обложки, а сам рассказ — на семьдесят пятой странице и называется «Юбилейная речь», тогда как всем известно, что главный юбиляр выпустил очередную книгу, получил за нее Ленинскую премию и вступил в Союз писателей… Заглянем в рассказ: что в нем? А в нем, ясное дело, юмор. Хоть и не злая, но — ирония и застарелый лирический сарказм. На птичьем языке скирли. То есть все то, что делало голявкинскую прозу неповторимо-забавной.
«Трудно представить себе, что этот чудесный писатель жив. Не верится, что он ходит по улицам вместе с нами. Кажется, будто он умер. Ведь он написал столько книг. Любой человек, написав столько книг, давно бы лежал в могиле… Ведь Бальзак, Достоевский, Толстой давно на том свете, как и другие великие классики. Его место там, рядом с ними… Ему поставят огромный памятник… Могилу его обнесут решеткой…
Позавчера я услышал, что он скончался…
— Наконец-то, — воскликнул я, — он займет свое место в литературе.
Радость была преждевременна. Но я думаю, долго нам не придется ждать…»
Там же, на 75-й странице, рисунок: могила с крестом… Могильная ограда, за которой торчит черное голое дерево с гнездом на вершине. А в гнезде — Пегас…
Одинокий Олежка Григорьев сигнальный коробок в мое окно бросал гораздо чаще семейного Голявкина. Григорьев тоже начинал как художник, прилично рисовал, лепил и раскрашивал маски, учился в средней художественной школе (СХШ) при Академии художеств. Вместе с даровитым Эдуардом Зелениным был отчислен из этого заведения за треклятую «левизну» и насмешливость. Иронический дар у Олега Григорьева был поэтичнее и даже как бы отчетливее голявкинского, но и — дурашливее последнего. Его книжка стихов и коротких прозаических, в пять-шесть строчек, историй «Чудаки» была подлинным событием в литературном Ленинграде, а затем и в Москве.
Спрашивается, почему тогда — «загубленный талант»? А именно так судят об Олеге многие из тех, кто знал его в конце пятидесятых. Роковое стечение обстоятельств? Определенная жидконогость натуры? Не без этого. Оглядываясь и оценивая, необходимо нам сыскать виновного. Чтобы успокоиться. Чтобы при случае отпарировать: ну, знаете ли, мы-то тут при чем? А мы-то, оказывается, еще как «при чем»! Среди нас, уцелевших, звездочка-то едва не погасла, в нашем молчаливом окружении. Наблюдали, как гасла, и ничего не смогли предпринять существенного. Вздыхали, ахали, суетились даже — «по поводу». Однако — не помогли, не спасли. И я в том числе. И на моей совести сия печаль. К тому же успокаивал обманно-веселый, искристый дурашливый свет, который до поры до времени излучала эта звездочка: чтобы такой завзятый юморист отчаялся — да ни в жисть! Попивал Олежка водочку? Так и мы попивали. Только мы вот — бросили, завязали с божьей помощью, а патентованному весельчаку в той помощи было отказано. А затем и вовсе невероятное событие стряслось: в один из треклятых дней постучался Олежка в стандартную, типовую дверь в новостройках, рассчитывая попасть к приятелю, и… промахнулся, не к приятелю попал, а к врагу, к злым незнакомым людям (эффект неразличимости входных дверей), к людям, у которых имелись свои неприятности, свои проблемы. Эти «не свои» люди, предварительно избив пришельца, а также исцарапав себе физиономии ногтями, вызвали милицию, составили акт на «хулиганские действия» незваного гостя, и поехал Олежка в места не столь отдаленные. И оказалось, что далеко не все в нашем светлом обществе в ладах с юмором, не все склонны иронизировать и умиляться чудачествами взрослого ребенка. Детям его улыбчивые стихи были понятны и приносили радость. Взрослые распорядились иначе. Еще в конце шестидесятых пришли мы с женой Светланой как-то в трущобную коммуналку, где в узкой комнатушке-кишочке, увешанной ироническими масками и рисунками, ютился Олег Григорьев; моя спутница, войдя в эту вертепную комнатушку и разглядев на дне продавленного дивана спящего тяжким, отравленным сном Олежку, неожиданно и совершенно безутешно заплакала, словно предчувствуя печальную участь веселого человека, так и не сумевшего правильно сориентироваться в этом, не всегда улыбчивом, грешном и по-своему обреченном мире.
Следом за Олежкой или одновременно с ним на Пушкинскую могли заявиться самые неожиданные, подозрительные и даже подозреваемые люди, чаще всего из Москвы, самостоятельно пишущие стихи или, на худой конец, поэтически мыслящие.
Однажды приехал из Москвы Художник. Настоящий. Чьи картинки, а также рисунки, если на них глянуть впервые, действовали на всех как наркотик, как чары, и не выборочно, а буквально на всех так действовали, располагая той самой колдовской «воспроизводительской» магией, помеченные печатью Творца, чего сплошь и рядом не хватает превосходным мастерам своего дела для того, чтобы стать великими художниками. Я знал, что Художник этот влачил жалкое в материальном смысле существование. И вдруг он влетает в длиннополом, до пят, кожаном пальто, в руках три бутылки шампанского, на дворе под окном не просто машина — огромный, с откидным верхом кабриолет — то ли «ЗИМ», то ли «ЗИС» (имелись тогда в ленинградских таксопарках подобные кареты для увеселительных прогулок, свадеб и просто коллективных пьянок). Ну, думаю, наконец-то, заметили Художника, раскупили его творения, и вот теперь, как в старые добрые времена, началась для их создателя полоса прижизненных восторгов и душевных отдохновений. Не тут-то было. Обладателя кожаного реглана, можно сказать, уже разыскивали. Оказывается, Художника в той местности, где он жил, каким-то образом «оженили», видимо, в момент, когда он растирал краски, или при выезде на так называемую натуру — писать этюды. Во всяком случае, очнувшись от свадебных восторгов, тянуть семейную лямку он расхотел, верх взяла потребность изображать на холсте происходящее вокруг и вызревающее в сердце, чтобы люди-зрители не столько угадывали и узнавали себя в изображенном, сколько, наоборот, забывали бы себя и свои треволнения, питая мозг и воображение красотой и мечтой. Как-то, проснувшись среди ночи на тещином тюфяке, Художник ощутил… отсутствие правой руки, не успев испугаться, подумал, что рука затекла, сомлела, что он ее отлежал, и вдруг догадался, что рука попала в прореху, в некий изъян, имевшийся в тюфяке. Выдернув руку из скважины, Художник обратил внимание, что в скрюченных пальцах у него зажата какая-то бумажка. При тусклом свете нарождающейся зари удалось определить, что бумажка не простая, а — денежный знак. Причем — сторублевого достоинства. Рука самопроизвольно занырнула в дыру еще раз и, нашарив с десяток подобных знаков, возвратилась на поверхность. Выйдя из дому за хлебом, Художник устремился на Ленинградский вокзал, и вот он здесь, под окном, на Пушкинской. В руках у него шампанское, в карете — еще один художник — Миша Кулаков, зовут меня: поехали! Садясь в лимузин, вначале я не придал значения фразе, брошенной удачливым Художником в виде неуклюжей остроты: «Граждане, храните деньги в сберкассе!» А через определенное время понял, что был не прав, и запоздало улыбнулся: спать на денежных знаках, хотя бы и на тещиных, весьма не безопасно, к примеру, рахметовское, из романа Чернышевского «Что делать?», спанье на гвоздях куда безопаснее спанья на сотенных купюрах — тут соблазн куда обширнее, а в ситуации хронического безденежья и пронзительнее.
О самом Художнике (вне меркантильной ситуации), о его чудесных картинах, о его тайне (таланте) расскажу когда-нибудь в книге, посвященной литературно-художественной Москве. А покуда — о Пушкинской улице, о том, как еще один невообразимый человечек заявился ко мне в девятиметровую.
В тот день сели пить «Волжское». За ломберный столик. Решили отмежеваться от кухонной коммуны. Сэкономить на затворничестве. Не получилось: сосед Крашенинников, бывший спортсмен, не входя в комнату, протянул в дверную щель стакан. Пришлось плеснуть бедолаге. И тут заезжий из Москвы, Олежки Григорьева приятель по фамилии Горохов, расстегивает огромный бухгалтерский портфель и достает из него какую-то невзрачную, потускневшего фаянса кружечку. Правда — необычную. С этакой откидывающейся, серого металла нахлобучечкой. Поднимает он сию крышечку церемонным жестом и наливает в сине-белый, подержанный сосуд порцию «Волжского». А на кружечке, между прочим, рельефная дата обозначена, чудом сохранилась: 1489 год! Пятнадцатый век, стало быть. Ну, думаю, имитация очередная, подделка искусная. Выясняется: ничего подобного! Подлинная дата, всамделишная, пятнадцатого века домашняя утварь. Причем кружечку, оказывается, уже вовсю разыскивают люди из Эрмитажа. А также — люди из специальных органов. Выясняется, что кружечка на Пушкинскую пришла прямиком из-под заградительного, охранного стекла. И предлагает мне поднять сей заздравный кубок ее новый, весьма временный владелец по фамилии Горохов. После повторного тоста Горохов решил продать мне реликвию за пятьдесят рублей. В вечное пользование. Выручило тогдашнее мое перманентное безденежье. Иначе — сидеть бы мне самому где-нибудь под стеклом, а точней — за решеткой. Обладатель кружки тем временем постепенно сбавляет цену. И тут меня осенило: позвольте, позвольте, кружечке почти пятьсот лет! Спрашивается, сколько же лет могут за нее отвалить, случись делу дойти до суда? Приблизительную цифру произнес я, по-видимому, вслух. Временный владелец кружки, допив бормотушку и уловив тревогу в моих глазах и голосе, обернул чашу какой-то портянкой и сунул обратно в портфель. «Отнеси на прежнее место, — посоветовал я ему:— В пятнадцатый век. Подойди сегодня ночью к Эрмитажу и поставь кружку на крыльцо или на подоконник. А сам уезжай в экспедицию. На остров Врангеля». Не знаю, так ли он поступил, во всяком случае, кружка спустя какое-то время вернулась под стекло. Да и куда ей было деться, уникальной, никому конкретно не принадлежащей, несущей на себе клеймо неумолимого времени, как бы сгустившегося на дне этой кружки незримым осадком?
Или такое незабываемое явление, начало которого не было ознаменовано ударом в окно спичечного коробка или монеты. На этот раз решительно позвонили в общественный звонок. На кухне жильцы ненадолго прекратили играть в шашки, варить украинский борщ и вообще насторожились. Входят сотрудники милиции. За их широкими спинами — хрупкая девушка, как выяснилось чуть позже — получающая в консерватории музыкальное образование и проживающая в общежитии этого учебного заведения. Сотрудник милиции сразу же интересуется: «Гражданин Горбовский Глеб Яковлевич здесь проживает?» А я тут же на кухне нахожусь, в толпе соседей. Вдыхаю вкусные запахи, идущие от варева Савельича. Ну, думаю, что-то неординарное стряслось, некаждодневное. Наверняка аукнулось что-либо из прежних времен. Какая-нибудь ниточка дотянулась, которая как ни вьется… Делать нечего, признаюсь, дескать, вот он я — Горбовский. Чего угодно, не пройти ли нам в комнату, потому как люди борщ варят и вообще? И тогда в сгустившейся атмосфере раздается музыкальный голосок хрупкой девушки. Будто ангел в создавшуюся ситуацию вмешался, впорхнул и меня одним своим присутствием защитил, беду отвел.
— Ох, чепуха какая-то! Никакой это не Глеб Горбовский. Во всяком случае — не тот.
— Как вас понимать? — обратились к ней милиционер и я, почти одновременно.
— Да нет же, не Глеб это Горбовский… — краснеет девушка, наливаясь обидой и растерянностью.
— Вам что, документы предъявить? — спрашиваю. — Да вот и соседи подтвердят, — киваю в сторону шашистов, прервавших игру.
В результате выясняется, что некто, назвавшийся моим именем, вошел в доверие к девочкам и занял у них энную сумму, составленную из нескольких «нежирных» консерваторских стипендий. Занять занял, а возвратить рублики не догадался. Деньги псевдо-Горбовскому были выданы в связи с его «трагически-безвыходным положением». Пожалели на свою голову. А все — музыка, экзальтированное восприятие действительности, близорукий мир искусства, представителями которого собирались стать девушки. Добрые девушки.
Получив разъяснения, я тут же догадался, с чьими проказами имею дело. Кто мой дублер. Меня с этим человеком неоднократно знакомили на выступлениях, где я по молодости читал стихи. Он, то есть дублер, громче всех аплодировал и вообще искренне был расположен к моей рифмованной продукции. Но вот беда, Толя, к сожалению, не имел достаточных средств к существованию, тем паче — к ведению богемного образа жизни, когда не распить хотя бы одну бутылочку «Волжского» за день считалось неприличным, противоестественным. Самое удивительное, что Анатолий даже отдаленно не напоминал меня своей внешностью. Приземистый, ниже меня на голову, широкоплечий, лицом красный, как бывает у альбиносов и рыжих, словно только что вышел из бани; зубы у Толи давно испортились и частично утрачены, вместо них он прилаживал какие-то парафиновые заменители-протезы «разового употребления», которыми Толя пользовался в момент знакомства с очередной девушкой, способной слушать стихи. Заменители сии напропалую тогда выскакивали у него изо рта прямо на пиджачные отвороты.
Положа руку на сердце, я не только не чувствую обиды на Анатолия за его опрометчивые поступки, но даже считаю себя перед ним в какой-то мере виноватым; ощущение такое, будто оба мы выбирались в свое время из ямы или болота, вместе из одного, и я выкарабкался и потопал, не оглядываясь, не подав напарнику руки.
До того как оконфузиться перед девочками из консерваторского общежития, Толя действовал на улицах и скверах Ленинграда, делая ставки по маленькой. Знакомясь с очередной любительницей поэзии, как правило, просил он трешку, не более того. Предварительно отрабатывая вознаграждение пятнадцатиминутным чтением стихов раннего Горбовского. По нынешним меркам — ничего особенного: организовал, так сказать, поэтический кооператив, причем — передвижной. Только и всего. Попадались на Толину удочку девушки, ничего, естественно, не знавшие обо мне. Но порой происходили незапланированные казусы: так однажды где-то возле Русского музея Толя представился моей жене Светлане и, не обращая внимания на ее ироническую улыбку, читал ей стихи, которые она знала не хуже его. Познакомился он таким образом и с младшей сестрой Светланы, приехавшей из Витебска погостить, и кое с кем еще из моих знакомых. А лет десять или пятнадцать спустя, когда Толин «кооператив» наверняка перестал быть рентабельным и, вероятнее всего, самораспустился, проходил в Доме работников искусств на Невском проспекте какой-то очередной вечер, организованный, кажется, Лениздатом, то есть Д. Т. Хренковым, где принимали участие постоянные авторы издательства, в том числе и пародист Ал. Иванов. После выступлений все перешли за столики тамошнего кафе. Я очутился за одним столом с Ивановым, его будущей женой артисткой Ольгой Заботкиной и с кем-то еще четвертым, не помню с кем. Улучив момент, Заботкина решила мне кое-что напомнить. И рассказала историю о том, как я взял у нее в долг трешку. Будто бы на улице Маяковского. В скверике перед Институтом нейрохирургии. Трешку — в обмен на стихи. «Неужели не помните?» — изумилась артистка. Я было начал оправдываться, что никакого отношения к вымогательству не имею, что… и т. д. и т. п. И вдруг понял, что ничего доказать не сумею, что прошло много лет и я, потеряв осанку и частично зубы, наверняка сделался похожим на Толю. Поразмыслив недолго, протянул я обманутой женщине три рубля, от которых она с презрением отказалась.
Недавно прошел слух, что Анатолий, играя в спортлото, выиграл много денег, чуть ли не десять тысяч. С тех пор о нем — ни слуху ни духу. Зачастую мы даже не подозреваем, что единственный способ избавиться от кого-либо — это обеспечить его тем, в чем он долгие годы нуждался: нищего — деньгами, заключенного — свободой, нелюбимого — любовью, причем в неограниченных количествах.
Безо всякой натуги мог бы я теперь составить отдельную книгу из одних только кратких описаний многочисленных визитов, нанесенных мне замечательными людьми в момент (длиною в пять лет), когда проживал я на Пушкинской улице в девятиметровом «зале ожидания». Если кто-то из читателей решит, что бросание спичечного коробка в окно — всего лишь литературный прием, скажу: ничего подобного. Значит, неубедительно рассказываю, только и всего. Десятки, многие десятки людей-друзей забредали тогда ко мне на огонек. Не то что теперь, когда поколение мое, так сказать, остепенилось. Некоторые дарили себя однажды. Какая-то группа гостей — постоянно. Не все бросали именно коробок или монетку. Взлетали к небу и другие предметы, оказавшиеся под рукой, например, кепки, пробки, огрызки яблок. Иные из прихожан предпочитали подавать голос, крича в колодце двора: «Гле-еб!» И мощное эхо уносило этот прозаический блеющий звук в блистающие или моросящие дождем выси небесные. Неправда ли, красиво? И — щедро. Такое не забывается.
На пару с Черепом мог прийти Саша Морев, о котором я уже упоминал и вспоминать не устану, так как был он не просто друг (друзей у Саши хватало!), но еще и потому, что был он сердцу моему по-настоящему мил, желанен. В нем таилась задиристая прелесть, он редко хвалил, но когда хвалил, значит, было за что, при этом бородка его воинственно, трагикомично выпячивалась, толстые на сухом лице губы презрительно или надменно складывались в брезгливую гримасу, на коротком носу обозначалось седло, весь облик напружинивался, словно перед прыжком, и вдруг — улыбка! Точно судорога отпускала. А похвалу не произносил, а как бы выцеживал сквозь зубы. Необычайно мужественно получалось. И одновременно — по-детски наивно. Даже комично. Оглядываясь ему вослед, словно заглядывая в ствол многометровой шахты, на дне которой было обнаружено его хрупкое тельце, помимо всего прочего могу теперь сказать: Саша умел держаться. Потому-то столь неправдоподобно прозвучала весть о его гибели. О его посмертной записке. Будто жил один человек, а умер — другой.
Приносил и оставлял на стене комнаты очередную свою картинку Эдуард Зеленин, Эдик, щедрый и весьма яркий художник, сибиряк родом, невысокого роста крепыш, плечистый, ладный, весь подобранный, на шее изящный шнурок или «бабочка», на голове котелок или складной цилиндр, раздобытый у театралов, модернист-авангардист с открытым лицом провинциала, рисовавший лицо Тани Кернер, художницы, покончившей с собой (бросилась в колодец двора с седьмого этажа общежития); было в этих холодноватых зеленинских портретах что-то якобы от вездесущего Модильяни, хотя вряд ли от него, скорее — от воздуха времени. Одна такая Таня, зеленая, леденистая, с трубкой во рту и цилиндром на голове, смотрит на меня со стены по сию пору, хотя сам Эдик давно уже в Париже, рисует иных Тань (а может, все еще ту, незабвенную?). Зачем он уехал в Париж — не знаю. За славой? Или — в поисках себя? Во всяком случае, не за изящными шнурками и головными уборами, каких в Париже великое множество. Должно быть, сказалось любопытство провинциала, а также — перспектива подучиться у великих мастеров, да кстати и подлечиться: от постоянной сухомятки обозначилась язва желудка. Ну, да и краски там, у «них», качественнее, и… да мало ли. Париж он и есть Париж. Для художников — Мекка. А все-таки жаль, что не увижу больше Эдика, того самого, свежелицего, загородного. Хотя опять же — не обязательно уезжать в Париж, чтобы стать другим. Годы-разлучники наверняка постарались над каждым из нас. И случись теперь встретиться нам, хотя бы и в Париже, а то и в Новокузнецке, откуда Эдик приехал в Ленинград, ведь можем и не опознать друг друга — чем жизнь не шутит?
На днях, когда вышесказанное об Эдике было уже написано, Зеленин объявился в Ленинграде. Звонил мне, разыскивал. Однако не застал. Что-то не позволило нам свидеться вновь. Что-то уберегло от неизбежного разочарования друг в друге. Сохранив прелесть былых встреч в неприкосновенности.
А то еще приходила на Пушкинскую неразлучная троица — Володя Уфлянд, Миша Еремин, Леня Виноградов, тоже приверженцы «левостороннего движения» в искусстве. Может, и по отдельности приходили, но мне почему-то сподручнее видеть их объединенными в некую упряжку. В душу запали стихи одного из них — Володи Уфлянда — живые, переливчатые, подчас презрительно-ироничные, насмешливые, подчас безалаберные, шутейные, словом, все та же обериутская школа, только с вкраплениями отчаяния, насланного тогда на всех нас неумолимым временем, одетым в диагоналевые галифе и во френч с накладными карманами. Из всей троицы только у Володи вышла книжка стихов. Да и то где-то за границей. Далеко от дома, от улицы Пестеля, где, между прочим, и поэт Иосиф Бродский когда-то был прописан. И — далеко от молодости: к пятидесяти годам.
Миша Еремин будто бы писал стихи умнее, сложнее, интеллектуальнее Уфлянда, но усилия его рассосались, и где же он? Тогда как Уфлянд на слуху. А Еремин — выпал… Хотя, позвольте, и от Еремина строчка осталась в памяти, вот она: «Боковитые зерна премудрости». И все-таки — выпал. Даже буквально: вывалился однажды, по пьяному делу, из окна. На дно каменного двора. Сломал ногу. Сломал судьбу. А ведь все трое ездили на свидание к Пастернаку Борису Леонидовичу, брали аудиенцию, были допущены. Читали мэтру отсебятину, задорную и бессвязную. И он их якобы слушал. Наверняка внимательно слушал.
А третий, Леня Виноградов, был самый из всех красивый внешне, а значит, и не приспособленный к труду на ниве изящной словесности. Бывало, войдет, брякнет что-нибудь вроде: «Марусь, ты любишь Русь?» И ухмыльнется многозначительно. Или выскажется более обширно, целыми двумя строчками: «Мы фанатики, мы фонетики — не боимся мы кибернетики!» И улыбнется еще знаменательнее.
Помню, как еще до моего переезда на Пушкинскую сняли эти ребята комнатуху на Васильевском острове, недалеко от моего дома, и на какое-то время взялись за дело артелью: подрядились пьесы писать для театра. Чтобы затем купаться в ванне, заполненной шампанским, и натирать обувь шоколадом. Вместо гуталина. Так они шутили во всеуслышание. Хотя шампанского наверняка желали искренне. Они рассуждали примерно так: в театрах успешно идут фальшивые, конъюнктурные пьесы бездарных авторов, тогда как мы, люди одаренные, свежие, остроглазые и остроумные, сидим сложа руки. Короче — мужики, за работу! И закипело. Каждый день ранним утром все трое стекались в комнатуху и, засучив рукава, создавали свою собственную драматургию. Случалось, на стук их артельной пишмашинки заглядывал я, в надежде совершить традиционный обряд сбрасывания на бутылку, и с удивлением пятился за дверь, натыкаясь на их деловито-виноватые улыбки и закатанные рукава рубах. «Вот погоди ужо, — заклинали меня все трое, выпроваживая за дверь. — Ужо заживем! В ванне с кагором… баттерфляем! Соловьиными языками закусывать будем. А покеда — не замай. Недосуг».
Но время бежало, а пьесы деловитого триумвирата на театрах не шли, никто их не ставил почему-то. И вдруг — слух: с настырными ребятишками заключили договор! И кто — Большой Драматический имени Горького, сам Товстоногов! Василеостровская богема слуху этому вначале не поверила. И только когда в одной из газет города появился фельетон о молодых драматургах, в котором комментировалось эксцентрическое поведение трех авторов, получивших денежный аванс в театре и, по возвращении на Васильевский остров в комнатушку, посшибавших на улице несколько телефонных будок и урн, вследствие чего заночевавших в отделении милиции, стало ясно, что многомесячное творческое заточение моих друзей сдвинулось с мертвой точки и дало некоторые плоды или цветочки, предвещающие виды на урожай. Правда, конфуз с перевернутыми урнами повлек за собой для молодых авторов временные неприятности, с ними даже расторгли договор, но они тут же взялись за пьесу о молодом Ульянове-адвокате и — не прогадали. Давно уже распалось их тройственное театральное содружество (В. Уфлянд в сочинении пьесы, по его словам, участия уже не принимал), а пьеса сия, по-моему, и сейчас идет в театре. Во всяком случае, совсем еще недавно, проходя мимо Горьковского по Фонтанке, на стеклянных дощечках репертуарного анонса пьеса значилась. И я растерянно улыбнулся, не столько ее названию, сколько фамилиям авторов, как чему-то родственно-дорогому, незабвенно трогательному, хотя и далекому, почти потустороннему, словно пришедшему из какой-то другой, параллельной жизни.
Самым популярным двустишием в «зале ожидания» на Пушкинской, в его девятиметровом «дупле» (так была прозвана комната гостями), звучавшим как пароль, как девиз, как поговорка, служили нам строчки турецкого поэта Назыма Хикмета: «Если они не дают нам петь, значит — боятся нас!» Чуть реже повторялись две строчки Веры Инбер: «Мы, конечно, умрем, но это — потом, как-нибудь, в выходной день». Повторялись, несмотря на то, что пожилая поэтесса перед этим «зарубила» первую стихотворную рукопись хозяина «дупла», начертав на ее страницах многочисленные фразы, вроде: «Это философия 1912 года!»
Склонялась и всем известная эпиграмма на поэтессу: «Ах, у Инбер…» и т. д. Почти каждый божий день восторженно декламировались блоковские «Поэты» («За городом вырос пустынный квартал…»), цветаевский «Письменный стол» («Вас положат на обеденный, а меня — на письменный…»), что-нибудь из лирики Маяковского («А если не буду понят страной…» или «Вот и жизнь пройдет, как прошли Азорские острова…»), гумилевский «Заблудившийся трамвай» («Остановите, вагоновожатый, остановите скорее вагон!»), что-нибудь пастернаковское («Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?»), тютчевское («Молчи, скрывайся и таи…»), обериутовское («Голубая рыбка, жареный карась, где твоя улыбка, что была вчерась?»), слегка отредактированное есенинское («Что ты смотришь так синими брызгами, али в морду хошь? В огород бы тебя на чучело, пугать ворон!»), даже — из Безыменского («Жила бы Совреспублика, а мы-то проживем!»). И уж всенепременно, с затаенной бравадой — из Хлебникова, из «поэта для поэтов», но — понятное, вроде: «Эй, молодчики-купчики, ветерок в голове! В пугачевском тулупчике я иду по Москве!» Из уст в уста ходили модные словечки. Одним из самых популярных, а потому и застрявших в памяти оказалось тогда иностранное словечко из разряда научных — «сублимировать». И чаще всех в паре с глаголом «функционировать»; нажимал на это словечко Миша Кулаков. Он и вел себя соответственно, демонстрируя непредсказуемые превращения из одного состояния, скажем, благодушия, прямиком в другое — в остервенение, минуя промежуточную сосредоточенность. Модным было тогда и словечко «супрематизм», изобретенное художником Казимиром Малевичем на заре века, которое мы вворачивали в разговорную речь для доказательства «лихости» интеллекта.
В «дупле» до поры до времени, покуда ей не переломили позвоночник, имелась семиструнная гитара. Под нее пели «авторские» шлягеры того времени: «Стою себе на месте, держусь я за карман, и тут ко мне подходит…», или окуджавины «Шарик улетел», «Она по проволоке ходила…», или белогвардейски-дальневосточную «Лягут синие рельсы от Москвы до Шанси», магаданскую «Будь проклята ты, Колыма…», «Когда качаются фонарики ночные…», и вдруг, благоговейно, как становясь на молитву, где-то даже картинно: «Выхожу один я на дорогу…».
Годы, проведенные на Пушкинской улице, всплывают в памяти как самые многолюдные, разноголосые, восторженно-обреченные, великодушные, откровенные, суматошные и одновременно успешные, потому что тогда писались стихи, нужные людям, отвечавшие настроению эпохи; в залах, где мы читали эти стихи, нам не просто аплодировали, за нас держались, как за идущих впереди.
Обстоятельства сложились таким образом, что институтского образования я не получил, в студентах никогда не значился, «моими университетами» было общение с людьми, и одним из своеобразнейших факультетов считаю житие на Пушкинской. Случалось, что и там писались светлые и даже восторженные стихи, видимо, потому, что и туда время от времени на огонек забредала Ее Величество Любовь, но, как правило, стихи Пушкинской улицы не отличались умильным благодушием, да и откуда ему было взяться? Вот характерные ритмы той поры.
А я живу в своем гробу. Табачный дым летит в трубу. Окурки по полу снуют. Соседи счастие куют! Их наковальня так звонка, победоносна и груба, что грусть струится, как мука, из трещин моего гроба. Мой гроб оклеен изнутри газетой «Правда»… О, нора! Держу всеобщее пари, что смерть наступит до утра, до наковальни, до борьбы, до излияния в клозет… Ласкает каменные лбы поветрие дневных газет.Хотелось бы назвать поименно всех, кто вместе со мной кормил свое сердце надеждой на лучшие дни и годы, кто рядом со мной не просто унывал, томился безвременьем и, казалось, безысходной печалью духа, но, прорастая сквозь эти обманувшие наши надежды шестидесятые, продолжал не только мыслить в своем направлении, но и любить, прощать, верить — в направлении бездонных небесных высот, всех скорбей и радостей, всех предстоящих свиданий с премудростями Бытия. Но… «иных уж нет, а те далече», да и память, как решето, многое порастрясла. Однако лица вспыхивают, обозначаются все контрастней, отчетливей, и хочется поскорее зафиксировать изображение, чтобы оно не потускнело, не потерялось, вызванное как бы из небытия, не распрощалось с тобой, и кто знает, может, на этот раз навсегда.
Вижу кричащее болью одиночества, преждевременно изможденное ребячье лицо прозаика Рида Грачева (Вите), эрудита и умницы, бредившего сочинениями француза Экзюпери, переводившего и комментировавшего прозу этого поэта-летчика, Рида Грачева, успевшего издать тонюсенькую (три четверти из представленного им в редакцию было изъято «блюстителями духа») книжечку выстраданных рассказов и в дальнейшем якобы заболевшего душевно, а точнее — не перенесшего надругательства над разумом, Рида Грачева, которому было посвящено вышеприведенное стихотворение «А я живу в своем гробу…» не потому только, что он, как и я, жил тогда в крошечной комнатенке, торча занозой или бельмом в глазу у всех нормальных, твердых душой обитателей коммуналки, но еще и потому, что он, Рид Грачев, попав под молох «религии рационализма» и корчась на общественной наковальне, был безжалостно расплющен: слишком хрупкой оказалась конструкция сего насмешливого в фантазиях мечтателя, над которым насмеялась действительность, объявив душевномятущегося — душевнобольным. Последняя встреча с этим человеком была у меня… в сумасшедшем доме, куда я попал с белой горячкой. Как сейчас помню: по коридору бывшей женской тюрьмы идет мне навстречу Рид Грачев и, несмотря ни на что, улыбается. Не мне — всему миру.
Дима Бобышев, Костя Кузьминский, Вова Марамзин, Игорь Ефимов, Леша Хвостенко… Обозначил ряд имен и спохватился: где эти люди? Неужто умерли все? Почему не вижу их столькие годы? Ни в городе, ни в деревне. Так ведь они все уехали, улетели. Будто птицы по осени. Только не на юг. На запад. Веселые были ребята. Вот и не захотели стать грустными, лететь вниз головой — в глубь земли, как Саша Морев — в ствол шахты. Не пожелали. Да и не каждому даны такие способности — лететь вглубь…
А вот, скажем, Боря Тайгин — не улетел. Ни вглубь, ни вкось. Уцелел. Сдюжил. Смирил гордыню. Остался жить у себя на Васильевском острове. Невдалеке от Смоленского кладбища. Удивительно стойкий, хоть и не оловянный солдатик этот Боря Тайгин, принявший отпущенные судьбой муки и радости с улыбкой ребенка, а не с ухмылкой закаленного в коммунальных битвах страстотерпца. Известно, что зло в человеке — это болезнь, тогда как добро — норма. Зло в себе необходимо лечить каждодневно, ежесекундно. Но есть люди, к которым эта хворь как бы не пристает. У них — иммунитет. Мне думается, что Боря Тайгин из этого ряда неподверженных. В старину их именовали блаженными. В наше время тем же словом их не именуют, а обзывают. Такие люди уникальны. Но — не единичны. Скажем, в Москве — Юра Паркаев… Но о нем — в «московской» книге. А сейчас о василеостровце Тайгине.
Вот уж кто всегда любил поэтическое слово, и не только любил, но и любит, но и служит ему бескорыстно по сию пору, поклоняется и преклоняется, и хоть сам пишет стихи — никто или почти никто про это не знает. Пишет, как молится, по ночам. Во времена, когда молиться днем было небезопасно. И стихи у Бори Тайгина есть красивые. Но все они — потаенные. Как невидимые миру слезы.
А ради стихов своих товарищей Боря Тайгин, можно сказать, шел на костер, то есть — на известный риск быть взятым под стражу. Вообще-то Борина подлинная фамилия — Павлинов, но ради поэтического слова не пожалел он, как говорится, своего имени и после лагерной отбывки в глухих сибирских лесах принял фамилию Тайгин, как бы совершил поэтический постриг. А посадили его за то, что делал самодельные граммофонные пластинки, было такое выражение после войны — «музыка на ребрах», то есть на пленке рентгеновских снимков. И еще за то, что… издавал стихи своих друзей тиражом в пять экземпляров — ровно столько, сколько брала за «один присест» его старенькая, дореволюционная пишмашинка «Ремингтон».
Отбыв четыре года в лагерях, Боря не сделался хулиганом или вором, крикливым блатняжкой, он как был поэтом, так им и остался. Еще до принятия окончательной фамилии-сана Тайгин, то есть до отсидки, писал он стихи под псевдонимом Всеволод Бульварный, с непременным добавлением к «сану» — «лирик-утопист». Должно быть, из протеста и самоутверждения. А первую книжечку своих стихов назвал по-киплинговски решительно — «Асфальтовые джунгли». Экземпляр этого сборника таскал я с собой по Якутии, и самиздатские страницы его насквозь, до прозрачности пропитались парафином походной свечи, при свете которой в таежной палатке читал я стихи своего друга.
Но «музыка на ребрах», быт, скитания, даже писание «кровных» стихов было для Тайгина не самым столбовым, вернее столпным делом жизни. Таким делом явилось для него многолетнее, аж с самых послевоенных времен, бесстрашное и бессребряное издание «посторонних», но весьма им почитаемых стихов. Как правило — в нескольких «нумерованных» машинописных экземплярах — о чем, кстати, неизменно сообщалось в выходных данных «продукции». Издательство именовалось довольно сухо (если вспомнить экстравагантные псевдонимы издателя), сухо, но отчетливо: «Бе-Та». То есть — Борис Тайгин. Издавались там преимущественно сочинения современных, непечатающихся или печатающих далеко не всё поэтов, в первую очередь ленинградских, реже — иногородних. Еще реже — стихи из прошлого: Гумилев, Ходасевич, Бальмонт, Цветаева, Северянин, Мандельштам… Отец Бори Тайгина Иван Павлинов — делатель революции, перепоясанный пулеметными лентами — принимал участие в аресте Максима Горького в Петрограде; великий писатель печатал в газете «Новая жизнь» свои «Несвоевременные мысли», когда в один из дней было отдано распоряжение доставить Горького на Шпалерную. В этих своих «Несвоевременных мыслях», отпечатанных затем отдельной брошюрой в типографии на Лиговке (1918 г.), пролетарский писатель говорит о своем горьком разочаровании в революции, цена которой, как выяснилось, слишком дорога и зачастую оплачена невинными жертвами. Горький потом очнется от «минутной слабости» и заявит нечто противоположное своему несвоевременному, надклассовому альтруизму, а бывший революционный морячок И. А. Павлинов станет за участие в Великом Перевороте персональным пенсионером союзного значения. Я хорошо знал его. Человек этот прожил более девяноста лет и умер, можно сказать, случайно, вследствие ложного диагноза, поставленного врачами спецлечебницы. Несварение приняли за воспалительные аппендицитные колики, тогда как аппендикс у Павлинова был удален еще в царское время корабельным врачом, то есть не разглядели профессионалы давнишнего шва и резанули повторно, а ведь на десятом десятке заживает не как на собаке, а гораздо медленнее, ежели вообще заживает. Не зажило. К тому же — больничное воспаление легких. И — финал. А промыли бы желудок, то есть поставили бы клизму, и старик, глядишь, до ста лет дотянул бы. И здесь я вовсе не случайно отклонился от сына к отцу, от производного — к целому, так сказать. Сын революционера читает, перечитывает и даже переиздает стихи Гумилева, расстрелянного революционерами, а сам революционер умирает в клинике для ветеранов революции из-за неправильного диагноза.
А в «бурной действительности» Борис Тайгин продолжал водить по ночным улицам Ленинграда грузовой трамвай, работая вагоновожатым.
Борис Тайгин издавал стихи своих сверстников, и зачастую только его самиздатскими страницами ограничивалась жизнь этих стихов. Почти все написанное мной за годы, когда я не печатался совсем или печатался не слишком часто, более тридцати миниатюрных сборничков — издания «Бе-Та». Но, пожалуй, самое замечательное произошло со сборником Николая Рубцова «Волны и скалы», тоже увидевшим свет в издательстве Тайгина и нигде более. Рубцов представил книжку вместо рукописи, когда поступал в Литературный институт, и многие, глядя на обложку сборника, решили, что в руках абитуриента государственное издание — столь искусна была имитация шрифтового набора на обложке. Об этом тайгинском сборнике ранних стихов Н. Рубцова пишут уже в официальных трудах, посвященных творчеству замечательного стихотворца, который не раз бывал у меня на Пушкинской и даже посвятил тамошним дворам и квартирным трущобам одно из ярчайших своих (и редчайших) городских стихотворений, редчайших, потому что лирику Рубцова никак нельзя назвать городской, хотя и сугубо деревенской — тоже.
Трущобный двор, фигура на углу, Мерещится, что это — Достоевский…Нельзя сказать, чтобы Николай Рубцов в Ленинграде выглядел приезжим чужаком или душевным сироткой. Внешне он держался независимо, чего не скажешь о чувствах, скрывавшихся под вынужденным умением постоять за себя на людях, умением, приобретенным в детдомовских стенах послевоенной вологодчины, в морских кубриках тралфлота и военно-морской службы, а также в общаге у Кировского завода, где он тогда работал шихтовщиком, то есть имел дело с холодным, ржавым металлом, идущим на переплавку. Коля Рубцов, внешне миниатюрный, изящный, под грузчицкой робой имел удивительно крепкое, мускулистое тело. Бывая навеселе, то есть по пьяному делу, когда никого, кроме нас двоих, в «дупле» не было, мы не раз схватывались с ним бороться, и я, который был гораздо тяжелее Николая, неоднократно летал в «партер». Рубцов не любил заставать у меня кого-либо из ленинградских поэтов, все они казались ему декадентами, модернистами (из тех, кто ходил ко мне), пишущими от ума кривляками. Все они — люди, как правило, с высшим образованием, завзятые эрудиты — невольно отпугивали выходца «из низов», и когда Николай вдруг узнал, что я — недоучка и в какой-то мере скиталец, бродяга, то проникся ко мне искренним уважением. Не из солидарности неуча к неучу (в дальнейшем он закончил Литинститут), а из солидарности неприкаянных, причем неприкаянных сызмальства.
Зато, обнаружив кого-либо из «декадентов», сидел, внутренне сжавшись, с едва цветущей на губах полуулыбкой, наблюдал, но не принимал участия и как-то мучительно медленно, словно из липкого месива, выбирался из комнаты, виновато и одновременно обиженно склоняя голову на ходу и пряча глаза. А иной раз — шумел. Под настроение. И голос его тогда неестественно звенел. Читал стихи, и невольно интонация чтения принимала оборонительно-обвинительный характер. Занимался Николай в литературном объединении «Нарвская застава», там же, где и Саша Морев, Толя Домашев, Эдик Шнейдерман (о котором в стихотворении Рубцова «Эх, коня б да удаль Азамата…» в строчках «…мимо окон Эдика и Глеба, мимо криков: „Это же — Рубцов!“»). И здесь необходимо сказать, что тогдашний Рубцов — это совсем не то, что Рубцов нынешний, хрестоматийный, и даже не тот, явившийся в Вологду прямиком из Москвы, по отбытии лет в Литературном институте. Питерский Рубцов как поэт еще только просматривался и присматривался, прислушивался к хору собратьев, а главное — к себе, живя настороженно внутренне и снаружи скованно, словно боялся пропустить и не расслышать некий голос, который вскоре позовет его служить словом, служить тем верховным смыслам и значениям, что накапливались в душе поэта с детских (без нежности детства) лет и переполняли ему сердце любовью к родимому краю, любовью к жизни, терзающую боль разлуки с которой он уже ощутил на пороге духовной зрелости.
Помню, как приехал он из Москвы, уже обучаясь в Литинституте, и, казалось, ни с того, ни с сего завел разговор о тщете нашего литературного труда, наших эстетических потуг, о невозможности что-либо найти, или осветить, или доказать поэтическим словом в наши столь равнодушные ко всему трепетному, иррациональному времена, времена выживания, а не созерцания и восторга. «Ну зачем, кому теперь нужна вся эта наша несчастная писанина?» — спрашивал Коля, одновременно с чрезвычайной настороженностью всматриваясь в меня, в мои глаза, движение губ, жесты рук: не совру ли, не отмахнусь ли от поставленного вопроса, не слукавлю и тем самым не обману ли его ожидания, нуждающиеся в каких-то подтверждениях? А я, помнится, и сам тогда был не в духе, болел от вчерашнего переутомления, и на Колины сомнения ответил какой-то резкостью, потому что не поверил в искренность его сомнений, а решил, что Рубцов, подавшийся в Москву, набивается теперь на комплименты и уговоры остаться на поэтическом пути «ради всего святого» и тому подобное. И предложил ему что-то литературно-расхожее, вроде: можешь не писать — не пиши. А Коля, теперь-то я понимаю, оказывается, был на своеобразном мировоззренческом распутье: в Литинституте он насмотрелся на конъюнктурщиков от стихоплетства, в Ленинграде — на всевозможных искусников и экстремистов от пера, и не то чтобы не знал, что ему дальше делать, а, видимо, еще раз хотел убедиться, увериться, что путь через Тютчева и Фета — то есть не столько через прошедшее, минувшее, сколько через вечное, истинное — избран им правильно, путь как средство, единственно утверждающее его в правах российского стихотворца.
В Ленинграде, примерно тогда же или чуть раньше, прошел своеобразный, единственный в своем роде, а потому запомнившийся на долгие годы Турнир Поэтов. Не помню, кто организовал его во Дворце культуры Горького, чья конкретно заслуга, что под одной крышей на целый вечер собрались тогда все лучшие молодые поэты Ленинграда. Но… собрались. Как в какие-нибудь послереволюционные, двадцатые, в эпоху «Бродячей собаки».
Выступали поэты всех направлений и крайностей, интеллектуалы и «социалы», формалисты-фокусники и натуралисты-органики — такие, как Евгений Рейн и Леонид Агеев, Владимир Уфлянд и Олег Тарутин, Иосиф Бродский и Николай Рубцов, Дмитрий Бобышев и Саша Морев, Александр Кушнер и Виктор Соснора, Михаил Еремин и Яков Гордин, Герман Сабуров и Глеб Горбовский, и еще, и еще, и весь зал, как какой-нибудь итальянский парламент, делился на эксцентрические секторы и секции, аплодируя локально, выборочно, то есть тому или иному направлению в стихописании. Чем-то прелестным, наивно-восторженным пахнуло от этого кипящего и бурлящего мыслями и образами, ритмами и претензиями сборища, повеяло чем-то давним, утраченным, казалось, безвозвратно и вместе с тем вечным, непреходящим, в том числе и заключающим в себе ответ на рубцовские сомнения: нужны ли кому наши поэтические потуги? Нужны, нужны. И не только поэтам пишущим, но и поэтам читающим. Ибо мятущаяся мысль юных мечтателей и философов, а также образная вязь художников, изобразителей всех времен и народов растворена в самих этих народах, и отменить или запретить биение их пульса никто не вправе. Да и не в силах.
О поэтическом братстве того времени говорит и тот факт, что все участники Турнира Поэтов рано или поздно «пересекались» у меня на Пушкинской. Одни — чаще, другие — реже, но все мы бывали друг у друга. И не только участники турнира. Андрей Битов и Юра Шигашов, Володя Бахтин и Борис Вахтин (сын Веры Пановой), Давид Дар и Глеб Семенов, Игорь Ефимов и Кирилл Косцинский, Владимир Максимов и Владимир Марамзин, Владимир Британишский и Саша Кушнер, и Штейнберги, Штейнберги… Даже Станислав Куняев наведался как-то из Москвы или оттуда, где он тогда обитал. А вот Иосифа Бродского у себя почти не помню, хотя наверняка заглядывал и он. У Бродского был свой круг друзей, свое «дупло» имелось.
Гораздо позже, где-то перед самым приездом в Россию американского президента Никсона и перед самым отъездом-выдворением из России в Америку поэта Иосифа Бродского, заглянул я в очередной раз на улицу Пестеля, где рядом с действующей православной церковью Преображения жил будущий нобелевский лауреат. Мне тогда срочно потребовалось прийти в душевное (а также вестибулярное) равновесие, а ресурсы для оной цели оказались исчерпанными, а все средства, ведущие к немедленному исполнению желания (к преображению чисто физиологического свойства), использованными. И тогда, очутившись на Литейном, с секунду поозиравшись и с полсекунды поколебавшись, решил я подняться к Бродскому, чье окно, расположенное в «фонаре» старинного многоэтажного дома, призывно мерцало, ничего, кстати, существенного не обещая, ибо сам Иосиф жил крайне бедно, официальные организации стихов его не только не печатали, но и как бы не терпели, о чем говорит тогдашнее гнусное распоряжение — объявить поэта тунеядцем, судить и выслать его из сиятельного города в промозглую глушь. К моменту, когда я решил небескорыстно навестить Иосифа, поэт из вынужденных дебрей уже вернулся, мы с ним уже неоднократно виделись, и наши с ним стихи были напечатаны где-то в Италии — под одной обложкой сборника русскоязычных поэтов. У Бродского в «фонаре» обнаружил я тогда еще одного непременного участника подобных западноевропейского производства стихотворных сборников, а именно — Сашу Кушнера. И сразу понял, что визит мой, деликатно выражаясь, некстати и что вообще о своем явлении все-таки необходимо предупреждать заранее и т. п.
Ребята сидели при моем появлении скованно, как птицы на жердочках. Я и не знал, что они… прощались. Перед отбытием Иосифа на другую сторону планеты. Вдруг показалось, да и по сию пору сохранилось такое впечатление, что «фонарь», в котором все мы сидели в тот миг, походил на клетку с птицами, которые неожиданно оказались певчими, неожиданно для обладателей клетки, и что птицы поют, но песни их далеко не всем нравятся, тем паче — ласкают слух.
Что же касается «восстановления равновесия» — на бутылку вина мы тогда, все трое, определенно наскребли. Но распивать ее направился я один — в ближайший парадник. И не потому, что мной пренебрегли или побрезговали, а потому, что в атмосфере «фонаря» назревали события более масштабные и непоправимые. В птичьих сердцах бушевала тревога земной, прижизненной разлуки с городом, улицей, «фонарем», почти такой же непоправимой, как и разлука со всем пространством жизни. К тому же в ресторане «Волков», расположенном под соседним зданием на Литейном проспекте, обитатели «фонаря» предполагали в ближайшие часы организовать скромную отвальную, а значит, и в отношении собственного «равновесия» все у них было впереди.
И вот сегодня, ближе к вечеру, когда я осваивал эти страницы «Записок», после почти двадцатилетнего перерыва я вновь увидел Бродского живым — все таким же нервным, грассирующим, улыбчато-настороженным, с остатками рыжих волос на как бы располневшей голове. Бродского «давали» по телевидению в программе «Взгляд». Нажал кнопку приемника, и… вот он, Иосиф, словно и не было меж этим нажатием и нажатием тем (кнопки звонка в его дверь на улице Пестеля) — двадцати лет. И первое, на чем я себя поймал, это улыбка, раздвинувшая мне губы, ответная улыбка Иосифа. И тут же подумалось: «А хорошо все-таки кончилось! С Бродским, и вообще… Выстояли. При жизни. Разве — не милость? Разве — не свет? Перед очередным затемнением…»
Примерно тогда же (перед отъездом Бродского в Штаты) состоялось между нами (Кушнер, Бродский, Соснора, я) как между стихотворцами — отчуждение. Произошло как бы негласное отлучение меня от клана «чистых поэтов», от его авангарда, тогда как прежде почти дружили, дружили несмотря на то, что изначально в своей писанине был я весьма и весьма чужероден творчеству этих высокоодаренных умельцев поэтического цеха. Прежнее протестантство мое выражалось для них, скорей всего, в неприкаянности постесенинского лирического бродяги, в аполитичном, стихийно-органическом эгоцентризме, в направленном, нетрезвого происхождения словесном экстремизме, с которым рано или поздно приходилось расставаться, так как душенька моя неизбежно мягчала, предпочитая «реакционную» закоснелую службу лада и смирения расчетливо-новаторской службе конфронтации и мировоззренческой смуты.
Правда, моему не всегда деликатному стуку во врата поэтического храма и прежде не все доверяли — как «официальные органы», так и негласные хранители поэтического огня в стране. Оглядываясь теперь с улыбкой, вижу, как производились над «поэтическим веществом» моего изготовления умозрительные и литературоведческие анализы, как наводились символические справки, составлялись консилиумы мнений: дескать, а есть ли вообще повод-причина для размышлений, не блеф ли — вся эта «поэтическая конструкция», занимающая у бедных интеллигентов трояки, а то и сдающая во утоление жажды их послепраздничную стеклотару?
В негласных экспертизах и расследованиях принимали участие тогдашние ленинградские спецы от поэзии — такие, как Ефим Эткинд, Наум Берковский, Виктор Мануйлов, Тамара Хмельницкая, Владимир Орлов, профессор Максимов, профессор Борис Бурсов. Привели меня на дом и к Л. Я. Гинзбург, которую я напугал, а вернее — шокировал, показали «лицом к лицу» Анне Андреевне Ахматовой, Борису Слуцкому и даже Евгению Евтушенко. Кое-что из прогнозов, как ни странно, подтвердилось, а кое-что — развеялось. Что и следовало ожидать. Смешно? Пожалуй. Никто, понятное дело, не собирался делать из меня подопытного кролика. Тогда что же — мания преследования? С моей-то стороны? Ее симптомчики? Что ж. Хотя почему бы и не мания очищения? Мания освобождения от себя прежнего, безбожного, беспозвоночного?
По телевидению как-то показывали встречу редколлегии журнала «Нева» с читательской аудиторией одного ленинградского научного института, и я, не вылезающий из своего многомесячного деревенского добровольного отчуждения, с жадностью наблюдал эту встречу, тем более что за столом «президиума» сидели хорошо знакомые мне замечательные люди — писатель Виктор Конецкий, поэт Александр Кушнер, главный редактор «Невы» Борис Никольский, прозаик Житинский, сатирик Мишин, а также известный писатель из Москвы В. Дудинцев, автор давнишнего нашумевшего романа «Не хлебом единым», отдавший «Неве» свой новый роман «Белые одежды». Разговор писателей с читателями, как всегда, напоминал разговор двух иноязычных граждан, к тому же тугоухих и подслеповатых. К проблемам друг друга. Никакого пресловутого взаимопонимания в зале и в помине не было. Хотя всех присутствующих как бы объединяла одна общая идея.
Что ж, думал я, поджав губы от бессилия и невозможности вмешаться в беседу, с жадностью наблюдая за происходящим на экране садоводческого, «списанного» телека, что ж — борьба мнений, расстановка акцентов, неистребимая жажда конфронтации — все это закономерно, присуще, свершается все как бы по извечному сценарию противостояния двух сакраментальных сил — добра и зла. Тогда почему я волнуюсь, с какой стати потерянно озираюсь, будто повинен в нелепой разобщенности людей, не имеющих возможности покорно обнять друг друга и, отрешась от гордыни, простить разом всех, а о себе, грешном — забыть поскорее? Не тут-то было! И волнуюсь я оттого, что сам живу телесно, плотоядно, что сам не отрешился, не простил, не очистился, хотя и пожелал очищения, как, скажем, через час пожелал… чаю. Сделав в направлении раскаяния каких-нибудь полшага. А разволновался — на целую милю. И не оттого ли разволновался, что смотрю на происходящее как бы из прошлого, а точнее — из небытия? На экране все тот же Саша Кушнер, только какой-то приободрившийся, разгоряченный, отказывающийся в пользу перестройки от чтения лирики, приветствующий перемены в стране, какой-то, я бы сказал, незнакомый, деловитый, гражданственный Кушнер, гневный на тех, кто в прошлом обвинял его поэзию в камерности, призывающий в свидетели собственной социальности Мандельштама и Пастернака, нападающий на огорошенного старика Дудинцева, имевшего неосторожность заявить, что Раевский в «Войне и мире» Л. Толстого подставлял под огонь вражеских батарей своих кровных сыночков, на что Кушнер стал выговаривать Дудинцеву горячо, гневно — все-де это басни, мифы и легенда — о сыночках Раевского, а на самом-то деле никто добровольно под вражеские пули и осколки снарядов никого не подставлял и что версия Толстого на его писательской совести, и старик Дудинцев вжал голову в плечи, притих, был смят, и захотелось крикнуть Саше Кушнеру: помилосердствуй, пожалей старика!.. А на экране редактор объявляет, что в числе предстоящих публикаций в журнале будут обнародованы документы приснопамятного процесса, когда в Ленинграде судили Иосифа Бродского за тунеядство. Словом, ничто достойное восхищения не исчезает в этом мире бесследно, рукописи не горят, тем паче — истинная поэзия, и что никакой такой непоправимой разлуки в поэтическом «фонаре»-клетке на улице Пестеля много лет тому назад не происходило, просто вышли все из того времени малость проветриться — и опять все стало на место. А может, и впрямь — ничего не было? Ни жертвенного трояка никто не вручал, и никакое дрянное винцо в параднике не распивалось?
Я пишу эти строчки в десяти метрах от сельского кладбища, на котором примерно раз в месяц кого-нибудь хоронят. Иногда — с так называемой музыкой, с оркестром. И пьяненький барабанщик невпопад ухает колотушкой в отсыревшую кожу своего «струмента». Голосят незнакомые женщины. Причем незнакомый, посторонний плач по чужому покойнику все реже вызывает у меня страх или глухое раздражение, и все чаще — смиренную оторопь. И, сидя в избе за пишущей машинкой, отбиваясь от назойливой осенней мухи, начинаешь сдержанно сходить с ума, вглядываясь в эту муху и одновременно задавая вопрос: почему она садится на меня, на мое теплое еще тело, а не на шкаф или пластиковый абажур?
И почему все-таки гневаемся мы на оторопелых «гуманистических старичков», отмахиваемся от них порой, как от назойливых мух, топаем на них ножкой, почему призываем собратьев не к созиданию, а к разрушению, не к воспитанию, а к восстанию, не к постепенному очищению, а к скоропалительному перевоплощению? Не оттого ли, что закваска у нас всеотрицающая, а поведение — общинно-стадное, ясельно-детсадовское, дружинно-школьное, что организм нашей жизни обезбожен — по аналогии с обезвоженным, то есть обреченным организмом?
И все-таки… как сказал бы непридуманный, неподдельный гуманист Владимир Галактионович Короленко, представитель редчайшей категории людей с мужественной, незамутненной совестью, все-таки впереди — огоньки! Огоньки неизвестности, огоньки вероятности, если и впрямь — не огоньки Веры. И значит, кому-то нужно, чтобы на бруствер, рядом с отцом, пусть в мифе, пусть в очередной легенде, вставали и его сыновья, способные любить, причем не только себя, но и других.
27
На мой взгляд, среди русскоязычных писателей есть прозаики и поэты, сочиняющие свои произведения как бы для других, более эрудированных, интеллектуально совершенных народов, пусть даже — не существующих в природе. Представляю, как маются они в минуты отчаяния на ниве русскоязычного сочинительства и читательства, не смогшего до конца переварить даже славянофильствовавшего, православнейшего Достоевского, как изнывают они порой от вынужденного незнания английского или французского, как изо всех сил стараются выглядеть на бумаге европейцами или, на худой конец, японцами, индусами, как клянут свою мыслительную закваску, ноздреватое, ржаное тесто своих стихов или прозы, взошедшее на лингвистической опаре расейских вульгаризмов, архаизмов и прочих «скобаризмов» крестьянско-равнинного или дремуче-лесистого происхождения.
Так или примерно так рассуждал я до некоторых пор, не смея предположить, что человек в той или иной стране может и вовсе как бы родиться иностранцем, и что ничего необычного в этом нет.
Сами посудите, сколько среди нас, ну хотя бы среди нас, русских, таится подспудных немцев — пунктуальных аккуратистов, с тем или иным, не обязательно генноприобретенным философским уклоном, а сколько пробуддийски созерцательных, откровенно мечтательных, но чаще сосредоточенных индусов, или сдержанно улыбающихся, себе на уме, японцев, деловито-раскованных, распахнутых, кующих денежку американцев, скептически-изящных, духовно респектабельных англичан, по-украински певучих, по-грузински горячих итальянцев, скорбных, однако не унывающих, башковитых евреев, скандинавски сдержанных, склонных к одиночеству норвежцев или финнов? Продолжать ряды? Или поставить спасительное «и т. д.»?
Земля под нами круглая, к тому же еще и вертится: нравы, характеры, пристрастия и надежды имеют свойство сливаться, объединяться, структурно перемешиваться, как ветры или магнитные бури или, не дай бог, ядерная зима, способные лететь вокруг планеты, обволакивая ее всеми своими глобальными признаками и региональными частностями.
Казалось бы, все, измысленное на русском языке, и литературные сочинения в первую очередь (а речь здесь идет именно об этом роде человеческой деятельности), хорошо бы для начала беспрепятственно воспринять тому, кто на этом языке воспитан, кто исповедует его нравственную миссию. А там уж пусть произведенной продукцией пользуются иноязычные народы. И вдруг спохватываешься: а есть ли вообще смысл производить (красоту, мысль, мораль…) пусть даже истинную поэзию, пусть шедевры, когда на них-де отсутствует спрос? Во-первых, не отсутствует. Во все времена. Во-вторых, оказывается, не только за неимением спроса, но даже при полном отсутствии смысла работа мастера не прекращается. Так как есть еще — зов. Призыв — быть самим собой. В частности, художником-литератором, пусть неудобным для чьего-то восприятия. Призыв к возвышению духа.
А что касается оппонентов, в частности — явных или тайных противников «творческой интеллигенции», производящей не хлеб и мясные продукты, не станки, не бумагу, не горючие материалы и т. п., а всего лишь — вышеупомянутую «красоту», то можно было бы их, этих оппонентов, как всегда, проигнорировать, смириться с их ненавистью, как, скажем, смиряется наше сознание с возникновением в окружающей атмосфере дождя или ветра, мороза или северного сияния — стерпеть, не заметить, свыкнуться и пережить. Как очередное ненастье, как не зависящую от наших умозаключений неизбежность.
Однако позволю себе на этот раз не стерпеть и как бы… взвыть от боли. Как если бы вдруг пошел град величиной с куриное яйцо и дал мне таким ледяным яйцом по мозгам.
В газете «Труд» за январь 1989 года наткнулся я на читательское письмо под названием «Музейный бум». Редакция газеты оговорилась, что у нее в отношении этой публикации свое мнение. Однако не отклонила, тиснула. И это хорошо. Ибо пора писателям и прочим «производителям красоты» привыкать и к резким запахам, в отличие от прежних, застойных фимиамов. Это я к тому, что статья в «Труде» презабавная, кусачая, но кусачая не по-собачьи, а расчетливо. Наскок ее запрограммирован на ответный лай, его можно было бы не замечать, но в наскоке затрагивается проблема, рожденная в «стране коллективного труда», в стране «народных масс», а не в государстве свободных личностей. Суть вышеназванной статьи — отношение государства и народа к «людям искусства», которые, по мнению автора, стоят вне народа, а точнее — висят на его шее. Этакие, дескать, отщепенцы, а может, и вовсе инопланетяне. Прилетели, а вернее — свалились на голову труженикам, и ну рисуют, лепят, стишки рифмуют, музычку вымурлыкивают, на скрипочках… саднят душу. Но — приступим к цитированию некоторых соображений В. Булыгина, военнослужащего, автора «Музейного бума».
«Редкая газета, журнал обходятся нынче без сообщений об очередной победе в области культуры, связанной с открытием, созданием, реставрацией, проектированием, „спасением“ нового музея, усадьбы, особняка, дачи, дома великого писателя (композитора, художника, поэта). Много лет создавали музей Шаляпина (даже страшно подумать — человеку, который изменил Родине!), а что он реально сделал для Отечества?» И далее — о реставрации памяти дорогих всем мест: «Для чего? Кто заинтересован в том, чтобы истратить сотни миллионов рублей? Восстанавливаются очередные комнаты Блока, Лермонтова, создается музей декабристов…»
«Что самое ценное в нашем обществе? — спрашивает Булыгин. И справедливо отвечает: — Здоровье трудящихся. Так почему эти музеи лучше, богаче любой больницы, пансионата? Тут и хрустальные люстры, и пышные дорожки, и кондиционеры, и бдительное око смотрителя. Для черновиков стихотворца это важно. А вот трудящиеся пусть подождут». И на самом деле — почему? Почему в музеях не отвинчены дверные ручки, не разрисованы пальцем стены, не изрезаны столы, не разбита люстра, не испачкана гуталином ковровая дорожка, как где-нибудь в профсоюзном пансионате? Не потому ли, что бдительная охранница-старушка, получающая шестьдесят целковых, относится к порученному ей совестливо? «Наступлением на полезную площадь» называет Булыгин открытие новых музеев, а ведь многие из них существуют на общественных началах. И разве это плохо, что люди заняты именно такой вот деятельностью, а не повальным пьянством, завистью, «коллекционированием» венерических болезней и т. п.?
Булыгин пишет далее: «Ну, нет же у тысяч героев-революционеров, героев труда, ветеранов гражданской и Великой Отечественной войн, полководцев, действительно любимых и уважаемых трудовым народом, таких пышных музеев. Наверное, потому что не было у них особняков, дворянских гнезд, полян, пенатов…» Во-первых, у многих полководцев и революционеров, героев и других любимцев народа музеи и прочие памятные знаки есть. А во-вторых, кто не велит энтузиастам, и товарищу Булыгину в том числе, бороться за создание таковых музеев на общественных и прочих благих началах так же, как это делают почитатели Пушкина, Достоевского, Чайковского, Маяковского, Есенина…
А Булыгин продолжает о своем. В Москве открыли музей скульптора Голубкиной. И автор негодует: «сделала горельеф на здании театра. Но ведь не бесплатно и в рабочее время. И потом, не реактивный же двигатель она изобрела, не 400 боевых вылетов сделала!»
«Пройдите по лучшим районам Москвы, то и дело на домах можно увидеть памятные доски. Здесь жил скульптор, писатель, а здесь поэт, а в этом доме сразу несколько: и художник, и драматург, и артист. И почему-то не найдешь барельефов с надписями: здесь жил сталевар, выплавивший столько-то миллионов тонн стали, здесь — шофер, который перевез миллионы тонн груза, здесь — доярка, учитель, там инженер, токарь». Да, барельефов, может быть, и не найдешь в центре Москвы — дояркам, шоферам, сталеварам, представителям других профессий, а вот памятников-бюстов по родной земле — сколько угодно, ровно столько, сколько у нас дважды Героев. А их, слава богу, немало.
Есть, есть, конечно, и много резонного в статье Булыгина, не все писатели-художники достойны музеев, не все актеры и композиторы — мраморных досок, но речь-то у Булыгина идет о Шаляпине, Лермонтове, Толстом, Тургеневе, Пастернаке (идет или подразумевается), то есть о людях, по чьим именам судят в мире о нашей нации, о ее, так сказать, интеллектуальных возможностях, гениальных прозрениях, художническом полете фантазии… И нужно радоваться, а иногда и гордиться, что в нашей стране столько замечательных людей — было, есть, будет.
А вообще-то, ежели по большому счету, то и впрямь не сотвори себе кумира. Согласен. Суета сует. Пусть бы так, на худой конец: ни этому, ни тому — никому! Но ведь автор своих кумиров выдвигает, своих соискателей на «степень бессмертия» предлагает. Взамен тем, которые — от искусства, от красоты, то есть, по мнению Булыгина, от чепухи.
И все-таки хорошо, что — гласность. Что могут высказываться все. Или — почти все. И современные Верховенские с Шигалевыми пусть нет-нет да и выскажутся. Подпустят… дымку. Сколько еще любителей испортить моральную атмосферу, нашалить, а самим с безопасного расстояния — наблюдать, как «просвещенное общество» морщит нос. И ведь знают сии любители, что по большому счету они не правы, что движет ими злоба и зависть, неоправданные надежды, и тогда, отчаиваясь, в провокационных целях, начинают «подкладывать мины» под нравы цивилизованного общества: авось кому-то по душе придется. И наверняка придется. Живущих, как сказал в «Бесах» Достоевский, «во имя равенства, зависти и… пищеварения» и в наше время не так уж мало.
В заключение — о «материальных средствах», которые будто бы «аристократы духа» и прочие художники заимствуют у трудового народа за «так», то есть безвозмездно. Как-то даже неловко напоминать товарищу Булыгину, что профессиональные «деятели искусства» производят свою продукцию, имеющую спрос на потребительском рынке и, если считать «на круг», с лихвой окупают себя, принося к тому же немалый доход в общегосударственную казну. Не тунеядцы они, товарищ Булыгин, а равноправные граждане. Даже валюту от «загнивающего Запада» способны откачивать современные «искусники», не говоря уж о классиках. Так что не такие уж и хлипкие интеллигенты. К тому же большинство из них в свое время, как и вы, товарищ Булыгин, служили в армии Отечества — и Лермонтов, и Денис Давыдов, и Мусоргский, и Афанасий Фет, и Лев Толстой, и Александр Блок, и многие другие. Правда, служили они в русской армии, но что поделать, такие уж были времена. Приносить пользу «прорабы духа» способны ничуть не меньше, чем некоторые из военнослужащих в мирное время. Во время же военное, «тотальное», не дай бог ему повториться, все мы, и художники призывного возраста (и не только призывного), все мы тогда — солдаты Отчизны. А то, что «художники» помимо приношения «существенной пользы» попутно занимаются всяческой «отсебятиной» в виде поисков смысла жизни или отыскания в хаосе мировоззрений себя грешного, то есть, выражаясь языком булыгиных, оригинальничают — тут уж, как говорится, не без профессиональных издержек, не без специфики жанров, не без характерных личностных отклонений.
Отклонился и я. От преднамеченных забот.
28
Итак, о внутреннем писательском «иностранстве», которое правильнее будет именовать как-нибудь иначе, скажем гипер- или суперинтеллектуализмом. То есть речь о тяге некоторых писателей к сверх- или над-искусству, в отличие от писателей традиционных, не имеющих оной тяги, пребывающих как бы на постоянно-обусловленном уровне творческих возможностей.
Так что речь в дальнейшем вовсе не о людях определенной языковой формации, ставших по переселении в другие страны (их или родителей) «новоязычниками», не о Соломоне Белове, ныне Соле Беллоу, не об Айзеке (Исааке) Азимове или бывшем армянине Уильяме Сарояне, даже не о Набокове, писавшем часть своей жизни на английском, и не об Иосифе Бродском, сочиняющем на том же английском свои статьи (стихи-то он как писал, так и пишет их на ленинградско-петербургском), и уж, конечно, не о Гоголе, перебравшемся из Малороссии в «кацапские» столицы, я здесь — о другом, скорее — о природных оттенках и акцентах, о некой интонационной космогонии в творчестве известных мне лично писателей, а также о некоторой как бы несвоевременности отдельных талантов, изъясняющихся с читателем как бы из будущего, не на языке предков и потомков и даже не на современном жаргоне, а как бы на неведомой нам скороговорке и мутнописи грядущих поколений. Так что и речь идет, пожалуй, не об иностранном, а всего лишь — о странном, иновременном. Причем впечатления зиждятся больше на субъективных ощущениях, нежели на обоснованном умоанализе.
Повторяю, конкретный пример хочется привести не из литературных анналов, а непосредственно из живой жизни, благо на моих глазах возникали, мужали интеллектуально и даже становились известными кое-кто из писателей, ныне признанных критикой, с которыми я — как бы с одного поэтического подворья или проулка, из одного литературного детства.
Назову хотя бы того же Александра Кушнера или Андрея Битова. И тут же улыбнусь: это Кушнер-то «иностранец»? Ни боже мой. Не пишет о березках, не умиляется избяным духом, не вздыхает сердечно над непролазным бездорожьем Нечерноземья? Что же, Кушнер — городской житель. Его взор ласкают чугунные ограды, гранитные парапеты, парковые аллеи, петергофские фонтаны, петербургские каналы, Сомов и Добужинский; красивое видит он в прекрасном, так ему сподручнее. Но интонация его стихов — здешняя, тутошняя, из «серебряного века» российской поэзии; такие «иностранцы», как правило, дальше Царского Села не уезжали (Иннокентий Анненский), российской глубинки да и глубины не то чтобы не любили — просто не ведали. А чего не знаешь, того ни вдоволь любить, ни как следует ненавидеть — не можешь. Порой не путаем ли мы в запале полемик пресловутую «иностранность» с элементарной повседневной интеллигентностью? Лапти — с галошами? Козью ножку — с гаванской сигарой? Дескать, коли в очках да в шляпе, значит — американец?
В Кушнере как в поэте если что и раздражает меня, то не какой-либо изъян, а, пожалуй, одно из достоинств его дарования: в своем развитии (как движении) он слишком, на мой взгляд, ровен, постоянен, последователен, его никуда от намеченного пути не заносило, то есть он практически не ошибался. Отсутствие лабиринта. Его линия — не синусоида, не ломаная или кривая, не пунктирная. Он — луч, отходящий, в свою очередь, от луча. Не ветвь.
Ретивые блюстители поэтических нравов поэзию Кушнера до середины восьмидесятых и впрямь частенько укоряли в мелкотемье, приписывали ей невразумительный грешок камерности, однако же книги у поэта выходили регулярно, журналы и альманахи «глухой» поры «бесконфликтную», несвоевременную лирику современного акмеиста печатали с удовольствием, ничего «иностранного», тем паче диссидентского в самиздате или за кордоном у него не выходило, вся «поэтическая продукция» мгновенно раскупалась читателем, принималась издателем. Каждая строка поэта шла в дело. Потому что была истинно поэтична. Дарование Кушнера встречалось ворчанием, а порой и зубовным скрежетом оппонентов, но принималось неотвратимо. Принималось еще и потому, что по закваске, по срокам и сокам своим было оно «здешним», традиционно-постижимым, литературно-родимым, ожидаемым, чего, к примеру, не скажешь о нынешней (поздней) прозе Андрея Битова.
Как стихи Кушнера, прозу Битова можно было бы поименовать «пищей для интеллектуалов» и на том успокоиться. То есть подобрать поясняющий ярлычок, подвесить толковую бирку и заняться своими проблемами. Во всяком случае — чем-то более сподручным. Феномен битовского словомыслия, магия интонации битовских словосочетаний вот уже четверть века не дают моему «воспринимающему устройству» не только относительного читательского умиротворения или покоя, но и не отпускают от себя, держа и обволакивая незримыми волнами мое честолюбие, мои вялые возможности пробраться к битовской истине или хотя бы правде, расслышать мотивы его претензий к существенному миру или к идеальным его аналогам.
Вчитываясь в прозу Битова, в том числе и в прелестные ранние рассказы с Аптекарского острова Петроградской стороны, а также вслушиваясь в его устную речь, порой мне сдается, что я перестаю улавливать логику происходящего в этих рассказах и только слушаю музыку слов, а порой как бы и вовсе схожу помаленьку с ума, и тогда мне кажется, что «умный» Битов становится умней самого себя и, похоже, заговаривается, а в моем мозгу происходит захлеб и удушье битовской фразой и что вообще писатель с одного способа мышления постепенно перебирается на другой способ, приглашая уже не столько на беседу, сколько — в следующую, еще не свершившуюся действительность.
Битовская модель видеть «окружающее и наполняющее» сквозь свою обволакивающую прозу, его непридуманная манера мыслить размазанно, пластически-вязко, даже неотвязно, с давних пор представляется мне движением одинокого пловца среди волн житейской пустыни, когда пловец вот-вот захлебнется, но вновь и вновь голова его маячит над поверхностью; одиночество для таких пловцов — не трагедия, не печаль вовсе, а почти мировоззрение, даже религия — религия для неверующих интеллектуалов, лжевера, чье экзистенциалистское облако, как смирительная рубаха, способно преждевременно окутать бунтующую душу, не посулив взамен ничего существенного, кроме одиночества запредельного, внеземного — потустороннего.
И такому вот сосредоточенному, с головой ушедшему в себя человеку, как Андрей Битов, пришлось однажды пуститься в длительное путешествие из Ленинграда на Камчатку — на пару со мной… В двух словах расскажу теперь, что из этого вышло.
Началось неудачно, с постоянно ожидаемой и всегда почему-то нежданной подножки Аэрофлота: в память прочно впечаталось многосуточное сидение в аэропорту, в тогдашнем, начала шестидесятых тесном аэровокзале Ленинграда, устланном измученными, повергнутыми навзничь людьми. Согласитесь: в лежачих, валяющихся человеческих фигурах, особенно когда их много, очень много, есть что-то противоестественное, даже трагичное, даже если над павшей, униженной толпой не свистят пули или нагайки — все равно жутко, ибо человеку пристало стоять; согласитесь: никем, даже Дарвиным, как дважды два четыре не доказано, что люди в свое время передвигались на четвереньках, — кто видел, кто наблюдал их в подобном состоянии? Неуклюжие, обидные домыслы. Мазохистского характера. На четвереньках передвигались не люди, а всего лишь четвероногие (четверорукие?) приматы.
Россия — очень «длинная» страна. Покрыть ее многотысячекилометровую протяженность предстояло нам под покровительством Союза писателей: правление оплатило расходы на командировку двум молодым авторам. Общие, на двоих, командировочные денежки с обоюдного согласия в целях сохранности на время поездки решили держать в бумажнике прозаика, в коем, неизвестно почему, подразумевался более трезвый взгляд на жизнь и сугубо практические навыки. До сих пор при воспоминании об этой поездке у меня дрожат руки, и мне хочется причинить себе какую-нибудь неприятность в возмещение морального ущерба, причиненного мной задумчивому, сосредоточенному человеку, хочется покраснеть, и нет для этого былой возможности: подача крови ослабла, сосуды пообленились, энергия раскаяния подыссякла.
Трое суток муторного томления в аэропорту явились для нас обоих своеобразной пыткой еще и потому, что каждые час-полтора принимался я выклянчивать у Андрея очередную рублевку на порцию буфетного коньяка, причем занимался этим не столько от нечего делать, сколько от действительно скверного самочувствия, вызванного застарелым, дополетным упадком сил. Андрей в рублях не отказывал, так как знал мои тогдашние навязчивые способности хорошо — и психологические, и в быту, и буквально «по книгам», которые по моей инициативе неоднократно приходилось ему умыкать из родительского дома, из семейной библиотеки, когда мы прятали что-нибудь тонюсенькое, но дорогостоящее, под брючный ремень и относили в букинистический, чтобы затем воздать авторам этих книг по силе возможности.
А тогда в аэропорту Битов лишь старался регулировать мои действия, с жадностью прислушиваясь к голосу дикторши, с отвратительным спокойствием объявлявшей об очередном переносе нашего сверхдальнего рейса. В буфет меня — не сопровождал. Терпел, держался. А я, из благодарности за его стоицизм, покупал ему крошечную бутылочку лимонада. На сэкономленные пятаки. Как сейчас помню ярко-пунцовую окраску того дипломатически-примиренческого напитка и нестандартных размеров бутылочки, в которых этот напиток содержался, тревожно сигналя о том, что дорога предстоит затяжная, дальняя и что хорошо бы не надорваться еще до старта.
Трудно предположить, что Андрею тогда было легко со мной, что ему нравилась моя озабоченность или стихи, сварганенные прямо на вокзале и которые порывался я декламировать. Чей-либо прилюдный кураж может развлечь, но — не убедить. Но вот что удивительно: когда десять лет спустя мне таки удалось справиться со своей затянувшейся жаждой, многим из наблюдавших меня в роли непросыхающего шута такой крутой поворот дела не только не понравился, но как бы даже многих весьма разочаровал. Теми, кто делает окололитературную погоду, был моментально вынесен приговор, что стихотворец кончился, потому что писать стихи в трезвом состоянии духа, вне бродяжьей печали, ночуя не на вокзальных скамейках, а на диване в собственной квартире, да еще под наблюдением трезвой жены — противоестественно, а стало быть, и противопоказано. Расхожая догма, навязанная литературными рассудителями, велит: быть поэтом (слыть?) истиннее всего где-нибудь под забором или под запором, голодая или замерзая, томясь или бесчинствуя, пьянствуя или нищенствуя, а то и с петлей на шее, то есть в состоянии униженном, а не возвышенном. И рассуждают об этом люди, как правило, благоустроенные, одомашненные, предпочитающие вийоновской или есенинской петле благонадежный фирменный галстук. А подзаборным не до того-с. Оно, как говорится, конечно, страдать художнику необходимо, да и чья, пусть даже самая прохладная в художественном смысле судьба обходится без отпущенных на ее долю разнообразных, неповторимо-индивидуальных переживаний, страстей, а то и — мученичества? Задача, на мой взгляд, не в подсчете и квалификации выстраданного, а в постоянном высвобождении из паутины этих страданий, то есть все в том же неистребимо-необходимом самосовершенствовании. Не погрязать в сладчайших муках самолелеяния, как бы горьки эти муки ни были, а, поднявшись над ними хотя бы на мгновение, оценить обстановку, соразмерить душевные силы с силами противоборствующими и непременно, хотя бы на микронную долю смысла, возвыситься над собой прежним, определиться, сориентироваться на путеводную звезду. Не обязательно шести-пяти-восьмиконечную — не в количестве лучей суть. Важно, чтобы продлевала она путь твоей веры, твоего очищения, твоего освобождения от мнимых ценностей.
На Камчатку влекло тогда отнюдь не любопытство, не гончаровско-обломовская любознательность затхлых петербургских сибаритов, у которых не было своего фрегата «Паллада», не экзотическая Долина гейзеров; нацелились мы туда не за стихами и рассказами; псевдоромантической перевозбудимостью не страдали. Виновата была опять-таки звезда-ориентир, имя которой… Генрих Штейнберг. Под его научным наблюдением на полуострове, словно стадо вымирающих бизонов, находилось энное количество действующих, спящих, а также окончательно окоченевших, потухших вулканов. Пасти скотинку менее внушительных размеров наш друг-супермен не находил нужным.
Ошибались думающие, будто Генрих любил всего лишь прихвастнуть своими вулканами. Он ими гордился. Как родители гордятся своими красивыми здоровыми детьми. Гордился и желал, чтобы на его красавцев взглянули многочисленные друзья детства, юности, а также более зрелой жизненной поры сотоварищи.
В Петропавловске, отметившись где положено, поспешили мы под опеку вулканологов, и все бы обошлось, не поступи в наш адрес сколь радушное, столь и коварное предложение от местного телевидения — принять участие в передаче «Наши гости». Теперь-то мне ясно: от лукавого предложение исходило. Колебнувшего в нас честолюбивую струнку. А не от одного только доброго отношения к нам тамошних властей. Приключился соблазн. Соблазн неокрепшего духа молодых сочинителей прелестью славы, не ведавших, что приставка «тще» перед этим величественным словом неизбежна.
Необходимо теперь добавить, что, оказавшись у подножия Авачинской сопки, мы сразу же окунулись в теплые (термальные!) волны вулканологического гостеприимства и напрочь позабыли о призрачном влиянии на себя телевидения. Работники оного разыскали нас в общежитии перед самым выходом в эфир, минут за тридцать до начала передачи. А телестудия в Петропавловске располагалась тогда на сопке Любви. И вот, прямо от стола, то ли свадебного, то ли деньрожденческого, мы понеслись в гору, подталкиваемые в спину наиболее устойчивыми спутниками-добровольцами. Передача объявлена по радио и в газетах, пойдет на экраны «живьем», без предварительной записи, так что взлететь в гору к началу теледейства нужно было во что бы то ни стало. И — взлетели. Страшно запыхавшиеся, раскрасневшиеся. И режиссер поблагодарил нас за усердие, слегка припудрив нам физиономии, и мы поместились на стульях перед камерой, теребя машинописные тексты своих «гениальных» сочинений.
Андрюша отчитался благополучно. Его стеклянная проза мельчайшими брызгами просыпалась на отдыхающие, расслабленные после трудового дня органы восприятия телезрителей, как марсианская музыка: никто ничего не понял, однако все что-то такое ощутили. Да и как же иначе: задумчивый, сосредоточенный человек делился своею тайной — тайной творчества. Отдавая свое кровное на растерзание потребителей. Как сказал в «Чевенгуре» Андрей Платонов, «…беседовать самому с собой — это искусство, беседовать с другими людьми — забава». (Кстати, кто прежде — Заболоцкий или Платонов, «Столбцы» и «Торжество земледелия» или «Происхождение мастера», весь «Чевенгур»? Пожалуй — одновременно! То-то и оно: интонация времени. Под нее не подделаешься. В ней необходимо вариться и петь самому.)
Андрюша отчитался, камера поехала на меня. Стихи, которыми я собирался вернуть граждан Камчатки из области битовских грез в русло действительности, выпархивали из моих разгоряченных уст одно за другим, и тут я на всем скаку остановился в чтении, едва не вылетев из седла, то бишь едва не упав со стула, с запозданием сообразив, что никто меня в эфир давно уже не «посылает», не транслирует, что милая дикторша успела шепнуть в микрофон: «Передача „Наши гости“ отменяется по техническим причинам», что во время чтения стихов из моего послесвадебного рта, вместо очередной рифмы, вылетела рыбная лососевая чешуйка и опустилась на телеобъектив, сделав изображение «картинки» волнисто-морозным, заиндевело-непотребным. И что на студию поступили возбужденные звонки от зрителей, в том числе и от одной влиятельной дамы, чьей-то высокопоставленной супруги, которой передача «Наши гости» показалась несколько странной и своеобразной, особенно после того, как я прочел стихотворение «Навеселе».
Навеселе, на дивном веселе я находился в ночь под понедельник. Заговорили звери на земле, запели травы, камни загалдели! А человек — обугленный пенек — торчал трагично! И не без сознанья, как фантастично был он одинок, заглядывая в сердце мирозданья… Навеселе, на дивном веселе я спал и плакал, жалуясь Земле.Примечательно, что тогда же, в начале шестидесятых, этому стихотворению досталось и от «Вечернего Ленинграда». Фельетонист, наверняка штатный и весьма рьяный, наткнулся на сии «аморальные» вирши в книге автографов кафе поэтов на Полтавской улице, которые я начертал однажды на страницах гроссбуха по просьбе администрации. В том же фельетоне, помнится, приводились выдержки из стихотворения-автографа Виктора Сосноры: «Пошел я круто — пока, пока! — прямым маршрутом по кабакам».
Короче говоря, камчатская передача «Наши гости» потерпела в Петропавловске шумное фиаско. И главным образом — из-за того, что ее прервали на полуслове. Именно это и насторожило всех. А так ведь поди разберись, кто у нас пьяный, а кто просто ненормальный. И пошли толки: «Видели вчера по телеку: настоящие пьяные выступали», «Один со стула упал, а другой — в телекамеру плюнул».
Последовало официальное решение: гражданину Г. и гражданину Б. в двадцать четыре часа покинуть пределы Камчатки. Решение было категоричным, хотя и устным, исходило от секретаря по идеологии. До милиции дело не дошло: вовремя улизнули.
Вероятно, заметили, что в своих «Записках» я совершенно не изображаю «окружающей обстановки», в частности — не выпячиваю камчатских красот природы, коих не счесть? За подобными деталями отсылаю вас к повести Андрея Битова «Путешествие к другу детства». Там всего предостаточно. А в мою задачу входят не столько объективные подробности, сколько субъективные частности — такие, как прозаик Андрей Битов и экстремальные условия жизни, вулканолог Генрих Штейнберг и саморегуляция научного честолюбия, стихотворец Г. Г. и отсутствие мировоззрения, а также немотивированное пьянство — как следствие вышеупомянутого отсутствия. И кое-что еще в том же духе. Но именно — в духе. Словом, книга сия вовсе не копилка примет, а скорее — коллекция признаков (не путать с призраками).
Скажем, на днях, придя к отцу, обратил я внимание на то, как захламлен его письменный стол. Стол бывшего учителя-педанта, дотошного некогда аккуратиста, на столе которого в свое время каждая бумаженция, карандаш или перышко — все знало свое место, и вот — беспорядок, запустение, насланное недавней болезнью отца. И только девять томов Владимира Соловьева высились отчетливой, хотя и лохматой стопкой, переложенные закладками, испещренные восклицательными знаками и подчеркиваниями — в них, в этих томах философа — судорожный поиск отцом Последней Истины, занесенной в мир Иисусом Христом и его учениками-апостолами, апологетами и прочими исповедователями и толкователями, очарованными и разочарованными, воспарившими и тонущими в догадках и ощущениях, в сомнениях и надеждах, в опыте посторонних, давно исчезнувших с лица земли существ. Книги и еще… лекарства, которые будто бы необходимо принимать, но которыми отец чаще всего пренебрегает, как бы откладывая впрок. Остальное на плоскости стола — в состоянии хаоса.
Время от времени отец извлекает откуда-то старинные фотографии, мятые, с обломанными углами, беспризорные, — альбомов отец не признает. Достает фотографии и раскладывает их на столе поверх прочего праха. Своеобразный пасьянс из отгоревших и все еще тлеющих людских судеб. И вот, придя в очередной раз к отцу, я застаю этот пасьянс неубранным. Мое внимание привлекла фотографическая карточка-визитка, на ней — лицо незнакомой девушки с темной косой, на лице вместо улыбки — тень страдания.
— Кто это, — поинтересовался я у отца, — вот эта… грустная?
— А-а… — улыбнулся он тотчас же после того, как я поднес фотоснимок к его очкам. — Это Наташа. Моя довоенная ученица. Наташа Мандельштам. Погибла в блокаду. Или нет… Ее, кажется, вывезли. Умерла где-то в Сибири. Кто-то сообщил, что умерла точно. Умница была необыкновенная. Однако приглядись: у нее лицо чахоточной. Не жилец. Сразу видно. В классе, когда все шумят или умничают — не разобрать. А на фотографии обреченность сразу проступает, обозначается.
— Фамилия у нее известная.
— Она поэту Осипу Мандельштаму — родная племянница, — уточняет отец. — Дочь брата. А как она читала пушкинский «Анчар», диву все давались… Кстати, с поэтом Заболоцким я вместе обучался в Герценовском. Только Заболоцкий на курс старше меня. Но все уже знали, что — поэт, хотя и не похож. Пушкин похож, Есенин похож, Блок… А Заболоцкий — больше на учителя. На простого человека.
Вот такие признаки своего времени, такие признаки с захламленного стола одной частной жизни.
Отважный Штейнберг тайком от консервативно настроенного начальства посадил нас в приданный его отряду биплан и переместил из Петропавловска в глубь Камчатки, к подножию Ключевской сопки, где в распоряжении вулканологов, помимо станции, имелись жилые помещения, в том числе — маленькая гостиница, где мы сразу же стали играть на бильярде. Время от времени происходили землетрясения. Одно-два в сутки. К той поре мне уже доводилось живать вдали от так называемой цивилизации с ее дымными городами, например, я уже хаживал с геофизическим прибором по обгоревшим сопкам и мерзлотным болотам Северного Сахалина или в горах Верхоянского хребта Якутии, где якобы не ступала нога человека — поди проверь; и вдруг на самом краю континента, у входа, можно сказать, в трубу дымоходную преисподней или в утробу земную, у врат, ведущих в пылающее лоно планеты, обнаруживается… бильярд! Правда, с металлическими стальными шарами, вроде подшипниковых, каких сейчас уже нигде не увидишь, даже в затрапезной воинской части.
Вначале мне просто нравилось находиться в подобных малообитаемых местах, затем я совершенно искренне полюбил время, отпущенное судьбой для проживания среди этих остатков земной первозданности. Особенно восхищали безлюдные горы Якутии. Летом гребни их не слишком высоких гряд освобождались от снега, и тогда обнажались звериные тропы, утрамбованные миллионами бараньих копытц, топтавших на протяжении тысячелетий базальтовую твердь. По тем тропам можно было ездить на велосипеде или мотоцикле, если эту технику, скажем, сбросить туда с вертолета. Мне доставляло необъяснимое удовольствие — подобрать на тропе лёжку покрупнее, этакую вмятину, отшлифованную бараньим бытием, где снежный красавец с антеннами рогов отдыхает в своих переходах с одной горной цепи на другую, подобрать и вдруг самому лечь туда же, хотя бы на несколько минут свернуться клубком, поджав под себя ноги и руки, и так лежать, прислушиваясь к матери-земле, к небу, к прозрачным потокам, бегущим с водоразделов среди многочисленных каньонов Верхоянского хребта. В эти никем не нарушаемые мгновения сверхпокоя, когда разумные существа находятся от тебя достаточно далеко, а принимаемые нами за неразумных — помалкивают, занимаясь своим извечным делом, необъяснимый восторг причастности к чему-то торжественно-божественному, непреходящему проникал в клетки и соки моего существа, пронизывая мозг, сердце, кровь, нервы радостью вечной жизни, и страх земной тщеты и бессилия отступал, уходя в глубь горы, тонул в ее недрах и гас в душе. Свистел ветерок над головой, маячили поодаль вершины, покрытые нетающими шапками, и вдруг, принимаемый за большую птицу, пролетал в стороне самолет, возвращая тебя к жизни сиюминутной. И ты почему-то не злился на этот самолет — нарушитель покоя, а правильнее — разрушитель твоих иллюзий, ты молча, с покорной улыбкой поднимался над тропой, чтобы идти дальше, твое сердце делалось на крупицу беспредельности мудрее, а значит, и добрее. И потому ты не злился, а продолжал делать свое дело, как делают его все, кто окружает тебя на этих горах и ветрах, на этих путях.
Иногда на тропе попадалось что-нибудь вещественное, не горное, а как бы постороннее, из иной субстанции сотворенное, скажем, обломок бутылочного стекла, втоптанный в тропу, будто вбетонированный в нее или впаянный, вваренный, и тогда я становился на колени и рассматривал это чудо, заглядывая в него, будто в глазок или окошко горы, а затем строил догадки, каким образом попало стекло на вершинную ниточку горного хребта, и проще всего было предположить, что порожнюю бутылку выбросил летчик из пролетающей «Аннушки», а если поднатужиться, можно было и допетровского землепроходца представить, и что стеклышко не «социалистическое», не простое бутылочное, а штофное, и что землепроходец пил из квадратной емкости не лимонад, а нечто более экзотичное, литературное… Но проще всего было представить на тропе такого же, как я, современного работягу, геолога или коллектора, техника-взрывника или повара экспедиции, из чьих рук выскользнул на камни тривиальный сосуд. В выемке тропы, как в лотке старателя, если приглядеться, можно было обнаружить и другие приметы. Так однажды я нашел зуб. Выпавший или выбитый. Бараний или человеческий. Желто-белой окраской выделялся он на серой поверхности пути, и я обратил на него внимание. Поддев острием ножа, извлек зуб из тропы: на утрамбованной глади образовалась характерная мизерная выемка. И, чтобы не нарушать царившей вокруг отрешенно-возвышенной, горной гармонии, я тут же присыпал выемку мельчайшим каменным прахом.
В том-то и дело, что сейчас уже нет на планете клочка земли, где было бы невозможно обнаружить отходы человеческой деятельности, на планете и в космосе — тоже. Мы искренне печемся о спасении Волги, Байкала, Ладоги, африканских джунглей и даже Антарктиды, а спасать, оказывается, нужно… всю Солнечную Систему, а может, и Вселенную. От нас с вами.
Газеты сообщают, что в Китае рождаются дети-старички, которые за год жизни проходят весь цикл земного существования: болеют, вянут, теряют зубы, волосы, покрываются морщинами и сединой. И быстренько умирают. Газеты сообщают об истончении охранного озонного слоя вокруг Земли, о засорении космоса астронавтами… И мы готовы сваливать и сваливаем вину за обрастание планеты гибельным мусором на эпоху научно-технической революции, на развитие научной мысли, а не на… распад в человеке совести, не на личностное одичание, не на обезбоживание морали в нашей «среде», в «массах», исповедующих правила проживания «командированных», как в какой-нибудь заштатной гостинице, правила, а не священную миссию Человекобога.
Перчатка космонавта Потерянно и безучастно в астральной тьме вокруг земли плывет забытая перчатка — одна в космической дали. И мимолетные частицы — пыль звездная, остывший жар, нетленной вечности крупицы — в нее втекают, как в ангар. …Когда-нибудь заполнит небо всю глубь ее, отформовав людской руки посмертный слепок, Рукой Возмездия назвав.Можно подумать, что, начав во здравие, кончаю за упокой, в том смысле, что речь в начале главы шла о сверхискусстве, о «верхолазах» разума, в частности — об Андрее Битове, но ведь… и завершается сия речь в высших слоях: пусть в захламленном, униженном, однако же — в космосе!
У художников, подобных Битову, ярко выраженная тяга к суперискусству, у меня — тяга к этим художникам, ибо чары восхождения прелестны и манящи не только для восходителей, все еще обладающих крылатостью, но и — для тех, кто эту крылатость как бы утратил (эффект страуса, курицы, индюка).
Взятые на поруки (считай — на руки) деловым, энергичным суперученым Штейнбергом, мы тогда еще долго блуждали по Камчатке и над нею, летая над вулканами в лабораторном биплане, заглядывали с незначительной высоты через смотровой люк прямо в «дыхалку» очередного действующего, и, помнится, пролетая над Карымским вулканом, полной грудью вдохнули пахнущий серой и чем-то еще замечательный выброс, и даже стишок соответствующий я сочинил там же, на металлическом откидном сиденье отважной «Аннушки». И Андрюша Битов молча и сосредоточенно подивился моей «вездепишущей» способности, ибо где ему было знать, что утверждаюсь в «высших слоях», там, где ему — уже не привыкать.
По прошествии некоторого времени вернусь я на Камчатку и с любезного согласия вулканологов стану работать на отдаленной сейсмостанции (трудовая книжка до сих пор где-то в архивах Института вулканологии), то есть не просто забавляться стишками, но сосуществовать на пару с неизвестным мне человеком в бревенчатой избушке возле речки, битком набитой лососевыми — кетой, горбушей, неркой, кижучем, чавычей, гольцом, не говоря уж о кумже и хариусе, речки, по берегам которой ходили косолапой развальцей коричневые медведи, а рядом в долине пробивались из кипящей утробы земшара термальные ключи, образуя аккуратные ванночки и бассейны с подогретой минеральной водицей — разновеликой температуры. Иногда в долину, где прежними людьми оборудована взлетная площадка, опускался вертолет или «Аннушка», из летательных аппаратов выскакивали вулканологические девушки и юноши, а также «умудренное» начальство, мигом все раздевались и принимали ванны, не стесняясь ни медведей, ни лососей, ни оленей, приходивших из тайги к ключам полакомиться солью, ни, естественно, нас с напарником, кипятивших в таких случаях чай на всю купальню. Девушки плавали в теплых прозрачных водах, навевая мысли о счастье.
«Неизвестный» человек, с которым я вынужден был обитать в долине, являлся техником-сейсмологом и к стихам относился с прохладцей, а иногда — с раздражением. У него и своих забот хватало. Все правильно. Однако пришлось объясниться. На кулаках. После чего стали друзьями. До конца сезона. Могли бы стать друзьями и на более долгий срок, но я затем уехал на материк. И посвятил ему стихи, не помню уже, какие именно. Во всяком случае, узнавание неизвестного человека несет в себе неизъяснимую прелесть — куда большую, нежели посещение неведомых доселе материков и континентов, долин и вершин. Меня выручило то, что я и прежде неоднократно живал в условиях «свальных», барачных, камерных, общажных. Еще в 1957 году на острове Сахалин поселился я в деревянной будке-балке, укрепленной на металлических санях, где на двухъярусных нарах плотно, кильками в банке, лежали мои напарники, в основном люди, что-либо утратившие — профессию, семью, молодость, память, а иногда и фамилию. Их величали «бичами», бывшими людьми, а они по-прежнему умели плакать, улыбаться, жалеть, обижаться, постоять за себя и даже петь, хотя и теряли помаленьку способность читать, писать письма, размышлять «категориями», верить во «всеобщий праздник» земного рая, не переставая думать и заботиться о дне сегодняшнем, а также о чем-то еще… неясном, призрачном, таящем в себе какие-то все еще предполагаемые перемены и возможности. Вот срез поэтического впечатления тех лет, а точнее — 1958 года.
Бывшие люди На тряских нарах нашей будки — учителя, офицерье… У них испорчены желудки, анкеты, нижнее белье. Влетает будка в хлам таежный, все глубже в глушь, в антиуют… И алкоголики тревожно договорятся и запьют. На нарах — емкостей бездонность, посудный звон спиртных оков. На нарах — боль и беспардонность, сплошная пляска кадыков! Учителя читают матом историю страны труда. Офицерье ушло в солдаты, чтоб не вернуться никогда. Чины опали, званья стерлись. Остался труд — рукой на горле! И тонет будка в хвойной чаще, как бывшее — в происходящем.29
С современным писателем Виктором Конецким сойтись поближе довелось мне в… сумасшедшем доме. И это, к сожалению, не фраза, не литературный прием, не расчет на эффект — это жизнь. Потому что так было. В обожаемой нами действительности.
Необходимо оговориться: в психушку, а точнее — в 5-е наркологическое отделение Бехтеревки попали мы добровольно. Как бы — в поисках убежища. На почве приобретенного испуга. А напугала нас некая тоска смыслов и ощущений, которую преподнесла нам все та же обожаемая действительность. Прячась от нее, мы несколько перебрали эмоционально. А в результате — космизм (комизм?) отрешенности в зрачках и отчетливая трясца в членах.
Что нас держало на плаву даже там, в условиях, мягко говоря, стерильных? Чувство юмора, пожалуй, коим с божьей помощью мы обладали. Это во-первых. Но прежде — о другом. О моих личных, кстати, вполне выстраданных впечатлениях о Конецком-писателе. Дело-то, что ни говори, идет к пришвартовке. Можно и расслабиться. Если не мысленно, то хотя бы — интуитивно.
Конецкий для меня — романтик поневоле. Не отсюда ли у него, пожизненного носителя убежденческой и буквальной тельняшки, военно- и просто морского «краба» на фуражке, не отсюда ли его неистребимый скепсис в прозе и устной речи, даже в улыбчивости аскетически-изможденного лица? Не здесь ли источник его саморазъедающего иронизма, принимаемого многими за бесшабашный моряцкий юморок-с?
Могут спросить: почему все-таки «поневоле» романтик? Думается, от несбывшихся надежд. От непрочности, от экспресс-растворимости приобретенного романтизма (в отличие от врожденного), растворимости не столько в соленых брызгах моря, сколько в ядовитых испарениях безбожного образа жизни (и здесь не путать безбожное в смысле убежденческом с безнравственным в смысле поведения). Под колючей власяницей, то бишь тельняшкой, прячется отзывчивое сердце. Речь идет об изъяне человека-писателя, а не о его «продукции». О достоинствах же писчих, то есть о живой, переливчатой, когтистой, проникающей «фразе» Конецкого, о естественной, разговорной интонации его прозы толковать много не приходится: она — поэтична, бесспорно талантлива. Сие общеизвестно.
Конецкий из тех писателей, о которых говорят: «видал виды».
При сочетании слов «Виктор Конецкий» мне представляется человек в тщательно отутюженном черносуконном морском облачении, хранящем на себе неисчислимое количество несводимых, хотя и невидимых миру пятен и потертостей от крепких «прислонений» к жизни густой, всамделишной. И еще — мнится человек, несущий в себе разочарование… Не как клеймо или печать, а всего лишь — в виде оттенка. Разочарование не в жизни, и даже не в образе жизни, и даже не в собственных писательских возможностях — разочарование в осознании некоторых истин. Например, несопоставимости, несбалансированности в человеке наличия тех или иных творческих возможностей и мощно развивающейся в нем, по ходу взросления, энергии разума. То есть знать и не мочь (выразить себя, мир земли, галактику потусторонности). Отсюда и скепсис, насмешка через себя над всеми, юморок, не столько спасительный, сколько резюмирующий. Невозможность выразить себя не «должным», а желательным образом. Иными словами — все та же вековечная писательская загвоздка, незадача: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?»
И еще. Что, на мой взгляд, способно выводить из себя, а то и бесить Конецкого как личность, а в итоге и как прозаика? Пожалуй, нехватка интеллектуального изящества. Того же, чего, к примеру, недостает и мне. И чего, как говорится, с избытком — у Андрея Битова или Беллы Ахмадулиной.
Излишки демократизма — и это изъян? — спросят меня. И я отвечу утвердительно, ибо известно, что на земле любые излишки (кроме разве что любви к ближнему) ведут к потере ориентации, особенно в творчестве. Извечный немеркнущий идеал для художника — священная гармония. Сбалансированность врожденных чувств и приобретенных ощущений, гимнастики разума и почерпнутых знаний, обнаружения в себе совести и бессонного ее воспитания, дрессировки, то есть опять-таки в миллионный, до скончания всечеловеческих возможностей раз — ориентир самосовершенствования. Как с одной, народно-неотесанной, «вульгарной», так и с другой, изящно-утонченной, башенно-высокомерной стороны в искусстве. В искусстве жить — в том числе.
То есть писатель Виктор Конецкий для меня интересный писатель. Интересный своим… несовершенством, своей незавершенностью. Не столько живой писатель, сколько живущий, продолжающий постигать, а не вымирать. Идущий, кстати, своим пеленгом (это если выражаться его мариманским, соленым языком).
А теперь — о психушке. Однажды нетвердой походкой поиздержавшегося человека, с лютой, можно сказать, неутоленной похмелюги проходил я по Невскому проспекту от Владимирского проспекта в сторону Пушкинской улицы, где все еще имел честь проживать. Утро оказалось неудачным: никого из своих сомучеников, а также благодетелей встретить в ближайших кварталах не довелось. Фланировать по Невскому «до победного» не было сил. Оставалось возвратиться домой и ждать условного сигнала, то есть чьего-то благословенного, спасительного швырка коробком о стекло моего окна…
Впоследствии, уже переселившись с Пушкинской на Звездную улицу и проживая на восьмом этаже, я нередко галлюцинировал, поджидая с похмелья «вызволяющий» стук в окно. И нередко тогда казалось, что и впрямь стучат. И как следствие — стихи…
А вчера постучали в окно. От восторга заныла утроба! Постучали в окно, а оно — на восьмом этаже небоскреба. Я не спрашивал: кто, почему? Не спешил отгибать занавеску. Не направил в кромешную тьму луч огня нестерпимого блеску. Я сидел молчаливо в гнезде, не решаясь будить домочадцев. Я-то знал: на такой высоте люди добрые в дом не стучатся.Продолжая идти Невской першпективой с нескрываемым чувством, название которому — «глаза бы мои не глядели!», с размаха упираюсь в чью-то не шибко широкую грудь и тут же мгновенно закипаю неврастенической обидой человека, страдающего нехваткой витаминов, намереваясь попутно отшвырнуть препятствие (хотя бы мысленно!): дескать, что еще за кретин?! Все меня до сих пор исправно огибали, потому и взгляда на мир не поднимал, а этот уперся в грудь грудью! Поднимаю глаза со скрежетом зубовным: ба! Конецкий… Не просто известный писатель, но писатель, можно сказать, счастливчик, везунчик, в сравнении со мной — денежный мешок, ну… мешочек. Гульфик. На тощей физиономии — ироническая усмешечка. Правда, на этот раз — усмешечка заинтересованная, с элементами нескрываемого сочувствия в уголках тонких губ.
Слово за слово… В моих мозгах неотвязное желание стрельнуть у писателя троячок. Конецкий широко печатался, по его сценариям ставили фильмы, тогда как я все еще… болтался по Невскому. В 1960 году у меня вышла тонюсенькая, два печатных листа, книжечка стихов «Поиски тепла» тиражом в две с половиной тысячи экземпляров. А следующая подобная книжечка «долженствовала выйти» лишь через четыре года после первой. И потому весь мой «внешний вид» излучал мировую скорбь и неутолимую денежную потребность. Но Конецкий весьма прозорлив, он не стал дожидаться, пока я «сформулирую просьбу», то есть начну унижаться. Он вдруг самостоятельно и весьма непринужденно пригласил меня в ближайший ресторан. Ну, думаю, дела. Пофартило под занавес. Не иначе — стишок Виктору Викторовичу понравился. Моего изготовления. Напечатанный в альманахе «Молодой Ленинград».
За столиком под «фешенебельную» закуску последовало предложение, на обдумывание которого давалось несколько секунд. Предложение было столь магически подано, что явилось для меня неотвратимым, неотклонимым. Над моей стопкой (первой, но не последней) был занесен пузатый, «тяжкий» графинчик. Графинчик был занесен, однако функционировать не спешил. Я знал: покуда не отвечу на предложение — из графинчика ничего не исторгнется. Промолчит графинчик. А предложение было таковым.
— Такое дело, старичок… (Тогда как раз входило в моду сие столичное присловье в обращении друг к другу служителей муз.) — Как ты посмотришь на то, чтобы малость подлечиться? На пару со мной? Условия шикарные: врач — свой человек, после шести вечера его кабинет на отделении — наш, в полном распоряжении. Там пишмашинка, бумага. Даже копирка. Будешь писать стихи. Я — доводить сценарий. Устраивает? — Графинчик накренился в мою сторону, однако ничего из себя не извергнул. И тогда я усердно кивнул:
— Устраивает!
Так было принято нами очередное «героическое усилие» по освобождению от «зависимости», которое, как и несколько последующих, не говоря о предыдущих, не принесло мгновенных «положительных результатов», хотя и способствовало доработке сценария (то ли «Полосатый рейс», то ли «Тридцать три»), а также написанию цикла лирических стихотворений «Свобода по Бехтереву». Привожу самое характерное из них, естественно посвященное В. В. Конецкому.
За окнами — лежание зимы. Стоят дымы, и мечутся машины. И не добиться радости взаймы: утомлены палатные мужчины. Они, ворча, прощаются с вином. Их точит зло. Им выдана обида. А за окном, за розовым окном зарей морозной улица облита. А белый врач — стерильная душа — внушает мне, довольствуясь гипнозом: «Вино — говно! Эпоха хороша! Великолепна жидкая глюкоза!» …Там, за окном, где жизни перегар, где дыбом дым и меховые бабы,— из-за ларька шагнул на тротуар последний мой мучительный декабрь.Здесь я не стану реконструировать в подробностях наше месячное пребывание в «наркологии». И не только по причине отсутствия в моем характере мазохистских наклонностей. Просто не хочу повторяться: в повести «Шествие» я уже пытался «изображать» и просто говорить на эту весьма деликатную тему. К тому же я и ныне, по истечении с бехтеревского «месячника» более четверти века, убежден: вылечить кого-либо от алкоголизма, тем паче в больнице, невозможно. От алкоголизма можно только вылечиться. То есть — самому. Страстно пожелав. Причем вылечиться не за один или несколько сеансов, а за один присест, за одно мгновение. С того именно мига, когда ваш мозг, ваши нервы, вашу кровь, память, совесть, душу пронзит (не навылет!) сигнал убеждения, что вы готовы, что вы решились. И здесь огромное значение имеет то, ради чего вы решились: любовь, творчество, страх, честолюбие, вера в высшие смыслы, — для каждого свое «нечто», непременно способное овладеть вашей волей, эмоциями, разумом настолько сильно и неотвязно, насколько… слабее, пусть на самую «чуть», но слабее, овладел вашим существом порок, от коего вы пожелали избавиться.
Я лишь поясню кое-что: на отделении института лечили тогда не убеждениями, не исповедью, не покаянием, не «проветриванием духа», а всего лишь… страхом и химическими препаратами, которыми нашпиговывали пациента перед тем, как дать ему «глотнуть» все той же водочки разлюбезной, вступающей в крови пациента в химическую реакцию с препаратами, дававшую жестокий эффект: от одних снадобий человека тошнило, выворачивало, как перчатку, от других он как бы преждевременно, словно в замедленной съемке, умирал — нарушалось дыхание, кровообращение, сердечная деятельность. Тем самым подопытного пугали: вот, дескать, смотри, что с тобой в точности будет происходить, когда мы тебя выпустим на городскую улицу и где ты, не дай бог, выпьешь опять спиртного. Упадешь, отключишься, никто тебе не поможет. Даже в медвытрезвителе. Подумают — просто пьяный оборзел до такой степени. А ты, оказывается, умираешь натуральным образом. Здесь-то мы над тобой внимательно наблюдаем, с любовью и со спасительным шприцем в руке, а там — подохнешь, как собака.
То есть на угнетенную алкоголем поверхность мозга страждущего наслаивали еще и страх смерти, отчаяние обреченного. И единственно от чего ему сразу хотелось освободиться — это от угнетения и страха, а не от пьянства. А именно хорошая доза спиртного как раз и освобождала, пусть временно, от гнета отчаяния, пусть иллюзорно, однако раскрепощала. И человек судорожно ждал прекращения действия препаратов, чтобы поскорей принять вовнутрь и возликовать, то есть — разрядиться.
Палата, в которой производилась процедура разрядки, была названа клиентами-пациентами «палатой космонавтов». Пять или шесть коек, на них — подготовленные к вознесению в «космос», то есть напичканные тетурамом-антабусом добровольцы. Перед каждым — табурет. На нем — стопка «экспериментальной» и закуска: долька апельсина, яблока. Тут же — врачи, процедурные сестры со шприцами с кардиамином, кислородные подушки наготове… И неожиданно выяснилось, что люди на земле действительно все разные. Одного «забирало» с двадцати граммов, другого — с тридцати пяти, а третьего — лишь с пятидесяти. Имелся на отделении, как и в других жизненных сферах, свой чемпион — крутоплечий, мощного сложения, безволосый, как бы весь литой человек-кран из грузчиков. Его не прошибало даже с четвертинки. Помнится, нам, сочинителям, то есть хлипким якобы интеллигентам, было назначено сразу по сорок граммов, а «жечь» начинало нас только с пятидесяти. Сказывалось, видимо, суровое военное детство, закалка скитаниями, морская выучка и прочие акценты и компоненты недавнего прошлого.
К сожалению, ни одного из нас (литераторов) тогда не вылечили, не отучили, ни одного не запугали до «задумчивой» степени. «Чудо» произошло чуть позже. Лет этак семь-восемь спустя. Да и то не с обоими разом. А тогда в Бехтеревке, на пятом наркологическом, предстояло нам встретить новый, 1964 год в качестве «узников совести». Молодой врач Геннадий, доверявший нам во внеслужебное время свой кабинет со столом, пишмашинкой и дерматиновым диваном, попросил Конецкого и меня мысленно сосредоточиться и выпустить на отделении праздничный номер стенгазеты. Новогодний выпуск! И мы вдохновенно взялись за дело. Как непорочные школьники. Брали интервью у находившегося на излечении Героя Советского Союза, бывшего летчика-балтийца, записывали «литературным языком» впечатления от пребывания в клинике какого-то невеселого, зажатого в себе человечка, звонившего путем вставления горелой спички в радиорозетку «товарищу Кеннеди», жалуясь президенту на собственную жену, которая-де «упекла»; Виктор разразился передовицей, где говорилось, что в мире иллюзий, как и в мире реальном, следует приветствовать только правду, ничего, кроме правды, а также — поддерживать образцовый порядок и т. п.; я написал иронические стихи, продолжившие упомянутый выше цикл «Свобода по Бехтереву».
В час есенинский и синий я повешусь на осине, — Не иуда, не предатель, не в Париже — в Ленинграде, не в тайге, не в дебрях где-то — под окном у Комитета! …Что мне сделают за это?Каюсь, за сорок лет сочинительства на бумагу из-под моего пера, карандаша, а также «шарика» вылилось, а то и просто вывалилось немало горьких слов и строчек, в коих упоминалось, а подчас — просто лелеялось понятие смерти. В молодости делалось это чаще всего по пьянке. Ближе к старости — по просьбе разума, желавшего как можно безболезненней подготовиться к последнему (оно же и первое) рандеву с Ее Величеством Неизбежностью, опирающейся на крестьянское орудие труда, которым до сих пор еще обкашивают деревенские жители траву на так называемых неудобицах.
И хоть латинское «мементо мори» сделалось межконтинентальной поговоркой, а писать стихи о своей Неизбежной зачастую приятно «до жути» — считаю теперь, что напоминать людям о предстоящей смерти — великое свинство. Особенно в мрачных тонах и «сплошь и рядом», так сказать — для рифмы всего лишь. Все равно что напоминать горбатому о его кривой спине, слепому — о прелестях утраченного зрения, вообще — об изъянах, увечьях, врожденных пороках, ибо — что есть смерть, как не самый непоправимый из всех изъянов, самый неизлечимый из всех пороков, тщательно скрываемый человечеством и всячески рекламируемый лирическими поэтами — великими и малыми?
Но продолжу об изъяне не менее катастрофическом — о пьянстве, ведущем на больших скоростях не только к смерти неизбежной, но и к смерти прижизненной — к алкоголизму.
Избавление ко мне пришло на сороковом году жизни. В лице подвижника «отрезвления русского народа» Геннадия Андреевича Шичко. К моменту встречи с этим незабвенным, милосерднейших воззрений человеком я уже «созрел»: желание освободиться от болезни было во мне уже неотвязным, не менее неотвязным, чем сама болезнь. То есть к тому времени я не просто пожелал, но пожелал истово.
Мало было понять, следовало — ощутить, как из-под ног у тебя уходит не просто земля, почва, но — любовь… Любовь к дорогому человеку, к дорогому делу, любовь к единственному смыслу — смыслу жить. И тогда жена отвела меня к Г. А. Шичко.
В упомянутой повести «Шествие» кое-как набросал я «блиц-портрет» доктора. Здесь же напоминаю о самом существенном в его личности. О принципах его метода лечения алкоголиков. Г. А. Шичко уже нет на свете. Мы его похоронили. Мы — это многие сотни избавленцев, пришедших в день его отпевания под своды ленинградского крематория. Теперь о нем можно говорить все, потому что все в его деяниях было хорошим, жертвенно-милосердным, бескорыстно нацеленным на оказание людям врачующей помощи, которую люди верующие ждут от Бога, неверующие — от государства, а помощь приходила к ним от Человека, несшего в себе божественно-государственные заветы и заповеди без принуждения и начетничества — как кровь в сосудах, как зрение в глазах, любовь — в сердце.
Чем брал Шичко? Убежденностью своей, убеждением других, бескорыстием абсолютным! То есть вся его воля подчинялась Цели, а не наоборот. Вся его «школа» зиждилась на древнейшем, испытаннейшем фундаменте, имя которому — любовь к ближнему. И это при всем том, что Шичко — неисправимый, «органический» атеист, не от упрямства или апломба, но — от веры в… безверие. Коммунист, бывший военмор, инвалид войны, кандидат наук и прочая, и прочая — из области советской действительности.
Теперь, вспоминая об этом светлом докторе, добавляют, что был он еще и диссидентом, протестантом воинствующим, неудобным для начальства горлопаном, которому пытались, но не могли «заткнуть глотку» всевозможными «особыми мнениями» и «положениями». Что ж, Шичко на своей ниве был доподлинным воином. И на этом же поле деятельности погиб. В шестьдесят лет. Аорта лопнула. Перетерлась. Пораженная аневризмой. Измочаленная беспокойным образом жизни.
Эффективнее всего у Шичко получалось, когда подопечный поступал к нему в «созревшем» состоянии, то есть — имел желание искреннее, а не умозрительное. Такому клиенту требовалась вторая, как бы сторонняя, половина убеждений — для совмещения с первой, собственной. Вторая створка раковины от «я» — в лице Шичко. И ежели они совмещались — происходило чудо. Подобное произошло со многими, некогда пропащими, обреченными. Называть их поименно вряд ли стоит. А вот с Конецким у Шичко «совмещения» не получилось, чуда не произошло. И Виктор пошел своим путем. Так как никогда, по моим наблюдениям, алкоголиком не был. Точнее — алкоголиком в степени «пить или не пить?», когда уже выбирать не приходится и остается лишь драться за себя, заживо погребенного…
Могу только догадываться, отчего не получилось у В. В.: прежде всего — от изъяна, именуемого великой мнительностью, а также — от достоинства, названного «специалистами духа» творческим воображением. Для изощренного интеллекта В. В. мужиковатая личность Геннадия Андреевича была примитивна, шибала портянкой. Уж лучше бы, как говорится, простая, темная бабушка пошептала — и дело с концом, ибо что с нее взять? А тут как бы та же бабушка, только еще и кандидат наук, то бишь — с претензиями.
Слишком уж Геннадий Андреевич со своим лицом простолюдина, косноязычинкой в речи, с хромотой в ноге (колченожинка), с незначительным слоем начитанности на поверхности неизвращенного интеллекта, с глазами наивными, со взглядом в них выплеснутым, а не вытекавшим, за которым не угадывалось некое НЗ, запасец про черный день, слишком уж, повторяю, Геннадий Андреевич был для Виктора Викторовича элементарен, незатейлив, двойного, потаенного дна не имеющ. Разве мог он своей непрезентабельностью, граничащей с самодеятельностью, повлиять на писательскую изощренность? Да ни в жисть. И все верно, не мог. Разновеликие створки.
К сожалению, из темы потаенного, скрытого пьянства, коим страдает большинство взрослого мужского, трезвого на вид, населения, все мы общими усилиями сделали нечто крайне деликатное, чуть ли не интимное, о чем избави бог — вслух! — непременно по секрету, на ушко, как бы о дурной болезни или аборте. А ведь сия борьба подразумевает освобождение из-под ига. Дело-то, если к нему сердцем приглядеться, благородное, стоящее. Взять хотя бы нашего брата писателя: сколько ярчайших талантов осеклось, преломилось на полпути к самораскрытию! Тут бы и назвать всех поименно… Нельзя. Не принято. Повредит престижу писательского призвания. И получается, что кроме Сергея Есенина, который сам не скрывал, что пьет ее, проклятую («…осыпает мозги алкоголь…»), все остальные — трезвенники, праведники благополучные.
Тут бы и предупредить молодых-неопытных, предостеречь от бездны, и не только христом-богом прося, умоляя, а делом, делом, примером уводя прочь, спасая! Оперативным, если можно, путем. Отсечением от манящей, зияющей мглы, сосущей мозг, успеть при жизни предупредить невинных — стихом, рассказом, призывом, плачем писательским, проникновенным, наконец — исповедью бесстрашной, раскаянием очищающим. Ан… нельзя. Неэтично. Вульгарно.
Геннадий Андреевич Шичко начинал свою битву со «змием» во время повальных банкетов, междусобойчиков, девишников, мужичников и прочих «ревущих» посиделок, начиная от государственного, кремлевского уровня и до барачно-блочно-избушечного, низинного горизонта слоеного пирога общественности. Шичко нередко стоял поперек горла не только поощрителям спаивания нации, но и — бюрократам от медицины, для которых лучше «пугать», стращать смертной болью телесной, нежели убеждать, нянчиться, уговаривать, умолять, раскрывая пациенту слипшиеся от беспробудного запоя глаза на мир любви и красоты. Шичко — раздражал. И не только рядовых маскировщиков «социзъянов», но и власть имущих аппаратчиков, которые сами всласть попивали и всяческую борьбу с «доходной статьей» государства «сердцем принимали» чуть ли не за диверсию и «расшатывание устоев».
Деликатная, видите ли, тема… Увы. Вроде копошения в грязном белье человечества. Стало быть — замолчать, заткнуться? Отойти, повернуться к проблеме спиной? Тем более что сам-то ты избавился. Не грозит. А ведь Шичко тоже самолично от спиртного не страдал, мог бы и увильнуть: дохода от проблемы не имел — доказано всеми, кто его знал. До кооперативов медицинского профиля не дожил. Тем более что увильнуть от «заботушки» можно было всегда, причем культурненько, обоснованным образом рассудив, к примеру, так: пьянство на земле — вообще наркопроблема — это изъян глобального, экологического масштаба, стихийной разрушительной силы; не просто беда отдельных людей, а следствие «разумной» деятельности всего человечества с его прогрессирующей тенденцией научно-технической эволюции и т. д. и т. п. То есть — виновен процесс, а вовсе не изначальный извлекатель тайны, смекалистый мужичок или догадливая бабенция, впервые «забалдевшие» на почве брожения определенных продуктов.
Сам акт извлечения тайны, как только ставят его на поток, делается тривиальным. По прошествии определенного времени «Автора! Автора!» никто уже не кричит. Так было с изобретением тележного колеса, глиняного горшка, так было и с высеканием огненной искры при помощи кремня или трения, так было и с пресловутым велосипедом. Придет время, забудут и тех, кто извлек наружу «атом». Проклянут (уже проклинают!) и забудут. Проклянут не конкретно, не личностно, а этак умозрительно, философически. Не в сердцах, а в разумениях. В точности как и первоначального «извлекателя» спирта, опия, кокаина, «веселого» газа…
В сегодняшней прессе можно отловить, скажем, вот такие подтверждающие убийственную силу научной мысли факты: профессор радиологии Питсбургского университета Эрнст Штернгласс и специалист Бременского университета (ФРГ) доктор X. Шир утверждают, что выброс радиоактивных элементов в атмосферу во время испытаний ядерного оружия («открытым способом») — одна из главных причин появления вируса СПИД. Именно под действием радиации появляются, по их наблюдениям, также мутантные вирусы и бактерии, ранее не встречавшиеся в природе, против которых человек не имеет иммунитета. И доказывают основательность своей версии путем прослеживания «маршрутов» радиоактивных облаков после самых интенсивных испытаний 50—60-х годов, выяснив, что большая часть выброшенного в атмосферу стронция-90 и других элементов распада осела на территории Северной Америки и Центральной Африки, где население, как известно, наиболее сильно поражено эпидемией СПИДа.
Так что ускользнуть от фактической ответственности за ущерб, тем более за глобальный его вариант, не так уж и трудно, поспешив объявить его научным поиском, гениальным открытием, накрыв этим объявлением, как стеклянным колпаком, любой побочный грешок от «поиска», любую, ручейком просачивающуюся из-под колпака кусачую проблему.
Однако тут же с неизбежной откровенностью встает не побочная, не параллельная, а кардинальная проблема нравственной ответственности всего человечества из «сегодня» перед всем человечеством — из грядущего времяизмерения. Потому как не стронций-90, не прочая химическая нечисть выпадает и накапливается на истерзанной поверхности всечеловеческой морали, а нечто большее, грандиозное, неуловимо-незримое, перерождающее не одни только бактерии и вирусы, а всю духовную площадь гомосапиенса, постепенно превращая его в гориллу, от которой он якобы произошел. Так что круг не только замыкается, но замыкается безнадежно.
А Шичко не увильнул. Да и многие не увильнули. И более того — не увильнут. Потому что руководит ими не столько чистый разум, сколь — чистое сердце. И весьма определенная теория Вечной Любви к ближнему. Не абстрактно-умозрительному, а к конкретно-страждущему, находящемуся рядом.
30
Однажды в Комарове некий сомневающийся человек, по профессии писатель (по призванию — мыслитель), а по имени Абрамов Федор, напрямки спросил у меня: «Что, по-твоему, есть Бог?» То есть его интересовало изначальное: что есть Бог — умозрительное понятие (мечта, совесть, утешение, метафора) или конкретная сила, энергия, мощь во столько-то духовных киловатт? Которую если и нельзя пощупать, лицезреть, зато можно хотя бы исчислить, предположить разумом, предсказать — как вычисляли-предсказывали иногда ученые люди неоткрытые планеты-невидимки в небе, или острова в море-океане, или иные прочие земные или околоземные достоверности. Под ногами вращалась планета, ставшая матерью-землей. А в мозгах у меня торчал неизбежный для всякого сомневающегося из живущих вопрос: что есть Бог?
Помню, поразила тогда именно постановка вопроса. Абрамов не спросил: есть ли Бог? Он лишь поинтересовался его «отличительными свойствами».
Не дождавшись ответа, Федор Александрович с укоризной посмотрел на меня через плечо и задал вопрос как бы с другой стороны:
— Ну, а… где, по-твоему, Бог-то? На небе, что ли? В пустопорожнем космосе? Холодном и голодном?
Убедившись, что Абрамов не шутит, решил отвечать, оглядываясь на кое-что из прочитанного, почерпнутого, в том числе — в беседах с моим отцом.
— Бог в данную минуту не на небе, а в нас, Федор Александрович. Внутри каждой душеньки. Мы и есть — носители божественного понятия.
— Стало быть, все-таки… Бог — «понятие»? Придумка? Или… — Абрамов недоверчиво, хотя и с отчетливой улыбкой покосился в мою сторону. — И как же это… в таком поганом сосуде… и — Бог? А вот ты мне про такое размозгуй: Троица, к примеру, тоже — Бог? Как же она-то влезает в человека? Все равно что вилы, трезубец! А ведь Бог, по писанию, един. Как штык. То-то и оно… Путаницы много. А дело-то ясное, что мы в этих вопросах — люди темные… То есть — младенцы мы, Глебушка, в этих вопросах. — И замолчал. А затем добавил, как бы подводя черту: — Бог — или как хошь его назови — есть изначальный создатель материи. Ведь когда-то ее не было. И вдруг — возникла. Ни с того ни с сего, что ли? По щучьему велению?
Помолчали торжественно, шагов с полсотни.
— А доведись повстречаться с Ним… на узенькой дорожке, что бы ты сделал, Глебушка? Небось — на колени упал бы?
— Упал бы.
— А я… вот ей-богу, пальцем бы до Него дотронулся! Чтобы убедиться. А палец-то и — расплавился бы, — неожиданно и крайне задумчиво произнес Абрамов, медленно разворачиваясь лицом в мою сторону.
Потом шли, улыбались. Я пустился в рассуждения, пытаясь, как мог, толковать понятие Троицы — Бог-Отец, Бог-Сын, Бог-Дух (Отец-вседержитель, Сын — Иисус, который жертва, принесенная Отцом для просвещения людских сердец, и, наконец, Дух, то есть само учение Христа, священное писание), но Абрамов, вероятнее всего, думал уже о другом, печально так посмотрел на меня, будто на пришибленного, и я замолчал. И правильно сделал. Потому что трепать языком надчеловеческие понятия нужно не столько с умом, сколько с верой в то, о чем рассуждаешь. А не в жалких сомнениях, коим хоть и не грош цена, но и — не на много больше.
«Там, за далью непогоды, есть блаженная страна…»
В свое время бас М. Д. Михайлов и тенор И. С. Козловский дивными голосами навесили нам эти «летучие» слова на уши, и песня-романс неслась над Страной Советов, как нечто рьяное, ниспровергательски-буйное, красноподкладочное: «Но туда выносят волны только сильного душой! Смело, братья, ветром полный парус я направил свой!» А ведь замечательное стихотворение Н. Языкова — о чем оно?
О том, что за далью жизненной непогоды есть смысл жизни вечной, есть блаженная страна, где «не темнеют неба своды, не проходит тишина…». То есть — стихи романса суть не расхожая песнюшка, а по крайней мере — гимн, молитва, ода надсущему идеалу, выносят волны жизни — только сильного душой! Замечаете, душой, а не мускулами. Вот в чем штука-то, как сказал бы любезный Федор Александрович Абрамов, доведись нам пройти по комаровским дорожкам хотя бы еще разок…
Наш народ слишком долго морили духовным голодом, изнуряли нравственно, лишали философии неба, постоянно склоняя его носом к земле, к «назему», к понятию «тлена и червя». И казалось бы, народ неизбежно должен был погибнуть изнутри, истлеть совестью. Однако — не получилось, не заладилось что-то у культуртрегеров всеземной бесовщины. Не сошлось в расчетах. Народ жив. И — воспрял. И воспрял именно там (и тем местом), где не угасла у него вера в силу Духа.
31
Карельский берег Финского залива. Дачный поселок в полусотне километров от Ленинграда, ставший известным в стране благодаря эстрадной песенке, где нещадное число раз повторяются строчки: «На недельку до второго я уеду в Комарово!» Это — для одних. Или — для большинства. Для других Комарово — прежде всего могила Анны Ахматовой. А для нас, писателей «северо-западного региона», Комарово — еще и тихое пристанище, где затворившись в девятиметровой келье Дома творчества можно месяц-другой поработать за казенным письменным (а также обеденным) столом.
Без малого тридцать лет прошло с тех пор, как впервые по льготной путевке (молодежной) проник я в это маняще-таинственное, а как выяснилось чуть позже, весьма прозаическое и в чем-то даже убогое заведение. Вот и сегодня, выстукивая на машинке комаровскую главу «Записок», нахожусь я в одной из «камер» писательского Дома творчества, именно в той из них, 39-й, угловой на третьем этаже, которую до недавнего времени так любил занимать писатель Федор Абрамов.
В трехэтажном послевоенной застройки жилом корпусе — сорок номеров. За тридцать лет переночевал я почти в каждом из них. А последние десять лет в Комарове я зимую регулярно — с октября по май, и порою мне начинает казаться, что и на свет-то я появился здесь, в этом писательском убежище, напоминающем старинную богадельню, и мужал, и старел тут же — безвылазно. С чего бы такие фантазии? Просто существо мое, затворяясь в стенах «интеллигентного» общежития, наверняка испытывало и по сию пору претерпевает на себе колоссальной концентрации энергию, оставленную за десятилетия в каждой из комнат-гнезд многочисленными мечтателями и честолюбцами, чудаками и завистниками, стяжателями и бессребрениками духа, и, погружаясь в слои, в тяжкие пласты и глубины этой энергии, добавляя в нее свои собственные эго- (от «мега») — ватты, ты как бы начинаешь помаленьку забывать «внешний мир» со всеми его красотами и соблазнами, бедами и победами, погружаясь в свободу одиночества, приобретая задумчивый вид добровольного отшельника, ушедшего не столько в себя, сколько в ложное ощущение, что ты-де не совсем такой, как все, а как бы еще и писатель, фантазер, иными словами — человек если и не сошедший с ума, то сдвинутый с круга нормальной жизнедеятельности.
Большинство из моих соседей по «нумерам», с которыми я начинал комаровские сидения, постепенно перебрались на ту сторону железнодорожного полотна, по которому бегают электрички из Ленинграда в Выборг и обратно, перебрались, так как именно на той, удаленной от моря, «сухопутной» стороне расположено поселковое кладбище. Большинство, но пока что еще не все. Часть из них перебралась как бы еще дальше, нежели за полотно дороги, — за пределы государственные, и живут сейчас в Париже, Риме, Нью-Йорке, в Австралии, где, в свою очередь, перебираются куда-то еще дальше, принимая иллюзию передвижения по земле за жизнь вечную, покуда все, как один, не сойдутся, каждый в своей точке окончательного пересечения с матерью-планетой.
Еще одна толика комаровских завсегдатаев продолжает обитать бок о бок со мной, совершая по дачным дорожкам предсмертные «оздоровительные» прогулки, потребляя супы, каши и винегреты в дом-творческой столовой конструктивистского образца — плоской и серой, возведенной не так давно по мифическому «итальянскому» проекту, не чета прежней, барачного типа замухрышной едальне, в которой принимала казенную пищу Анна Андреевна Ахматова. Они, эти мои соседи, и я с ними заодно — продолжают стучать на своих новеньких иностранных (не чета прежним, марки «Москва») пишущих машинках, продляя в себе надежды на литературное бессмертие, пытаясь в меру сил разобраться в себе, попутно заработать на хлеб семье, а также объяснить «ход вещей», извлечь из своего пребывания на земле (в том числе и в Доме творчества) некую философическую суть, которая и оправдала бы в конце концов все наши «осмысленные движения», утолила печали сердечные, умерила запросы умственные.
На Комаровском, а также на других кладбищах России успокоились мои друзья и просто знакомцы, с кем делил я писательский хлеб в вышеназванном заведении Литфонда, и сейчас это — внушительный список, из которого привожу имена мысленно, наугад, без заглядывания в святцы, то бишь в справочник Союза писателей, только в память сердца. Список наверняка неполный, однако достоверный, как достоверна и неоспорима всякая жизнь, случившаяся на планете людей и повлекшая за собой помимо деяний и размышлений неумолимую кончину телесной оболочки. Пытаясь назвать всех, называю лишь некоторых, немногих, с кем доводилось обмениваться не столько «соображениями», сколько — улыбками.
Виктор Курочкин, Анатолий Клещенко, Владимир Торопыгин, Вера Панова, ее сын Борис Вахтин, Александр Гитович, Геннадий Гор, Наум Берковский, Виктор Мануйлов, Адольф Урбан, Василий Соловьев-Седой, Павел Петунин, Федор Абрамов, Анатолий Аквилев, Глеб Семенов, Татьяна Глушко, Ольга Берггольц, Василий Лебедев, Анна Ахматова, Давид Дар, Саша Морев, Яша Виньковецкий… Однако прервусь, так как в голову начинают заплывать имена людей, о чьей жизни или смерти достоверных сведений у меня не имеется, людей, давненько не бывавших в Комарове и даже — в Стране Советов.
О каждом из перечисленных миров, сгоревших на моих глазах, но во мне еще не погасших, об этих, по выражению О. Берггольц, «дневных звездах» и еще о многих, выскользнувших из памяти «метеорах и астероидах» я мог бы не только вволю поплакать при помощи словесных слез, но и нарисовать «картинку», обозначив на ней сюжетно-биографические контуры, а также замысловатые оттенки той или иной судьбы, но… времени отпущено в обрез, тем более что тратим мы львиную долю этого времени преимущественно на себя или на то, что сопутствовало нам, «выпячивалось» в нашу сторону, а не скрывалось от нас в тени собственной неповторимости и застенчивости.
Скажем, без каких-либо ощутимых энергетических потерь мог бы я рассказать об исчезнувшем с лица земли Яше Виньковецком, писавшем смиренные, хотя и «умственные» стихи в литобъединении Горного института середины пятидесятых, переметнувшегося затем в абстрактные художники под влиянием Миши Кулакова и Жени Михнова-Войтенко, о Яше, считавшемся незаурядным ученым-геофизиком, кандидатом и «без пяти доктором», променявшем научную карьеру на долю странника в «области искусств», уехавшего в Америку, где, по слухам, имелись тогда хорошего качества краски для рисования, причем в неограниченном количестве, и не взявшем в расчет проблему конкуренции, в Америку, где своих абстракционистов, ташистов и прочих супрематистов — хоть резервации из них организуй, о Яше Виньковецком, вместо сведений о творческих достижениях которого довольствовались мы сведениями о его преждевременной кончине, просочившимися сквозь проржавевший к тому тягомотно-застойному времени железный занавес.
Но повторяю: текущего времени нехватка, и я попытаюсь рассказать о мимолетных встречах, встречах-вспышках с другими, более отчетливыми или менее призрачными посетителями Комарова, с их именами и ликами, подсмотренными в комаровской писчебумажной атмосфере.
Не трудно догадаться, что речь пойдет прежде всего об Анне Ахматовой (за нее в последнее время так уж взялись, так взялись, что становится боязно: не затоптали бы имя!), о Федоре Абрамове, Василии Павловиче Соловьеве-Седом, Викторе Курочкине… То есть о неких феноменах, дивных «монстрах», прекрасных «уродах», а не просто людях, на душевно-биографических картах которых проставлено латинское — «норма».
В семейной библиотеке, которую как храм в «безбожные» годы довелось мне разрушить собственными руками, имелись две книжечки стихов Анны Ахматовой — «Четки» и «Белая стая». В книжечки эти заглядывал я потому, что мне нравилась их книжная досоветская фактура: бумага, шрифты, графика — взращенные другой, а для моего тогдашнего сознания — почти доисторической эпохой. Особенно прельщала толстая, основательная, с «водяными» размывами на просвет бумага «Белой стаи». При взгляде на эту книжку испытывал я босяцкое почтение, как перед чем-то уже недоступным, дворянским, пусть отвергнутым, отмененным внешне, однако оставшимся в атмосфере бытия, будто невидимый, сшибленный активистами крест над куполом собора — как если бы у человека (государства) оторвать нечто, составляющее контур его облика, — руку, ногу, ухо… — то, глядя на него, мы все равно домысливаем в нем эту потерю. Наверняка пленяли меня в этой книжке и отдельные словосочетания, подсознательно я как бы даже улавливал тон ахматовской поэтики, и все же, говоря откровенно, прелесть этой поэтики в те годы волновала меня эфемерно. «Кабацкий» Есенин, ранний, безоглядный Маяковский, отважно-манерный Северянин, не весь, а только «выпуклый», экспрессивный Блок («За городом вырос пустынный квартал…», «Под насыпью, во рву некошеном…», «Скифы», «Двенадцать»…), «Ворон» Эдгара По в переводах Брюсова, да и брюсовское «Юноша бледный со взором горящим…» — вот чем питалось сердце в те годы.
Сдержанная, напряженно-утонченная, воспитанная в духе благородного девичества, благопристойная, тактичная поэзия Ахматовой казалась мне чем-то хрустально-заиндевевшим, не чужеродным вовсе, но как бы отстраненно-высокомерным. Мне, послевоенному подростку-скитальцу, хотелось чего-нибудь попроще, позапашистей и, что скрывать, поразухабистей.
И когда в начале шестидесятых ленинградские, официально не признанные поэты-протестанты, жившие до этого как бы вразрез всеобщему течению, — Иосиф Бродский, Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев — решили почему-то представить меня Ахматовой (как затем и Соснору, и Кушнера, Битова), меня, только что издавшего официальным способом свои экспедиционные, сахалинско-якутские стихи, и кому представить — всемирно известному («благодаря» ждановскому постановлению) поэту, обладавшему еще дооктябрьской славой, самой Анне Ахматовой — я почему-то не растерялся, даже не насторожился (вот что значит молодость, со всеми ее восторгами и безоглядностью!). Спустя энное число мгновений я все же изрядно смутился и, чтобы не вибрировать во время визита к «старушке», для храбрости хватанул стаканчик «табуретовки». В озорном сознании, помнится, даже возникла еретическая мысль — испросить у Анны Андреевны тайну «трех карт», естественно — поэтическую тайну.
А то, что не растерялся я, получив королевское приглашение, и вообще расхрабрился, объяснить можно чисто психологически: до этого, чуть раньше, во мне как бы произошло заземление возвышенного образа Поэта, ставшего классиком пока лишь в некоторых, наиболее объективных умах, а в других умах являвшегося как бы заживо похороненным пережитком, анахронизмом, а то и «врагом народа». И еще: заземление во мне образа Ахматовой случилось по причине общежитейской: много дней наблюдал я Анну Андреевну сидящей в писательской столовке, правда сидящей гордо, спиной к «братии», и все ж таки заурядно жующей казенную пищу вместе со всеми. («Не наважденье, не символика: на склоне века, в сентябре сестра Цветаевой за столиком клюет казенное пюре», — напишу я через пятнадцать лет в Коктебеле, познакомившись в крымском Доме творчества с Анастасией Ивановной Цветаевой, как бы продолжая изумляться невероятному сочетанию обстоятельств, когда человек с фамилией небожителя (Ахматова, Цветаева), более того — родная сестра самой Марины! — прозаически питается за одним с тобой «столовским» столом, с тобой, простым смертным, который, изловчившись, вместо киселя на десерт норовит всучить Цветаевой № 2 стишок собственного изготовления, бессознательно (подсознательно) надеясь, что она «где-то там» на небесах поделится вашим стишком со своей старшей сестрицей — Цветаевой № 1.)
Вот такая наивная «реакция неприятия», реакция на совмещение «казенного пюре» и свободного поэтического Слова. «Как же так?! — клубился тогда в моем возлеахматовском сознании дымок разочарования. — Поэт из невозвратной, легендарной эпохи Поэтов, современница, а главное, совладычица поэтических дум и жестов Александра Блока, Николая Гумилева, Сергея Есенина, Игоря Северянина, Валерия Брюсова, Константина Бальмонта, вообще — подлинная, из „серебряного века“, поэтическая декадентка, акмеистка, ходячий миф, и вдруг… хлебает расхожий, союзописательский супец!» Сие-то и расхолодило, расслабило на какое-то время, а именно — до той поры, пока не позвали меня в угловую двенадцатую, ахматовскую комнату, что на первом этаже Дома творчества.
По причине рассеянного внимания («табуретовка», «пюре» плюс «сами с усами!») не могу теперь безошибочно перечислить всех, кто помимо величавой хозяйки находился тогда в «нумере». Из произнесенных Ахматовой слов запомнились отдельные восклицания. Из слов «окружения», свиты, а также из своих собственных — ничего не запомнилось. Смутно воскрешаю в себе давнее видение: Анна Андреевна в кресле, кутается во что-то белое, теплое, скорей всего — в пуховый, ручной вязки платок или шаль. Нет, я не ел ее глазами, как ненормальный. Природного, подсознательного такта хватило на то, чтобы не мельтешить. Ахматова сама попросила читать громче, да и «сваты» предупредили, что мэтресса глуховата. Во время чтения Анна Андреевна едва заметно, не слишком выпячиваясь, вежливо подставляла ухо, не разворачиваясь в кресле, а всего лишь как бы поводя головой вслед за ускользающим голосом чтеца. И все-таки время от времени просила читать громче, отчетливей. Помнится, обстоятельство сие немало меня раздражало. Приходилось напрягаться, словно бы навязывая себя, а не… даря. Что ж, самолюбие, как и здравый смысл, всегда при нас. Тем паче в годы молодые.
Читал я тогда стихи из своих комаровских, наиболее строгих, собранных циклов «Косые сучья» и «Сны», стихи, тяготевшие, как мне казалось, к некой музыкальной классичности словесного строя и даже — к инструментовке. Свои же лохматые, «отчаянные» стихи из разряда «проклятых», как губка напитанных винными парами и невинными семантическими шалостями, читать я не осмелился и правильно сделал, потому что в «проклятых» (по выражению профессора Наума Берковского, польстившего мне примерно в те же дни, шутливо или нет сравнив мою непечатную, взвинченную «продукцию» с творениями именитых французов) имели место вкрапления слов, мягко выражаясь, нецензурных, режущих «серебряный» слух.
Поэты, окружавшие тогда Анну Андреевну и пожелавшие представить ей меня, едва я открыл рот, мгновенно превратились в молчаливый синклит и с непроницаемыми лицами наблюдали за реакцией «самой». Не знаю, кто именно — Евгений Рейн или Дима Бобышев, Толя Найман или Иосиф Бродский — проявил инициативу, предложив Ахматовой «отслушать» Горбовского? Может — все разом? Мы ведь тогда дружили, еще лишенные некоторых из предрассудков, что нагрянут к нам чуть позже, дабы испытать на прочность все то, человеческое и божеское, коим обладали мы от природы. Правда, обитал я от упомянутых поэтов несколько в стороне, был менее образован, да и внешне проигрывал им бесспорно; порой досаждал ребятам в «поисках тепла», раздобывая денежку на очередную «порцию», причем, комплексуя, не забывал упомянуть, что, дескать, Порция — это именитая некогда «древняя» римлянка, жена М. Брута, выступившая против самого Цезаря, а не «сто пятьдесят с прицепом», то бишь с килечкой, — одним словом, не забывал прихвастнуть справочно-познавательской эрудицией (знай наших!).
Читал я в тот вечер «с листа», и не просто по записной книжке, а считывал рифмованную продукцию со страниц культурненько сброшюрованных самиздатовских сборничков, за несколько часов до начала «аудиенции» отпечатанных мной на первой собственной пишмашинке марки «Москва», которую приобрел на деньги от жиденького гонорара за свою первую книжку стихов «Поиски тепла» (70 коп. за стихотворную строку, Тираж — 2500 экземпляров, объем — полтора авторских листа).
Анна Андреевна изъявила желание взглянуть на брошюрки. Она подержала «продукцию» в царственных руках, улыбнулась самодельным «титульным листам» сборничков, на которых значилось: «Сны» и «Косые сучья», — полистала. И я осмелился предложить их ей «на добрую память». Не отказалась, даже попросила надписать «дарственную», что я и проделал с превеликой энергией. Приняла. А что ей оставалось делать, ей, человеку, воспитанному несколько иначе, чем я?
Не из ложной скромности решил я не приводить тут похвальных ахматовских слов в адрес моего чтения. Не запомнились таковые. А может — и не было вовсе. Было — внимание. Отчетливое. Со стороны пожилой женщины. Не прервавшей юного декламатора ни словом, ни вздохом. А следил я за ее лицом внимательно. И прервал бы себя незамедлительно при малейшем сигнале рук, глаз, губ, дыхания Ахматовой, возвещавших об утомлении, вообще — о скуке.
Похвальных слов не запомнил. Если они и были, принял их как должное. Зато уж «критическое замечание», переросшее затем в маленькую дискуссию с поэтессой, врезалось в память стальным осколком! Причиной дискуссии послужило одно из моих тогдашних стихотворений, озаглавленное прозаическим словом «Ботинки». В нем — двенадцать строк. Приведу их полностью. Как вещественное доказательство. Как свидетельское показание. По просьбе обвиняемого.
Ботинки Как машины грузовые, на резине мы ходили, мы закаты коротали… А вчера в универсальном магазине мы купили греко-римские сандалии. Оплатили цвета пыли макинтоши, в цвета стали мы представились беретах. Мы пошили сногсшибательные клеши, надышались из нерусской сигареты. И мелькали греко-римские сандалии, и ходили мы — плакаты и картинки. …Но всегда нас под кроватью ожидали грузовые эпохальные ботинки.Стихотвореньице сие было написано в конце пятидесятых годов, однако уцелело в моем сознании и к середине шестидесятых, когда в числе других прочитал его Анне Андреевне. На этом стихотворении Ахматова как бы очнулась и высоким (по смыслу), и одновременно низким (по тембру) своим голосом произнесла в мою сторону:
— Ботинки — нерусское слово… У нас — башмаки или сапоги. А ботинки — не наше. — Замечательно, что слово «нерусское» произнесла она слитно, как эпитет, а не как отрицание.
Теперь-то я понимаю, что нужно было согласиться со «старшим по званию», по крайней мере — не перечить Анне Андреевне. Тем более что, как выяснится в дальнейшем, Ахматова была ближе к истине, нежели я. А тогда на положении случайного гостя (гостя не только знаменитой поэтессы, но как бы и самой госпожи Поэзии) я попытался не совсем вежливо противоречить, отстаивая, как мне думалось, свою точку зрения. Мне тогда показалось, что Ахматова, мягко говоря, отстала от жизни, ну, не отстала — отклонилась в свою интеллектуально-затворническую, башенно-отсутствующую сферу, точнее — атмосферу, где люди ее круга, изъясняясь, все еще по инерции употребляли слова своего времени: «салон», «кафтан», «баретки», «штиблеты», «калоши», «гамаши», игнорируя укоренившиеся, в том числе и «ботинки» (от старинного, хотя и нерусского, «ботфорты» и далее — «боты»); в дальнейшем я, памятуя об ахматовском упреке, подумывал о замене «ботинок» вульгарными, лагерно-солдатскими «бахилами», но слово это резало даже мой не столь изысканно-утонченный слух своей не то чтобы непоэтичностью, но как бы — чужеродностью в контексте лирического жанра. И, отвечая на реплику Ахматовой, съязвил:
— Может, «лапти» вместо «ботинок» употребить? Или какие-нибудь «чуни», «опорки»?
Ахматова ничуть не смутилась. Она лишь пояснила:
— «Опорки» — это производное от «сапог». Когда отрезают, отпарывают сносившиеся голенища и ходят в одних… опорках.
Вообще-то, я и сам к тому времени знал, что такое «опорки», но дух противоречия возобладал, и я попытался взбрыкнуть еще разок:
— А я-то считал, что опорки потому так зовутся, что на них… ноги опираются! «Опора в превратной судьбе!» — процитировал я Лермонтова, чисто машинально, даже как бы из озорства, ожидая, что вот сейчас Ахматова взорвется, скажет: «Не кощунствуйте!» — или что-нибудь в том же духе, но Анна Андреевна стоически промолчала. Лишь посмотрела в мою сторону этак… сочувственно.
Теперь-то я понимаю, что Ахматова была права, протестуя против смысловой неорганичности «прозападных» ботинок, вставленных в стихотворение, обладающее патриотическим задором. И что с того, что я никогда — ни во время написания, ни позже — не считал сей опус русофильским. Написалось-то непреднамеренно, импровизационно, почти бездумно. Думалось: обойдется. Не обошлось. Слово хоть и не воробей, однако летает. Даже такое заземленное, как «ботинки». Особенно — в «воздушном пространстве» ахматовского утонченного надсоциального слуха. Небось, антизападный «еврофобский» душок стишка так и шибанул, будто квасная отрыжка… Вот Анна Андреевна и не смолчала. Не из протеста к моей «направленности» — от нетерпимости к элементарной поэтической неряшливости, несоответствию, стилевому диссонансу.
Но возвратимся к нашему визиту в угловую двенадцатую, где я отважился вручить Ахматовой доморощенную поэтическую продукцию. Последствия «дарения» оказались весьма неожиданными: назавтра Анна Андреевна прислала ко мне порученца за пишущей машинкой и копировальной бумагой. Ахматовой понадобилось что-то срочно перепечатать. А так как я прихвастнул своей домашней типографией, то есть — был легок на помине, то и решили просить машинку не у кого-то из «мэтров», обитавших тогда в Комарове, а прямиком у самодеятельного автора «Снов» и прочих косых сучьев. До сего дня я так и не выяснил: имелась тогда у Ахматовой своя пишмашинка, или отсутствовала, или — сломалась и бездействовала? (Теперь, после недавнего опубликования в «Новом мире» заметок об Ахматовой Анатолия Наймана, вывод таков: А. А. вообще не любила «машинок», предпочитая им классическое Перо.)
«Технику» возвратили мне через день-другой вместе с копировальной бумагой, той, что была использована, однако использована удивительно аккуратно, во всяком случае с копирки, повернутой «лицом» к свету, запросто считывался текст, отбитый кем-то из ахматовского окружения на весьма шумной, нещадно тарахтевшей «Москве». Листы копирки использовались почему-то единожды, под каждую последующую страницу текста подкладывался новый лист «переводки». Тогда же подумалось: ничего себе живут! Непонятную мне расточительность приходилось толковать, опираясь на свои плебейские запросы и возможности: дескать, вот она, голубая кровь, с ее замашками, госпожа, поэтическая дама — вот и чудит, вот и размахнулась.
Даже когда вчитывался в повествовательные строчки, предварявшие «Реквием», в которых говорилось о стоянии в очередях возле тюремного подъезда, в голову почему-то не пришла «крамольная» догадка: а ведь тебя, дурака, похоже, приглашают к прочтению опальной поэмы, потаенного слова… Пусть — к прочтению «наоборот», навыворот, в зеркальном, так сказать, варианте, к прочтению сквозь черную, ночную бумагу, наложенную на дневной животворящий свет, что вызревал помаленьку за окном, в пространствах и помыслах Отчизны. Но вот же, занятый собой, не сообразил, не догадался, что пожилая, грузная, величественно-глуховатая женщина способна на какой-то экстравагантный, протестующий, «молодежный» жест. Разве не могла она таким образом взять и поделиться сокровенным, почти запретным? Могла, конечно, и делилась… Но вряд ли — с первым встречным. И «трюк» с копиркой наверняка принадлежал (по замыслу) не ей, а тому, кто перепечатывал тогда поэму. Кто знал меня основательнее, нежели хозяйка поэмы. Этим своим соображением я ни в коей мере не хотел бы умалять бесстрашие ахматовского мужества, отвагу ее сердца, которое к тому времени наверняка еще не оттаяло от стояния в ежовских очередях, замученное, однако не сломленное, ибо чем для него, да и не только для него, был в те годы «Реквием»? Ведь и впрямь — не столько «литературным произведением», сколько заупокойным плачем по убиенным, по растоптанной свободе, но еще и — обвинительной речью Поэта на процессе возрождения справедливости (не призывом к Возмездию, однако, ибо раба божья Анна к тому времени уже целиком и полностью исповедовала милость наджизненного Добра).
И тут через какое-то время меня вновь приглашают в «нумер» к Ахматовой и вручают сроком на одну ночь экземпляр «Поэмы без героя», отпечатанный также на моей машинке. И ставят, причем вполне серьезно, непременное условие: изложить о поэме «собственное мнение», предъявить его от лица нового поколения поэтов — автору. Вот так, и ничуть не меньше.
Меня подвело мое трудноотмываемое поэтическое невежество. Помогла — интуиция, врожденный нюх на прекрасное. Излишней самонадеянностью хоть и не страдал, однако оценить предложение «должным образом» все ж таки не сумел. Почему? А потому что поэзия Ахматовой не была для меня в те годы откровением, я не проник в нее, не упивался ею взахлеб, не обмирал над нею от счастья и восторга, как, скажем, над волшебной лирикой Александра Блока, обнаженно-беспощадными поэмами («Поэма конца», «Поэма горы») Марины Цветаевой, над ее, Марины Ивановны, проникающей прямиком в грудную клетку, надполой, не женской и не мужской (сверхлюдской!), «политикой» стиха, над есенинским «несказанным светом», северянинским необъяснимо прелестным, неповторимым псевдоизыском. Ахматову я лишь трепетно уважал к тому времени, как иногда уважают коллекционеры редчайшую реликвию, способную к тому же не просто ютиться под охранным музейным стеклом, но и подавать вам при случае руку, дарить улыбку-мысль, облеченную в классической пробы стихи. Ахматову, живой, теплый мрамор ее лирики полюбил, освоил сердцем — гораздо позже. Для меня она долго оставалась «закрытым» поэтом, закрытым не искусственно, не чьей-то злой волей — моим добровольным восприятием мира, слова, любви.
Отчетливо помню, что поэма Ахматовой не только не потрясла меня, но и не взволновала, не зацепила, оставила равнодушным. Доказательством тому — недавние мои сомнения, развеянные на днях Андреем Битовым: что именно читал я тогда — «Поэму без героя» или «Реквием»? Битов без колебаний назвал «Поэму без героя». И добавил, что Ахматова просила высказаться о поэме и его, Битова. И что якобы именно он относил хозяйке список поэмы, так как я будто бы в тот вечер перебрал или просто струсил. Таким образом, получаются два варианта: либо Ахматова вручила поэму тому и другому, либо одному вручила «Поэму без героя», а другому — «Реквием». Напрашивается и третий вариант, а именно: что Андрей Георгиевич кое-что запамятовал, ибо прекрасно помню, как мямлил я, выкладывая Ахматовой свою «версию» прочтения, а точнее — отговорку. Тогда как «в пользу» битовской забывчивости недавно отловлен мной в периодической печати презабавный аргумент: в апрельском 1989 года номере журнала «Новый мир» в комментариях к своему роману «Пушкинский дом» высказывает он предположение, а точнее — утверждает, что стихотворение «Напишу роман огромный…» сочинил я как бы в меркантильных целях, дабы выклянчить у Андрюши деньги на выпивку. Будь сие откровение Андрюши «жизненным фактом», что ж, подтвердить его было бы для меня большим удовольствием: как-никак в литературную «историю» попал. Аж на страницы «Нового мира». Но фактец, сообщаемый уважаемым писателем (и журналом), малость подыскажен. В жанре литературного анекдота необходимо соблюдать хотя бы одно правило: терпеливо дождаться, покуда «объект осмеяния» закроет глаза или протянет ноги, а там уж, как говорится, описывай его на здоровье. В своих «комментариях» Андрюша сочинил детективную историю со следующей «коллизией»: однажды в Петербурге, в середине 60-х, стихотворец Глеб Горбовский, зайдя в поисках выпивки в помещение издательства «Советский писатель» (местное отделение), каким-то образом, несмотря на врожденную близорукость, не применяя к администрации насильственных действий, получил информацию о том, что с прозаиком Битовым заключен договор на роман под названием «Дом», и тут же, как говорится, не отходя от закрытой для него кассы издательства, сочинил стишок, якобы навеянный этим вдохновляющим заголовком будущего романа. Сочинил и рысцой потрюхал за счастливым прозаиком, подписавшим казенные бумаги. Ворвавшись затем в квартиру к прозаику, стихотворец начинает читать как бы «пророческие» стишки, оповещающие о намерении автора стишков написать роман под тем же мифическим («Мертвый дом» Достоевского, «Дом» Федора Абрамова и т. д.) названием, который час тому назад машинистка издательства отпечатала на договорном бланке. Битов приходит в изумление, даже в экстаз (о, поэты, о, провидцы!) и тут же спешит в ближайший гастроном за бутылкой «косорыловки».
Короче говоря, «все не так, ребята!» — как пел затем В. Высоцкий. Двадцать пять годков миновало. Подвело Андрюшу воображение. Оный стишок был сварганен как бы про запас, на всякий случай. Отстраненно от подписания Андрюшей того знаменательного договора на свой «Пушкинский дом». Целый список свидетелей могу представить тому факту. Живых и мертвых. В том числе — свидетельство редактора почти всех моих стихотворных сборников Игоря Сергеевича Кузьмичева, не единожды редактировавшего прозу Андрюши Битова. Только ведь я не в обиде. Наоборот — в восторге! Попал в историю. А вот и сам стишок. Привожу его для объективности. Тем более что Андрей в своих «комментариях» не приводит из него ни строчки. И еще потому, что ранее сей стишок ни в одну из моих книжек «не протиснулся». Цыкали на него ранее, дескать, знай свое место. Один из очередных сборников позволили назвать «Возвращение в дом» — и на том спасибо. Но времена все-таки меняются, черт возьми. И я не только публикую этот дурацкий стишок, но и сам пишу… роман. Вот только с названием погожу покамест. Не вытанцовывается. А стишок — вот он. И посвящается, с обоюдного согласия, Андрюше.
Напишу роман огромный, многотомный дом-роман. Назову его нескромно, скажем — «Ложь». Или — «Обман». Будут в нем козявки-люди драться, верить, пить вино. Будет в нем рассказ о плуте. Будет — он, она, оно… Будет пламенной идея под названием — «Тщета». Вот опомнюсь и затею, напишу томов полста. Сам себе куплю подарок: домик с бабушкой в окне. А остатки гонорара не пропью — снесу жене.Итак, с анекдотом покончено. Необходимо вернуться к ахматовской поэме. Что ж, память человеческая — не фотопленка, даже не рисунок. Тем более у сочинителя. Память поэта — образ.
Нет, я не проклинаю скудные возможности своей памяти, я лишь благодарю Всевышнего за то, что память сия не сохранила во мне того беспомощного лепета, которым изъяснялся я с Ахматовой, делясь впечатлениями о ее легендарном творении. Значит, так нужно было, чтобы Ахматова, приглашая меня к Поэме, все-таки не пустила меня в нее, морально не собранного, расхристанного, неуравновешенного. Пройдут годы, и сам я постучусь в ее Книгу, и долго буду стоять под ее сводами, озираясь, словно в гулком храме.
Что ж, я действительно не помню своих, наверняка жалких, слов о Поэме, но впечатление беспомощности от неумения высказаться ясно, предельно искренне сидит во мне по сию пору. Недаром Поэму хотелось сравнить с зашифрованным письмом, отправленным автором кому-то из своих близких по духу, посвященных, владевших ключом разгадки. А тут подвернулся я, и Поэму на какое-то время вручили мне, постороннему как бы человеку.
Беспомощность порождала досаду. Я стал горячо лепетать вовсе не о Поэме, а про… самое Ахматову, уверяя присутствующих, что Ахматова для меня как бы человек-экспонат из другой эпохи, классик, завершивший восхождение на Олимп где-то с началом Февральской революции, что она для меня как бы и не человек вовсе, не живое существо, а всего лишь символ, метафора, воплощенный образ Барда, и что «Белую стаю», а также «Четки» я недавно отнес к букинисту, а денежки пропил, и что дали за них гораздо меньше, чем за Блока издательства «Алконост», отнес, потому что книжки сии — все равно что пушкинские или тютчевские, что человека, написавшего их, невозможно встретить на планете живым, тем более в Комарове, как нельзя встретить где-нибудь в Вырице Ал. Блока (в Вырице можно встретить Ал. Кушнера), а на Васильевском острове — Баратынского (на Васильевском острове можно встретить Виктора Соснору). И тогда Ахматова закричала, не в ужасе и даже не возмущенно, а вот именно — убежденно, со знанием дела и одновременно как бы заклиная:
— Гомер-р! Гом-мер-р! Бесплотный, легендарный! Вот кто Поэт! Гом-мер-р! — чуть в нос, попутно, всей грудью извергла она из себя начало мысли и, сделав глубокий вдох, продлила ее на выдохе: — Гомер-р… Вот! А мы все — люди. Привычные человеки. Живые или проживавшие. Поэт — звук, бестелесная музыка, звучащая легенда! Свобода… А мы… — и, подумав: — А мы — это мы.
Анна Был какой-то период — не в жизни, а над нею — в мерцании звезд, в доцветании ангельских истин, в Комарове — в Рождественский пост. Восседала в убогой столовой, как царица владений своих, где наперсники — Образ и Слово, а корона — сиятельный стих! В раздевалке с усмешливой болью, уходя от людей — от греха, надевала побитые молью, гумилевского кроя меха. Там, в предбаннике злачного клуба, что пропах ароматами щей, подавал я Ахматовой шубу, цепенея от дерзости сей. И вздымался, по-прежнему четкий, гордый профиль, таящий укор… Как ступала она обреченно за порог, на заснеженный двор. Уходила тяжелой походкой не из жизни — из стаи людей, от поэтов, пропахших селедкой, от терзающих душу идей. Провожали не плача — судача. Шла туда, где под снегом ждала, как могила, казенная дача — все, что Анна в миру нажила.32
Перед своей неожиданной смертью Федор Александрович Абрамов выглядел моложаво; на протяжении, скажем, десяти заключительных лет своей жизни человек этот неизменно появлялся в писательском Доме творчества в Комарове: там он работал над собственной прозой, читал книги других авторов, питался в общественной столовой, хаживал «на незначительные расстояния» (на более значительные не позволяла хаживать простреленная на войне нога), играл, причем крайне азартно, на плохоньком домтворческом бильярде, кому-то приветливо-изумленно улыбался, а при взгляде на кого-то ребячливо-обиженно хмурился… и, самое замечательное, не просто был похож на писателя, но являлся таковым, по всеобщему негласному мнению.
«Кто сейчас в Комарове?» — бывало, справится кто-либо из недоверчивых, не без причины сомневающихся в писательских авторитетах, и если оказывалось, что в Комарове сейчас Федор Абрамов, то и успокаивался моментально, ибо «Федор Абрамов» звучало не только солидно, основательно, убедительно, но и — беспрекословно. Федор Абрамов действительно был писателем. Причем русским. Классического «замеса». А проза его — художественным словом. И оценка сия выговаривается мной безо всякой запоздалой натяжки.
Вспоминая Абрамова, я мог бы подробнейшим образом составить мозаичный портрет писателя из многочисленных осколков его ярчайшего облика, разбившегося в одночасье о серый надмогильный камень, но вот же — существующего, точнее, немеркнущего в моей памяти по сей день. Достаточно было бы обозначить цвет и блеск его долго не старевших, темно-стойких волос, и не признававших оптики глаз, и т. п. набора внешних свойств, коими всяк усыпан, будто деревенский малец веснушками; упомянуть о характерной походке (едва уловимая хромота), о характерных словесных оборотах — знаменитое для тех, кто общался с Федором Александровичем, «так-само» — о характерной защитной позе огорошенности, когда Абрамов, отвечая на чей-либо неожиданный или каверзный вопрос, подыскивал ответ с видом человека если не глубоко оскорбленного, то воинственно изготовившегося к наскоку, во всяком случае — не повергнутого в замешательство, привыкшего давать отпор…
То есть можно и таким вот мозаичным способом оттенить если не образ, то хотя бы подобие силуэта личности, отпечатавшегося в твоем воображении достаточно прочно и контурно, будто веточка доисторического папоротника на известняке серого «мозгового вещества». И все-таки я предпочту другой способ воспроизводства, а именно — какой-либо сюжетный зигзаг, конкретный случай, молнию драматургии, то есть извлеку из прошлого весьма характерный жизненный факт, сверкнувшее действо, происшедшее с Федором Абрамовым в «мире людей», а не в абстрактной жизни, причем на моих глазах.
Однажды к писателю Абрамову (бывшая квартира Виталия Бианки на 3-й линии Васильевского острова) пришла незнакомая женщина лет сорока. Как выяснилось — поэтесса. Она принесла стихи. Не на рецензию, не на казенный отзыв. Ей, видимо, хотелось убедить мэтра в своей причастности к поэтическим тайнам, в обоснованности притязаний, что она, дескать, не просто «человек со стороны», но как бы человек, помазанный с Федором Абрамовым одним миром.
Стихи у неожиданной поэтессы оказались и впрямь неординарными, даже весьма яркими, мощными, что в обыденном течении жизни случается крайне редко и потому повергает отдельных любителей всего изящного не просто в дополнительные раздумья, но и как бы в непредсказуемый восторг. Упомянутые стихи взволновали и Федора Александровича. И не просто взволновали, но озаботили. Они легли ему на сердце не просто музыкой метафор, но тяжким грузом песни, которую нельзя… петь вслух. Нет, стихи поэтической гостьи не содержали в себе ничего диссидентского, противного тогдашнему официальному слуху и нюху (середина семидесятых), загвоздка таилась даже не в самих стихах, а в одиозной личности их автора: поэтесса оказалась из недавних арестанток, причем не из «политических», а сугубо уголовных, тянувших срок за «неумышленное убийство», причем за убийство замечательного русского поэта Николая Рубцова, чьи стихи любила и любит вся просвещенная Россия, а Федор Абрамов стихи поэта-земляка (оба родом с архангельщины) просто обожал.
Визит поэтессы к Ф. Абрамову совпал с моим приходом к писателю то ли за обещанной мне взаймы «денежкой», то ли с возвращением этой «денежки» уважаемому кредитору. Сидел я в задней комнате-кабинете, когда в дверь квартиры позвонили — и вошла женщина со стихами. А надо сказать, что тогда по отношению к этой женщине у меня уже имелось скороспелое «собственное мнение». Примерно за полгода до ее визита к Абрамову она уже приходила ко мне «исповедоваться» как к человеку, не только знавшему Рубцова, но и дружившему с ним в начале шестидесятых.
Посещение упомянутой поэтессой в столицах целого ряда отдельных избранных квартир литературного толка имело будто бы своей целью доказать недоказуемое — смутную невиновность поэтессы в приключившемся в Вологде злодействе. Точнее — отсутствие умысла в содеянном. С завидным упорством женщина тщилась не просто очиститься от тяжкого греха путем раскаяния, не просто выклянчивала снисхождение в писательских кругах, но и как бы искренне считала себя виновной не полностью — скажем, всего лишь наполовину.
Вологодские друзья Рубцова, поэты и прозаики, откровенно и во всеуслышание проклинали эту женщину, иначе как убийцей не величали, в сторону примирения с ней не делали не только шагов, но и микронно измеряемых шевелений духа. То есть ни о каком божеском, милосердно трактуемом подходе к проблеме не было даже речи.
А между тем женщина эта не просто пришла однажды в однокомнатную, чудом обретенную квартиру вечно бездомного поэта и убила его (задушила!), но… провела с ним многие мучительно-страстные годы близких отношений, где было все: и слезы, и любовь, и ненависть, и яростная конкуренция пишущих стихами, неотвязная ревность, прочие комплексы и не менее неотвязная… привязанность, если не сказать более торжественно.
Вот почему Федор Абрамов, ознакомившись, так сказать, с «делом», а не только со стихами даровитой поэтессы, однажды на послеобеденной прогулке в Комарове задал мне после некоторых колебаний, причем не без потаенного вызова, давно назревший вопрос:
— А скажи-ко мне, Глебушка… то-само, как ты относишься к Н.? Ну, которая Колю Рубцова порешила? Читал ты ее стихи?
— Читал. Сложное у меня чувство ко всей этой трагедии, Федор Александрович, — попытался я ускользнуть от прямого ответа, вильнуть вбок и вдруг застеснялся утайки «собственного мнения», казавшегося мне кощунственным, особенно после разговора на эту тему с вологодскими друзьями, обожавшими Рубцова всерьез, а порой — слепо, не перестававшими искренне, в стихах и прозе, а также изустно оплакивать загубленного на пути к Истине поэта. — Понимаю, стихи у нее… сильные. Густые. В стихах она себя с кровожадной медведицей сравнивала… — вспомнил я реплику одного вологодца, толковавшего мне суть и образ «беспощадной поэтессы». — У нее ведь и книжка отдельная выходила, — зачем-то напомнил я Абрамову.
— Вот и напиши ей рекомендацию. Для вступления в Союз писателей. Напишешь? — тихо, неотчетливо, как бы самого себя спрашивая, обратился ко мне Федор Александрович.
— Не напишу.
— Вот и я… не написал. Духу не хватило. А точней — милосердия. Милостыню подать — это мы все горазды. Сунуть кусок в зубы или сотнягу… И — отвернуться. А чтобы сердцем пригревать сознательно — кишка тонка. Дурно воспитаны для такого геройства. Колю Рубцова жалко: на полдороге срезали парня. Однако Рубцов — поэт. Что само по себе значит — долгожитель. Жить ему предстоит много. Покуда русское слово в обиходе. А вот баба… Которая убила… Бабу тебе не жалко?
— Так ведь она — того… убийца.
— Думаешь, рада она, что убила? Как бы не так. Она ведь, так-само, и себя убила… на две трети. На войне и то неприятно убивать, по себе знаю. А тут — не врага пришлось — близкого человека порешить. С которым обнималась-миловалась. Каково? Только представь: убить. Да еще — близкого. Смог бы ты убить, скажем, свою маму? Или женщину, с которой… Или…
— Дело случая, так я понимаю. Кто ее просил убивать? Хотя опять же: а вдруг драка, поединок? Кто кого?
— Дьявол попутал. Так у нас говорили. А вообще, так-само, не нашего ума дело — обсуждать, Глебушка. Народный суд ей семерку припаял. А Высший Судия свой приговор вынесет. В свое время. Да и то сказать: она что — профессионалка в этой области? Что ни день мужиков щелкала? Как вошек? То-то и оно. Небось сама не чаяла. Такой билет не каждому выпадает, чтобы человека… тем более — своего.
— Да свои-то, Федор Александрович, чаще всего и убивают друг друга. Во всяком случае — мысленно. Потому что конфликтуют чаще, живут в постоянном соприкосновении, лоб в лоб, как на передовой.
— Во-во! Ненависть — как продолжение любви. Пытка, тиранство — как продление ласки. Слыхали… Нет правил без исключений. А правила таковы: не убий! И одновременно на тех же значительных страницах: не судите, да не судимы будете!
Изначальный, крестьянский, архангельский Федор Абрамов, как всякий, рвавшийся к свету знаний землежитель русской деревни, начинал если не воинствующим безбожником, то — «убежденным атеистом». Членство в партии, война, служба в подразделениях СМЕРШа, кафедра в Ленинградском университете, талантливое писательство… Вот путь. Но — куда? К какому убежденческому итогу? Неужто — безропотно к слепой, беспросветной могиле? Или, по крайней мере, к сомнениям? К колебаниям и прозрениям? В обход нерушимой теории материализма, этого холодного монолита, надгробного камня человеческим надеждам? Надеждам на бессмертие нематериальное, небиологическое?
Поздний Федор Абрамов — а именно с таким, «испившим чашу», почти продравшимся через «тернии» страданий к звездам богоощущения человеком довелось мне общаться в Комарове — был не просто интересен, неповторим, сулящ и творящ добро, перспективен, но и подлинен, ибо вызревал для многих страждущих, нищих духом, взалкавших правды, а не только для «упоения поединком» и уж совсем не для откорма гордыни, ублажения тщеславия.
Помнится, в прогулочных своих рассуждениях, бредя по комаровским асфальтированным тропам, в одной из бесед «теософского» наполнения обратился я к Абрамову со следующим, земных свойств, сомнением:
— Одного не могу представить: как это Всевышний находит пути к каждому из нас, к любому из пяти миллиардов?
— А ты знаешь, — просиял в догадке хитренькой улыбочкой Федор Александрович, — знаешь ли ты, Глебушка, сколько современная американская ЭВМ операций в секунду производит? Сколько в ее памяти, ну хотя бы в одной только плате так называемой, сколько у нее там всевозможной информации собрано? А ведь ЭВМ — творение рук человеческих… всего лишь.
Умер он внезапно. Хотя и болел какое-то время. Внезапно для всех, кто его знал, наблюдал, читывал. Во всяком случае, для меня. Впечатление такое: играли в Комарове партию в бильярд, и Федор Александрович проиграл, что, в общем-то, случалось редко (в Комарове играли все примерно одинаково, но Федор Абрамов — чуть лучше других, причем жутко переживал, если у него не шла игра, и в такие минуты просто не хотелось у него выигрывать), так вот — как бы проиграл нечаянно, крайне расстроился и вышел за дверь бильярдной… На минутку. Для «прихода в себя», в душевное равновесие. Вышел, даже выбежал, однако на этот раз в бильярдную почему-то не вернулся.
Смерть, какой бы внешне малоубедительной причиной ни была она вызвана, никогда нельзя назвать несерьезной, легкомысленной, случайной, и тут я, конечно, не прав, толкуя о бильярдной и т. п. (в бильярдной мы чаще всего виделись — отсюда и аналогия). Приход ее, какой бы тривиальной ни оказалась причина, всегда событие как бы фантастического, сверхъестественного ряда. Можно, как говорится, в ложке утонуть, поперхнувшись, блином подавиться, куском непрожеванного мяса (примеров хоть отбавляй), а можно… на костре сгореть — за убеждения — или на кресте дух испустить. И то, и другое означает приобщиться тайн. А не просто — «отбросить копыта», как выражаются ныне.
Можно составить произвольный вульгарный список имен, из служителей муз например, гибель коих произошла как бы из-за пустяков, и, как всегда, начать этот список с Александра Сергеевича Пушкина, стрелявшегося с мальчишкой Дантесом, не отмахнувшегося от салонно-светских условностей, не уберегшего в себе гениальный дар божий, священную ношу, напрямую зависевшую от физиологической работы пушкинского сердца, пушкинского «бренного тела»; мол, подставлять такое сердце под пулю шалопая имел ли Пушкин право? — задавался подобным вопросом, в частности, философ Владимир Соловьев (в отличие от Абрама Терца, недавно опубликовавшего свои «геростратовы» «Прогулки с Пушкиным», задавался весьма тактично, скорбно, даже с благоговением к национальной святыне, каковой для нас является Пушкин). Лично я тоже не единожды терзался подобным вопросом. Не имея на то ни малейших оснований. Но… продолжим список. Горячий, как бы одним скачком преодолевший отпущенный век за двадцать семь лет Лермонтов. Дать убить в себе… Лермонтова! Какое, видите ли, мальчишество. Правда, и Пушкин вначале, и Лермонтов, оценивая «быстротекущие дни жизни», не скупились на откровения: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана?» — у первого, у второго: «И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка». Так ведь наверняка под горячую руку сказано! Хоть и обдуманно, однако до предельной степени не пережито. Совсем другое дело, когда эти же люди говорили: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать». Или: «Но не тем холодным сном могилы я б хотел навеки так заснуть…» Так что и никакое не мальчишество, а борьба начал (смерть — как второе начало неизведанного), столкновение крайностей в пространствах сознания той или иной личности. Для одних самое страшное — умереть. Для других — родиться. Но ежели с годами пришло к тебе убеждение, что возник ты не случайно, а по чьей-то воле, то и смерть примешь как должное, ибо хоть и в тебе, с тобой — но не твое, не тобой предопределено. Твое дело — идти по дороге. Достойнейшим образом. А выйти на нее, как и сойти с «маршрута», не твоя забота.
Обратимся к музыке. Петр Ильич Чайковский, хватанувший в ресторане, в холерный год, стакан сырой воды. Очень хотелось пить. Ощущение жажды всего лишь. Причем отговаривали: не пей! Откушай лучше чайку. Кипяченого. Нет же, сырой, из-под крана подайте. И выпил. С наслаждением самоубийцы. И через несколько дней болезни пал замертво. А Достоевский, куривший безо всякого удержу «жуковский» (от фамилии фабриканта) табачок? При астме, при ослабленном (падучая, каторжные нары) сердце. А Лев Толстой? Подхватившийся на старости лет в бега и заполучивший смертельную простуду на сквозном полустанке? А сколько гениев, прикипевших к рюмочке, недосчиталось человечество? А скольких…
Стоит ли продлять список? Список, фиксирующий последний прыжок в неведомое? Путь-то каждого из упомянутых в списке, по крайней мере, чудесен, неповторим. Однако же и поучителен. Имеем ли мы право, скажем, делать выводы такого содержания: в быту, как и в Бытии, необходимо быть одинаково совершенным? То бишь — поучать надо ли? Перед высшей правдой все равны: и гении, и «простые» люди. Потому как ниспосланную гениальность можно расценить двояко — как радостный дар, священное благо, а можно и как священный недуг, как душевное увечье, страсть (от — страдания), как крест, а то и как душепомрачение, затемняющее путь к Вечной Истине.
Думается, объективнее на сей счет выглядит, повторюсь, древнее: не судите, да не судимы будете. Ни Федор Абрамов (внешне — какие-то камушки в желчном пузыре доконали), ни Коля Рубцов (поединок с женщиной), ни даже Марина Ивановна Цветаева (распад иллюзий, беспощадность, безвыходность глухой повседневности), ни тем более Блок (утрата «воздушного замка», подмена Жизни существованием, как бы переход из романтической башни Поэзии в осклизлую пещеру Прозы), ни петля Есенина, ни пуля Маяковского или пуля в Клюева, ни заговор Гумилева, а точнее — заговор против Гумилева, ни стояние Ахматовой в тюремных очередях, ни отказ Пастернака от Нобелевской премии, ни многое другое — не скажут нам с предельной искренностью — а значит, и с предельной истинностью — о причинах раздора, разлада человеческого духа с так называемой окружающей средой. Не нам судить, повторяю. А если припомнить заклинание самого юного из них — Лермонтова, то и впрямь лучше не скажешь: «…Есть божий суд…» Самый, так сказать, объективный. «Он не доступен звону злата, и мысли, и дела он знает наперед». В вопросах определения тех или иных судеб на кого и опереться, как не на Суд Правды? Тем более что и суд, и судьба, и суть (правда) — слова, родственные по смыслу.
В завершение «смертного» пассажа хочется отметить одну «самовыпирающую» особенность: поэты, вообще художники прошлого века в основном умирали в своих постелях, исключение — добровольцы-дуэлянты, тогда как поэтов двадцатого века зачастую умерщвлял насильственный режим, включая и тех, кто кончал с собой от отчаяния. Такова выпирающая тенденция, усматриваемая невооруженным — аполитичным, центристским — взглядом.
33
Завершаю легенду о Комарове улыбкой, которая возникает в моем сердце при сочетании звуков, образующих имя Василия Павловича Соловьева-Седого.
Но прежде — благодаря воздействию на мою память целебного света той улыбки — выскажусь об одном чувствительном изъяне, образующем акцент сиюминутного времени, когда печать и теле-радио и все прочие «средства дезинформации», словно с цепи сорвавшись, поливают «насущные дни» одной лишь черной краской: то не так, это не этак — реки гибнут, души зябнут, крестьянин вымер, рабочий перестал быть мастеровым-умельцем, в магазинах пусто (хотя при этом толстяков не убавилось), словом — все плохо, гнусно, скверно. «А что, разве не так?!» — с вызовом переспросит меня любой из вовлеченных в так называемую перестройку-переделку. Да так, так… Но и несколько иначе. Так, потому что сказывается долгая, семидесятилетняя, обработка в духе противоположном, когда все расчудесно, лучше не надо, когда все у нас «самое-самое», у них же — мерзость запустения. Так-то оно так, но в истерически-критическом захлебе начинает помаленьку вызревать еще более печальная тенденция, когда опять-таки — крен, крайность, способная перевернуть лодочку, только у гребцов вместо розовых очков — темные, даже черные, когда молитва Николая Заболоцкого — «Нет ничего прекрасней бытия» — никого не только не трогает, но как бы даже раздражает.
И позабываем впопыхах… главное: что в «гениальном изобретении», имя которому Человеческая Жизнь, помимо всевозможных частностей (светлые минуты, часы отчаяния, личность и общество, биология и политология, короче — всех составных социальной и духовной мозаики бытия) есть понятие Жизни как чего-то цельного, нерушимого, монументального, что самое Жизнь — это и есть Свет несказанный, в какой бы житейской яме (тюрьма, безденежье, безнадёга, больничная койка, разлука, измена) ни ловила всполохи этого Света ваша духовная «конструкция», какой бы лаской или отравой ни поила она зрение вашей Веры, веры в верховенство Бытия.
Но вернусь… на землю, в Комарово. Для меня личность Василия Павловича Соловьева-Седого была ярчайшим источником именно такого, жизнеаккумулирующего света, излучавшего не просто любовь к земному существованию, но любовь ликующую. И это — при всей неизбежной грусти житейского Повечерья, а именно в эту «заключительную» пору его жизни довелось мне приобщиться ее тайн. Нет, житие Василия Павловича не было еще растворением в любви к ближнему, как к самому себе, но, выражаясь дотошливым бюрократическим слогом, «тенденция» проживания в данном направлении уже намечалась и даже просматривалась.
Василий Павлович Соловьев-Седой вращался в гуще общества, даже как бы на его поверхности, на подмостках, не просто жил-существовал, но чаще — выступал, держась на виду. Он писал мелодические, ласкающие слух песни, в основе которых — русская напевность и трепетный лиризм скудной природы нашего так называемого Нечерноземья, скудной — в смысле не пышной, скромной. Был он сыном псково-витебских крестьян. Обличье имел заурядное, не демоническое, волосики на голове до скончания дней оставались у него русыми, он так и не сделался по-настоящему седым, вопреки своему псевдониму. Глаза серые, щеки мясистые. А душу содержал в себе поющую, певчую, однако не кричащую, задумчиво-изнывающую, истаивающую в сладких звуках, к тому же — пейзажно-размашистую.
Познакомился я с В. П., когда он был уже пожилым человеком, шестидесяти лет. Но человеком интересным. Не все еще, но с каждым годом все более. Помеченным к тому времени и славой, и денежным достатком, и наградами, и любовью ближних, а также любовью аудитории, но главное — усталостью от ига «земных благ». Он уже запросто мог, проснувшись в ночи где-нибудь «посреди Германии», в пустынном, гостевом генеральском коттедже, плюнуть в хрустальную вазу, накануне преподнесенную «маршалу советской песни» тамошним политработником, поднесенную не с «любовью к ближнему», а врученную машинально, из рук в руки — с плеч долой, как бы всученную, навязанную ритуалом, а потому и отношение к ней было соответствующее, а именно — усталое, неискрометное, то есть — такое же машинальное.
Вот говорят, что критика у нас любит… мертвецов. Особенно в искусстве, литературе. И пуще всего тех, кому недодано при жизни. Разумеется, речь идет о людях самостоятельного, оригинального дарования. И действительно, стоило В. П. уйти со сцены, отдать богу душу — и его моментально призабыли. А ведь при жизни любили всенародно, так, по крайней мере, казалось со стороны. Призабыли, потому что при жизни было ему выдано сполна. И даже сверх того. А, скажем, Николаю Рубцову или Владимиру Высоцкому «отпустили положенное» после их гибели. Официальная любовь к мертвецам — это как бы вздох облегчения: наконец-то заткнулся, гениальнейший ты наш… Любовь к талантливым мертвецам собратьев по перу или кисти также не бескорыстна: мертвец — не конкурент. Наконец-то не конкурент. То есть — любовь из-за уменьшения в «любящем сердце» вещества зависти. К деяниям «объекта».
Несколько раз В. П. прихватывал меня с собой в поездки, в том числе заграничные, туда, где все еще «таились» по загородным, лесисто-замаскированным гарнизонам наши наученные горьким опытом июня сорок первого войска. Там, в Германии, Венгрии, Чехословакии, Польше, мы пели «нашим мальчикам» песни, читали стихи, дабы они не унывали на чужбине, не писали родителям грустные письма, не убегали из-за колючей проволоки в самоволку, а то и не стрелялись бы насмерть от незримой болезни, имя которой — Тоска Безысходная, или ностальгия, или все та же заурядная неволя, несвобода, терпеть которую умом накладно, а сердцем — мучительно, а то и невыносимо.
Приведу несколько выпирающих из моей памяти сюжетных зигзагов, как бы два-три заснеженных временем пня, торчащих в пустыне пережитого, связанных для меня с образом (меньше — с обликом) В. П. Соловьева-Седого.
Где-то в Германии, в казармах бывшего эсэсовского гарнизона (дивизия «Мертвая голова») проводилась очередная встреча В. П. с «нашими мальчиками». Давали приличный — по протяженности, времени и качеству — концерт. С пением соловьевских песен малоизвестными солистами, с конферансом, чтением мною стихов и неподцензурной, весьма раскрепощенной беседой-выступлением самого «маршала песни». Политработники, имевшие ранее дело с В. П., трепетали перед началом таких вот раскрепощенных, непредсказуемых «бесед» небеспричинно. Ибо нежелательные «прецеденты» своемыслия «маршала» имели место и ранее — в других гарнизонах.
В тот вечер Василий Павлович был чем-то явно перевозбужден. Видимо, с кем-то из местного начальства он уже побеседовал, и довольно откровенно. И весь как бы помаленьку закипал. Как бы вскипывал время от времени, пуская обжигающий словесный парок изо рта, невзирая на чины и звания тогдашних его собеседников.
Мимо меня промчался взмокший от «душевного трепета» политический полковник (из политуправления дивизии), разбрасывая на бегу слова: «Что он делает?! Что он себе позволяет?! Остановить немедленно! Убрать со сцены!» Стало ясно, что Василий Павлович «взял круче», нежели обычно. Но почему-то мысль о вызволении народного композитора из идеологической беды в голову не приходила: слишком В. П. представал в моем воображении неуязвимым, слишком много у него было славы, наград, званий (не единожды лауреат, Герой, народный СССР, экс-депутат…), слишком много авторитета. Весьма непробиваемой выглядела на нем броня, сотканная из всех этих «Подмосковных вечеров», «Вечеров на рейде», «Соловьев, соловьев…», «Солнечных поляночек», «Друзей-однополчан» и «Если бы парни…», слишком удобоприемлемой, пронзительно-проникающей вытекала из образа этого человека музыка, складывалась легенда о нем в умах слушателей, и военнослушателей в том числе, слишком не зависящим от внешних обстоятельств делал этого человека песенный дар, чтобы страшиться каких-то там последствий и неувязок, могущих возникнуть из его выступления перед солдатами.
А Василий Павлович, разговорившись тогда не на шутку, понес и впрямь нечто необычайное с точки зрения политуправления — крамольное, расшатывающее «устои». Взглянув на В. П. из-за кулис в просвет занавеса, я застал его вдохновенным и одновременно деловым, дающим практический совет «мальчикам» — не шибко-то прыгать на вражеские пулеметные доты и прочие укрепления, не закрывать бездумно своими хрупкими телами амбразур, потому как нерасчетливо, потому как превыше всего смекалка в бою, а не… самоубийство, ибо, по мнению В. П., солдатские тела отлиты не из железа и камня, а из более драгоценного вещества, название которому — человеческая жизнь, вещества, легко пробивающегося из пулемета, и, наконец, что у Саши Матросова просто сдали нервы… Короче — скандал.
Знаменитого композитора решили убрать со сцены. И каким-то образом убрали, однако не позже того, как он полностью выговорился. Убрали, скорей всего, лаской, а не в приказном порядке. Каким-нибудь прелестным словом поманили. И В. П. попятился от оркестровой ямы за кулисы, в объятия разгоряченного политработника.
В те годы его вообще трудно было смутить, сбить с толку. На сцене он стоял твердо, как стоят на своем (в смысле убеждений). В связи с этим припоминается мне эпизод, приключившийся с В. П. на подмостках Волгоградского цирка. Амфитеатр помещения заполнен ветеранами в орденах и медалях и отчасти детьми. Но преобладают все-таки видавшие виды старики в регалиях. Василий Павлович выходит на манеж к микрофону, говорит какие-то слова, музыкант Марик Бек, сопровождавший композитора в поездке, ударяет по клавишам рояля, чтобы напомнить (перечислить) мелодии своего патрона, и в этот миг рояль под руками хилого Марика стремительно начинает разваливаться по частям. Причем безо всякого предварительного взрыва, то бишь диверсии, а как-то угрюмо-послушно, даже вяло, сам по себе начинает распадаться на составные. Из цельного, весьма изящного создания превращаться в кучу хлама. Как в замедленном кино. Правда — с нарастающим грохотом. Бедного Марика едва успевают выхватить из-под клавишного монстра. Причем одна из трех ног инструмента отлетела на середину манежа — к ногам Василия Павловича. И тогда в наступившей тишине возник скрипуче-насмешливый голос Соловьева-Седого:
— Вот это я понимаю… салют! Сталинград знает, как встречать своего композитора — по-военному. По-сталинградски!
И зал, конечно, грохнул аплодисментами. Ветераны заулыбались. Вспыхнул металл зубных протезов. Под куполом повис перезвон боевых медалей. И встреча пошла своим чередом. И закончилась успешно.
— Ну, Вася, ты даешь… — улыбнулась в проходе на сцену остролицая, темноликая старушка в цветастом платке и широких юбках, как выяснилось позже — незабвенная Лидия Русланова, выступавшая следом за В. П. и поразившая меня в тот вечер своей беспомощностью, точнее — покорностью, беспрекословным послушанием своему, годившемуся ей во внуки, гармонисту-аккомпаниатору, который покрикивал на нее и чуть ли не подталкивал к выходу на сцену, а затем, в перерыве, прямо в общественной, одной на всех гримерной-уборной закатал старушке на ноге юбчонку и всадил ей укол с необходимой дозой инсулина (диабет!). Поражало не то, как ловко и безапелляционно действовал молодой человек, а то — над кем именно совершал он свои благотворительные действия. Русланову я знал «с голоса», с пластинок, воспринимал ее как миф, как легенду, причем легенду в ореоле лагерного мученичества, этакая Жанна д’Арк от народной песни, пылавшая на костре бесправия… и вдруг — закатывают юбку, делают укол, выталкивают на сцену и разухабисто подыгрывают на баяне «Ва-аленки, ва-аленки…». Что ни говори, а утрата иллюзий всегда труднопереносима, потому что иссушает в сердце восторг.
Но вернемся в казарму, принадлежавшую некогда «Мертвой голове». После крамольных распространений на служилой публике о вреде закрывания живым телом пулеметных амбразур Василий Павлович остался за кулисами, в гримерной, вдвоем со мной, а вся остальная артистическая публика занялась продлением концертного действа. Молоденький солдатик, проглотивший при виде В. П. язык, принес нам в гримерную графин с чаем, вернее — с чайной заваркой. И пластиковое блюдо с пиленым сахаром. Солдатик удалился, не сказав традиционно-театральное «кушать подано». Я разлил по стаканам напиток, подсластил. И тут произошло нечто ужасное. Василий Павлович, думая о чем-то своем, скорей всего о произведенном «амбразурном» эффекте, машинально и жадно, и довольно поспешно, опрометчиво отхлебнул из стакана и… стакан, выпав из его пальцев, разбился о вековечный эсэсовский бетонный пол. Вначале я было подумал, что В. П. обжегся. Потом, когда лицо его пропиталось мертвенной бледностью, а затем как бы враз зажглось, раскалилось, когда рот открылся настежь, а изо рта — ни звука, кроме какого-то запоздалого побулькивания, тогда наконец-то осенило: В. П. поперхнулся! Он задыхается и сейчас умрет. Вот он уже потек со стула, руки опустились, потянув за собой плечи… И тогда я, безо всякой мысли, самопроизвольно начинаю колотить умирающего по тяжелой, тугой спине, изо всех сил, что было мочи! Покуда из его горла не выносится тяжелый, утробный выдох… облегчения. На спине замечательного музыканта, как выяснится чуть позже, обозначились отчетливые синяки.
Отдышавшись, Василий Павлович с тихой улыбкой посмотрел мне в глаза. Снизу вверх. Сидя на казенном стуле. Облитый казенным чаем. Мой обомлевший видок заставил мэтра заговорить первым:
— Испугался… Глебус?
— Не то слово. Я думал, вы — того…
— Помер, что ли? Не беда. Нашел чего бояться. Даже не почувствовал ничего… Будто в яму оступился. И сразу — с головкой. Как в детстве на реке.
Поразило отчетливое отсутствие у В. П. страха перед кончиной, невероятное, нет, не безразличие, а как бы смирение, даже умиление перед неизбежным (ожидаемым, но всякий раз — внезапным). Помнится, я отчетливо восхитился мужеством музыканта, ощутив благодарность за урок. Среди многочисленных институтов, прослеживающих взаимоотношения человека с бытием, отсутствует институт (или хотя бы школа) подготовки ухода… из жизни. Видимо, теория, берущая начало от сентенции — «каждый умирает в одиночку», и впрямь считается наиболее оправданной, а значит, и самой милосердной. Идеальным вариантом было бы, на мой взгляд, полное неведение, когда человек подходит к бездне физической кончины как бы с завязанными глазами (мозгами!), и, не долго размышляя, солдатиком — уть! В ничто. Или — в нечто. Но уж коли так не заведено среди живущих, если с детства нас приучают к всеведению, то, казалось бы, и помогите в постижении последней тайны. Укрепите волю. Путем снятия завесы неведения. Путем привыкания к «проблеме». Анестезия привыкания действительно «снимает»… Во всяком случае, боль несколько тупеет. По себе знаю.
Из «домашних», внутрироссийского масштаба поездок с В. П. ярче прочих запечатлелась поездка в Псков, посещение Псково-Печерского монастыря, проход под аркой через беленые врата, где в надвратном углублении перед иконой мерцал огонек лампады, дальнейшее продвижение по древнему булыжнику так называемого «кровавого спуска», где, по преданию, Иоанн Грозный самолично снес игумену монастыря голову «карающим мечом», а затем, опомнившись, в слезах и крови, целуя жертву и завывая зверем, на своих царских руках тащил обезглавленное тело в храм для отпевания.
«Служители культа», а происходило посещение в середине брежневских семидесятых, приняли нас радушно, даже торжественно. Накрыли стол «в стоячку» — бутерброды с семгой, икрой двухцветной, нарезали цитрусовых, разлили коньяк армянский по «лампадкам» хрустальным. Надо сказать, что делегация наша была крайне «серьезной», официозно-развлекательной, когда скучным, деловым людям вдруг приходит в голову как бы пошалить на выезде, в «другом измерении», к тому же люди тогда подобрались разномастные — от секретаря Псковского обкома (по идеологии) и главного редактора Лениздата Д. Т. Хренкова до сопровождающих начальство «поэтов и писателей» (фраза из журналистского обихода, как будто поэты не есть… писатели?), признанных и непризнанных художников слева, кисти и пюпитра.
Узнав, что приезд В. П. в монастырь совпал с днем рождения композитора, настоятель в облачении пропел Соловьеву-Седому «многая лета», благословив на благие деяния однотомником Библии новейшего, в те годы редчайшего, «закордонного выпуска» и огромным, видимо гусиным, расписным яйцом. Стояли предпасхальные дни, что подтверждал «постный», не мясной стол для гостей и множество крашеных яиц куриного происхождения, коими одарили, оделили и всех остальных мирян, то бишь — «членов делегации». На книжной полке у меня и поныне, лет пятнадцать прошло, сохраняется, вставленное в рюмку, сие пасхальное яичко, расписанное нестандартно: на одной стороне — овал с видом монастыря, на другой — образ идущего по земле Христа. Содержимое яйца высохло, при встряске слегка погромыхивает колотящимся камушком. Расписная оболочка уцелела.
По просьбе В. П. завели тогда и сохранившуюся в монастыре, вдали от социальных бурь старинную музыкальную машину, и она играла — как бы из глубины веков выносила какую-то успокоительную божественную мелодию, запрограммированную на огромном перфорированном диске.
И наконец, подошел «ответственный момент» занесения в книгу тривиальных отзывов и пожеланий, почерпнутых впечатлений. О времена, о постоянство нравов! И тут-то, несмотря на незамысловатость предложенного действа, большинство из гостей под различными предлогами постарались увильнуть от записи. Члены делегации поспешно заотворачивались от стола с яствами, где, потеснив икру и коньяк, лежала теперь шикарная рукописная книга в коже и металлических застежках. Но… все куда-то разом заспешили, засуетились, ринулись прочь, как черти от ладана. И немудрено: все они, за исключением В. П. и меня, состояли в безбожной партии. А начертать в торжественную монастырскую книгу что-либо атеистически-воинственное — в голову не вступило никому, да и совесть не позволила. Вот и пришлось беспартийному мелодисту отдуваться за всех, правда не без моей чернильно-мистической поддержки в виде поспешной закорючки, оставленной не без душевного трепета в анналах православной обители.
Как сейчас помню, к написанию «текста» помимо Книги прилагались чернильница медная с откидной крышкой и ручка-вставочка со стальным пером. В. П. с выражением лица серьезным и торжественным обмакнул перо в чернила и, с трудом удерживая «инструмент» в пальцах, уже тогда слегка скрюченных болезнью суставов, стремительно, будто по клавишам рояля, прошелся пальцами, начертал слова, для того времени — необычные: «Бог — есть!» После восклицательного знака — пара секунд раздумья, и снова текст: «Особенно Бог есть, когда он нам нужен». Начертал и расписался под признанием. Следом расписался я. И — никто больше. Хотя бы за хлеб-соль монастырскую таким вот способом поблагодарили, нет. Приняли все как должное — и коньяк, и торжественное пение молитв, и механическую игру музыкального ящика. Приняли и заспешили прочь, умиляясь собой: дескать, вот мы какие отважные да отчаянные до чего — во тьме предрассудков побывали, в пучине беспросветного мракобесия — в действующем монастыре! По нашей, кстати, гуманной воле действующего, а не по-божьей. Захотели бы — в два счета прикрыли монастырей. Как прикрыли многие сотни. И не просто прикрыли, а до основания развалили. Всю эту каменную сказку, кирпичную иллюзию. Чтоб не смущала надеждой. На абстрактное бессмертие. Не обучала созерцанию в себе милости Господней.
Сейчас, когда на земной поверхности от В. П. остались одни только чудесные звуки лирических песен, а сам он, страстно любивший всевозможные гастрольные поездки, как бы уехал в длительную, самую длительную из командировок, я, нередко бывая в Комарове, стараюсь не ходить дорожкой, ведущей к дачному участку В. П. И не потому, что в заснеженном его доме, смутно сквозящем меж сосен, не встречу прежнего хозяина, а потому, что на снежной целине вокруг этого дома не увижу вообще никаких следов. Кроме «бродячих», кошачье-собачьих. Тишина, объемлющая «мертвые дома», различна. Печальней и оглушительней та из них, что витает с некоторых пор над некогда шумным, счастливым домом. А именно таким, сочным и звучным, был в свое время комаровский дом Соловьева-Седого. И теперешняя вокруг него смертная задумчивость (как и над домом Николая Черкасова или драматурга Евгения Шварца, над казенной, литфондовской «половинкой» Анны Ахматовой) всегда щемяще-непереносима. Ибо хоть и молчит, но — взывает. Потому что ныне запорошенная снегом или сухими листьями, залитая плакучими дождями та или иная постройка, служившая некогда пристанищем живой душе, по-своему сопротивлявшейся гибели, и по сию пору излучает неповторимое свечение конкретной личности.
___________
Комарово… Нет в его окрестностях ни среднерусской смиренной мягкости, ни черноземной хлебной распахнутости степной, ни прикавказской знойной величественности, зато отчетливо ощущается нечто нордическое, сползшее с отрогов скандинавской возвышенности во времена глобальной ледниковой подвижки, нечто от северной суровой ясности, от прохладно-голубого взгляда на мир далеких викингов: сосны, граниты, озера, запах морской воды, пронизывающий макушку европейского материка, его бахромчатые, изрезанные фьордами выступы, разносимые при помощи северных, а в обратную сторону — балтийских ветров.
Есть в карело-финских пейзажах Комарова нечто угрюмо-сосредоточенное, этакая сумасшедчинка тихая, леонид-андреевская (недаром этот чудесный, но безрадостный, беспросветный русский писатель поселился однажды поблизости от сих мест, на Черной речке, чтобы не столько жить, сколько поджидать смерть…). Хотя опять-таки все относительно. И, к примеру, другой прекрасный русский писатель — Борис Зайцев, блуждая по дорогам своей эмиграции, однажды в 1935 году заехал в Келломяки (теперешнее Комарово) и восхитился неимоверной русскостью сего прибалтийского местечка. Вот несколько строк из его письма к И. А. Бунину: «Перед моим окном сад, яблони, цветы, дальше сосны, дорога — и море. Виден Кронштадт. Это очень волновало первое время. Теперь привыкли. Иван, сколько здесь России! Пахнет покосом, только что скосили отаву в саду, Вера трясла и сгребала сено, вчера мы с ней ездили на чалом мерине ко всенощной в Куоккалу (нынешнее Репино. — Г. Г.), ременные вожжи, запах лошади, все эти чересседельники и хомуты…»
Ясное дело, так восторженно «выдыхать» слова о России, тем более (или даже) о ее «нордической», окраинной прелести, мог только глубоко русский человек, волею судеб лишенный запахов Родины, нетускнеющих красок ее неба, звуков ее молитв.
Мое, то есть современное Комарово — во встречных взорах моих друзей-литераторов, в их всегда свежих могилах. Толя Клещенко, Володя Торопыгин, Витя Курочкин, Адольф Урбан… Да-да, тот самый Курочкин, юношей в сорок третьем на Курской дуге командовавший танком-самоходкой, написавший затем оригинальную, прекрасную повесть «На войне как на войне», ставший не просто писателем, членом Союза, но воистину прозаиком, мастером фразы, детали, повествовательного тона, потерявший затем дар речи и последние семь лет жизни кричавший глазами, оскорбленным взором восторженной души, обреченной на безмолвие, точнее — на разговор с единственным собеседником — с самим собой, то есть (в миниатюре) — на нескончаемый, длящийся вечно диалог духа и мира.
Комарово. Сумрак дачный. Дети с поезда — гурьбой. Понимаешь, неудачно мы приехали с тобой. Неуместен бодрый посвист электрички, смех ребят. Понимаешь… в гости поздно: все, кого мы знали, спят. Спит, содвинув ставни на ночь (позади пасьянс, чаи), Соловьев Василий Павлыч, автор песни «Соловьи». Ветер в трещинку меж ребер задувает страх, сипит… Толя Клещенко в сугробе подстелил печаль и спит. Грозной памятью терзаем, привалясь спиной к сосне, Витя Курочкин, прозаик, спит, уставший на войне. Разбудить? Но как такое друг воспримет? Как грабеж? Что ему взамен покоя посулить? Осенний дождь? Пусть молчит. Молчанье — признак новых качеств и начал. Он и сам, еще при жизни, понял все и замолчал… Лишь Ахматовой не спится, — не дают: к ее стопам почитатель вереницей гул несет, как глину в храм. …Сосны. Сон. Стволы в оранже. Поздно. Губы крепче сжать. Понимаешь, чуть пораньше надо было приезжать.34
Не спорю, автора этих «Записок» можно во многом упрекнуть, и прежде всего — в излишней заинтересованности собой (издержки исповедального жанра!) Прав А. П. Чехов: «Людям давай людей, а не самого себя». Упрекнуть в своеволии выбора персонажей, событий. И впрямь: почти сорок лет мокнуть в литературном рассоле, вращаться в пишущей среде, стольких видеть, а рассказ вести о каких-то незначительных фигурах, некогда бросавших спичечный коробок в окно твоего убежища на Пушкинской улице… Все равно что, отправившись в лес по грибы, набрать всевозможных горькушек, валуев и трещинноватых сыроежек, проигнорировав роскошные боровики и красноголовые подосиновики, торчавшие на видных местах и, казалось, сами просившиеся в корзину, то бишь в твое повествовательное лукошко.
Так-то оно так, да не совсем. Мне было пять лет от роду, когда умер основоположник соцреализма, и я запросто мог видеть самого Максима Горького, проезжая в младенческой коляске мимо его особняка, чтобы затем составить об этом воспоминания. Или взять другого основоположника, автора некогда классического труда «Марксизм и языкознание». К моменту ухода его из жизни, ухода, напоминавшего для его последователей всепланетный катаклизм, мне уже набежало неполных двадцать два и можно было бы осветить эпохальную фигуру в «Записках» осознанно и оригинально. Или, скажем, поведать читателю о поэте Константине Симонове, с которым познакомили меня возле вешалки в театре, что на Владимирском проспекте в Ленинграде, но дальше этой вешалки знакомство не пошло: царила отъездная суета, гардеробщик накрыл мне голову плащом, сбив на сторону очки, а когда я пришел в равновесие и осмотрелся — никакого Симонова уже не было. А то еще мог бы повспоминать о самом А. Т. Твардовском, с которым пыталась меня свести уборщица «Нового мира», но Александр Трифонович был занят, в кабинет к себе никого не пускал, да и не понравились бы ему стихи, которые я принес тогда в журнал. Подтверждением тому их непоявление в «Новом мире», точнее — появление их там спустя четверть века. А чем не драгоценная находка, чем не клад для любых воспоминаний — личность Бориса Пастернака, на дачу в Переделкино к которому производили набеги мои сверстники-поэты, мешая нобелевскому лауреату копать огород и подбивать счеты с бесподобной жизнью-сестрой? Что с того, что пробраться к нему тогда я так и не сумел или не посмел — из-за неподдельного трепета перед нерасшифрованной тайной пастернаковского дара?
Список поэтических великанов, подлинных и временного значения, с которыми объединило меня время, можно было бы растянуть не на одну книгу записок, но подобное занятие увело бы в сторону от сверхзадачи самоочищения и покаяния, и потому намного органичнее выхватить из пережитого лишь те имена и судьбы, что способствовали «сверхзадаче», то есть принимали участие в лепке личности, о которой идет речь, причем главным образом там, на заре туманной юности, или в экстремальных жизненных ситуациях — скажем, таких, как психушка, тюрьма, экспедиция, поэтическое (или алкогольное) соперничество попутчиков…
О, я мог бы за милую душу поведать еще о многих замечательных поэтах и прозаиках, критиках, переводчиках, редакторах и прочих литературных «ведах» и «любах», с которыми дружил, радовался и огорчался значительно позже «эпохи» становления. О Михаиле Дудине, например, возвышенном лирике, как бы слегка парящем «над» мраком повседневности, устойчиво оптимистичном и лишь теперь, после своих семидесяти, слегка погрустневшем, как бы увидевшем другой берег, пустынный и безлюдный берег одиночества; о Булате Окуджаве, лирике не менее возвышенном, некогда, как и Дудин, поддержавшем меня в беде и даже вставившем меня в плоть своего стихотворения «Зачем торопится в леса поэт Горбовский?», а недавно почему-то не узнавшем меня в ЦДЛ, не ответившем на мое троекратное «здравствуй!», видимо принявшем меня за кого-то другого, скорей всего — за воинствующего русофила, а не просто патриота, каковым всегда старался быть и, смею надеяться, останусь, до последнего, освобождающего от житейских условностей вздоха; о поэтессе Ольге Берггольц, чей гроб опускал на полотенце в могилу на Литераторских мостках Волкова кладбища; о поэте Всеволоде Рождественском, начинавшем среди канонизированных — Есенин, Блок, Северянин — и почему-то застрявшем среди нас, грешных, как вымершая, но все еще говорящая, то бишь звучащая, птица птеродактиль; о Вере Пановой, с которой играл в Комарове в преферанс; о Евгении Евтушенко и Данииле Гранине, которым, помнится, лет тридцать тому назад после коллективного посещения ресторана «Восточный» на улице Бродского читал свои стихи возле памятника Пушкину, читал в надежде пронять мэтров, заставить их если и не поверить в меня, то — обратить внимание на мои рифмованные опыты, но шел густой снег, непроницаемой вуалью отделявший нас от аникушинского бронзового Пушкина, и было неясно, имело ли вообще смысл заявлять о себе в присутствии столь разнообразных свидетелей?
А как не вспомнить о Вадиме Шефнере, не просто прекрасном поэте, хотя и это немало, но еще и деликатнейшем, подлинном петербуржце дворянского замеса, добрейшей душе, при советской власти детдомовце и солдате, трогательно ознакомившем меня со своей именитой родословной скандинавских корней, когда, почему-то разволновавшись, как бы желая меня в чем-то разубедить, извлек он из заветного ларца фамильный фолиант с генеалогическим древом, переплетенный древнейшей, цвета карельской березы, бессмертной кожей, а внутри голубая, плотная бумага восемнадцатого столетия, а среди множества имен и фамилий — адмирал Шефнер, чьим именем что-то названо на Дальнем Востоке — то ли бухта, то ли островок.
Или вот — о Юрии Казакове, дивном прозаике, вспыхнувшем посреди беллетристической ночи пятидесятых двумя десятками рассказов, излучавших подлинно алмазное свечение, даже сияние классического наполнения и чистоты, прозаике, с которым тогда же, в конце пятидесятых, схлестнулся я в Московском Доме литераторов, с Казаковым, громогласно заявлявшим в тот вечер, что никакой такой современной поэзии не существует, а есть только Лермонтов, Тютчев, Блок, и все-таки выслушавшим меня, в тот вечер дерзкого и неудержимого, добившегося не только внимания именитого, бунинской закваски мастера, но и — презента в виде бокала… водки, за которой Казаков самолично прошествовал к буфетной стойке, а вернувшись, предложил сдвинуть фужеры.
А то еще — «драматический» эпизод знакомства с мрачным внешне поэтом Ярославом Смеляковым, происшедший там же, в ЦДЛ. В те дни я только что вернулся с Северного Сахалина. Подборку моих «экспедиционных» стихов опубликовала «Дружба народов», где работал Смеляков, одобривший публикацию. К ресторанному столику, за которым одиноко, с отвращением на лице унывал Я. Смеляков, подвел меня Виктор Конецкий, в то время шефствовавший надо мной, дабы я не заблудился в литературных московских извивах. На Конецкого бард посмотрел, как солдат на вошь, но — как на вошь хорошо знакомую, свойскую. Взгляд поэта изнывал мучительным вопросом: «Что надо?» И тогда Конецкий представил меня: «Вот, познакомьтесь, молодой… ленинградский… поэт Горбовский Глеб, а это — Ярослав Смеляков!» — «Ну и что?! — заскрипел зубами человек за столиком. — А я не хочу знакомиться… Я напечатал стихи Горбовского, и будь доволен!» — и поэт уронил голову в ладони, будто хотел зарыдать или рассмеяться, но тайно от всех. А Горбовский будто бы прошептал тогда во всеуслышание: «А я… а я… вообще не привык разговаривать с мертвецами!» И тут же аудиенция закончилась.
А сколько забавного и даже занимательного можно было написать о редакторах, влиявших своим красным или синим карандашом на рукопись, о редакторах, ставших тебе за долгие годы не просто друзьями, но и как бы единомышленниками, таких, к примеру, как Б. Г. Друян, Н. А. Чечулина, И. С. Кузьмичев, А. С. Рулёва.
А разве не подмывает высказаться с предельной откровенностью о таких замечательных соплеменниках, как писатели Виктор Астафьев, Валентин Распутин, Василий Белов, Владимир Крупин, поэт Юрий Кузнецов, композиторы Георгий Свиридов, Валерий Гаврилин, художник Юрий Селиверстов, чье творчество и нравственная стойкость являются для меня не просто путеводным огоньком, но все чаще — спасительным кругом? Но… и впрямь — всему свое время.
Сергей Орлов и Лариса Васильева, Юрий Паркаев и Анатолий Передреев, Глеб Горышин и «славяновед» Александр Панченко, Владимир Максимов, ныне редактор парижского «Континента», у которого я в годы литературной оттепели ночевал в Сокольниках, лежа на деревянном полу, и которому посвятил стихи, написанные в ту ночь и опубликованные в сборнике «Тишина». Виктор Максимов — ленинградский поэт, подбивший меня слетать в Америку, чтобы прочесть там стихи о России; вечно солидный, хотя и неизменно изящный, «малознакомый» Юрий Нагибин, посетивший лет тридцать назад Питер со своей молодой женой Беллой Ахмадулиной и пригласивший к себе в «люкс» на «кубанскую» местных поэтов (в памяти почему-то прочно отложилось, что подавали в тот вечер именно этот напиток).
Майя Борисова и Нонна Слепакова, Виктор Ширали и Виктор Кривулин, Дмитрий Толстоба, которому, кстати, когда он служил в армии на территории Польши, друзья с «воли» переслали мою «Тишину» по частям — в четырех конвертах, и на днях в Комарове он дал мне ее «на подпись» — сшитую суровой солдатской ниткой, двадцатидвухлетнюю, донельзя истерзанную временем. Но… стоп, себе думаю! Ибо забыл совершенно Андрея Вознесенского, а значит, «что-то с памятью моей стало», как выразился еще один всенепременный гость нашей молодости Роберт Рождественский. О, я мог бы рассказать еще о многих и многих, но где гарантия, что это необходимо, что своими байками я не причиню кому-то невольного зла, а спросить разрешения — нет возможности: на дворе, когда я пишу эти строчки — ночь, февральская, пастернаковская, и многие спят. В том числе — вечным сном.
А то, что говорил я в этой книжке преимущественно о себе, оправдано психологически: никто не в силах отменить или запретить насилие над собой, любимым. А если и заходила речь о «посторонних», то какие же они посторонние, если, вспоминая теперь о них, светлею душой?
___________
А теперь о двух событиях в моей биографии, которые можно выделить как наиболее драматические, хотя и «литературные», близкие по своей итоговой наивности к детективному жанру. В каждой литературной судьбе наверняка есть свои удары «под дых», полученные от частных, отдельных лиц или от общественных организаций, а то и от целых государственных систем, нанесенные сколь неожиданно, столь и без всяких правил, то есть произвольно (от слова «произвол»).
Об одном из этих событий (выход в свет книги стихов «Тишина») я уже вскользь упоминал, о другом происшествии, закрутившемся вокруг коллективного сборника пяти ленинградских поэтов «Живое зеркало», изданном в 1972 году в Лондоне, до поры до времени помалкивал. А рассказать хотелось. И не только потому, что рецензий на этот сборник никто, по крайней мере в России, не писал, но и потому, что авторы сборника — люди в некотором смысле замечательные.
И еще одна причина, побудившая к реанимации вышеназванных книжно-издательских событий двадцатилетней давности: не месть, не жажда справедливости даже, а фантастические метаморфозы, происшедшие с отдельными людьми, якобы страдавшими во времена «застоя» от партийного гнета, якобы претерпевшими гонения и хулу, метаморфозы, наблюдать которые довелось теперь, в бурные перестроечные дни, а точнее годы, на экране телевизора или на страницах печати. Речь идет о так называемых «детях XX съезда», о людях, спору нет, уважаемых кем-то, яростно заявляющих о себе и своем времени, о таких, как Ф. Бурлацкий, А. Аджубей, А. Бовин, В. Коротич, Егор Яковлев, Е. Евтушенко, А. Вознесенский и многих других, кто при Хрущеве и Брежневе будто бы страдал и находился в загоне, а ныне — «застрельщик перестройки», то есть — на коне и в законе.
И неожиданно делается смешно. Горько и смешно. Это они-то страдали, эти дети системы, ставленники правящей монополистской идеи-фикс, разъезжавшие по миру, как кончик указки по всемирной политической карте, тогда как мы, бедолаги, разъезжались по «системе», будто корова на льду… Это один из них, занимая редакторское кресло газеты «Советская Россия» в 1968 году, завизировал своей подписью разгромную, доносную статью всего лишь на… лирические стихи «приунывшего» автора «Тишины». Не хотелось бы никого проклинать. Людям свойственно не просто стареть, а иногда и перерождаться. Но, по-моему, лучше уж пить горькую до скончания дней, чем узнавать в себе нынешнем, витийствующем на экране телека, недавнего гостя «кремлевских старцев», с которыми сидел за одним столом, правда на определенном расстоянии от Всемогущего, принимавшего тебя хоть и за способного, но… холопа, в лучшем случае — за юродивого.
В мае 1968 года находился я на излечении, а правильнее сказать — на отдыхе в «нервной клинике» имени И. Павлова, что на 15-й линии Васильевского острова. Множество людей с «артистическими» наклонностями поправляло и поправляет там свое пошатнувшееся здоровье, а также — подыссякший денежный бюджет. Помнится, настроение было прекрасное, познакомился, причем надолго, если не навсегда, с чудесной девушкой, знавшей мои стихи; старшеклассники из литературного объединения «Алые паруса» (руководитель — Адмиральский) принесли в палату целую гору апельсинов «из Марокко», килограммов десять, запах от цитрусовых райский… И тут кто-то протягивает «Советскую Россию». А в ней — статья Василия Коркина «Рыжий зверь во мне сидит», целый подвал на странице и подзаголовок: «По поводу сборника стихов Глеба Горбовского „Тишина“». А в статье — не просто разнос или ругань — обвинение в неблагонадежности, как в какие-нибудь присносталинские времена. В статье говорилось, что автора стихов «раздражает» в советской действительности решительно все, что ему постоянно мерещится «тотальная слежка», что ничего святого для автора нет, что грезятся ему не светлые дали, а всеобщая погибель на планете Земля (описание лесного пожара, то есть стихи на модную нынче экологическую тему), что автор чуть ли не фашиствующий молодчик и что всякое проявление социалистического «сегодня» вызывает в нем «злую ухмылку» и т. д. и т. п.
И вот отдается негласное распоряжение (по каналам книжной торговли) об изъятии из продажи сборника, часть тиража пускается «под нож», редактор Б. Друян и главный редактор Д. Хренков получают строгача. Следом за статьей в «Советской России» появляется подобная статья в «Книжном обозрении» — автор Я. Бейлинсон (1968, № 21). Называется статья деликатнее — «Творческий просчет», но содержит в себе те же отблески идеологического гнева, спущенные через Комитет по печати Совмина РСФСР с душевоспитующих «верхов». «Настроения грусти, безысходности, одиночества господствуют у Горбовского… Невыносимо тяжко становится на душе от стихов… Не могу простить поэту кощунственного… Будто не знает Горбовский, будто не видит и не слышит…» А взамен предлагается: «Активное жизнеутверждающее начало, подлинная гражданственность, определяющие позицию советского поэта». О вредном сборнике упоминается и в передовице «Известий». И все это — в мае, одним залпом, по единой команде. Наконец, в брошюре, вышедшей в издательстве «Юридическая литература» в 1969 году и называвшейся «Идеологическая диверсия — оружие империализма», говорится: «Аполитичность, извращенный и клеветнический показ советской действительности… Таким произведением является сборник стихов Г. Горбовского, в котором наряду с низкопробной клеветой на советскую действительность содержатся идейно порочные…» Авторы брошюры — М. П. Михайлов и В. В. Назаров. Бог им судия. Все в одном котле варились.
Можно посочувствовать Василию Коркину и Я. Бейлинсону, а также соавторам брошюры — живы ли они, не знаю. Если живы, пусть примут мою «прощальную» (от прощения) улыбку. Доброхоты передавали, что на вопрос «Зачем вы это сделали?» Коркин будто бы оправдывался таким образом: «Горбовский должен меня благодарить, это я помог ему стать известным».
По той же «прощальной» причине не назовем мы и нескольких фамилий «инициаторов» проработки (Коркин и К0, а также Комитет по печати — всего лишь «орудия производства»). В стране в сфере идеологии проводилась очередная кампания: ругали издательских работников за «потерю бдительности». Вот меня и вытолкнули на арену одним из «козлов отпущения». А толчком к выталкиванию послужили конечно же доносы. И мне известно, кто их сочинял в нашей дружной семейке Ленинградского отделения Союза писателей РСФСР. Но… иных уж нет, а те далече. Да и завершать рассказ об эпизоде с «Тишиной» на мстительной ноте не хочется.
…Однажды в начале семидесятых непризнанный поэт с Конногвардейского бульвара Костя Кузьминский дал мне поносить по городу необычную книгу, солидный, в суперобложке том стихов, где поэтические тексты напечатаны на двух языках — русском и английском. Книга была издана в Лондоне и выглядела по сравнению с нашей печатной продукцией как золотой червонец на фоне медных пятаков. На супере — броско, букетом — пять фотографий авторов. Под супером — твердая обложка с тиснеными именами.
Не зная английского, долгое время не знал я прочтения по-русски названия этой книги — «Живое зеркало», сконструированного, как выяснилось затем, из стихотворной строчки Виктора Сосноры — одного из авторов сборника. Внутри, под обложкой, — плотная бумага. А на бумаге не только стихи, но и статьи о каждом из авторов, и предваряющая сборник статья о советской поэзии вообще и ленинградской ее ветви в частности.
Естественно, что ни одной из шести статей сборника, напечатанных исключительно по-английски, прочесть мне тогда не удалось. Но, как выяснилось позже, прочесть английские тексты возжелали люди определенной, недремлющей профессии, не имевшие под рукой или делавшие вид, что не имеют, «Живого зеркала».
Как-то, придя в издательство, я похвастал книгой: «Вот как надо издавать! В супере, с золотым корешком…» Один из тогдашних руководителей при виде «забугорной» печатной продукции ужаснулся, т. е. от страха запаниковал. И тут же позвонил «куда следует». Не настучал втихую, но открыто… оповестил. После этого время от времени кто-то стал позванивать в редакцию журнала «Аврора» Лидии Дмитриевне Гладкой, которая тогда работала в отделе поэзии, и где я состоял в «непременных» авторах со дня основания журнала. Гладкую — почему-то именно ее — настоятельно просили связаться с Горбовским и передать ему номерок телефона и чтобы он позвонил как можно быстрее. (Не проще ли было оповестить самого Горбовского телеграммой или открыткой? О, эта странная любовь к странным играм.)
Я, конечно, позвонил. Правда, после некоторого раздумья. Примерно после третьего «серьезного предупреждения». Встречу со мной назначили не в Большом доме на Литейном, а прямо в…
Смольном.
В кабинете товарища Афанасьева меня ждали какие-то люди, довольно молодые, спортивные и взволнованные, но взволнованные как-то благожелательно, не гнетуще. Что ж, думаю, не так страшен черт, как его малюют, и все же — почему улыбаются? Кто-то, скорей всего хозяин кабинета, поясняет: «Речь пойдет о книге пяти ленинградских поэтов, изданной за рубежом. Обстоятельства сложились так, что в библиотеке органов госбезопасности этой книги пока что нету. А необходимость в ней крайняя. Люди из госбезопасности тоже читают стихи, особенно — комментарии к ним. Отсюда — просьба: не могли бы вы, Глеб Яковлевич, поделиться, хотя бы на сутки, тем экземпляром книги, что имеется в вашем пользовании. Мы специально пригласили товарищей с Литейного проспекта, надеясь, что здесь, в Смольном, будет вам проще с ними договориться. И еще: каким все-таки образом попали ваши стихи под одну обложку с Бродским, Кузьминским? И еще: не могли бы вы, Глеб Яковлевич, выступить с осуждением данной акции закордонных издателей на страницах „Литературной газеты“?»
Объяснив присутствующим, что все мои стихи в сборнике «Живое зеркало» литованы, то есть прошли советскую цензуру, потому что являются перепечаткой стихов из сборника «Тишина», разрекламированного газетой «Советская Россия», и что спрашивать нужно с тех, кто подверг мои стихи охаиванию, на предложение выступить с опровержением в печати ответил я отрицательно, причем твердо. Аргументировал свой отказ следующими обстоятельствами: в сборнике сошлись пять авторов, один из которых проживает за рубежом, второй, Костя Кузьминский, не является членом Союза писателей (в то время он уже собирался покинуть СССР, и работники с Литейного наверняка знали об этом), а, скажем, у Виктора Сосноры и Александра Кушнера наверняка имеются собственные соображения в отношении опровергательско-покаянных выступлений в печати, и отвечать за них я не намерен. Зачем же вы хотите, сказал я товарищам из кабинета, делать из меня козла отпущения? Вот если вам удастся уговорить всех остальных, всех до единого, тогда еще можно подумать, как поступить.
Неделей позже при встрече с Сашей Кушнером на лестнице Ленинградской студии документальных фильмов я спросил, не желает ли он выступить в печати с «повинной». На что он, не задумываясь, ответил отказом. Попутно присоветовал мне крепиться, не падать духом. А тогда в кабинете, отбросив вариант «Литературной газетой», товарищи настоятельно предлагали мне выступить хотя бы в «Голосе Родины» — печатном органе для русскоязычных жителей заграницы. Однако хватило духу не отречься от себя.
Завершая описание кабинетной сценки, скажу, что меня тогда совместными усилиями уговорили-таки поделиться «достоянием», а именно — дать ребятам с Литейного «Живое зеркало» на одни сутки — чтобы отвязались, чтобы не теребили. Причем срок — одни сутки — установили они сами. А дальше — как в детективе: в такой-то день, в такой-то час приходите на угол Литейного и Каляева, приносите сборник, там вас будет ожидать человек с газеткой в руке. А ровно через сутки — такая же процедура с возвращением книги.
Не правда ли, забавно? Забавно вспоминать об этом теперь, особенно возле телевизора, наблюдая, скажем, заседание очередной сессии Верховного Совета, где решается вопрос о судьбе суверенных республик, а не каких-то там книг.
Ах, когда это все было, хочется спросить себя, вальяжно развалясь в кресле, — да и было ли? Оказывается, было. И не так уж давно. Дома, построенные знаменитыми архитекторами Растрелли и Щуко, стоят на своих прежних местах так же прочно, люди, участвовавшие в смольнинской беседе, наверняка живы и работают там же или примерно там же. Только вот стихи теперь пишутся несколько другие, нежели из сборника «Тишина» — сиречь «Живое зеркало», — менее беззащитные, что ли. Более милосердные, а значит — бесстрашные.
35
Любая искренняя книга (картина, стихотворение, музыка, изваяние и т. п.) похожа на обособленный, имеющий четкие границы начала и конца крик, а то и вопль: сколько жизнетворящего воздуха вместилось в грудь, столько и органичного, цельного вопля исторгнется. Можно, конечно, поднатужиться и выдавить из себя еще пару колебаний голосовых связок или стальной струны, пару мазков на холсте, пару вгрызаний резца в мрамор, но это будет уже не крик, не вопль, а — писк, натужный скрип или скрежет, то есть — принудиловка.
Непросто вовремя остановиться, главное — не обмануть себя, не набрать украдкой кислорода в легкие, якобы для продления, обогащения творимого вопля, ибо не продление свершится, а перескок в другой вопль, в другую песню, в другую книгу.
Вот и мне кажется, что воздух моих «Записок» иссякает. И это несмотря на то, что я и тысячной доли пережитого не отразил. Стало быть — в следующий раз, с новым вздохом и с божьей помощью — не продлим, не продолжим, но — выкрикнем нечто еще более самостоятельное.
Завершая книгу, хотелось бы поговорить о главном, сверхсокровенном, однако земном. О том, что владело нами неотвязно всю жизнь, то есть — о творчестве, о литературе, поэзии — о писательстве. Поговорить, обобщая, а не рассуждая. Как на духу, как на исповеди, а не как где-нибудь в купе вагона дальнего следования или в кабинете сотрудника госбезопасности.
Религия большинства поэтов — одиночество. Культ красоты и сосущей сердце безысходности. Одиночество не может быть безобразным. И — преодолимым. Оно окрыляет, однако — не делает вас ангелом.
Уходят праздные друзья, и начинается мой праздник. Я, как степенная семья, разогреваю чай на газе. Я, как примерный семьянин, ложусь на островок дивана… Как хорошо, что я один! Что чай желтеет из стакана. Что я опять увижу сны, и в этих снах — такая радость, что ни любовниц, ни жены, ни даже счастия — не надо… 1964Вырваться из одиночества можно только — идя к Богу. Точнее — придя к Нему. А людьми, их помыслами зачастую владеет, руководит подсознательная, реже — осмысленная обида на судьбу за ее эфемерность, зряшность, итоговую личную смертность, никчемность, то есть в основе всех неприятностей человеческого происхождения лежит безверие. Одиночество — дитя безверия. Самое прелестное из его детей. Самое очаровательное. Однако не самое мудрое. И я никогда бы не решился уйти от него, отдалиться на неопределенное расстояние, если б… не возраст, понуждающий нас озираться в поисках абсолютного Смысла.
Одиночество — убежище личности, кислородная подушка, в которой вместо газа — свобода. Энное количество вдохов эликсира независимости. Тогда как политика, экономика, вообще социальная сфера деятельности — убежище для толпы, общественности, масс, короче — «общага», где нужно периодически забывать о себе, наступать на горло собственной песне, где нельзя быть поэтом, хотя и можно время от времени рифмовать Отчизну с Коммунизмом, а Любовь с Кровью.
Выкарабкиваясь периодически из обжитого, облюбованного одиночества, я принимался что-либо искренне любить, и чаще всего — Отчизну. Любовь к Богу вызрела из страха перед смертью, затем — из преклонения перед красотой жизни, и уж только затем — из любви к ближнему. И тогда я усердно рифмовал Россию с Мессией, и двух этих блоковских слов хватало, чтобы какое-то время продержаться вне одиночества, как голубой рыбке на золотом песке социальной справедливости.
Я отношу себя к «татуированным» (в отличие от титулованных) интеллигентам, прошедшим сквозь тернии нравственного одичания, духовного обнищания, раннюю (дошкольную) утрату иллюзий, к горе-романтикам, тонувшим в разливах бытового алкоголизма, употреблявших нецензурные слова, валявшихся на воспитательных нарах, носивших на спине и груди крест обреченности, который на него поставили общество, власти, а также родные-близкие, и все-таки устоявшим, не унесенным прежде срока в бездну тщедушия и утробного, желудочно-кишечного рабства. Для таких, «меченых» интеллигентов одиночество — не только свобода, но и наркотик, то есть — средство для самовозвышения. И — самопотери. А также — обретения мужества в борьбе с жизнью. В отличие от борьбы за существование.
Могу без ложного стеснения сказать, что я подошел к нынешним, перестроечным (начало 90-х) годам очередного безвременья — не опустошенным, не растерянным, но вполне сориентировавшимся в себе, а значит, и в ситуации «текущего момента». И единственным извлеченным из ситуации вопросом, на который мне бы хотелось услышать ответ, умиротворяющий во мне патриота, это вопрос многих и многих поколений моей Родины: почему России выпало то, что… выпало? Почему — ей? Неужто — самая смиренная в долготерпении? Самая покладистая, а значит, и самая подходящая для экспериментов? Этакий полигон для всевозможных бесовских штучек. Или все-таки — избранница господня? Чтобы, как положено, через страдания к звездам? Ради других народов, которые никогда теперь не последуют нашему примеру. А что — доказать миру, что путем насилия нельзя достигнуть благодати земной, — разве не цель, разве не результат? Разве не стоило во спасение мира пускаться нам во все тяжкие? Еще как стоило, ибо — зачтется.
Хотя в адресном справочнике Союза писателей против моей фамилии значится сверхъестественное, таинственнейшее слово поэт, надо понимать, что этим словом официально подтверждается моя приверженность литературному жанру, а не профессия вообще. Профессия, надо думать, всего лишь — писатель (по-чешски звучит как — списыватель). А метафорой «поэт» как бы высвечивается призвание («Его призвали всеблагие, как собеседника, на пир»). Вот так, и не меньше, естественно, при условии соответствия призыву в собеседники. Потому что здесь недостаточно самолично назваться груздем, чтобы попасть в кузов, то бишь — на поэтический Олимп. Да и кто на Олимпе-то у древних греков восседал? Так себе компашка: не милосердные боги, а скорее — знать процветающая и убивающая, Зевсы и Артемиды, всевозможные мойры и эроты, разъезжающие на своих золотых колесницах и разящие простых смертных стрелами своей вакхической (сиречь пьяной) любви, любви преступной, эдиповой и танталовой. С Олимпом — поостережемся. С присвоением звания Поэта повременим. Здесь необходимо дождаться вынесения общественного вердикта, подтверждающего чье-либо право называться поэтическим… груздем.
Однако вердикта сего можно и не дождаться. При жизни. А нередко и после нее. То есть — никогда. А поговорить все-таки хочется. О поэзии. Если не о тайне (таинстве), не о «поэтическом веществе», то хотя бы о стихах, о стихосложении. О довольно странном занятии, которому ты посвятил энное количество времени. Протяженностью в жизнь. Причем — напрасно. Ибо, как выяснилось в конце этой жизни, все действительно суета сует. И попробуй опровергнуть библейскую истину любой из нынешних истин «в последней инстанции»: эволюционистско-дарвинской, экзистенциалистской, марксистско-маоистской… Замучаешься, как говорят в автобусе.
Как дитя своего безбожно-бюрократического века, объясняясь в любви к поэзии, попробую прибегнуть к разлюбезной системе анкетирования. Для начала. Как говорят современные мойры и хариты с гераклами, то бишь олимпийцы от бюрократии, — «на данном этапе». Итак — анкета. Точнее — импровизация на тему анкетирования.
1) Самое любимое стихотворение — «Выхожу один я на дорогу…». И здесь естественным будет спросить: а почему не из Гёте или Шиллера, не из Байрона или Мицкевича? И хорошо бы мгновенно признаться: а этих мы не проходили! За семью они для нашего брата, татуированного интеллигента, печатями, сии поэтические авторитеты. А из того, что просачивалось в наши мозги посредством несовершенного перевода, — не впечатляло.
2) Самая любимая поэма — «Мертвые души». Позвольте, скажут, но ведь это все-таки проза. Почему не отделаться, скажем, «Божественной комедией» Данте? Так ведь это ж — комедия… К тому же речь идет о любимом, а не о лучшем. Сойдемся на «Медном всаднике».
3) Самый любимый поэт — Александр Блок (почему не Блейк, Бодлер, Бродский или Белый-Бугаев?). А вот так.
4) Самая любимая поэтесса — Марина Цветаева (и еще одна, чья книжка стихов «Пустыню перейти» произросла на моих глазах, а это всегда потрясает, как если бы кто-то на твоих глазах вознесся на небеса — не на пресловутый Олимп).
5) Самая любимая песня — «Выхожу один я…». Позвольте, укажут мне на повтор. Хотя почему бы и не повториться? Несолидно? Тогда — «Липа вековая». На данный «текущий момент».
6) Самая любимая (поэтическая) проза — «Темные аллеи» И. А. Бунина (не Джойса, не Пруста, не Набокова даже).
7) Самый любимый роман — «Обломов» (чуть прежде — «Идиот»).
8) Самый любимый признак поэтичности стиха: метафора, зримая деталь, эпитет, сравнение, музыкальность, подсознательные ассоциации, интуитивный бред, формопоиск, «несказанный свет», все вместе плюс ясность фразы (мысли) даже при расплывчатости рисунка… Интонация личности. Но главный признак — все-таки убежденческий. Признак веры. Позвольте, воскликнет литературный дока, речь-то зашла о признаке стиха, как такового, а не о его сотворителе! Что ж, тогда еще один признак — признак слитности, нерасторжимости поэтической воли и поэтического характера стихоматерии.
9) Самое любимое (большое, невероятное) событие XX века — люди на Луне, первый шаг Н. Армстронга.
10) Самое любимое (благое) событие наших дней, в нашей стране — встреча М. С. Горбачева с Патриархом Всея Руси Пименом.
11) Самое нелюбимое (разрушительное) событие всечеловеческой истории, предопределившее неисчислимое количество невинных жертв, — Великая Французская революция с ее вдохновителями — просветителями-энциклопедистами во главе с Дидро. Шутка? Издержки гласности? Да… нет. Всего лишь — ощущение. Почти энергетическая способность улавливать (предулавливать, постулавливать) разрушительные волны катастрофических колебаний мировоззренческой почвы под ногами.
Попробуем теперь проанкетировать что-нибудь попроще, позаземленнее, хотя и в некотором смысле литературное. То есть — как бы продлить тему. Попытаемся, например, проследить произвольный список поэтов, не имеющих собственных (не книг)… могил.
Итак, где могила Н. С. Гумилева? Или усыпальница Николая Клюева? А Бориса Корнилова? Где холмик, венчающий «жизнедеятельность» Осипа Мандельштама? Да, собственно, и цветаевской могилки мы не имеем — лишь камень, лишь знак, да и тот — над ее ли прахом?
Ох, Россия, Россия… Об Индии, где прах усопших принято сжигать и развеивать, речь не идет. Итак, Россия… Непредсказуема любовь твоя к чадам своим. Список можно продолжать, но лучше высказаться на сей счет при помощи рифм и ритмов, соответственно теме. И по возможности без употребления глаголов, то есть — концентрированно.
Россия. Вольница. Тюрьма. Храм на бассейне. Вера в слово. И нет могильного холма У Гумилева. Загадка. Горе от ума. Тюрьма народов. Наций драма. Но — нет могильного холма У Мандельштама. Терпенье. Длинная зима, длинней, чем в возрожденье вера, Но — нет могильного холма и… у Гомера.Легендарная Сапфо персональным захоронением тоже не располагает. Как, скажем, и поэт-моряк сталинской эпохи Лебедев, нашедший смерть в морской пучине, как Муса Джалиль, Павел Васильев… Всем им, как и всем остальным (во времени и пространстве) гражданам иных профессий и призваний, колыбелью, а затем и могилой исправно служит матерь наша всеобщая — планета Земля. Которую чем дольше мы любим, тем изощреннее истязаем. Подсознательно воздавая кормилице (не по адресу!) за предначертанное нам свыше, за предопределенное, неотвратимое, а главное — нераспознаваемое.
Но — к дьяволу анкетирование! Хочется поговорить о сокровенном без социальных придыханий, как Бог на душу положит. Только вот как это сделать, чтобы — без актуальных соц-спец-добавок? Все равно что пищу без соли принимать. Неоднократные попытки отстранения в искусстве, ухода от суеты повседневности ни к чему целительно-милосердному, веросозидающему не приводили, устойчивого, наджизненного утверждения в творчестве, даже для себя, единого творца-затворника, — не выработали. Наоборот, сооружения типа поэтических башен из слоновой кости служили не столько собором или сейфом для сокрытия таинств самовыражения, сколько способом его выпячивания, элементом рекламы, ибо людское — для людей, иначе изъясняйся на языке воды, неба, ветра, камня, растений… Изображаемое создается для восприятия. Пусть — наедине, однако наедине со всеми, а не… глас вопиющего в пустыне. В пустыне проще забыть о себе размышляющем — не о себе функционирующем, легче очиститься от творческих претензий и обратиться к спасителю твоего духа — к идеальной Истине. «Пустыня внемлет Богу», а не честолюбивым призывам изглоданного гордыней сердца художника (изобретателя, дельца, политика, философа и т. д.), а в нашем варианте — поэта, точнее — стихотворца, ибо такое — чаще.
Среди подлинных отшельников (схимников-пустынников, заточников-подвижников) никогда не было людей, писавших стишки или рисовавших картинки, ибо творчество есть прежде всего — зависимость от мира людей. А не освобожденность от него. Соображения сии не есть откровения, однако приводить их время от времени необходимо. Особенно в контексте наших дальнейших рассуждений о писательстве как способе самораскрытия.
Еще в середине пятидесятых, литературным подготовишкой, сочинил я экспромтом лирическую поэмку под названием «Риторика», в которой хотел объясниться с прозаическим миром о своем понимании мира поэтического, о профессии стихотворца, о праве человека заниматься «слаганием стихов». В общем, один из многих самоутвержденческих опытов, а никакое не «произведение искусства» получилось. Прологом к «Риторике» служило ироническое двустишие, которое и запомнилось из всего, что составило то давнишнее лирическое поучение.
Поэзия есть божия коровка, которую доить весьма неловко.Выходит, уже тогда сознание было обеспокоено соображениями этического толка: священное действо лирического труда может ли оставаться бескорыстным, независимым? И ответ, забредший тогда же в душу: может, если этот труд исповедует любовь к ближнему, к красоте мира, исповедует, а не зависит от него, тем более — от ближнего или от себя любимого и т. д.
Спрашивается, а как же тогда обходиться с искушением славой, с ее, наконец, жаждой? А также с денежным соблазном, который не то чтобы мерещится, но официально предлагается государством-издателем в обмен на ваши «животрепещущие» откровения?
Ведь именно эти «болотные огоньки» (слава, деньги, успех) сопутствуют профессиональному поэту, погруженному в «таинство».
Для прояснения мысли (проблемы) стоит оглянуться на предшественников. Кого из них можно назвать бескорыстным, освобожденным? Федора Тютчева, о стихах которого заботились другие, скажем, Тургенев? (Первая книга Тютчева с тургеневским предисловием.) До какой-то степени да, освобожден. И прежде всего — от меркантильных нюансов (дипломат, поместье в Овстуге), но ведь не от тяжести самого поэтического дара избавлен! От него-то как избавишься? Разве что при помощи безумия?
Впечатляющ опыт Велимира Хлебникова, одного из подлинных подвижников «поэтического братства». Утверждают, что он крайне небрежно относился к стихотворческим обязанностям, в том смысле, что таскал листки с текстами в заплечном мешке, подкладывал их себе под голову вместо подушки, раздавал, сорил ими… Короче — посыпал землю поэзией, как голову пеплом. И, однако же, провозглашал себя председателем Земшара. И вообще наверняка знал себе цену. Просто попал в «экстремальные условия» мирового катаклизма, имя которому — Революция, не наблюдал, а самолично переживал крушение «устоев», мировую разруху, распад нравов, вызревание хамства, безбожия, бесовщины, философии «моё — мне», ненависти к смирению.
Подлинно бескорыстного, до самоотречения, до «сердечной прозрачности» жития в поэзии в человеческом понимании этой проблемы я не представляю. Нет такого чуда в природе. А что же есть? А есть бескорыстие и самоотречение «в той или иной степени». И регулируют в тебе этот поведенческий коктейль благородные реактивы, как-то: вкус, такт, норма, мера врожденной и обретенной интеллигентности, с непременной оглядкой на недремлющее око совести.
Другое дело, что в нынешнем «поэтическом воздухе» наметилась тенденция перевеса прагматического угарного газа над всяческими лирическими эфемерными наивностями и восторженностями.
Теперь многие в погоне за славой ставят прежде всего на скандал. Культ скандала возник не сейчас, и не с «желтой кофтой» Маяковского (Есенин тоже откровенно величал себя скандалистом), а где-то, скажем, со времен наскальной живописи, когда пещерного художника вместо изображения тривиальных охотничьих сцен потянуло на изображение неких экстравагантностей, шокировавших устоявшуюся к тому времени мораль. И, глядишь, о художнике заговорили… В том числе и… дубинками по его горбу. А в итоге — вкушение славы всегда в какой-то мере — осознанный мазохизм, добровольное самоистязание.
Надо бы назвать современных скандалистов от литературы поименно, но ведь они небось только этого и ждут. Страдающие комплексом Герострата в искусствах любят потоптаться и наследить, скажем, на белоснежном имени Пушкина, совершая с ним этакие злодейские прогулки по страницам печати, или выступают на стотысячной аудитории разодетыми заморскими петушками, попутно употребляя в своих лирических стихотворениях выражения из уголовного обихода, свергают «авторитеты», чтобы с судорожной поспешностью занять их пьедесталы, мажут дегтем раскрепощенного хамства национальные святыни, короче говоря, ведут себя суетливо, даже болезненно, на манер бесноватых. Так что и осуждать их вроде бы грех. И дело не только в «бисере», которым не стоит одаривать всех подряд, но и в эффекте стаи: общаясь с волками, начинаешь невольно подвывать им.
Но главное, видите ли, никого не хочется обижать. Из соседей по веку. И — обнажать. Как на большой дороге. Современный литпроцесс — это тоже, видите ли, река, поток. Но ведь современная река больна. Мутны ее воды и ядовиты. И подтверждением тому эти строчки, не лишенные дьявольского сарказма.
Вчера, побывав у своего отца и прочитав ему десяток страниц, завершающих эту книгу, я несказанно был поражен тем, как воспринял он мои сумбурные размышления. О, девяностолетний старец не стал копошиться в словесных частностях, он ударил меня под дых и едва не свалил. Как медленно закипал я, наливаясь испарениями гордыни… И все ж таки устоял, утихомирил ретивое, загнал его в угол, в тот самый, темный, подвальный угол «нутра натуры».
— Знаешь! — кричал отец. — Знаешь, чего у тебя нет?! В сочинении твоем литературном?! Любви! Любви не слышно… Тепла ее милосердного! Накручено, наверчено, а любви не слыхать! Все слова да слова, Бог да Бог! А ты вот сам не будь плох! Для людей Бог — это Любовь!
Отец кричал минут пятнадцать. Мне показалось, что с ним случилась истерика. И когда он внезапно затих, озираясь и виновато обхватывая голову ладонями, понял я, что это он — тоже от… любви. Ко мне, к моей судьбе. Вот он ощутил на страницах писанины холод, иней безлюбия и — воспылал протестом! И вряд ли его тревога вызвана одним только чуждым ему набором слов, которым воспользовался я в сочинении. Что слишком редко воспроизводил на бумаге слово Любовь — не в этом дело. А дело, скорей всего, в дыхании моего письма. Дыхание моего письма показалось ему тяжелым, отягощенным различными вредоносными примесями. А легкого дыхания не получилось. Из-за несвободы моей от… нелюбви. Из-за неочищенности моей крови, нервных клеток и узлов от земных примесей.
Дыхание стиля. Дефицит добра в «механизме», осуществляющем сие дыхание. Переизбыток треклятого «эго», себя любимого. Житие по Декарту: если Бога нет, то я — Бог! Стоит хотя бы памятью оглянуться — из конца в начало века, чтобы явственно ощутить некую аритмию стиля, зацепившись взглядом и слухом за прерывистое дыхание русской прозы и поэзии времен Великих Потрясений. Кристаллически собранный и одновременно язвительный стиль Василия Васильевича Розанова, особенно в его письмах, в «Уединенном» и «Опавших листьях», стиль и тон поэзии Марины Ивановны Цветаевой, где короткая рваная фраза, вся в точках и сломах строка ее стихотворений, то есть письмо, в котором как бы захлеб «ветром времени», явственные акценты литературного мышления двух ярчайших стилистов ущербной, убиенной России, где и в Розанове, и в Цветаевой прежде всего — лирика мысли, изнасилованной благими намерениями «друзей народа», превративших чуть позже тот самый народ в запуганную, окольцованную колючей проволокой «субстанцию», а миллионы и миллионы избранных — в так называемых «врагов народа».
И тут же захотелось высказать ересь: с возвращением (обнародованием) трудов В. В. Розанова, Н. Бердяева, К. Леонтьева, Вл. Соловьева, П. Флоренского, Н. Ф. Федорова, Н. Гумилева, В. Ходасевича, Георгия Иванова и др. нам не столько дают, сколько лишают нас тайны «запретного плода», прелести дефицита, тяги на их потусторонний берег, в их тускло мерцающую полуявь. Делают сказку былью. Мечту — предметом пользования.
Нет, что ни говори, а дыхание (личностное — мысли, интонации) требует немедленной передышки. Необходимо набрать воздуха. То есть расстаться с Книгой, чтобы не задушить ее «кормящей грудью» до потери пульса. Ибо мало-помалу, исподволь начинает тянуть на бред, в словесную заумь. Что не входит в наши планы. Вчерашняя встреча с отцом подтвердила мои сомнения в пользе второго, «искусственного» дыхания, в продлении «крика» самовыражения путем самоистязания. Прав отец: маловато любви в моих чернилах, а количества этого «витамина» путем разумных добавок не восполнишь. Даже прямым уколом в сердце. Для любви необходимо созреть. И дай бог, чтобы это случилось при жизни. То есть — на ее «вещественной», дарвинистской половине.
* * *
За хлебом и за всем остальным, что имеется в поселковом, весьма уютном, крестьянского назначения, запашистом магазине-лавочке, вот уже двадцать лет хожу я пешком (три километра туда и обратно), и прогулка сия доставляет много удовольствия, даже блаженства. Особенно после того, как я расстался с теми немногими соблазнами жизни (алкоголь, курево, женщины, рыбалка, общежитие, служба, собрания и т. п.), что отвлекали от главного — от созерцания себя в мире, от подготовки мятущегося духа к переходу «из одного вида материи в другой».
От моих Тетерок до Верховья, где утвердился магазинишко, магическим кристаллом концентрирующий на себе сходящиеся с лесистых окрестностей лучи людских устремлений и скромных потребностей, дорога вела меня берегом Двины, частично — старинным, некогда мощеным трактом, обсаженным дряхлыми ивами со стволами, закрученными штопором, и отрезок этой дороги напоминал аллею, ведущую в исчезнувший мир помещиков, псовой охоты и живых, вылетавших прямиком из трепещущего горла песен.
Еще одна толика упоминаемого пути влекла меня по шпалам обветшавшей железной дороги, заросшей дикими травами, дышащей, как говорится, на ладан. Поезда по ней не ходили, но, как видения из другого мира, раз в сутки появлялись на расшатанной колее, а в выходные дни и вовсе не возникали. И те не поезда, а так… дизельный мотовоз, тянувший пяток полувагонов с гравием или доломитовой мукой, нещадно визжавших колесами от соприкосновения с рельсами, и свистевший каким-то не железнодорожным, а как бы от кухонного чайника свистком.
Отрезок железного пути простирался параллельно с моей магазинной тропой всего каких-нибудь пятьсот метров, но это были волнующие метры! Всякий раз я специально взбирался на высокую насыпь (в этом месте дорога делала изгиб и одновременно уклон); там я жадно принюхивался к запаху смолистых шпал. Запах объемный и неповторимый, как человеческая жизнь. Это был запах моего военного детства.
С высоты насыпи я успевал проверить «наличие» окрестных достопримечательностей, дабы убедиться — все ли цело? Не срубил ли кто дерево за ночь, не сгорел ли один из встречных домиков? Проверял, будто собственные очки пальцами трогал, убеждаясь, что они все еще на носу. Металлическую водонапорную башенку, ржавую и покосившуюся, несущую на своей кровле гнездо непременных, ежегодных аистов; прерывистый ряд избушек над рекой; над каждой избушкой свое, как родовой герб, древо, разросшееся или юное, липа, реже тополь, еще реже ясень, чаще береза. За домами — провал речного ложа, где над низкой водой, ушедшей в вековечный промыв меж глинистых берегов, синеет едва колеблющаяся дымка. За рекой — высоченная стена густо-зеленых сосен, в соснах — пионерские лагеря, доносящийся оттуда детский, почти птичий щебет и крик, но чаще — музыка с пластинок. И наконец — кладбище… Верховское. Все цело. Все на своих местах. Путь от кладбища в Тетерках до кладбища в Верховье функционирует.
Иногда этот путь помечается грустными цветами, брошенными в пыль дороги, или еловым лапником. Что означает чью-то недавнюю смерть. Чьи-то проводы в навсегда. Чаще всего смерть старушечью, ветеранскую. Ибо в Тетерках живут одни старики. А в Верховье люди… тоже стареют.
Но главное — этот запах шпал. Ради этого запаха я и взбираюсь всякий раз на дорогу, ведущую… хотел сказать — в никуда, а затем вспомнил, что в магазинчик. Рельсы упираются своим окончанием в берег Двины, вернее — повисают над осыпавшимся песком берега. Одна, самая последняя шпала, отбеленная водой в паводки до костяной белизны, держится только на одном уцелевшем костыле и все никак не рухнет.
По другую сторону насыпи, от которой по дуге спускается к Двине «железка», на взгорке торчит строеньице крошечной станции. Там есть старинный, изжеванный ветрами семафор с навеки приподнятой «рукой». Есть тяжкие рычаги мускульных стрелок. Есть видимость путейства, его призрачная модель, как бы вышедшая из-под контроля государства, министерства и вообще людского догляда. Но Богом наверняка не забытая. Ибо в станционном оконце все еще колеблется на ветру занавеска, белая, свежестираная.
И все же… запах просмоленных шпал. Откуда он такой? Неотвязный и проникающий? Вероятнее всего — от старинной пропитки их дегтем. Или — антижучковым составом. Очень уж старые здесь шпалы. Не просто деревянные, но — древесные. Именно по таким шпалам, только еще не старым, не утратившим острых граней, смолистым от природы, духовитым, многообещающим страннику, уводящим в неизведанное, именно по таким ушел я однажды из дома, из семьи. С котомкой за плечами. И было мне десять лет от роду. И путь, проделанный мной за полвека, по-прежнему манящ, однако… неповторим. И потому, наверное, с таким удовольствием и неиспаряющимся восторгом прохожу я те пятьсот метров пустынной, бурьянной «железки», словно всякий раз возвращаюсь в отрочество, одарившее меня любовью к жизни.
По шпалам сквозь бурьян в поношенном пальто в безбрежный океан по имени Ничто. Минуя явь, что вся была то бред, то жуть, чего уже нельзя отвергнуть и вернуть. По шпалам дивных лет в заоблачную высь. Привет тебе, привет, немеркнущая жизнь! Возвышенная роль, Божественная быль, без коих все мы — ноль, космическая пыль… 1990
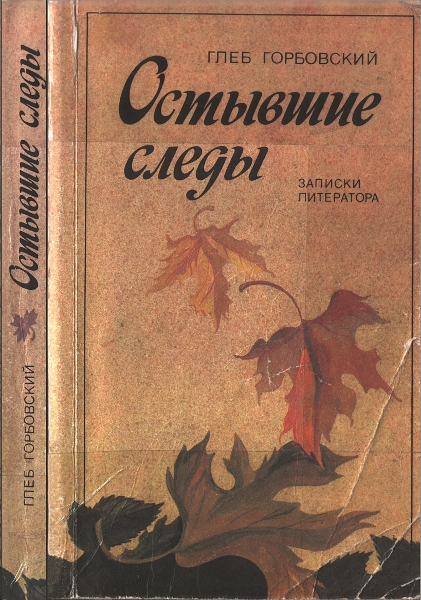






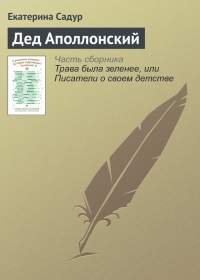

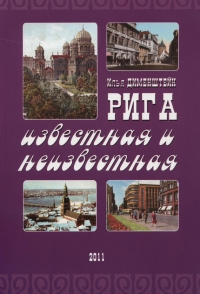
Комментарии к книге «Остывшие следы : Записки литератора», Глеб Яковлевич Горбовский
Всего 0 комментариев