***
Даже в тюрьме, через решетку, видны звезды.
Инок Всеволод Филипьев «Гость камеры смертников, или Начальник тишины»Напрасно ставят капканы на пути тех, у кого есть крылья.
Викентий Потапов «Капканы»***
…Где-то за стеной глухо щелкнул затвор. Я стояла посреди маленькой, тускло освещенной и грязной комнаты, все еще не понимая, что это камера. И что, войдя сюда, я не скоро смогу выйти обратно. Я не ощущала под своими ногами ледяного пола и широко раскрытыми глазами смотрела на стоящего передо мной мужчину. Высокого, широкоплечего, с приятными, но в то же время пугающими чертами лица. «Вот никогда бы не подумала, что женщины в тюрьме содержатся в одном помещении с мужчинами», — пронеслось у меня в голове.
— Леха, — скорее просопело, чем проговорило то неопознанное, что находилось на расстоянии вытянутой руки.
— Света, — с трудом выдавила из себя я.
Но, увидев на лице новоиспеченной соседки смятение, Леха произнес:
— Надька я. Надька Дерюгина.
Я застыла в удивлении. Надька продолжила:
— Я «кобел». То есть мужик, хотя и в женском теле.
От последних слов мне не полегчало, а стало еще хуже.
Кобел?! Я и слов-то таких не слышала. И видеть не видела таких… андроидов, сексоидов, сексдаунов, или как их, забыла с перепугу, там еще называют. Голубые? Розовые? Опять не то. Гомосексуалисты. Или лесбиянки? Нет, опять, наверное, не то. Да какая мне разница?.. Мне-то зачем это нужно? Какое это отношение имеет ко мне?! Мужик, баба — пусть сами разбираются. Мне сейчас не до этого. В любой другой обстановке меня бы непременно заинтересовало знакомство с человеком нетрадиционной ориентации. Будучи любознательной от природы, я не упустила бы шанса расспросить обо всем. О чем можно. А заодно и о чем нельзя.
В любой другой день. Но только не сегодня.
***
Сегодня был мой день рождения. Проснувшись в объятиях замечательного, необыкновенного и безумно любимого мужчины, я и не предполагала, что готовит мне грядущий день. К сожалению, Вячеслав (так зовут моего мужчину) в этот день рано утром должен был уехать в Москву по делам. Я уже привыкла, что рядом со мной необычный мужчина. Деловой, активный, жизнерадостный. Постоянно ездит, летает. Дела. Бизнес. Можно расписать две страницы его положительных качеств, но сейчас я назову только одно из них. Надежность. Всегда, когда он уезжает, я уверена, что он обязательно вернется.
В это утро все было как обычно. Утренние поцелуи, неизвестно откуда появившиеся на моей прикроватной тумбочке розы. Будильник уже в третий раз разрывал утреннюю тишину, но мы продолжали шуршать под одеялом, так не хотелось расставаться. «С любимыми не расставайтесь, — почему-то промелькнуло у меня в голове. — И каждый раз на век прощайтесь». Вторую часть фразы моя интуиция послала далеко-далеко. Ко мне эта фраза не относится. Относится ко всем, только не ко мне. Хватит с меня душевных травм. Только начали подживать, затягиваться.
Я быстро вскочила с постели, завязывая на ходу халат. Форточка хлопнула, и из окна ворвался в квартиру незабываемый запах весеннего утра. Сегодня 3 мая. В этот день обычно еще прохладно. Белые облака цветущей черемухи колышет юный весенний ветер. Весна — это всегда надежда. Надежда на перемены к лучшему.
Быстро выпита чашечка утреннего кофе. Пора, надо спешить. Дела. Будучи успешным бизнесменом, Вячеслав все всегда держит под чутким контролем. Вот и сегодня была просто работа, но столь важная, что я не чувствовала себя ущемленной в день своего рождения. И твердо знала, что он примчится домой при первой возможности.
Проводив Вячеслава, я забралась под одеяло, которое еще хранило тепло и запах счастливой ночи. На работу к восьми, можно еще часок вздремнуть, понежиться. Утренний Морфей быстро перенес меня в мир бессознательного, я сладко задремала. Но вдруг что-то резко подняло меня с кровати. Я вскочила и закричала. Страх. Потом я не сразу вспомнила, что мне тогда приснилось. Огромный серый дом с маленькими окнами. Высокий забор, по которому вьется виноград. И ни одной двери. Ужас! Мне стало так страшно!..
Хватит валяться в постели. Холодный душ, и срочно на работу. Там у меня исчезают все плохие мысли, потому что на работе думаешь не о себе, а о людях. Об их здоровье и жизни. Я уже больше двадцати лет работала в городской больнице врачом-терапевтом.
Собрала пакетик с продуктами: вдруг выдастся минутка попить чайку с коллегами в честь дня рождения.
***
Оцепенение понемногу проходило, и первое, что пришло мне, плохо соображающей, на ум, это что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Я протянула Лехе пакет с продуктами, который рано утром собирала на работу.
— Круто! — сказал Леха, рассматривая фрукты. — Я таких даже не видел. Что за плоды? Адамово дерево?
У него все время один Адам был на уме. Я тоже много чего в жизни не видела, коблов, например. «Да, будет о чем поговорить долгими вечерами», — продолжал язвить мой неугомонный мозг.
Тут ко мне внезапно вернулся дар речи, и я задала очень умный, на мой взгляд, вопрос:
— Мне тебя как называть — Надей или Лехой?
— Называй как хочешь, мне все равно.
— А все же, как тебе больше нравится?
— Леха вообще-то. Простите, мадам, я забыл про скатерть.
Леха постелил на нары не очень чистое полотенце и продолжал выкладывать на него продукты.
— Кто тебе такую крутую «дачку» (передачу) загнал?
Я тогда совсем плохо разбиралась в блатном жаргоне и не сразу уловила смысл сказанного. Но потом до меня дошло. Кто, кто! Конь в кафтане, который бросил козу в сарафане. Мой мозг колобродил, сопротивлялся ситуации. Я не говорила этого вслух, но в голове роилось огромное количество мыслей. Одна мысль бежала, перегоняя другую. Как дети? Как родители? Как они там? Трудно им сейчас. Это мне хорошо: развлекаюсь с Лехой. А им сейчас очень плохо. Мысли продолжали носиться в голове на огромной скорости. Но мысль о хорошем постоянно догоняла мысль о плохом, входила с ней во взаимодействие, непременно побеждая. Потом в душе наступал покой, и внутренний голос как будто говорил: «Все будет хорошо!» Как давно я не читала сказок! Сказки нужно читать в любом возрасте. Читать и верить в сказки. Тогда легче будет восприниматься реальность. Тяжелая реальность.
— Знаешь, Леха, у меня сегодня день рождения. Праздника так и не получилось, — прогнав плохие мысли, вернулась к реальности я.
— Как это «не получилось»? Смотри, какая поляна накрыта, ну а музыкальное сопровождение — организуем.
Леха пробарабанил по своему животу, потом по нарам, потом по своим надутым щекам. Затем перевернул тюремную кружку, взял две ложки и исполнил какой-то гимн.
«Пир во время тюрьмы, есть в этом что-то нездоровое», — как профессиональный врач поставила диагноз я.
Потом откуда-то появилась заточка (заточенный конец ложки). Ею Леха все ловко разрезал, что-то на что-то намазывал. Ел красиво, не спеша и очень аппетитно.
— Давай хавай, не гони, а то можешь загнаться.
Леха давал мне, оказывается, ценные советы, значения которым я в то время еще не придавала. Я постоянно смотрела на дверь. Мне казалось, что она скоро откроется.
— Не смотри туда. Ты здесь. Поняла? Здесь. Тормоза очень редко открываются. Не жди.
Я стала привыкать к речи Лехи и даже кое-что понимать: «тормозами» называются, очевидно, тюремные двери. Леха продолжал смачно жевать, поглаживая себя по животу, в перерывах что-то рассказывал и сильно хохотал. Стремительно вырванная из одной среды и брошенная в другую, я просто не понимала, над чем он так заливисто смеется.
— Ты по какой статье заехала? — как-то вдруг спросил сосед по тесной камере.
— Не знаю, — честно ответила я.
— А как взяли-то? Чем вертела? На чем спалилась? Хлопнули как? — посыпался на меня вал Лехиных вопросов.
Я поняла, что не могу ответить ни на один из них, так как сама не знаю ответов.
— Отдупляйся, не в сказку попала, — решительно подвел итог разговору Леха.
Мне почему-то показалось, что он обиделся на меня. Позже я поняла, что именно в этот момент в меня магическим образом начал вселяться дух арестантской солидарности. Я неожиданно для себя произнесла:
— Хлебаешь с человеком из одной миски и не знаешь, чего от него ожидать.
— Это ты про меня, что ли?
Я не подумала, что Леха примет мои слова на свой счет, но с этого момента поняла, что нужно обдумывать каждое слово, произнесенное в этих стенах.
— Нет, Леха, предали меня мои люди.
— Думаешь, меня не предавали? Предали — значит, это не твои люди. Вычеркни их. Придется еще друг другу в глазки посмотреть.
— Когда, Леха? — со слезами на глазах спросила я.
— Запомни мои слова. Тебе от них обязательно станет легче. Срок — это еще не вся жизнь. Срок, как бы он велик ни был, имеет одно хорошее свойство: он когда-то да заканчивается. Отсюда возвращаются. Бери пример с меня. Не загоняйся.
Леха второй раз произнес это непонятное слово. Только теперь дошел до меня смысл: это что-то вроде тюремного диагноза, который на медицинском языке звучит так: «Не впадай в депрессию, надейся на лучшее».
— Не твое это место. У меня глаз наметанный. Сюда или один раз попадают, если случайно, или не выходят отсюда никогда. Я думаю, ты здесь случайно. А вот я здесь прописался.
***
Мы всегда с дочерью загадывали на розы. В том, что дядя Слава приедет с розами, никто не сомневался. Но какого цвета они будут? Дочь загадала на розовый цвет, но в первый раз ошиблась. Я не придала тогда суеверного значения цвету: розы оказались желтые. Мысли меня так и тянули туда, по ту сторону серого высокого забора, который только сегодня утром мне приснился. Мы часто не придаем значения каким-то мелочам. Сны, суеверия… Но иногда происходит такое, во что нельзя не поверить. Вьющийся виноград — это колючая проволока.
***
Я опять отвлеклась. Леха рассказывал очень интересные вещи.
— Думаешь, я всегда таким был? Я ведь обычной девчонкой рос, как все. И в куколки играл. И в сказки верил. Только в жизни и в доле женской рано разочаровался. Расхотелось мне бабой быть. Даже все платья в печке спалил. Я тогда мужиком еще не стал, но баба во мне уже померла. Понял я, что по каким-то неписаным законам мужикам все можно, а баба не человек.
— Я с тобой не согласна, — зачем-то сунулась со своим я.
— Еще бы, ты, наверное, в нормальной семье росла. Мать. Отец. Институт. Замужество. Дети. Верно ведь?
— Да, — подтвердила я Лехины подозрения.
— То-то и оно. А мне рано повзрослеть пришлось. Матери моей, видно, одного душегуба, папаши моего, мало показалось. Так она еще раз решила замуж выйти, за козла похлеще. Гад надирался вечно в стельку, орал как потерпевший. По дому чуть не строем ходили. Нож свой охотничий из голенища сапога достанет и трясет им, мол, всех порежу. А однажды избил меня сильно: видите ли, жрачку ему холодную поставила на стол. Еле вырвалась. Убежать-то убежала, а идти куда? Жил у нас в деревне один мужичок одинокий, до баб любитель. Сашкой звали. Я с детства крупной была, выглядела старше своих лет. Сашка этот намеки мне всякие не раз делал. Вот я и пошла к нему. Принял, даже с радостью. Так я стала у него жить. Ну, с ним в смысле. В двенадцать лет замуж вышла.
— В двенадцать? — в ужасе переспросила я.
— Ну да, а что? Рано, конечно, согласна. А куда мне было деваться? Этот козел-отчим все равно рано или поздно изнасиловал бы меня, да еще и грохнул бы, чтобы ментам не сдала.
— А мать?
— А что мать?.. Она его еще больше, чем я, боялась. А Сашка добрый был, никогда меня не обижал, наоборот, хвалил, хозяюшкой называл. Обещал, как подрасту, жениться на мне по-настоящему. Я влюбилась тогда в него по уши.
— И что, все в деревне знали про вас и молчали?
Глупый вопрос о молчании в русской деревне, глупый.
— Молчать-то молчали, да не все. Нашелся доброжелатель, в «район» написал. Я ведь несовершеннолетней была. Сашку за решетку грозились отправить. Но я им прямо заявила, что домой не вернусь, а упекут в интернат — убегу. Мне с Сашкой очень хорошо, я люблю его, а он меня. Недолго они к нам цеплялись. Отвязались в итоге.
— Слушай, Леха, а что ты про Сашку все «был» и «был»? Он что, умер, что ли?
— Да нет, до сих пор живехонький. Но тогда мне показалось, что лучше бы он умер. Однажды я в райцентр поехала по делам по всяким, по магазинам. К нам в то время цыгане забрели тряпками торговать. Одна цыганка к Сашке зашла, короче, не знаю, как у них там все случилось, только я из города раньше времени приехала, а мой Сашка эту хреновую девку пялит прямо в нашей постели. Закипело все у меня внутри.
— А Сашка что? — пыталась добраться до истины я.
Леха был сейчас таким, каким был на самом деле. Ранимым. Обиженным. Без эпатажа.
— Сначала Сашка извиняться стал. Потом объяснил, что мужикам можно намного больше. Позволено даже изменять. А вот женщинам — нет. Потом снова просил простить.
— Ты не простила?
— Простила, если бы он эту бабу любил. А то не успел увидеть — и в койку. Противно. Короче, я к матери и этому уроду-отчиму вернулась.
— Приняли?
— Куда же они денутся.
***
Понимала я тогда Леху? Скорее всего, нет. Все это было чуждо мне. Зачем я всем этим интересовалась? Наверное, отвлечься хотела от дурных мыслей, которые терзали мой мозг. Родители, конечно, накрыли праздничный стол и ждут меня. А меня нет. Сегодня я не приду. Как они, старенькие, переживут это? А дети, одни, без отца и матери? Одни в этом огромном, безумном, пугающем мире.
До меня начало понемногу доходить, где я. Мы очень долго болтали с Лехой, а за дверями стояла какая-то страшная, угрожающая тишина. Бросили за решетку и забыли. Я — мать двоих детей. По какому праву они разлучили нас? Я всегда была рядом со своими детьми. Главное в воспитании детей — быть им другом. Они понимали, слушались меня. Поймут ли теперь? Смогу ли я им когда-либо объяснить, что произошло? Смогут ли поверить мне?
***
Я приземлилась из своих воспоминаний на тюремные нары. На всякий случай больно ущипнула себя за мочку уха. Сережек нет. Сняли всё. Всё, что с вас не сняли грабители, снимут сотрудники милиции. Даже крест сняли. Я просила их оставить крест, говорят, что крест — украшение. Сняли бюстгальтер, вытащили шнурки, забрали пояс. Дескать, боятся, что повешусь. За меня не бойтесь, бойтесь за себя. Бойтесь Бога, что же вы делаете! За что крест сняли-то? За что?! Опять это вечное «за что»…
Снова вспомнила детей, и назрел вопрос Лехе:
— Леха, а ты учился в школе?
— Бросил, загулял после развода с Сашкой, в тринадцать лет. С подругами постарше, разумеется. Домой вдрибадан являлась, а иной раз вовсе не приходила. Так, пришла один раз подшофе, а мать воет, платок к лицу приложен. Я когда платок убрала, оказалось, глаза нет. Вытек. Крышняк мне тут и сорвало! Я от ярости обезумела, а эта мразь, отчим, преспокойно храпит на диване. Достала я у него из сапога его любимый нож и давай кромсать. Десятка три ударов нанесла, а потом еще и глотку перерезала. Для надежности, чтоб точно не встал. Мать в ментовке все на себя брала, меня выгораживала. А в итоге мы с ней вместе загремели. Групповуха. Ей десятку влепили, а мне, как малолетке, пятерку. Мать до сих пор свой срок мотает.
Как резко может измениться человеческая жизнь. За одну секунду. Эта секунда делит всю жизнь на «до» и «после». Сказали бы мне раньше, счастливой, успешной, что будет тяжелый развод с мужем, а затем вся моя жизнь полетит в тартарары, вплоть до тюрьмы, — я бы не поверила.
***
Сегодня, в день моего рождения, пришла я на работу в поликлинику при больнице. Полный коридор. Очередь, как всегда. Вдруг распахнулась дверь и вошли двое. Они не предъявили никаких документов, а просто сказали:
— Вы находитесь в международном розыске. Вы арестованы.
— Я нахожусь в своем рабочем кабинете, я никуда не пропадала.
Мои слова не были услышаны. Они прекрасно знали, что я никуда не пропадала. У меня даже подписки о невыезде не было. Надели наручники и провели меня через толпу изумленных больных. Кто-то даже сказал вслед: «А больных принимать сегодня будете?» Было похоже на маски-шоу. Никто не верил своим глазам, больные знали меня по двадцать лет. Подозревала ли я сегодня утром, как резко изменится моя жизнь?
***
После рассказа Лехи об изувеченном теле и перерезанном горле (для надежности — с фонтаном крови) меня бы стошнило, если бы я не была врачом. Я очень долго привыкала к виду крови. Но, как говорят, трудно первые пять лет, а потом человек ко всему привыкает. Леха не бравировал, но выставлял свой поступок как мужественный, мужской, избавил-де мать от тирана. Он говорил простым, человеческим языком, очень искренне, правдиво. Хотелось ему верить и хотелось его пожалеть. Теперь мне по крайней мере стало ясно, что делает в тюрьме он. Но что делаю в тюрьме я?
По довольному лицу Лехи было видно, что он наконец-то наелся. Отвалился от стола. Мурчал от удовольствия.
— Да, мадам, я обещал вам музыкальное сопровождение нашего с вами праздника.
Что-то я не поняла, день рождения ведь вроде у меня. Похоже, Леха считает праздником мое появление тут. Конечно. Такие люди попадают в здешние места нечасто. Их здесь, оказывается, называют «пряниками». Я стала Лехиным пряником. Он в кои веки наелся досыта и, конечно же, считает сегодняшний день нашим праздником.
Леха долго распевался, настраивал инструменты. Камерный оркестр… Поправлял бабочку на воображаемом фраке. Потом вышел на середину камеры, еще раз откашлялся и торжественно, как конферансье, объявил:
— «Мендельсоновские дела». Песня тюремная. Слова печальные. Автор неизвестен.
Потом, спустя много лет, я узнала, что автор слов и музыки и исполнитель — Сергей Наговицын, но в то время я была далека от шансона. Вернемся в темную, грязную, прокуренную камеру, где выступает артист Леха.
Мендельсоновские дела Напевает колесный стук. Взяли прямо из-за стола, Измарали в кровь фату. Помню только скамью и суд, Помню, дождик все «кап» да «кап». И теперь мой душевный зуд Утешает родной этап. Спят котлы и фонарики в спецвагонах, Автоматы в служебниках, Пацаны, им по двадцать лет, в погонах И друзья их в ошейниках. Только мне не до сна: Вспомнил мать, Иринку, Вспомнил яблоню у реки. И бегут в голове моей картинки, И бегут километрики. С центра музыку заказал, Всей деревне гулять велел. Детям «стольники» раздавал, Денег тратил, не пожалел. Гривы в ленточках у коней, И гостями полна изба. Все как надо, как у людей, Но сыграла ва-банк судьба! Мендельсоновские дела Напевает колесный стук. Взяли прямо из-за стола, Измарали в кровь фату. Помню только скамью и суд. Помню, дождик все «кап» да «кап». И теперь мой душевный зуд Утешает родной этап.…Я вздрогнула от прикосновения. Видимо, пока Леха пел, я задремала. Открыла глаза и увидела парня. Он сидел рядом и гладил меня по руке.
— Леха, ты чего? — испуганно спросила я, а в голове пронеслось: «Только этого мне не хватало!»
— А ты красивая, ты мне нравишься.
От этих слов у меня внутри похолодело. Очень близко я подпустила к себе этого человека, которому подходило не слово «этот» или «эта», а, скорее, «это». Получеловек-полузверь. Полумужчина-полуженщина. Стоп. За что я его так обижать стала, что он мне плохого сделал? Совсем недавно он мне даже нравился: своей искренностью, достойным поведением. Он никого не ругал, не винил, не сетовал на свою судьбу. Он радовался жизни — такой, какая у него была, радовался дню, посланному ему, пище. Мне, в конце концов. А самое главное — он старался скрасить мое одиночество, устроил мне праздник вопреки всем моим сегодняшним печалям. И учил радоваться жизни. Принимать с благодарностью жизнь сегодня, не ругать день вчерашний и не бояться дня завтрашнего.
Хотела я обидеться на Леху, но тут же простила ему его дерзкий поступок.
— Ногти у тебя красивые, — сказал Леха.
— Наращённые, гелевые, — ответила ему я.
— А волосы? Парик, что ли?
— Нет, волосы свои. Леха, пожалуйста, только без глупостей, — и я забилась в дальний угол камеры.
— Да ты не дрейфь! Не трону. И вообще, я женат, — торжественно заявил Леха.
— В каком смысле «женат»?! — изумилась я.
— В самом прямом. Причем во второй раз. В первый не повезло: овдовел. Ты знаешь, почему Венера Милосская — без рук? Хотела мужика удержать. Руки себе оторвала, но не удержала. Ушел.
— Леха, я все равно теперь, наверное, не усну. Расскажи. Никогда о таком не слышала.
— Ну, слушай, раз интересно, — ответил Леха и начал свой рассказ.
После того как Надя столкнулась с изменой Сашки, после того как он ей прямо заявил, что предательство и измена мужчинам простительны, после того как в ней окончательно погибла женщина, произошло то, что определило ее дальнейшую судьбу.
На зоне Надя встретила Алену. Она оказалась слабым и беззащитным существом, которому было ни за что не выжить в этих суровых условиях без покровительства кого-то сильного и бесстрашного. Такой была Надя. Острая на язык, с глазами, полными решимости, и тяжелым кулаком в придачу. Поначалу все кому не лень обижали слабенькую Аленку. Но Надя взяла ее под свою опеку, разогнала всех обидчиков, и больше девчонку никто не трогал.
А однажды Аленка заболела. Наде было безумно жаль девчушку. Она присела рядом и стала гладить Аленку по волосам. Затем взяла ее за руку. Аленка испуганно открыла глаза, но, увидев, что это Надя, успокоилась и опять задремала. Девушка посидела еще какое-то время, а когда собиралась встать, чтобы уйти, Аленка вдруг прошептала: «Надя, не уходи, пожалуйста. Мне очень хорошо и спокойно, когда ты рядом». Надя почувствовала непреодолимое желание обнять Аленку, оградить от всего злого и жестокого, что было вокруг. Как будто читая Надины мысли, Аленка сама потянулась к ней. В это самое время в Наде проснулось желание, возникли те ощущения, которые она испытывала раньше только рядом с Сашкой. Все внутри перевернулось, она ничего не понимала и даже испугалась этих новых чувств. Но инстинкт, желание оказались сильнее. Надя неуверенно стала ласкать Аленку, гладить ее лицо. Ей безумно захотелось поцеловать девушку в губы. Осторожно и очень медленно она прикоснулась к этим губам и вновь почувствовала нечто необычное. Поцелуй не походил на те, к которым она привыкла, Аленины губы были такими мягкими, нежными, теплыми, что закружилась голова. Аленка сначала замерла. Для нее это было столь же неожиданно. Но затем, вероятно, так же поддалась инстинкту, ответила на поцелуй…
Я слушала Леху, и перед моими глазами возникал как будто совершенно другой человек. Он говорил про Аленку с такой нежностью, с такой заботой и лаской, с такой огромной любовью, какую нечасто встретишь в обычном мужчине. Но почему-то голос его звучал очень грустно. Я не решилась перебить его вопросом, и Леха продолжил свой рассказ.
Это была самая чудесная ночь в жизни Нади. Счастливая Аленка уснула на ее плече, а сама Надя так и не смогла уснуть до утра, боялась даже пошевелиться, чтобы не разбудить Аленку. Она проснулась с очаровательной, слегка лукавой и смущенной улыбкой. Тогда Надя спросила:
— Аленушка, а какое мужское имя тебе нравится больше остальных?
— Леша, — ответила Аленка.
— Почему именно Леша? — Надя почувствовала, как в душу закрадывается ревность.
— Не знаю, просто всегда мечтала, что так будут звать моего мужа.
Надя облегченно вздохнула и, протянув Аленке руку, сказала:
— Давай познакомимся. Меня зовут Леха.
— Аленушка, — ответила подружка, и они обе громко рассмеялись.
Так Надька Дерюгина стала Лехой — женщиной от природы, но мужчиной по духу и поведению.
— Леха, а что же произошло дальше? Как ты стал вдовцом? — спросила я.
По всему было видно, что Лехе очень нелегко вспоминать, как он потерял Аленку, но он все же продолжил свой рассказ.
Дни понеслись практически незаметно, полные счастливой семейной жизни. Лехе доставляло огромное удовольствие заботиться об Аленке, он ощущал себя удивительно сильным, а Аленка была замечательной хозяйкой. Кормила Леху, стирала, всячески о нем заботилась. Леха отдавал Аленке все заработанные деньги, точнее то, что на зоне считается деньгами: чай, кофе, сигареты.
Но счастье оказалось недолгим. Несмотря на всю заботу, Аленка словно таяла на глазах. На все вопросы о здоровье отвечала, что все в порядке, но Лехе не давали покоя ее нездоровый румянец и непрекращающийся кашель. Пришлось настоять на посещении санчасти. «Лепила» (так на зоне называют врачей) объявил как приговор: «Туберкулез, причем в очень запущенной форме, необходима госпитализация».
— Все будет хорошо, Лешенька, я обязательно поправлюсь, ты не волнуйся, родной!
Аленка пыталась успокоить Леху, он это понимал. Ему и самому хотелось верить, но он слишком хорошо знал эту болезнь, на зоне от нее умирают очень часто.
С огромным трудом все же удалось добиться разрешения навещать Аленку в больничке, но визит получился, к несчастью, первым и последним. Леха вошел в палату, где лежала его Аленушка. И без того очень худенькая, она стала почти прозрачной. Глаза горели каким-то лихорадочным блеском. Увидев Леху, Аленка очень обрадовалась и улыбнулась, хотя улыбка получилась вымученная.
— Как хорошо, что ты пришел, — не без труда проговорила она. — Я тебя очень ждала, знала, что придешь.
Они выкурили одну сигарету на двоих. Возле постели Аленки стоял алюминиевый таз, в который она сплевывала кровавые сгустки всякий раз, как захлебывалась в приступах удушающего кашля. Леха ощущал почти физическую боль от собственной беспомощности и от осознания того, что это конец.
Аленка на время перестала кашлять и положила голову на колени к Лехе. Он гладил ее волосы, как тогда, в первый раз, и, как тогда, Аленка притихла и уснула.
Тут Леха на мгновение замолчал, и по его щеке покатилась слеза, но он поспешно смахнул ее, а я сделала вид, что ничего не заметила.
Потом пришла медсестра и хотела разбудить Аленку, чтобы сделать ей укол, но Аленка так и не проснулась.
— Я ее очень любил, — закончил свой рассказ Леха.
— Ты, наверное, очень тяжело переживаешь ее уход? — задала я неделикатный вопрос.
— Если сама когда-нибудь любила и теряла, то поймешь.
Леха замолчал. В камере повисла тишина, но тут, как будто в насмешку, из-за двери донеслась музыка: на «продоле» (так называется тюремный коридор) включили радио. Кому-то там, за тяжелой металлической дверью, было весело, но только не нам с Лехой. Он вспоминал свое, а я, после его рассказа, — свое. Осознание происходящего ко мне так и не пришло, в голове — винегрет. Тут было все: страх перед неизвестностью, горечь и обида на несправедливость, нестерпимая боль от предательства тех, кого считала друзьями, и вдобавок ко всему — сосед Леха. Душещипательный рассказ, конечно, не оставил меня равнодушной, но я ни на секунду не забывала, что рядом все-таки убийца, да еще необычной сексуальной ориентации.
Боже, как же хочется спать!.. Какой тяжелый, длинный день, с огромным количеством новой информации, отрицательными эмоциями, вымотанными нервами! В конце концов сон взял верх над страхом. В ушах послышался стук колес того поезда, о котором пел Леха, и слова песни: «Вспомнил мать, Иринку, вспомнил яблоню у реки. И бегут в голове моей картинки, и бегут километрики». Я заснула.
***
Какая прелесть! Какой стиль! Кто же архитектор?..
— Интересно, кто это все создал? У князя Барятинского явно был вкус, — говорила я, рассматривая дворец в Марьино.
— Я не понимаю, зачем ты пошла в медицинский, ты же архитектор от природы, — говорила мне Нина. — И вообще, ты не забыла, зачем мы сюда приехали? Отдыхать. Давай договоримся сразу, здесь ты не врач, а я не судья. Мы просто женщины. Вокруг столько интересных мужиков.
Я огляделась по сторонам. На площади у дворца было пусто. Раннее утро, дворец еще спит.
— Где ты мужиков увидела? Размечталась… Где их взять-то?.. А, кстати, какой нужен? Любой от тридцати до шестидесяти?
— А тебе какой нужен? — в свою очередь задала мне вопрос Нина.
В то время этот вопрос для меня был очень болезненным. Прошло уже восемь месяцев после развода, а я продолжала лить горючие слезы по своему бывшему мужу. И чтобы немного залечить душевные раны, мы с Ниной и придумали эту поездку в Марьино. На мужчин посмотреть, себя показать. Нина тоже была не замужем.
Я не долго думала над вопросом и сказала первое, что пришло на ум:
— В дорогих очках и чистых ботинках.
И мы обе рассмеялись. Да, очень трудно, выйдя замуж в девятнадцать лет, прожив с мужем двадцать три года, родив двоих детей, развестись. У меня бы не хватило сил. Он сам сделал это. Через одиннадцать дней после моей операции. Ладно, не будем о грустном. Слезы. Слезы. Слезы. Бесконечные слезы. Хватит! Надо начинать новую жизнь. Не ради себя, а ради детей: вон как мучаются, глядя на меня. Страдания, конечно, очищают душу, но страдать можно не более трех дней, иначе организм разрушит депрессия. Взяли себя в руки. Лицо нарисовали, зажгли огоньки в глазах — и вперед! Подумаешь, муж бросил, ну и что?! Необходимо развлечься, — назначила я себе лечение.
Справившись с формальностями при поселении и распаковав багаж, я пошла знакомиться с окрестностями. Настоящая, белая зима. Чистый снег и тишина. Необыкновенно красивый парк был прекрасен и зимой. Чудное озеро отдыхало подо льдом.
Администратор предложил прогулку на лыжах. Особый интерес у меня вызывала возможность увидеть в лесу живых оленей. В это время их кормят, и они подходят к кормушкам. Вооружившись лыжами и видеокамерой, я отправилась на прогулку. Светило солнце, снег переливался и искрился, с опушки леса открывался потрясающий вид. Гордые, грациозные олени, как бы показывая свое превосходство над человеком, позволяли себя фотографировать, но тем не менее не подпускали близко. Я так увлеклась, что не заметила торчавшую в снегу ветку. Лыжи зацепились, я потеряла равновесие и спикировала с горы. Снег безжалостно сыпался мне за воротник и в рукава, залепил глаза, и даже во рту чувствовался вкус холодных снежинок. К счастью, на моем пути не оказалось деревьев. «Были бы мозги, было б сотрясение», — так сказал бы мой бывший муж, травматолог. Это была одна из его дежурных фраз. Скажу честно: как выяснилось через двадцать три года, мужем он был плохим, а вот травматологом — хорошим. Отцом — тоже никаким. Лучшее, что может сделать отец для своих детей, — это любить их мать.
Я сидела в сугробе, не в силах подняться. Лыжи зацепились одна за другую, ноги завязались узлом. Вроде ничего не сломала. У меня ведь теперь нет знакомых травматологов: после развода не хотелось попадать к мужу в отделение.
— Сильно ушиблись? — раздался за спиной мужской голос.
Мужчина ловко отстегнул лыжи и помог мне подняться, потом с видом знатока осмотрел мои ноги, и у меня появилось подозрение, не одной ли профессии незнакомец с моим бывшим мужем. Как-то неожиданно я воскликнула:
— Вы случайно не врач-травматолог?
— Нет, — улыбнулся незнакомец. — Я инженер, из Екатеринбурга.
— Из Екатеринбурга? А в Курскую губернию вас каким ветром занесло?
— Я слышал, что здесь много очаровательных женщин, не умеющих кататься на лыжах. Вячеслав, — протянул мне руку незнакомец.
— Светлана, — ответила ему я. Набившийся за пазуху снег начал таять, и я почувствовала, что замерзаю.
***
Я проснулась от шума текущей из крана воды и обнаружила, что накрыта какой-то вонючей фуфайкой. Возле умывальника стоял Леха и… брился. Пока он не заметил, что я проснулась, надо его повнимательней рассмотреть. Крупный, даже для мужика крупный. Коротко подстрижен. Ежик волос торчит во все стороны, лицо однозначно мужское, мужественное. Глазки маленькие, на большом лице — как прорези для пуговок в огромной подушке. Когда Леха смеялся, глазки куда-то закатывались, и их вообще не было видно. Нос, видимо, не раз встречался с кулаком. Плечи широченные. Молочных желез практически нет. «Гинекомастия», — автоматически определила я. Живот огромный, как у мужика, который любит пиво и принимает эдак литров по пять в день.
Мой взгляд опускался все ниже. Обалдеть. Трусы на Лехе мужские. Никакие не «семейники», а современные, с рулем на одном месте. А руль-то выпирает. Ну и Леха! Чего он туда напихал?.. Вижу, нитками пришита прокладка. Немаленькая. Ну, Леха, ты даешь!
Леха не заметил, что я его так пристально разглядываю. Он был в одних трусах, мылся под краном. От ледяной воды взвизгивал, с удовольствием фыркал, мычал под нос какую-то блатную песенку: «Хоп, мусорок, не шей мне срок. Машинка “Зингер” иголочку сломала…»
Вместе с ночью улетучился и мой сон. В реальности я снова все в той же жуткой камере со странным мужчиной, бывшей женщиной. Засыпая, я так надеялась, что это все лишь кошмар и с наступлением дня он растворится.
Леха заметил, что я проснулась.
— Мадам, как прошла первая тюремная ночь? Как спалось? Я накрыл тебя фуфайкой, чтобы ты не замерзла. Как нары?
Можно сладко спать на нарах, а можно не заснуть в богатой постели.
— Мягкие, что пуховая перина, — подыграла я Лехе.
— Как врач ты должна знать, что нары лечат остеохондроз, целлюлит. Еще тридцать три болезни, забыл, какие, а самое главное — просветляют мозги: вспоминаешь даже то, чего никогда не знал.
С мозгами у меня вроде всегда все было нормально. Цели попасть сюда, чтобы проветрить мозги, у меня не было. Согласимся с Лехой и будем избавляться здесь от целлюлита и остеохондроза.
«Кормушка» (окошко в двери камеры) открылась, и через нее донесся мужской голос:
— Кипяток будете?
— Будем! — громко крикнул Леха.
Набрал кипятка. Заварил кофе. Запах кофе быстро заполнил маленькую камеру, и сразу стало уютнее.
— Ваш кофе, мадам! Вам в постель?
— Леха, не ерничай! Не издевайся надо мной. И без твоих шуток на душе плохо.
— Позавтракаем, а заодно и согреемся.
Леха протянул мне огромную алюминиевую тюремную кружку. Великовата для кофе, но чтобы погреть озябшие руки — самое то. Я крепко обхватила ее руками.
***
Я ничего не рассказала Нине о новом знакомстве. Вернувшись в номер, я обнаружила подругу спящей. Спать она сюда приехала, что ли? После ужина я опять не смогла ее никуда вытащить: весь вечер она валялась на диване, читала какую-то книгу.
— «Уголовный кодекс», что ли, перечитываешь? На работе не надоело? Расслабься. Отдыхать сюда приехали.
Вечером я отправлюсь блудить. Одна. Благо, познакомились поближе с женщиной, которая сидит с нами за столом в столовой. Управляющая банком. Веселая тетка. К ней сегодня должен приехать муж с дочерью, а у него здесь отдыхает много друзей.
— Светка… Мужиков будет пруд пруди. Я тебе обещаю. А где Нина?
— Она в номере дрыхнет. Спать сюда приехала. Встречаемся в баре в восемь.
Да, компания собралась приличная. Тамара, я — две женщины и шестеро мужчин! За столом я оказалась рядом с главой администрации какого-то города в Белгородской области. Симпатичный такой дядька. Мне показалось, что я ему понравилась. Он ухаживал за мной весь вечер, шутил, произносил тосты. Я призналась, что разведена, и заплакала. Рассказала ему, что работаю врачом в городской больнице и одновременно в своей маленькой клинике, чтобы что-то заработать, так как жить на зарплату, которую платит врачу государство, невозможно. Рассказала, как было трудно первопроходцам частной медицины и как я выстояла. Теперь моя клиника приносит неплохой доход. Выплачиваю кредиты, и еще кое-что остается.
Когда открывала клинику, мне говорили, что терапия — некоммерческая специальность, но я отвечала, что в терапию входит много наук: иммунология, эндокринология, нефрология, кардиология и т. д. В моем городе этих специалистов нет, и я стала приглашать в качестве консультантов специалистов из областной больницы. Кроме обычного, создала еще и гомеопатическое отделение, и отдел китайской медицины. Открыла кабинет лечебного массажа, а также пригласила на работу врача-нарколога. Это как раз очень «коммерческая» специальность в медицине.
И клиника моя расцвела, народ пошел косяком. Я сделала это сама, посоветоваться мне было не с кем. Я — обычный врач-терапевт обычной районной больницы. Тогда еще профессора в области не сориентировались, что нужно делать, а я уже сделала. Кто-то восхищался мной, а кто-то завидовал.
Я рассказала Николаю о своих трудностях. Он в ответ: «Приезжай ко мне в район. Сделаю тебя главным врачом. Квартиру дам, построенную по французскому проекту, за три миллиона». Похваливал и подбадривал меня, и к концу вечера я была благодарна ему за встречу. Оказывается, я все же могу еще кому-то понравиться. Я яркая, интересная. Мужчины обращают на меня внимание.
Николай пошел меня провожать до номера, и мы еще о чем-то болтали по пути. Остановившись около двери, он вдруг сказал: «А может, ко мне в номер поднимемся? Кофейку попьем?» Не могу объяснить себе до сих пор, почему я этого не сделала. Я убежала от него. А во дворце сплошные коридоры, коридоры. Лабиринт. И я заблудилась. Ночь, а я не могу найти свой номер. Вдруг из какого-то номера вываливается мужик. Я к нему:
— Мужчина, как хорошо, что я вас встретила.
Он аж вздрогнул.
— Я заблудилась. Помогите мне мой номер найти.
Мужик отвел меня к моему номеру. Я открыла дверь.
Нина дрыхнет. «Ну, завтра ты обязательно пойдешь со мной», — подумала я.
Утром Нина рассказала, что ходила без меня в бильярдную и повстречала там очень интересного мужчину.
— Он мне очень понравился. Но он твой.
— Почему мой? — удивилась я.
— Потому что в дорогих очках и чистых ботинках.
Как потом выяснилось, это был Вячеслав.
Вечером я настояла, чтобы Нина пошла со мной.
— Все интересное проспишь. Ваша честь, отдыхайте.
И мы направились в бар. Наша компания собралась у барной стойки, а вчерашний стол был занят: там сидел Вячеслав. Сидел один, возможно, кого-то поджидал. Никто из нашей компании не осмелился подойти и спросить, свободен ли стол. Ситуация у барной стойки обострялась: нас стало уже тринадцать. Тосты, комплименты — мечта всех женщин. Коньяк и закуски лились рекой. Назрела необходимость все же где-нибудь присесть. На правах мимолетного знакомства с Вячеславом я посчитала, что могу подойти к нему и спросить, занят ли стол. Он сказал, что стол свободен и мы можем его занять. Мы дружно стали рассаживаться. После вчерашнего побега я уже была неинтересна Николаю, и он выбрал себе место рядом с Ниной. Я оказалась рядом с Вячеславом. Все начали с ним знакомиться. Мужчины протягивали руку и называли имя и, непременно, должность.
Николай сегодня все внимание уделял Нине. Они разговаривали, смеялись, танцевали. Я подумала, что он забыл про вчерашний инцидент, оказалось — нет. Внезапно он начал громко, так, чтобы все услышали, обсуждать вчерашний вечер:
— Нина, почему вас вчера не было? Здесь такое было!!! Я вашей подруге сдуру предложил стать главным врачом в моей районной поликлинике. Всю ночь не спал, думал, дурак, как она из моей районной поликлиники частную клинику сделает. Квартиру ей пообещал. А она что? А она даже кофейку не соизволила зайти выпить.
Это летели камни в мой огород, а я не в силах была возразить. Но потом все-таки сказала:
— Хорошо вам надо мной смеяться, а я заблудилась. Полночи свой номер искала.
Мне было неприятно, что все это говорится в присутствии Вячеслава, но потом я сообразила, что он оценил мой поступок по достоинству. Я женщина скромная и ночами по чужим номерам не шляюсь.
Мы встречались компанией каждый день: бассейн, лыжи, бильярд. Вячеслав ничем не выдавал особого отношения ко мне. В тот день, когда нам всем надо было расставаться, устроили торжественные проводы. Мы шумели, и охранник постучал в номер: «Господа, нельзя ли потише? В это время дух князя Барятинского обходит свои владения, и вы ему мешаете». Пробило двенадцать ночи. Нужно было прощаться, и все обменялись телефонами.
***
Я смотрела на Леху. Побритый такой, помытый, свеженький. Чем не мужик?..
— Леха, а ты галстуки носишь?
— Галстуки носит кобел на пенсии. А я мужчина молодой. В полном расцвете.
— А сколько тебе лет?
— Двадцать один год.
Он выглядел гораздо старше своих лет. Никогда бы не подумала. Всего-то двадцать один, а сколько пройдено дорог, сколько сделано ошибок…
— Мадам, вы сегодня ночью все какого-то Вячеслава вспоминали. Муж?
— Нет, Леха, не муж, — ответила я и, чтобы он не затронул эту больную для меня тему, начала опять задавать ему вопросы. Попросила рассказать о втором браке и о том, как он снова оказался в тюрьме.
— Мадам, тебя, похоже, сюда Великая инквизиция посадила, ты меня вопросами совсем замучила. Расскажи да расскажи. Я ведь и показать могу.
— А вот этого, Леха, делать не надо.
Как бы Леха ни блатовал, ни эпатировал, ни надевал маски, я видела в нем человека доброго, понимающего, очень тонкого. Непонятого, много пережившего, но не сломленного. Он постоянно хохмил, хохотал, закатывая свои маленькие глазки. Судьба — не позавидуешь, но есть же силы смеяться. Где он черпает силы? С этой минуты я поняла, что Леха мне очень дорог. Дорог. Как первый учитель. «Были бы мы! — постоянно повторял он. — Были бы мы. Отсюда возвращаются».
— Скажи, вот ты когда-нибудь своему мужу изменяла?
— Нет.
— А вот Ирка моя, кажись, на зоне загуляла. Вот еду ей башку отбить. Пришлось опять пойти на преступление: магнитофон спер, чтобы посадили. С Иркой надо разобраться, да и мать проведать. Она ведь у меня еще срок мотает. Далеко отсюда, в Мордовии. Я прямиком туда. Мне здесь задерживаться не резон, дела у меня там срочные. Менты сажать не хотели, а где мне жить? Дом наш сгорел, как нас с матерью посадили. Освободился, а идти некуда. По друзьям, по вокзалам шастал. Но сколько можно у людей из карманов выгребать?.. На работу не берут, прописки нет. Кому мы, зеки, нужны? Только по телику про нас болтают. Не мы такие — жизнь такая. Тебе меня не понять. Оказалось, я нормальной жизнью и жить-то не умею. А на зоне я — первый парень.
Я поймала себя на мысли, что Леха ничем не отличается от обычных мужиков. Расхотев быть женщиной, спалив в печке все свои платья, он превратился в то, что раньше так рьяно осуждал. Он обманывал женщин, порой даже брал их силой и считал это нормальным. Все по тем же неписаным законам: «мужчине все можно». Но стоило ему хотя бы предположить измену в свой адрес, он приходил в ярость.
После смерти Аленки Леха погоревал, погоревал, да и пошел вразнос. Он встречался с двумя-тремя женщинами одновременно. Мог назначить свидание одной, а пойти на встречу к совершенно другой. Он ни в кого не влюблялся, им двигал исключительно животный инстинкт. А женщины ссорились из-за него и даже пытались покончить с собой. Поначалу Леха убеждал себя в том, что просто не может найти себе такую, как Аленка. А потом понял, что никого не ищет, а лишь плывет по течению. Но любовь нагрянула нежданно. Однажды Леха встретил Иринку. Она совершенно не была похожа на Алену. Шикарная фигура, пышные формы, красивое лицо, особенные глаза. Ирина пользовалась успехом, но Леха отбил у нее всех ухажеров.
Так он снова женился. Очень скоро его срок подошел к концу, и, поклявшись друг другу в верности, Леха и Иринка расстались. А тут до него стали доходить слухи, что Иринка изменяет ему направо и налево. Ему нужно было срочно возвращаться на зону.
***
Оказалось, что мне тоже нужно было срочно возвращаться в Марьино. А дело было так. Восьмое марта. Телефонный звонок разорвал тишину раннего весеннего утра. Звонил Тетерин, друг семьи, поздравил с праздником и заодно вскользь сообщил, что мой бывший муж места себе не находит после развода, мучается, много пьет и очень жалеет о содеянном. Тетерин ему посоветовал, пока не поздно, возвращаться домой, ко мне и к детям.
— Виноват, сильно виноват, — признавался он Тетерину.
— Бери розы, иди поздравлять жену с праздником.
— Да она мне этими розами — по лицу! Больно будет.
— А ты возьми цветы помягче. Хризантемы, например, — посоветовал мужу друг семьи.
И вот Тетерин торжественно сообщает мне, что сегодня может явиться мой муж. Я немного проветрилась в Марьино, мысли мои приобрели некоторую стройность, и я еще больше укрепилась во мнении, что родной муж, отец твоих детей, пусть не очень правильно ведущий себя, — лучше, чем дядька чужой, пусть даже самый хороший. Прожив много лет вместе, очень трудно отпустить друг друга. Развестись можно. Разбежаться по разным углам, разным квартирам. А разорвать незримую нить, связывающую двоих, невозможно. Мы венчались не в церкви, но эта нить существовала между нами.
«Утро весеннего дня удалось, — оживилась я. — Запеку курочку, настругаю салатиков, освежу квартирку, надену халатик посексуальнее. Вот этот. Нет, вот этот, — перебирала я вещи в шкафу. — Нет, лучше не халатик, а вот эту тунику», — вертелась я возле зеркала.
Так, макияж. Нарисовала лицо. Зажгла фонарики в глазах. Блеск появился. Хорошо. Улыбка. Отлично. А я еще ничего! Соблазнить своего же мужа во второй раз даже более интересно, чем в первый.
Я продолжала крутиться перед зеркалом, примеряя не только наряды, но и улыбку. Улыбкой я должна была изобразить не долгожданную радость, а так, скромненькую мысль, мол, заходи, если пришел.
В тишине прозвучал еще один звонок. «Возможно, это он», — мелькнуло у меня в голове, и я бросилась к телефонной трубке.
— Доброе утро, девушка, — послышался приятный мужской голос.
Кто это? Вроде знакомый тембр…
— Это Вячеслав из Марьино. С праздником! Женского счастья. Чем занимаетесь?
— Жду мужа, — как дура, ляпнула я. От неожиданности не смогла придумать ничего оригинальнее. Но, как выяснилось потом, такая бесхитростность иногда подкупает мужчин. Я никогда не умела ловчить, всегда говорила то, что думала, и это не всегда шло мне на пользу. Можно не врать, но говорить нужно не все.
Только это был не тот случай. Мужчина на том конце провода смутился. Пожелал мне приятной встречи с мужем, еще раз женского счастья и поспешно положил трубку. Ровно через две минуты я забыла о звонке, продолжая примерять наряды, улыбки, фразы, размышляя, что скажу, как встречу, как буду себя вести, чтобы все выглядело естественно. Вернулся и вернулся, ну и что? С кем не бывает? Родная жена. Родной дом. Родные дети. Вчера разошлись, сегодня опять живем вместе. Но нельзя изображать радость. Простила все и сразу? Нет, так нельзя. Обидел ведь сильно? Обидел вчера, обидит и завтра. Мол, простит дурочка, она мне все прощает.
Вячеславу я отказала без всякой задней мысли. Звонят тут всякие, мешают семейному счастью, путаются под ногами. Раздавалось еще много звонков. От некоторых я вздрагивала. Вот он… Нет, опять не он. Звонили друзья, знакомые, бывшие пациенты. Все! Только не бывший муж. День уже клонился к вечеру, и я стала постепенно понимать, что он не придет. Передумал.
Вот еще один звонок. Ура! Дождалась! Но, увы, голос не его. Я не сразу поняла, кто звонит. Так не бывает.
— Это опять Марьино вас беспокоит. Это Вячеслав. Как проходит праздничный день? Как муж себя чувствует? Явился?
У меня опять не оказалось словесных заготовок. Я не знала, что ответить. Можно было сказать: «Да, муж рядом, пьем шампанское, на столе розы. А вы, собственно, по какому вопросу?» Но заготовок не было, и я, как всегда, сказала правду:
— Муж не пришел. Я лежу под одеялом и плачу.
Наряды в шкафу, макияж смыт слезами, улыбка — под мокрой подушкой. Даже банкротство в любви — капитал для чувств. Это был контрольный выстрел в голову. Да хоть восемь выстрелов, если мозгов нет, если человек думать не хочет. Восемь пулевых ранений в голову, а мозг не задет. Это про меня. Знаковое событие произошло сегодня: муж не пришел. Не вернулся. Думал вернуться, но передумал. Не нужны ему ни я, ни дети.
Сегодняшние события произошли неслучайно. Все в жизни предопределено там, наверху. Остановись, подумай, в ту ли сторону идешь? А надо ли мне туда? Меня неумолимо тянуло в прошлое. Но на то оно и прошлое, что прошло. Поставь точку. Начни жизнь с красной строки. Второй звонок Вячеслава заставил меня призадуматься. Любовь — это небесная лестница, которая поднимает человека над землей, а брак — это лестница, по которой человек спускается на землю. А если нет ни любви, ни брака? Куда идти дальше? Идти дальше нужно однозначно! Но только с другим человеком.
Вячеслав продолжал разговор:
— Девушка, я вас приглашаю в Марьино. Сегодня праздник. Ваш день. Вы достойны тостов и подарков. Будем праздновать.
— Уже очень поздно, и ехать далеко.
— День еще не закончился, а вечер только начинается. Я пришлю за вами такси. Не надо плакать.
Такого поворота событий я не ожидала. Но последовавшие затем переговоры с детьми закончились неудачей. «Мама, сиди дома. Жди папу. Он все равно когда-нибудь да придет», — категорично сказал сын. Действительно, а вдруг придет, а меня дома нет, — засомневалась я в правильности своего стремительного решения. Такси было срочно отпущено.
Но опять позвонил Вячеслав, и начались его длительные переговоры с детьми, закончившиеся тем, что дочь сама сложила мои вещи в сумку. «Косметику положила, купальник положила, сланцы положила, — загибала свои маленькие пальчики она, рассуждая совсем по-взрослому. — Мамуль, а мне понравился этот мужчина. Голос у него такой приятный. Сказал мне: “Будет счастлива ваша мама, будете счастливы и вы”».
Такси вновь подъехало к нашему подъезду. «Я совсем не знаю этого человека. Кто он, о чем думает, чем дышит? Зачем я ему со своими проблемами? Малознакомый человек. Первый встречный», — продолжала я развивать мысленно эту тему, когда такси уже мчало меня в сторону Марьино.
Ехали долго. Водитель почему-то поехал дальней дорогой, через Курск. Подъехали к месту встречи, где меня никто не ждал. «Такси отпускать не буду. Поверила первому встречному. Так мне и надо. Лечить таких дур, как я, нужно. На макаронной фабрике. Лапшу повесил — слизывайте с ушей». Понаблюдав за обстановкой за окном, я уже готова была дать команду двигаться в обратный путь. Мартовский холодный ветер обжигал лицо, свистел в кронах деревьев и в моих ушах, срывал одинокие листья, уцелевшие с осени.
Выйдя из такси, я застегнула пальто, боясь окончательно простудить свою застывшую душу.
У ворот в будке сидел охранник. Опережая мой вопрос, он засуетился:
— Сейчас позвоню. Заморозили мужика. Почему так долго ехали? По прямой здесь час езды.
— А мы через Курск, водитель не знает другой дороги. Поэтому долго, — пояснила я.
«Бешеной собаке семь верст не крюк, — подумала я и продолжала себя ругать: Зачем приехала?..» Но тут увидела улыбающегося Вячеслава.
— Заждался, уже волноваться начал.
Он рассчитался с водителем, взял сумку, и мы направились в здание, где только оживала вечерняя жизнь, народ сновал по коридорам, уже веселился.
Воспринимать окружающий мир в радужных красках — это великое искусство, которому надо учиться. Наша жизнь и люди вокруг нас зеркальным образом отражают нас самих. То, что мы чувствуем и думаем, — то и получаем в ответ. Я улыбнулась жизни.
***
— Что-то мне не нравится все это, — сказал Леха. — Вторые сутки ты здесь валяешься на нарах, и никто тебя не домогается, кроме меня, конечно.
— Леха, что ты понимаешь под словом «домогается»? Мне не нравится как раз это, мы с тобой договорились еще вчера, что мы друзья, перестань, а то я опять начну тебя бояться.
— Для быков нет священных коров, — засмеялся Леха. — Ты не поняла меня, я про ментов. Уже должны были давно подтянуть тебя к себе. В смысле вызвать. Истекает срок. Вторые сутки, а обвинение тебе так и не предъявлено. Не нравится мне все это. Никак не могут придумать тебе обвинение.
За столько лет отсидки Леха уже стал юристом и знал законы, знал то, чего еще не знала я.
— Будешь моим адвокатом, — сказала я.
— Башку надо ментам за такие делишки отрывать. Что не видят, кого сажают и за что.
— Леха, а ты мне веришь? — спросила я.
— Глаз у меня наметанный. Не зря баланду хлебаю. Не место тебе в тюрьме. Я сегодня на тюрьму слиняю. Если они тебе сегодня не предъявят обвинение, должны тебя отсюда нагнать, в смысле отпустить.
При слове «отпустить» я оживилась.
— А что, Леха, бывало такое, чтоб отпускали?
— Бывало. Я уже так долго сижу, почти столько, сколько живу. Повидал всякого. Бывало, что и отпускали.
Леха почувствовал мое оживление и тут же показал мне, как я буду выходить из камеры, — растопырил пальцы, как делают блатные, и начал меня передразнивать: «Загните мне пальцы, я в двери пройду!»
А потом вдруг резко стал серьезным:
— Корону поправь. Размечталась: «отпустят»… Не для того они тебя сажали, чтобы отпустить. — И добавил, почесав меня между лопатками: — У тебя вот здесь не чешется?
— Леха, не дотрагивайся до меня. Я ведь тебя просила.
— Недотрога. Для быка нет священных коров, — повторил свою коронную фразу Леха. — Так чешется или нет?
— Чешется, чешется, — ответила я в надежде, что он от меня отстанет.
— Это крылья у тебя прорезаются. Знаешь, как зубки, когда растут — чешутся, так точно и крылышки. Все, что у человека отрастает, чешется. — И Леха почесал себя у основания ноги.
— Леха, опять ты пошлишь. Давай лучше про крылья поговорим.
— Когда падаешь со скалы в пропасть, почему бы не попробовать полететь? Что ты теряешь? Давай попробуем.
Леха стал с диким ревом носиться по камере, широко растопырив руки, изображая скорее самолет, чем птицу. Потом вдруг остановился и резко посерьезнел:
— Знаешь, крыльев еще недостаточно, чтобы летать.
Задавая Лехе глупые вопросы, я пыталась выглядеть умной. Весь мой жизненный опыт показался мне ненужным пыльным мешком после общения с ним. Интеллект — это диагноз, подумала я. Это надо лечить. Ум, который искалечен интеллектом, — тяжело болеет, хронически и, возможно, неизлечимо. А ум, который искалечен еще и памятью, — «это уже тяжелейшее осложнение неизлечимой болезни. Дуракам всегда легче живется. Нужно как-то избавляться от признаков интеллекта. Так проще жить.
— Леха, а что еще нужно для того, чтобы летать?
— Ну и глупая же ты! Небо нужно! И еще летная погода. Поняла, дуреха?
Какой он умный, этот Леха. Мыслит проще. Его мысли легкие, быстрые. Они не ложатся каким-то тяжелым бременем на душу. У него надо учиться жить. Все в жизни просто и понятно. Это у Лехи. А у меня?
— Где небо, глупая? Где оно? Где ты видишь небо?! — Леха тыкал пальцем в маленькое окошечко из непрозрачных блоков, густо покрытых паутиной и пылью, да еще загороженное тремя рядами решеток. Зачем оно здесь сделано? Для сбора грязи. Во всех песнях поется, что через решетку видно небо. Так где же оно?..
— Да и погода сегодня нелетная, — продолжал глумиться надо мной Леха. — Аэропорт закрыт. — Он подошел к двери и показал на замок. — Разрешают только посадки, взлеты запрещены.
— Аэропорт у тебя какой-то неправильный: посадки разрешены, а взлеты запрещены.
— Жизнь неправильная — и аэропорт неправильный, — объяснил мне с видом знатока Леха.
***
В этот вечер мы с Вячеславом обошли весь дворец: дискотеку, бар, бильярдную. Разговаривали как давно и хорошо знакомые люди. Столько тем — всего не переговорить. Поднялись под купол дворца: там круговая лестница совершала полный оборот, и нужно было, взявшись за руки, в темноте пройти по кругу по часовой стрелке и загадать желание. Оно, по легенде, должно было непременно сбыться.
Вячеслав ухаживал за мной весь вечер, подарил букетик мимозы, запах которой символизирует весну и надежду. В общем, вечер удался, я ощущала себя желанной. Душа моя начала оттаивать, сердце — согреваться, в глазах зажглись огоньки, а улыбка перестала напоминать оскал. Я еще не понимала, какие отношения могут у нас сложиться, но что отношения будут, в этом я уже не сомневалась. Мне хотелось находиться рядом с ним, рассказывать о своих проблемах, не задумываясь, что в этот момент думает он. Он не перебивал меня. И самое важное, что я сделала в этот вечер, — рассказала все, о чем переживала, открыла ему свою душу. Я сама была удивлена, что столько времени все держала в себе. Боль, обида, предательство — эти отрицательные эмоции разъедали меня изнутри, уничтожали, не давали покоя. Я выплеснула все, что мешало мне жить. Хотя нельзя так себя вести женщине с мужчиной. Где тайна, загадка?.. Неправильно это. Но он ничего не сказал, не осудил, все выслушал внимательно.
Праздничный вечер подходил к концу, близился момент, когда дух князя Барятинского начинает обходить свои владения. Вячеслав привел меня к моему номеру. Я в растерянности заметалась у двери, он понял, что я не могу найти слов, чтобы пригласить его к себе, и спас положение:
— Девушка, вас в церковь навычет надо вести, а уже потом в постель приглашать.
***
— Силикончики? — спросил Леха, протягивая руку, чтобы дотронуться до моей груди, но я ударила его по протянутой руке, даже не успев понять, что происходит.
— Не дотрагивайся до меня! Я же тебя просила. — Я поправила свою грудь своеобразным движением: — Натурпродукт.
— Везет же некоторым. А тут? — Леха пытался нащупать свою грудь. — Нету. Ищи, ищи, должна быть. А зачем она мне? Хочу обмануть природу. Доктор, сейчас ведь всякие операции делают. Грудь мне не нужна, а вот там… — Леха оттянул резинку своих штанов. — Можно заказать… ма-а-а-ленький такой? — Он показал полпальца. — Грудь убрать и сделать из нее вот такусенький член?
— Леха, Минздрав предупреждает: из твоей груди очень маленький получится.
— Ты видела скульптуру Бибеско? Там бюст женщины издалека напоминает фаллос. Умеют же люди сделать. Освободимся, тогда ты мне поможешь по своим каналам спеца найти, кто в этом деле сечет. Это мечта моя.
— Мечтать не вредно.
Леха опять почесал себя у основания ноги.
— Что, чешется? Значит, растет.
— Доктор, вы что, и вправду думаете, что само вырастет?
— Вырастет.
— А что, может, поливать, чтобы быстрее росло? — Леха снова оттянул резинку штанов и вылил туда остатки воды из алюминиевой кружки.
— Только не кипятком, — сказала я.
Леха залился смехом.
— А я вот хочу разрез глаз поменять, хочу такие, как у тебя. — Я растянула уголки глаз руками, получилась японская куколка. — Засмеялся, глазки закатились, и ничего не видно, — подшучивала я в отместку.
— Это я-то ничего не вижу?! — возмутился Леха. — Я своими маленькими глазами вижу больше, чем ты своими огромными. В тюрьме знаешь как все надо видеть!.. Один глаз спит, а другой глаз бдит.
Эта фраза была из категории ценных советов. Я прощала Лехе всю его болтовню. Он учил меня науке выживания, и многие из его советов пригодились мне потом.
— Слушай меня внимательно. Менты прессовать будут. Они ко мне уже подваливали по твоему вопросу. Пощекочи, мол, нервы. Фифа разукрашенная — мозоль на их внутреннем органе. Страшно мне тебя тут одну оставлять. Слушай и смотри. Не расслабляйся ни на секунду. От них всего можно ожидать. Путевая ты, жалко мне тебя. Пройдутся они по чистой душе твоей кирзовыми сапогами. Держись.
Леха объяснил мне, что это цветочки, изолятор временного содержания, ИВС.
— А будут еще тюрьма и зона. Будут этапы. Будут разные люди. Будь готова ко всему, дело заказное. Сгноят и не спросят, как звали.
За дверью послышался шум: людей выводили из камер во двор к автозаку. Этап на тюрьму. Леха стал собирать свой баул с вещами: фуфайка, свитер, брюки, пара мужских трусов и книга. Это было все его имущество. Скромно. Но этот человек обладал такой тонкой душевной организацией, таким юмором, таким оригинальным складом ума, такой добротой и жизнелюбием, что ему позавидовал бы иной владелец яхт, заводов и фирм. Для того чтобы радоваться жизни, не нужен чемодан с деньгами. Нужно просто любить жизнь, радоваться мелочам. Никогда не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже.
— Самое главное — не падай духом, — сказал мне на прощание Леха. — Доктор, не мне тебя учить медицине: падая духом, можно очень сильно ушибиться.
Мы обнялись на прощание как родные. Истинный джентльмен Леха поцеловал мне руку.
Как благодарна я тебе, Леха, за то, что ты научил меня видеть смысл в простых вещах. И жизнь, по своей сути, есть сумма неприятностей, дающая ощущение радости бытия. Нужно просто не переставать радоваться и благодарить.
Леху увезли на этап. Я еще не знала в то время, что такое этап. Леха так восторженно и легко рассказывал обо всем, все казалось простым и романтичным. Я верила ему.
Перроны, вокзалы, поля, города. Дороги и шпалы ведут в никуда, Кому-то не спится, не спать суждено, А Леха закурит, ему все равно. У Лехи в неволе смешались все дни, Куда-то на Север его повезли, Куда-то на Север, не им решено. А Леха закурит, ему все равно. И бьются, и бьются о рельсы колеса, Как будто поют. Горит сигарета всего пять минут. И бьются, и бьются о рельсы колеса, Куда-то спешат. Не может судьба возвратиться назад. Перроны, вокзалы, поля, города, Дороги и шпалы ведут в никуда…Когда за Лехой захлопнулась дверь и я осталась в страшной камере одна, только тогда ощутила по-настоящему, где нахожусь. Одна в четырех стенах. Мне стало страшно. У меня никогда не было приступов клаустрофобии, но сейчас я ощутила что-то подобное. По спине побежали мурашки, меня зазнобило, как при высокой температуре. Стояла весна, на улице было достаточно тепло, и я была легко одета, так как не предполагала, куда могу попасть. Мне стало очень холодно, холодно от одиночества, грусти, страха. На нарах валялось вонючее солдатское одеяло, я стряхнула с него пыль и закуталась в него. Как воняет, фу!.. Одеяло пахло человеческими страданиями, муками. Кто-то лежал под этим одеялом, и ему было так же плохо, как и мне. А может быть, и еще хуже.
От мысли, что я не одна, я стала согреваться. Запах одеяла уже не беспокоил меня. «Не падать духом», — повторила я слова, завещанные мне Лехой. «Ты не одна», — пыталась внушить себе я. А душа кричала: «Я одна, одна! Почему я, за что мне?! Я одна, одна!»
Человек приходит в этот мир один и уходит из него один, и вся наша жизнь — это путь от исходного одиночества к конечному… От всех этих страшных мыслей меня скрутило, душа рвалась на куски. Ощущение было такое, словно горечь и обида текли по моим жилам вместо крови. За что?! Бросили, предали, обидели. За что? Почему именно я? Одиночество — это прибежище сильных, слабые всегда жмутся в толпе. Я — сильная. «Сильная, — начала я давать себе мысленные установки. — Каждому Господь посылает страдания по его силам. Я должна, я обязана выдержать — ради детей, ради родителей. Я должна, я сильная».
Закутавшись в уже не настолько вонючее одеяло, я стала мечтать. Все процессы жизни подчиняются законам физики, биологии и других наук. Если будущее и прошлое положить на чаши весов настоящего и на чашу будущего ничего не докладывать, то чаша прошлого перетянет и весы настоящего опрокинутся. Чтобы жить в равновесии в настоящем, кладите на чашу будущего хорошие мысли. Чаша прошлого пусть взвешивает только хорошее, что было в нем. А на чашу будущего кладите свои мечты.
Я стала мечтать, как вернусь домой, как все это произойдет, какое радостное волнение охватит мое сердце. Как меня встретят мои родные, а все недоброжелатели попрячутся по норам, темным норам своих душ. И я буду идти с гордо поднятой головой, счастливая, несломленная. Я имею на это право. Я старалась никогда не обижать людей, помогать им в трудную минуту, и если оказалась здесь, значит, нужна здесь для чего-то. Эти стены созданы для исправления человека. В чем я должна исправляться? В своей честности и порядочности? Не убей, не укради — это у меня в крови, заложено на генном уровне. Мои предки триста лет были священниками, имели свой приход, молились за людей и за меня. Мои родители — педагоги, заслуженные учителя, отличники народного просвещения СССР и России. Они воспитали меня честной. Они воспитали меня правильно. А вдруг неправильно?.. Они привили мне веру в справедливость, в силу закона и конституции. А где она, справедливость? Они не научили меня ловчить, изворачиваться, лгать, приспосабливаться. А эти качества, оказывается, необходимы в современном мире, чтобы выжить.
Зачем я здесь? Я никого не убивала. Я лечила людей, спасала жизни. Двадцать лет работала за нищенскую зарплату и помню времена, когда нечем было кормить детей. Но я не пошла на большую дорогу грабить и убивать, я создала свою клинику, а потом платила налоги государству.
Что я сделала не так? Зачем я здесь? Я вспомнила слова Лехи: «Доктор, не мне тебя учить медицине. Не умирай, пока живешь», — и опять с теплом и благодарностью подумала о нем. Я здесь, чтобы помочь таким, как Леха, выслушать их, понять, пожалеть, помочь выбраться из этого порочного круга, вновь стать человеком. Упасть очень легко, а встать на ноги очень сложно. «Я буду помогать людям, — сказала я себе. — Буду вести себя так, чтобы, глядя на меня, они становились лучше. Я врач, а основной метод лечения всех недугов человеческих — милосердие. Здесь такие же люди, как и я, но жизнь у всех складывается по-разному. Я буду лечить их милосердием», — приняла я окончательное решение, перед тем как заснуть.
Порой нам снится такое, что в жизни невозможно, а иногда жизнь преподносит сюрпризы, какие и не приснятся. Я погрузилась во тьму, как будто где-то очень далеко. Попыталась рассмотреть, что вокруг меня. Темно. Я шла по этой кромешной тьме, падала, поднималась и опять шла, не видя ничего вокруг. Понемногу глаза стали привыкать к темноте, и я увидела дорогу: ухабистую, корявую, грязную. Приглядевшись, обнаружила, что эта дорога пролегает мимо высокой черной стены. Я падаю, встаю, опять иду. Не кончаются ни дорога, ни стена. Длинный, нескончаемый сон, длинная, нескончаемая дорога и черная стена. Где я? Вдруг я услышала смех. Кто-то произносит мою фамилию и громко смеется.
Я открыла глаза. Слава богу, это был всего лишь сон. «Тормоза» со скрипом открылись, охранник произнес мою фамилию и пригласил к следователю. Наконец началось. Следователь сидел в отдельной, небольшой, но достаточно светлой комнатке. Мои глаза еще не отошли от темноты, и я щурилась при взгляде на солнце, которое, оказывается, еще светило на Земле.
Было заметно, что следователь нервничает. Мой вид показался ему сонным, а ему, наверное, было не до сна, придумывал мне обвинение. Теперь он не знал, с чего начать.
— Вы обвиняетесь в организации преступной группировки, — сказал он.
— Что-что? — не поняла я.
Он откашлялся, попытался повторить убедительно, убеждая прежде всего самого себя.
— Что?.. — опять переспросила я.
На моем лице, похоже, было дикое выражение, за эти двое суток я одичала рядом с Лехой.
— Потрудитесь хотя бы адвоката мне пригласить.
— Какая грамотная, — ответил следователь.
Он продолжал читать какие-то бумаги. У меня сложилось впечатление, что обо мне там нет и слова правды. Я не знала в то время законов, но интуитивно чувствовала, что если я сейчас подпишу это, то свободы мне долго не видать.
Я возражала, протестовала, настаивала на присутствии адвоката, но следователь гнул свою линию.
— Вы хотите, чтобы я во все это поверила?
— Я хочу, чтобы ты все это подписала. Дура не дура, а придется.
Я опять возражала и протестовала, следователь нервничал. Выходил, заходил обратно, тут же на ходу переделывал бумаги.
— Ну ладно, пойду тебе навстречу. Не организовывала ты никаких преступных групп, у нас нет доказательств. Но подпиши хоть пособничество.
И он опять попытался подсунуть мне бумагу. Я опять начала свою песню: не была, не состояла, не участвовала.
Оставалось всего несколько часов, чтобы предъявить мне обвинение. Если оно не будет предъявлено, меня должны отпустить.
— Какая ты трудная, как трудно с тобой работать… Ну подпиши, — уже чуть не плакал он.
Зазвонил сотовый телефон. Следователь вытянулся по стойке «смирно», докладывая. Отвечал: «Нет… Нет… Нет». Я поняла, что это начальство интересуется, предъявлено ли мне обвинение. Получалось, что нет. За это его по головке не погладят.
Следователь позвал охранника и приказал вывести меня из следственной комнаты. Меня привели в какой-то тухлый небольшой бокс, где я пробыла несколько минут. Не успела даже осмотреться, как дверь отворилась, но на пороге никого не было. «Раз дверь открылась, значит, надо выходить. Это логично», — подумала я и вышла в коридор. Вдруг из-за двери меня чем-то сильно ударили по голове, и я упала.
***
Очнулась я в приемном отделении больницы, где много лет проработала врачом. Первое, что я услышала, придя в себя, — это голос моего сына, пытавшегося прорваться ко мне, хотя его не пускали. Значит, я долго была без сознания. «Скорая» домчала меня до больницы, и приехал сын. «Прошло около часа, не меньше», — прикинула я. Голова болела, затылок ломило: чувствовалось, что там кровоточит рана и образовался сильный отек. Я лежала на кушетке и была прикована к ней наручниками. «Чтобы не сбежала», — подумала я. Руки — к двум ножкам кушетки с одной стороны, ноги — к двум другим. А что, в таком состоянии разве можно убежать?
Мои коллеги собрались на консилиум. Если меня сейчас кладут на два часа в реанимацию, то потом должны выпустить или продолжать лечить, но арест обязаны снять. А если не в реанимацию, то… Я видела страх в глазах моих коллег. Ждали травматолога. Обычно здесь консультирует мой бывший муж, но он прислал своего коллегу. Он бы мог шепнуть, чтобы меня положили в реанимацию и не тревожили, но не сделал этого. Меня положили в обычную палату, поставили капельницу, и я улетела…
Где я была несколько дней, не знаю. Улетела, и все. Летала, не приземляясь на землю. Как только я начинала что-то соображать, меня кололи и я опять улетала. Рана на голове уже не болела, и до меня начало доходить, что мое состояние связано не с травмой головы, а с вводимыми мне психотропными препаратами. Я лежала, все так же прикованная к постели наручниками. Руки и ноги, четыре цепи, по три штуки на каждой руке и ноге — всего двенадцать. Видно было, что в наручниках дефицита нет, у ментов их — как у домохозяйки прищепок. Полно! А сколько весят наручники, одна штука? А сколько весят двенадцать штук?.. Я уже не могла поднять ни рук, ни ног, все тело посинело. Каторга. Кандалы. Я вспомнила блатную песенку, которую мне пел Леха: «Твои быки мне лихо ласты завернули, браслеты сжали белы рученьки мои». Я засыпала и просыпалась под звон кандалов.
Меня лечила коллега, с которой я проработала двадцать лет. Я стала отказываться от уколов, за что получила от нее пощечину. «Я сама знаю, как и чем лечить, ты мне не указывай, зечка!» Вот так коллеги! А главный врач дал справку следователю, по которой мне разрешалось предъявлять обвинение, пока я оставалась без сознания. Кто они, мои коллеги? Не буду их судить. На блатном языке ударить по голове — «дать наркоз» или «притемнить». А состояние после удара по голове — «офонарение». Менты мне дали наркоз, притемнили, и я офонарела. А какой диагноз поставил мне мой муж-травматолог?..
***
Дети сначала не хотели ничего говорить Вячеславу, но потом решили рассказать всю правду. Он нанял в Москве адвоката и срочно прилетел ко мне. Адвокат стал копаться в деле, писать жалобы. Нашел массу грубых нарушений закона, конституционных прав, в частности, права на защиту. А потому неудивительно, что Вячеслава арестовали 22 мая, через девятнадцать дней после меня. Ему вменили незаконное приобретение квартиры в Москве. Следователь утверждал, что адвоката можно устранить только одним способом — перестать ему платить. Устранить того, кто платит, — простое решение этой непростой проблемы. До этого суд уже дважды выносил решение о незаконном лишении меня права на защиту. Следователь 23-го числа писал приглашение моему адвокату, прося прибыть 22-го. Так может вести себя только настоящий полковник: я сегодня хочу, чтобы вы явились ко мне вчера!
Вы скажете: так не бывает. В моем деле есть уникальные документы, подтверждающие это. Полковник, а вел себя как недоразвитый мальчик, который носится с сачком за бабочкой: вдруг поймаю! Запугаю, замучаю бабочку, она испугается и сама залетит в сачок.
— Дело заказное, — не скрывая, говорил мне полковник. — Я уверен, что ты не виновата, но знаешь, как можно повернуть?..
— Как можно посадить невиновного человека? — продолжала искать правду я у следователя.
— Легко, — отвечал мне он, не стесняясь.
Я понимаю, когда можно засадить красиво, профессионально, имея неопровержимые улики, видеосъемку, записи телефонных разговоров, заключение экспертиз и другие доказательства вины. На блатном языке это называется «полный горюн», — угрозыск все по делу узнал.
А когда ничего этого нет, как можно посадить «легко»? Я мать двоих детей, у меня старые родители, они могут не выдержать азартных игр полковника. Какое право он имеет так шутить?.. Только он и не шутит. Он серьезно. В деле имеются доказательства только моей невиновности: я потерпевшая сторона, моим именем воспользовались преступники. «Зачем нужны полковнику законы?» — подумала я.
Я взывала к его профессионализму, просила разобраться, вникнуть. Неужели он не понимает, что я не виновата? Я молила его, просила. Он был безжалостен, он гнул свою линию. Туп или хитер? Я ему рассказывала о существовании законов, конституции, а он смеялся. Он просто глумился надо мной. Я, наивная, продолжала предоставлять ему свои аргументы. «Подумайте об этом, подумайте о том…» Он давно уже все обдумал.
— Посадить любой ценой, — сказал мне полковник.
Искренне это у него вырвалось.
Кому я нужна? Кому и что я сделала плохого? Кто меня заказал? Мысли мои метались. Я чего-то недопонимала, наверное, а мне казалось, что недопонимает он.
Как-то я спросила, знаком ли ему метод дедукции.
— Книжек начиталась.
— Да, начиталась. А вы читали? — И я назвала несколько авторов, которые пишут детективы.
— Некогда мне книги читать, работать надо, — ответили мне.
Я не успокаивалась и продолжала приставать к нему. Он не знал ни одного автора.
— Ильфа и Петрова все знают. Вопрос проще простого. Читали?
— А это кто такой? — искренне спросил полковник.
Прикалывается, что ли?.. А может, и правда не читал.
Некогда ему. Ему не до мелочей. А читал ли он книгу под названием «Уголовный кодекс»? Вдруг и ее не читал?
***
Я продолжала лежать в палате, прикованная цепью из наручников. Иногда удавалось уклоняться от назначенных уколов: приходили медсестры, которые меня хорошо знали, и понимали мой взгляд. Кололи мимо меня в подушки или матрац, когда менты из охраны теряли бдительность.
Когда дверь в палату открывалась, мои больные в знак поддержки умудрялись просунуть букетик цветов, собранных на больничной клумбе. «Мы с вами», — засовывали они под дверь записочки. Но постепенно мой мозг, затуманенный уколами, выплывал из тумана. Я опять была способна мыслить, владеть ситуацией и даже сочинять стихи.
В больничной палате, в которой я валялась, стоял шкафчик. За этим шкафчиком проходил изгиб трубы, и где-то рядом имелась розетка для радио. Провод радио был коротким, и радио не удавалось поставить на стол, шкафчик или окно. Был только один выход: поставить на изгиб трубы за шкафом. Поэтому, когда радио было включено, звук исходил из-за шкафа. И я прозвала радио «голос из-за шкафа». «Голос из-за шкафа» приносил в мою грустную жизнь новости: какая погода, сколько времени и так далее. Как будто мне было интересно, какая там погода или сколько времени: я потеряла счет дням, мне уже было все равно. Хотя когда «голос из-за шкафа» передавал гороскоп, я прислушивалась: вдруг судьба сулит моему знаку счастливую случайность, вдруг звезды посмотрят на меня или хотя бы в мою сторону и произойдет чудо — с меня снимут оковы, извинятся за причиненные неудобства и скажут: «Вы свободны». Спросят для приличия: «Как наручники, не сильно жали?» — потом добавят: «Ах, извините, мы нашли настоящих преступников, вы действительно оказались честным человеком». И я их великодушно прощу.
Но ничего такого не происходило. «Голос из-за шкафа» не умолкал, часто повторял фразу: «Преступникам удалось скрыться». Террористов не поймали, убийц журналистов не поймали, торговцев наркотиками тоже не поймали. А кого, спрашивается, поймали? Я тебя спрашиваю! «Голос из-за шкафа» молчал. Кстати, я вспомнила Леху, он называл радио «коробкой с кипишем».
Сегодня «голос из-за шкафа» вещал очень интересное. Даже охранники заслушались и не стали выключать. «Коробка с кипишем» сообщала рейтинг самых невероятных побегов из тюрем. Исчезновение только что осужденного преступника из британской тюрьмы вошло в анналы мировой криминалистики. Скотланд-Ярд арестовал осужденного поджигателя, который совершил дерзкий побег из лондонской тюрьмы «Пентонвилль». В первый же день своего тюремного срока 39-летний уроженец Франции зацепился за днище фургона для перевозки заключенных, в котором его только успели доставить в тюрьму, и благополучно скрылся. Потом Джулиен Шаторд, избавивший себя от тюремного заключения на три дня, сам явился в полицейский участок. Сотрудники тюрьмы признались, что не сразу заметили бегство находчивого заключенного. Только спустя семь часов, просматривая записи камер видеонаблюдения, охранники обратили внимание на странную тень под фургоном. Ловкий трюк беглеца занял почетное место среди выдающихся побегов.
1597 год. Более четырех столетий назад иезуитский священник Джон Геральд совершил «ниспосланный Божественным вдохновением» побег из лондонского Тауэра. После первого же письма своим сторонникам в лице католических священников Геральд начал получать от них секретные сведения с помощью невидимых чернил — его собственного изобретения. Благодаря этим подсказкам узник проделал ход в каменной стене камеры, незаметно прошмыгнул по коридору, а снаружи поднялся по винтовой лестнице на высокую башню, обнесенную рвом. Внизу, в ночной темноте, беглеца уже поджидала лодка. Сообщник бросил Геральду веревку, завязав конец толстым морским узлом. Беглец закрепил ее на башне, а затем благополучно спустился вниз. Отчаянного иезуита так и не поймали.
1755 год. Великий соблазнитель женщин Казанова после бурного романа с чужой женой оказался в страшной венецианской тюрьме «Пьомби» («Свинец»), прозванной так за непроницаемое свинцовое покрытие на стенах и крыше. Однако богатое воображение позволило Казанове совершить свой знаменитый побег, о котором он даже позднее напишет книгу. Чтобы реализовать задуманное, он изготовил из куска металла подобие лопаты. С помощью этого подручного средства Казанова несколько месяцев упорно копал лаз в углу камеры и не отказался от своих планов даже после того, как его перевели в другую камеру, только стал осторожнее. Он подговорил монаха из соседней камеры, и в итоге им удалось сбежать из тюрьмы вдвоем, используя тот же инструмент: им они взламывали двери.
1864 год. Томас Роуз был одним из тысячи северян, захваченных конфедератами в плен на бывшем торговом складе Ричмонда в ходе Гражданской войны в США. Свой путь к свободе заключенный прокладывал вместе с несколькими боевыми товарищами, используя карманные ножи и отходы древесины. В конечном итоге заключенным удалось прорыть туннель длиной пятнадцать метров, который начинался в тюремной камере и заканчивался в пустующем сарае. Полковник Роуз был настолько доволен своим надежным сооружением, что спустя несколько дней вновь вернулся в тюрьму, решив подарить свободу еще пятнадцати заключенным. В целом же этой секретной лазейкой воспользовались девяносто три офицера, что побудило члена Конфедерации Ричмонда назвать крупномасштабный побег «экстраординарной аферой».
1962 год. Легендарная тюрьма «Алькатрас» предназначалась для особо опасных преступников и считалась недоступной с точки зрения возможности совершить побег. В течение шести месяцев некое трио разрушало бетонную стену в своих камерах, чтобы добраться до вентиляционной системы. Для этого они использовали маникюрные ножницы и несколько ложек. Заключенным удалось пролезть через систему вентиляции, и они покинули остров на самодельном плоту. Существует, правда, версия, что они при этом утонули.
***
«Голос из-за шкафа» замолчал, я сделала вид, что сплю и ничего не слышу. Я вспомнила Леху. Ох, Леха, Леха! Где ты теперь? На кого оставил меня? Я уже понимала, что те несколько дней, проведенных с ним в одной камере, будут самыми счастливыми днями моей тюремной жизни. Любимым писателем Лехи был Дюма, и книгу «Граф Монте-Кристо», которую носил он в своем бауле, Леха зачитал до дыр. Когда он спал, то подкладывал ее вместо подушки под голову. Эдмон Дантес был его кумиром. Вечером в темной камере Леха таинственным голосом рассказывал мне про замок Иф. Он описывал эту крепость со всеми подробностями, можно было подумать, будто он сам там побывал. Он изображал, пугая меня, судорожные движения холерного вибриона, занесенного в Марсель капитаном Жаном-Батистом Шато (хотя, по-моему, это была чума, а не холера), описывал хитроумный побег из замка Иф, окруженного морем, бежать откуда было невозможно в принципе. Лишь в одном Леха не понимал Дантеса: зачем бежать. Сам он никуда из тюрьмы не собирался. «Идти мне некуда, меня и здесь неплохо кормят», — говорил мне Леха. Еще он рассказывал про Остров дьявола. Попавший туда был обречен. «Неисправимые» погибали от непосильной работы и адского климата, людей заедали насекомые, пиявки, змеи. Леха изображал пиявок, змей и комаров, загрызающих людей на Острове дьявола. И все это — радостно, хохоча и закатывая свои маленькие глазки.
А еще мне нравились рассказы Лехи об искусстве. Где он все это видел, откуда знает?.. Он очень хорошо мог изображать всякие знаменитые статуи, получалось очень похоже. В углу камеры стоял унитаз. Однажды, когда я слишком медленно спрыгивала с унитаза и закрыла Лехе и без того тусклый свет, он сказал мне: «Что стоишь как скульптура Бибеско?» Я промолчала, но нашла момент и отомстила Лехе: когда сидел на толчке он, я назвала эту скульптурную композицию «писающий сидя мальчик». Ему было все равно, что изображать, лишь бы найти, над чем посмеяться. Мне было не смешно. Но я нашла в себе силы и аргументы оценить Лехин веселый нрав, жизнерадостность. «В тюрьме? Ну и что? Не в гробу же… — говорил Леха. — Отсюда возвращаются».
***
В некоторые головы мысль приходит умирать, но только не в мою. Мне не давала покоя информация, услышанная от «голоса из-за шкафа». Зачем Лехе бежать? У него даже и дома нет. Тюрьма ему дом родной, его и здесь неплохо кормят. А у меня дети, родители, я нужна им. Да и не совершала я ничего такого. Всю жизнь жила в ладу с законом. Бегут от правосудия, а я хочу смыться от кривосудия. Предали все: друзья, коллеги, бывший муж. А я им верила когда-то. «Храни меня Господь от тех, кому я верю! Кому не верю, от тех остерегусь я сам».
Вот ментам я не верю. Братья наши серые, вы такие же люди, как и мы. Кто дал вам право зверствовать? Погоны? Начальство? Но уже в то время я начала замечать, что менты встречаются разные. Есть вполне нормальные ребята: умные, воспитанные, профессиональные. Мразей единицы, но и они есть. Я уже знала, например, к кому обратиться, чтобы слегка ослабили наручники, потому что от многодневного лежания у меня образовались огромные синяки на ногах и руках и могли появиться пролежни. Я вела себя тихо и вошла в доверие к ментам: цепи из наручников на ногах отменили. Потом мне разрешили сидеть, но одна рука все же была прикована к постели. Жизнь налаживалась.
Туалет находился в палате. Когда мне было нужно, меня отстегивали. Я могла оставаться в туалете минут пять-семь, потом менты начинали долбить в дверь и орать, не заснула ли я там. Я уже говорила и еще раз напомню, что это была моя больница, где я проработала двадцать лет. Обычная больница, не психиатрическая, без решеток на окнах. Я знала здесь все ходы и выходы. Хочу добавить, что этот новый корпус больницы был построен в девяностые годы, и очень быстро. Двери, открываясь, стукались о висящие лампочки, заходя в туалет, нужно было садиться на унитаз верхом, так как, если сесть обычным способом, из-за твоих коленок не закрывалась дверь. Вообще, во время строительства в ход шло все, что было под рукой. Нет обычных дверей, но есть двери для шкафа — пойдут на замену. Ждать некогда.
Так вот, в туалете имелась еще одна дверь. Дверь от шкафа. Казалось, что это встроенный в стену шкаф, но на самом деле это была дверь в соседнюю палату. Две «элитных» одноместных палаты и между ними туалет, чтобы «элитные» больные не шлепали в конец коридора. Я знала это. А знают ли об этом менты? Я приоткрыла дверь шкафа. Отличненько. Значит, не знают. Тогда я вышла из туалета, и меня тут же пристегнули. Окошко было настежь раскрыто, на улице тепло, весна, майский ветер заигрывает с больничными занавесками. Этаж третий. Занавески плюс простыни — нет, этот метод не для меня, альпинизмом я никогда не занималась.
Мысли, недостойные честной арестантки, продолжали бродить в моей голове. А почему, собственно, недостойные?.. Вернуться домой — нормальное желание всего живого на Земле. Что здесь преступного? Позднее, когда я уже была на зоне, там сбежали из клеток даже страусы. Я еще расскажу эту историю.
***
А еще Леха любил рассказывать мне про сыщиков.
— Откуда ты все это знаешь? — спрашивала я у него.
— Любознательный. Можно иметь такие большие глаза, как у тебя, и ничего не видеть, а можно такие маленькие, как у меня, и все замечать. Поняла? — И Леха, как всегда, залился смехом.
Смеется и смеется. Издевается, что ли, надо мной?..
— Что смешного?
— Все смешно. Тюрьма смешная, менты смешные. Ты этого еще не поняла?
— А зеки смешные? — в унисон Лехе спросила я.
— Не-е-е, зеки серьезные люди. Но посмеяться над ментами они любят. Ментам до зеков еще учиться, учиться и учиться. У зеков законы вековые, а у ментов меняются и меняются. Они их выучить, бедолаги, никак не могут, да и не хотят. Часто менты нашими методами пользуются: забить, завалить, запугать. Зачем законы? Они хорошие, гуманные у нас, но только на бумаге. Что мы имеем теперь? Неработающий Уголовно-процессуальный кодекс и недействующую конституцию. Кому ты нужна? Никому не нужна. Менты больше бандитов распоясались. Тот хороший сыщик, кто нашу школу прошел. Раньше было так: из бандитов в сыщики, а сейчас наоборот — из сыщиков в бандиты.
И Леха красочно, в деталях стал рассказывать про Великую французскую революцию. Он рассказывал так интересно, а самое главное — реалистично, будто сам в полной мере испытал все прелести того времени. «Везде был, все знает», — опять подумала я.
— Франсуа Эжен Видок. У этого знаменитого французского сыщика была бурная юность. Он мог стать генералом, но попал в тюрьму. За подделку документов ему дали срок, но сидеть в тюрьме он не стал. Один побег следовал за другим, Видок стал мастером побегов. Научился «развинчивать» свои суставы, чтобы сбросить наручники, рыл любые подкопы. Он стал королем каторги. Был безразличен к холоду и жаре, мог без движения часами оставаться в тайнике, пока его искали. Однажды он явился к главе полиции Леона и предложил свои услуги в обмен на свободу. Ему не поверили. Тогда Франсуа предложил пари: если он сбежит и добровольно явится к комиссару, его освободят и он займется искоренением бандитов в Леоне, если нет — останется в тюрьме. Комиссар согласился. Уже через час Видок преспокойно стоял перед пораженным полицейским. Понятно тебе? — закончил свой рассказ Леха.
— Куда понятнее.
***
Мысленно я складывала в одну картину все на первый взгляд случайные события: рассказы Лехи, ликбез «голоса из-за шкафа», прочитанные книги, увиденные фильмы. И знала точно, что ни один детектив не обходится без погони. Бежать надо сейчас. Здесь нет решеток, слабая охрана. Пробивать дырку в стене, так называемую «кобуру», я не буду. Пробив головой стену, что ты будешь делать в соседней камере? Метрополитен ложкой тоже рыть не буду: крот — не мой вариант. Побег «на рывок», по случаю, без подготовки также меня не устраивал. И «игра на скрипке» (подпиливание решеток) тоже не для меня, здесь и решеток-то нет. Уйду тихо, незаметно, по-английски, не простившись. «Я, конечно же, не Аль Капоне и не Джордж Келли по прозвищу Пулемет, но тоже человек неглупый», — продолжала убеждать я себя в правильности своего решения. Из «Алькатраса» убегают, даже колобок от бабушки ушел, ума хватило, рук, ног нет, а башка варит. А у меня и руки, и ноги целы, правда, в синяках. Все болит. «Хочу домой», — сказала я себе.
В итоге я предпочла вариант уйти тихо, не прощаясь. Охранники, сидевшие у моей постели, приходили на работу по сменам: день — ночь. Пришла ночная смена: возбужденные, говорят громко, обсуждают охоту.
— Неприятный момент охоты — это когда подранок ушел с кровью, — сказал первый.
— Это грех, — ответил второй. — Охотник не имеет права на промах. Каждый приехавший на охоту жаждет выстрела. Есть ли смысл поднимать ружье?
(Охота сейчас становится модным видом тусовки — на свежем воздухе, с ружьями и фляжкой коньячка.)
— По рюмочке, по рюмочке. Думали потусоваться, а тут охота. А этот козел промахнулся, — и началось. Собака взяла след, зверь был, судя по всему, ранен нетяжело, уходил быстро… Не догнали, ушел подранок с кровью, ну а потом «жидкий» штраф. Нажрались… В небо палили, хорошо, в этот раз никого из людей не застрелили, обошлось.
Я лежала и слушала их рассказы об охоте, было интересно. Они пили заваренные травы из термоса, после вчерашнего от них исходил запах перегара, играли в карты.
Дверь в палате ночью запирали на ключ, который висел у охранника на поясе. Под разговоры охранников я спокойно заснула.
Медленно всплывала заря, упираясь в твердь земли, отодвигая темную ночную завесу. Робко пробивался рассвет. Я открыла глаза и восторженно смотрела на рождение нового дня. Самое удивительное в жизни то, что она, несмотря ни на что, продолжается. Вот и сегодня утро было добрым. Мои охранники крепко спали: один положил голову на стол, другой прислонился к шкафчику. В палате стоял храп. Замечательно. Попробуем. Вдруг получится.
Из курса анатомии и судебной медицины я знала, что косточки кисти маленькие и очень подвижные, они могут легко деформироваться, и наручники снимутся. Я знала это давно, но не представляла, что эти знания могут мне пригодиться. Я всегда и всему училась с интересом. Человек должен уметь все. Кто знает, как может повернуться жизнь и какие сведения пригодятся? Леха рассказывал, например, про тюремный керогаз, про то, как можно приготовить пищу в камере. Кусочек сала, плотно обернутый туалетной бумагой, превращаем в фитиль, и он горит десять-пятнадцать минут. Леха многому меня научил. Многое я и сама знала, но никогда не подозревала, что мне может пригодиться эта информация.
Итак, начнем. Я стала вращать наручники вокруг руки. Если бы у меня были нитки, дело пошло бы быстрее. Не раз видела, как при помощи ниток снимают с пальца кольцо не по размеру. Я вращала наручник вокруг руки и одновременно тянула руку на себя. Получается очень больно, но рука потихоньку вылезает из наручника. Все это я проделываю под одеялом. Еще пара движений. Потерпеть. Больно. Очень больно. Самое главное — не завыть, а то охрана проснется.
Ну вот, свершилось. Оковы пали, и свобода нас встретит радостно у входа. Я села на кровати, охранники даже не пошевелились. Тогда я тихо, на цыпочках, прошла в туалет. Постояла там немного, прислушалась — тишина. Я открыла дверь шкафа. В соседней, тоже одноместной, палате лежала женщина, она не спала. Увидев меня, она не испугалась, даже не удивилась.
— Мой муж — священник, мы молимся за вас, — сказала она.
— Спасибо, — ответила я ей.
— Ваша мама лежит в этом отделении. Когда вас арестовали, ей стало плохо, и ее госпитализировали.
— А в какой палате?
— Не знаю.
— Спасибо за информацию.
Я вышла из палаты в коридор. Пусто и тихо. Раннее утро, больные крепко спят. Я попыталась интуитивно определить, в какой палате лежит моя мама. Постояла напротив одной палаты, но все двери по коридору были закрыты, и я не решилась войти. Распугаю больных. Меня все знают, знают, что случилось. Больные тяжелые, есть с инфарктами, не надо их пугать.
Я спустилась по парадной лестнице на первый этаж, зашла в ординаторскую. Окно в ординаторской было раскрыто. Я остановилась. Высота небольшая: один метр полета, три секунды времени — и я на свободе. Вокруг больницы лес, пять-семь минут под горку — трасса Москва — Киев, остановлю любую дальнобойную машину, и пусть ищут ветра в поле.
Как долго я стояла у окна, не знаю. Уйти оказалось очень легко. Вот она, воля, вот она, свобода! Скоро вы узнаете настоящих супергероев. Позже я пойму, что тюрьма не война и там нет героев. Свобода манила меня. А если честно, я не люблю слово «свобода». После развода муж сказал мне: «Свободна». Свобода — это что-то другое, явно не то, что разделяет решетка. Свобода — это состояние души. Можно быть свободным и за колючей проволокой, а можно и на воле несвободным.
Я струсила. Что будет с мамой, когда она узнает? Она уже, наверно, начала привыкать к этой мысли, а тут опять новости. Выдержит ли? Как жаль, что я не знаю, в какой палате она лежит. Где-то совсем рядом, я чувствую это. Что бы она мне сказала сейчас? «Мы пройдем этот путь достойно», — услышала я голос мамы.
Я вышла из ординаторской. Все было спокойно. Тишина, давящая на уши, предрассветная. Нужно возвращаться. Я пошла не тем путем, каким пришла сюда. Пересекла реанимационное отделение, поднялась по запасной лестнице на третий этаж.
Похоже, менты проснулись. Они с перепугу не могли открыть дверь палаты изнутри. Сначала с дикими воплями искали ключ, потом не попадали ключом в замочную скважину. Ну вот, наконец-то открыли дверь. Сейчас выбегут. Я спряталась в холле за столбом. Менты понеслись в противоположную сторону, на парадную лестницу. «Сбежала! Сбежала!» — орали они.
Я спокойно вернулась в палату. Засунуть руку в наручник гораздо сложнее, чем вынуть. Я намазала руку густым слоем крема, пришлось потрудиться и потерпеть. Накрылась одеялом и закрыла глаза.
Менты вернулись минут через пятнадцать.
— Где ты была?
— В смысле?
— Это побег.
— Кто куда убежал? — продолжала играть роль я.
Менты исходили злобой.
— Хорошо, что начальству еще не доложили. Где ты была?
— Глючит? Пить надо меньше. Спать надо дома, а не на работе, и в карты не играть. Скажу вашему начальству, что в карты у вас свободу свою выиграла, вы меня сами и отпустили.
Менты взмолились:
— Не закладывай нас. Попытка была, но мы ее не засчитали. Мы тебя не знаем, ты — нас. Звездочки скоро получать, и так зарплата мизерная. Настучишь на нас — уу-у! — И мент сунул мне под нос кулак и засмеялся. Я тоже засмеялась.
***
В голове, как назойливая муха, крутился вопрос, где Кичигина берет деньги.
Кичигина — это медсестра врача, которая работает в нашем кабинете в другую смену. Ходит, похихикивает: «Бросим козу в сарафане, устроим веселуху». В то время я не придавала значения этим словам. Мне было не до этого: развод с мужем, море слез. Недопонимала я того, что происходит. Только успокоюсь, приду в себя, — а она мне опять какие-нибудь новости про мужа несет. Хочу казаться равнодушной, а слеза обязательно задрожит на моих ресницах.
После знакомства с Вячеславом я почти успокоилась, перестала реагировать на ее невероятные новости. Наконец я просто сказала: «Мне неинтересно». Кичигина пришла в некоторое замешательство, но, проанализировав ситуацию, поняла, что раньше я не вникала из-за боли, а теперь вникать не буду из-за радости и счастья. И вот я мотаюсь то в Москву, то еще куда-нибудь: отдых, развлечения, хорошая одежда. Летаю, земли под собой не чую. Бдительности — никакой. Это была главная моя ошибка. Приезжаю, рассказываю, как на горных лыжах каталась, на тусовках «зажигала», какие наряды приобрела. Она меня внимательно слушает. Оказывается, нельзя так медсестер к себе приближать. У меня своя медсестра была — Князева. Тоже, как и с Кичигиной, много лет вместе, ну как иначе?.. Причин не доверять не было. Праздники проводили вместе, но только на работе, в дом они ко мне были не вхожи.
Жалела я их. Мужья пили, жили в общежитии. Кичигина рассказывала, что дети спят в малюсенькой комнатке, а она с мужем — на кухне. Чтобы вытянуться как следует, нужно открыть холодильник и духовку, голова в духовке, а ноги в холодильнике. Сегодня так спят, а завтра наоборот. Возможно, «квартирный вопрос» толкнул ее на преступление, а может, нужда, но это не оправдание. Нужно отдать должное ее хитрости и артистическим способностям. «Светочка Петровна, красавица ты моя, как я желаю тебе счастья!» — всегда говорила мне Кичигина.
Имелась у нее подруга, Шурукина, соседка по общаге, они были неразлучны. Когда у ее мужа случился инфаркт, все, что могли, мы сделали, мужа спасли, лекарств выписали, они у нас в то время были бесплатные. Шурукина приходила ко мне несколько раз на прием с мужем. Кичигина тоже иногда просила полечить кого-то из родственников. Я не отказывала, коллега все-таки. Потом родственники зачастили, и я сказала: «У тебя же есть свой врач. Обращайся». Она обиделась. А я мучилась, что отказала коллеге.
С весны до самой осени мы не разговаривали. А осенью Кичигина сказала мне, что пора нам помириться, что у нее новоселье, она купила квартиру и приглашает нас. Она и одеваться стала хорошо. Только вот что странно: я прикуплю себе что-то, — и она вскоре в чем-то подобном появляется, я подстригусь, — и она также, я подкрашусь, — и у нее тот же цвет волос. Подражает мне во всем. Копирует. Издевается, что ли?.. «Наверное, у нее нет вкуса, вот и пользуется моим», — находила я тысячу всяких оправданий ее подозрительному поведению.
Но, приехав на новоселье, я не ела и не пила. Не из зависти. Какое-то другое чувство, скорее предчувствие, нарастало у меня в душе. Шикарная квартира у медсестры с мужем-алкоголиком. Откуда? С этого момента в моей голове поселилась новая мысль. Где Кичигина берет деньги? А через неделю после новоселья Кичигину и Шурукину арестовали. Мы проходили свидетелями по делу. У нее дома были найдены поддельные печати на мое имя, поддельные рецепты. Подпись от моего имени она выводила виртуозно.
Я была поражена. Как можно хлебать из одной миски и делать такие гадости?! «Бросим козу в сарафане, устроим веселуху». Но гадости еще не закончились. Они только начинались. Теперь я поняла, что такое веселуха.
***
Я постоянно возвращалась в мыслях к тем первым дням в изоляторе временного содержания. Потому что они были первыми, страшными, неожиданными. И в то же время это были мои самые счастливые дни, «цветочки» по сравнению с остальной тысячей двумястами пятьюдесятью днями, проведенными за решеткой. Эти дни подарили мне Леху. После нашего знакомства я быстро укрепилась во мнении, что не только вещи у него мужские, но и суждения, поступки. А если бы я все это время была в этой страшной темнице одна, наедине со своими мыслями, что бы со мной стало? Как-то у меня вырвалось:
— Леха, откуда ты такой взялся?
— Да, сейчас таких не производят, схему потеряли. Не массовое производство, а штучный экземпляр.
Когда утром Леха мылся и я его рассматривала, то обратила внимание на его белое тело. Татуировками он не баловался, хоть и сидел «на малолетке». Тем не менее одну маленькую татуировку на его теле я все же рассмотрела. Конечно, это было имя его любимой. «Аленка». И я прочитала вслух:
— Аленка.
— А ты знаешь, как расшифровывается татуировка со словом «Аленка»?
— Нет, откуда?..
— «А» — а, «Л» — любить, «Е» — ее, «Н» — надо, «К» — как, «А» — ангела. А любить ее надо как ангела, — грустно сказал Леха.
И мне показалось, что в глазах у него заблестели слезы.
Леха вздохнул. Замолчал. Я тоже не знала, что сказать. Он первый нарушил молчание:
— Она и вправду была ангелом. Она святая. Моя любимая Аленка.
И отвернулся. Он ведь мужик, сильный, выносливый. Он не имеет права плакать.
Потом Леха быстро взял себя в руки и заулыбался. Не плачь, потому что это закончилось. Улыбнись тому, что это было. Он улыбался, видимо, вспомнив что-то приятное из их с Аленкой совместной жизни. В этот момент я посчитала возможным задать один интересующий меня вопрос, который давно вертелся на языке:
— Леха, а за что посадили Аленку?
— За два мешка картошки. Будто она у соседей украла. Ее родители не ладили с соседями, богатыми и влиятельными. Вот те и засадили Аленку назло родителям. Одна она у них была. Да она мешка картошки… какой там мешок, она и ведра картошки не поднимет! Маленькая, худенькая. Я бы их, этих подонков, разорвал на части за клевету. Прав тот, у кого больше прав!
— Это правда? — удивилась я.
— Чистая правда! — уверенно ответил Леха.
Это было начало моего тюремного марафона, меня удивляло все. Я три с половиной года ходила с открытым от удивления ртом и в конце срока стала похожа на жертву синдрома Дауна. Сама себя стала называть Доктор Даун. Посадить единственного ребенка за картошку?! А потом этот единственный ребенок подцепил на зоне туберкулез. А потом этот единственный ребенок умер на зоне, так и не увидев отца и мать. Кто смог посадить этого ребенка? У кого поднялась рука? Покажите мне этот закон! У меня от солидарности с Лехиным негодованием тоже возникло желание кого-нибудь разорвать! Агрессия не рождается с человеком, она дрессируется в человеке внешними раздражителями. Жестокими не рождаются, жестокими становятся. А мы хотим видеть добро в этом жестоком, жестоком мире. Не получится. Многое надо изменить сначала во внешней жизни человека, а потом изнутри измениться.
***
Казалось, красная полоса на деле мне обеспечена: «склонна к побегу». Побег удался, но попытку не засчитали. Менты оказались отличными ребятами: они знали меня как честного и уважаемого в нашем небольшом городе человека, хорошего врача. Понимали, что это все спектакль, сценарий написан кем-то другим, а они просто пешки в этой игре, я тоже. Дело заказное. Все это знали и даже слово не стеснялись произносить вслух. Сейчас такое время: можно заказать кого угодно. Оказывается, так можно устранить, например, соперника по любви, ненужного компаньона по бизнесу, ненавистного соседа, надоевшую жену и так далее. Убивать никого не надо. Зачем? Заказал ментам, — и все, вопрос решен на несколько лет вперед.
Меня постарались побыстрее сбагрить из изолятора в СИЗО, то есть в тюрьму. До сих пор не могу понять, откуда у меня брались силы. Я немного отошла от удара по голове и синяков на теле. Надежды на освобождение у меня уже не было, все иллюзии мне развеял Леха. Я старалась не думать ни о чем. Ни о хорошем, ни о плохом. Единственная мысль, оставшаяся в голове, была та, как будто мамина: «Мы пройдем этот путь достойно». Мне эта фраза была сказана свыше. Подобная ситуация в моей жизни уже случалась однажды, после развода с мужем. Я уже была знакома с Вячеславом, у нас завязались довольно крепкие отношения, а я продолжала вспоминать свою бывшую любовь. И как-то говорю Вячеславу:
— Не смогу я, наверное, жить с другим мужчиной. Уйду в монастырь.
— В монастырь так в монастырь.
Он исполнял все мои желания. Упаковал вещи, сложил в машину и повез меня в монастырь. Я поговорила с настоятельницей. Вячеслав стоял рядом и слышал весь разговор.
Настоятельница спросила:
— А почему в монастырь?
— Меня бросил муж.
— А что за мужчина рядом с вами?
— Просто знакомый.
— Просто знакомый? — переспросила монахиня.
Еще я ей рассказала о детях, о родителях. Она молча выслушала меня и сказала, что не дает мне согласие на жизнь в монастыре. Сказала, что нужно идти в мир, что в миру у меня очень много дел. «Подумайте хорошенько о своих близких, детях, родителях и об этом мужчине, которого вы назвали “просто знакомым”».
Я поблагодарила настоятельницу, и мы с Вячеславом вышли из монастыря. На душе стало значительно легче. Самое интересное заключается в том, что я не помню ничего из этого разговора, его содержание мне пересказал Вячеслав. Помню, что на мои слова «меня бросил муж» кто-то ответил: «Он тебя не бросил, он тебя потерял». Я была убеждена, что эти слова сказала мне монахиня. Но Слава не слышал этих слов. И я поняла, что эти слова были сказаны свыше. Вот и теперь, второй раз в жизни, я услышала фразу: «Мы пройдем этот путь достойно». Меня эта фраза держала и не отпускала, не давала расслабиться…
***
Я поглядела в зеркало. На меня зло воззрилась морщина на лбу, морщинки под глазами косились и гримасничали. Голову обрамлял серебристый венец. Седина у нас в роду ранняя, я давно не обхожусь без краски для волос, а тут волосы отросли, и седина сразу бросилась в глаза. Я — женщина. Пусть уже не очень молодая, бальзаковский возраст (расцвет женщины наступает, когда у мужчин начинается болдинская осень). Только почувствовала вкус жизни — и вот на тебе! Тюрьма. Если всю обиду и боль пропускать через себя, организм просто разорвет на куски. Срабатывает защитный механизм: это не я, это не со мной, я сторонний наблюдатель, изучаю вопрос со стороны. А изучая вопрос, люди сами себя загоняют в подземелья, заходят в клетку с тигром, летят в космическом корабле. Разве им не страшно? Неизвестность… Страх… И в то же время адреналин, вещество, которое можно вводить в организм в любых количествах, никогда не возникнет передозировки. Он больше полезен, чем вреден. С этой мыслью, поборов страхи, приведя себя в порядок, покрасив волосы, надев белоснежный костюм фирмы Adidas и взяв в руки спортивную сумку, я отправилась в тюрьму, пытаясь оставаться сторонним наблюдателем.
***
— А давай поиграем в слова, — сказал мне Леха, пытаясь отвлечь от грустных мыслей. — Называй слово. А я буду тебе говорить, что оно означает.
Он знал, конечно, расшифровку не всех слов, но некоторые версии были очень интересными.
Хлеб — хранить любовь единственную буду. Кот — коренной обитатель тюрьмы. SOS — спасите от суда. Слон — смерть легавым от ножа.
— Леха, пусть все живут, легавые тоже. Никого убивать не надо. Ты больше никого не будешь убивать?
— Буду, — уверенно ответил мне Леха. — Но не физически, а морально, без ножа, словами.
— И это не нужно.
— Ты права. Не замечать — вот лучший метод. Идет твой враг, но ты его не замечаешь. Только не получается. Вымораживают они. Просто выпрашивают, чтоб им по морде дали. Знаешь, как трудно удержаться, когда вымораживают?
— Волю тренируй, — посоветовала я Лехе. — Давай дальше в слова.
Игра мне понравилась.
— А вот еще про Аленку, про стрелы Амура, про нашу любовь. Амур — ангел мой ушел рано.
Леха опять задумался.
— Давай о чем повеселее. Яхта — я хочу тебя, ангелочек! Елка — его ласки кажутся ароматом. Лес — люблю ее сильно. Луч — любимый ушел человек. Пиво — прости и вернись обратно. Вино — вернись и навсегда останься. Дно — дайте немного отдохнуть. Арбат — А Россия была. А теперь? Бог — был осужден государством. Босс — был осужден советским судом. Вермут — вернись, если разлука мучает уже тебя. Вор — вождь Октябрьской революции. Зуб — здорово, урки, блатари. Ирис — и раб, и стукач. Клен — клянусь любить ее навек. Крест — как разлюбить, если сердце тоскует? Леди — люблю, если даже изменит. Мир — меня исправит расстрел. Туз — тюрьма у нас забава. Христос — хочешь, радости и слезы тебе отдам, слышишь?
***
— Какой стиль! Какая архитектура! Интересно, кто все это создал? — сказала я, восторженно рассматривая сводчатые потолки старинной тюрьмы.
Наверное, я нелепо выглядела в белом, в кепке, со спортивной сумкой. Из-за решетки раздалась фраза, явно в мой адрес:
— Туристка заехала. «Архитектура», «стиль»… Тут тебе изобразят такую архитектуру, мало не покажется. Ишь, вырядилась. Еще не отдуплилась.
Я попыталась рассмотреть, кто подавал голос, но конвойный строго приказал: «Руки за голову, лицом к стене». Я беспрекословно выполнила его указания. Эти слова почему-то напомнили мне утреннюю гимнастику. «Ноги на ширину плеч, руки за голову, и поворачиваемся к стене. Выполняем упражнения десять раз». А здесь всего один раз заставили, не десять.
Стоя лицом к стене, я начала вспоминать ту фразу, которую произнесла, войдя сюда. Что я такого сказала? Да ничего особенного… Хотя когда-то я уже произносила эти слова. А, вспомнила. В Марьино, во дворце. Он совсем рядом со Льговской тюрьмой. Значит, тюрьму тоже построили при Екатерине. Такие же сводчатые, интересные потолки. В Марьино есть такие залы: в одном углу говоришь шепотом, а в другом — слышна громкая речь. Интересно, здесь есть такое помещение? Здесь все помещения такие, как потом узнала я. Здесь лучше молчать.
Конвойный имел весьма строгий вид, не говорил ничего лишнего, только командовал, не улыбался и даже, похоже, не моргал. Человек без эмоций, просто выполняет свою работу. Как караульный у кремлевской стены: каждое движение отработано. Этот симпатичный парнишка работает по инструкции, я на него даже не обиделась, когда он меня запер в бокс, в малюсенький пенальчик типа чулана, куда бросают хлам. Я подумала: «Я — хлам, поэтому я должна посидеть в этом чуланчике».
Сидеть пришлось долго, до вечера. Моя прогулка в тюрьму, оказывается, официально называется «этапом». Леха расшифровал это слово как «экскурсия таежных арестантских паханов». Слово «экскурсия» мне очень подходило: местные паханы сразу увидели во мне туристку. Ну и хорошо, я ненадолго. «Просто буду сторонним наблюдателем». Я сказала себе эту фразу очень уверенно. Потом добавила: «Если мне это удастся».
Такие душегубки были в ГУЛАГе. Там людей не убивали, они сами умирали от недостатка жизненного пространства. Я сидела в этой душегубке и думала о жизни. Как устоять?.. Как не упасть, не опуститься, не сложить руки?.. Или не наложить. Умереть — это самый простой способ, выжить — гораздо сложнее. Самое главное, не начать плакать. Видимо, я все слезы выплакала после развода. Однажды начав плакать, я проплакала восемь месяцев. Только стала приходить в себя. И вот опять.
«Уныние — это грех!» — прочитала я на стене бокса. Там много чего было написано. Я стала гнать от себя плохие мысли и рассматривать стены. Они когда-то были покрашены, но теперь напоминали стенгазету с пестрыми заголовками. В камерах стены покрыты «шубой», больно прислониться: наверное, чтобы ярче ощущалась вся тяжесть бытия, ну, или чтобы просто на стенах не писали. А в боксах «шубы» не было. И вот — настенная роспись. Всё о тюремной жизни. Первое, на что я обратила внимание, — это тюремные касты, классификация. Слова написаны в столбик, сверху вниз.
Блатные
Мужики
Козлы
Петухи
К блатным относились: «братва», «путевые», «жиганы», «смотрящие», «паханы», «авторитеты». Рядом было написано слово «общак». «Мужики» это просто мужики, «козлами» назывались те, кто работал на ментов, а «петухами» — «опущенные», изгои.
Не поняла. А где в этой классификации женщины? Где мое место в этой структуре? Умные люди, видимо, писали: женщине не место в тюрьме. Сразу понятно, что авторы словаря — зеки, а не менты. Менты женщинам место в тюрьме находят.
***
— «Рожден для мук и в счастье не нуждаюсь». Ты такую татуировку хотела увидеть у меня на груди? — сказал мне Леха. — Я считаю себя счастливым, свободным человеком. Хотя у меня есть один прикольчик. Хочешь, покажу? Фишка такая. «Знак качества» называется. Маленькая такая татуировочка. Знаешь где? — Леха оттянул резинку штанов, заглянул туда, ухмыльнулся и, как всегда, рассмеялся.
— Леха, ты опять пошлишь.
— А что, ждешь пошлого? Я мужчина со знаком качества! — продолжал убеждать меня Леха.
— Я в этом ничуть не сомневаюсь. Верю тебе. Только не надо мне ничего показывать.
— Я тебе что, японский якудза или воин китайской Триады? Ты думала, я весь фиолетовый и в наколках? Нет, милочка. Я нормальный мужик и планирую начать нормальную жизнь. Вот мать освободится, — женюсь.
— На ком? — задала, как всегда, глупейший вопрос я.
— Как «на ком»? На женщине, конечно!
— А-а-а, — удивленно протянула я.
— Я тоже мог из своего большого тела картинную галерею сделать, репродукции картин разместить, клятвы любимым, слова благодарности стране за счастливое детство. Но мне мое белое тело дороже, меня и так за авторитета держат. Наколок понаделали те, кто стараются подражать или выдавать себя за вора, а сами ни одного дня не сидели. Не блатные, а приблатненные. Мол, вот мы какие, загните мне пальцы, я в двери пройду. Я на «малолетке» сидел, там этим очень баловались: тушь варили из сажи, сахара и мочи, на спичку приматывали две-три швейные иголки, а если иголок не было, то скрепки из тетрадей или книг, которые затачивали о бетонный пол или стену. И вперед, пока на теле есть свободное место. Больно знаешь как? Покраснеет, опухнет. Многие рук-ног лишались. А ты знаешь, что физическая боль заглушает душевную? Душа болит, а ты накололся или вскрылся, — и полегчало. Бегают за тобой, сопли тебе вытирают.
Я задумалась.
— Давай ложись. Я тебе сейчас столько же уколов уколю, только в форме куполов. Возьму медицинскую иглу, заправлю тушью и начну. Очень медленно.
— Леха, не издевайся.
— Ладно, тогда есть другой метод, чтобы ты не мучилась: на куске картона нарисую купола, эскиз в смысле, и повтыкаю в него иглы. Приложу к твоему телу и ударю по трафарету сверху. Один разочек всего. А потом ранку вместо зеленки тушью помажу, чтобы на века.
— Леха, ты садист.
— Не переживай, я тебе шедевр нарисую, чтобы ни у кого такого не было. Порнографическую картинку в цвете. Как у Шарля Брижо[1]. Напряг мышцы, — и татуировочка того.
— Чего «того»?
— Двигается ритмично. В ритме секса. Так этот дурак в концентрационный лагерь угодил. Один из офицеров глаз положил на татуировочку. Шарля убили, сняли кожу и украсили сумку эсэсовца. Да что ты так волнуешься за свою шкуру! Здесь ее уже не спасти. Снимут по-любому. Если не снимут, то иголок под кожу навтыкают — мама, не горюй… А я аккуратненько, на память.
— Да не нужна мне такая память! Мое тело — мое дело. Кто только это иглоукалывание придумал!..
— Знаешь, есть страна такая — Гаити? Не путать с Гвинеей. Это в Гвинее у кого длиннее, тот и папуас. А то Гаити.
— Леха, заколебал. Умолкни, я тебя прошу. Ты на ходу все это сочиняешь? Где ты был? Что видел?
— Я? Я смотрю канал «Культура».
— Какая культура? Криминальная? — съехидничала я.
— Нет, просто культура.
— Леха, помолчи, я тебя прошу…
— Я тебе что, мозг вынес?
Леха замолчал. Когда он замолкал, в камере становилось темно и страшно.
— Ладно, давай рассказывай дальше.
— Я не придумываю, — обиженно заговорил Леха. — Делать мне больше нечего! Это господину Куку делать было нечего. Знаешь, как татуировку придумали? Сначала как клеймо для раба. Взяли в плен пирата, на лбу у него написали, чтобы запись не потерялась. Гвоздиками так табличку прибили к лобику.
— Леха, ты садист.
— Это мягко сказано, я убийца.
— Да, я расслабилась что-то, подзабыла о множественных ножевых ранениях. Прости, не хотела тебя обидеть.
— Хочешь ты или не хочешь, а клеймо на тебе после пребывания здесь все равно останется.
Теперь до меня дошло, о каком клейме речь. Да уж, не отмоешься.
***
«Вспомнил мать, Иринку, вспомнил яблоню у реки. И бегут в голове моей картинки, и бегут километрики…» Я сидела в этом маленьком, прокуренном боксе-чуланчике и ощущала себя хламом, заброшенным и забытым. Но бриллианты, всякие драгоценности тоже хранят в маленьких коробочках, футлярах и забывают про них. Потом наступает момент, о них вспоминают, достают из футляра, и они мерцают тем же неповторимым блеском. Нужно определиться, здесь и сейчас, в этом вонючем боксе, кто же я все-таки? Хлам? Или бриллиант? Если бриллиант, то сколько ни держи меня в этом футляре, останусь бриллиантом. Определилась. Отличненько. Я умный человек и понимала, что надо выработать такую тактику поведения, чтобы остаться живой, сохраниться физически и морально. Уже тогда было ясно, что сделать это будет очень трудно. Но я должна. Ради детей, ради родителей.
Дверь бокса загромыхала. Тот же симпатичный мальчик в зеленом камуфляже дал команду: «С вещами на выход». Я выполнила все, как он сказал. По пути меня завели еще в одно помещение. На часок. Женщина перевернула все мои вещи, раздела и посмотрела везде и все. Порядок.
Меня отвели на третий этаж, сдали дежурному по коридору. «Продольный» долго путался в многочисленных замках. Наконец дверь камеры распахнулась. Я стояла на пороге новых событий, новых знакомств, новой жизни.
Оказывается, камеры в тюрьме бывают маломестными и общими. Официально считается, что маломестная камера рассчитана на семь человек. Число семь показывает, насколько чиновники тюремного ведомства далеки от тюрьмы: нары двухъярусные, следовательно, человек — или шесть, или восемь, но никак не семь. Получается, что кто-то должен спать на параше.
Итак, я стояла на пороге камеры. Тусклый свет. Накурено. Я плохо видела, но зато хорошо расслышала: «Что будешь есть? Хлеб с параши или мыло со стола?» — и поняла, что эти слова адресованы мне. Я не торопилась с ответом. Три ряда нар по две, камера тесная. Несколько раз про себя пересчитав присутствующих, сбилась после двенадцати. В камере оказалось восемнадцать человек! По три человека на место.
Хриплый голос повторил (очевидно, это была дежурная фраза):
— Что будешь есть? Хлеб с параши или мыло со стола?
— Хлеб со стола, — ответила я.
— Тогда заходи, располагайся. Мест нет. На лавке у стола.
— Спасибо, — сказала я женщинам.
Все уставились на меня и начали внимательно разглядывать.
— А мыло вот, ароматное. Будем руки мыть. — Я выложила на раковину кусочек красивого мыла.
Потом я начала выкладывать на стол вафли, печенье, конфеты — все, что мне принесли дети. Сидят, наверное, сами голодные, но мне сумки собрали.
Женщины отнеслись к моему предложению недоверчиво. Но одна шустрая бабенка все-таки застучала в дверь:
— Дежурный! Дежурненький! Кипяточку бы нам!
«Кормушка» отворилась. «Дежурненький» налил кипятка. Тетка шустро заварила чай. Пили молча, только одна женщина с верхнего яруса поинтересовалась:
— А что ты здесь делаешь?
Странный вопрос.
— Сижу, — ответила я.
Мое появление восприняли настороженно, без особых эмоций. Видимо, я не вписывалась в интерьер: кто знает, может, подсадная какая. Ночью, сидя на лавке у стола, я оперлась головой о «шубу». Спала ли я? Не знаю, проваливалась в какое-то забытье. Помню только, что куда-то шла. Шла долго. Мучительно. Падала, поднималась и опять шла. Куда я шла, зачем?.. Вся моя одежда превратилась в лохмотья, на ногах кровоточили раны. В темноте я плохо видела дорогу, но знала точно, что она пролегает вдоль длинной черной стены.
***
Печальные мысли похожи на туман: взошло солнце, — и они рассеялись. Через грязную решетку пыталось пробиться солнце. Утро очередного дня. Я мысленно поблагодарила солнце за то, что оно светит для всех и для меня. Поблагодарила небо за небольшой кусочек над моей головой. Наверное, каждому из нас, если разделить небо на всех, и причитается такой маленький кусочек, который виден в тюремное окошко. Я поблагодарила сегодняшний день, что он наступил в моей жизни. Пусть темный, мрачный, но пока не принесший мне плохих новостей, а значит, счастливый.
Во мне боролись два человека: врач и оптимист-романтик. Врач бесконечно продолжал ставить диагнозы. Жизнь — это болезнь с летальным исходом. Любовь — воспаление. А большая любовь — это мучительная болезнь, которая быстро принимает хроническую форму. Есть такие лекарственные средства растительного происхождения, горечи. Наверное, и мне надо подлечиться, говорило во мне мое врачебное «я».
Любое страдание дается человеку во благо. Если ты чувствуешь боль — значит живешь. А если чувствуешь чужую боль?.. Я ощутила свою причастность к окружающему миру. Ведь собиралась быть сторонним наблюдателем, но сегодня поняла, что не смогу.
В камере началось движение, «движуха», и я попробовала все-таки рассмотреть этих женщин. Удивительно, что в XXI веке существует то, что я увидела. Вши, гниды, клопы, чесотка, туберкулез, сифилис, ВИЧ, гепатиты всех видов — и все это в одной камере. Таких больных здесь называют «букетчиками». У одной женщины были сразу ВИЧ, гепатит В, гепатит С и туберкулез. У нее сильно кровоточили десны, и во время кашля кровь изо рта разлеталась во все стороны. Дно человеческой жизни. Нет, я не испугалась заразы. Я сказала себе: «Я врач. У меня иммунитет. Сегодня я поняла, что не смогу быть сторонним наблюдателем, значит, теперь буду помогать этим несчастным людям».
***
Тюрьма — это недостаток жизненного пространства и избыток свободного времени. Есть шанс вспомнить всю свою жизнь. Я вспомнила свое счастливое советское детство, за которое спасибо родной стране и хорошим родителям. Вспомнила, как мечтала стать врачом. Как поступала в медицинский институт, и какой там был огромный конкурс, и как я его выдержала. Как выскочила замуж за сокурсника в девятнадцать лет, после непродолжительного знакомства. Мы пошли в поход на 9 мая в Клюкву (местечко под Курском) и сидели ночью у костра. Меня и мою подругу увел парень, а мой будущий муж пошел искать нас по ночному лесу. И нашел.
— Не много тебе двух девчонок? — спросил он.
— Выбирай любую.
— Вот эту, глазастенькую. — И выбрал меня.
К костру в ночном лесу мы вернулись с ним вместе и никогда уже не расставались. Эту фразу сейчас написала моя ручка. А расстались мы через двадцать три года. И я теперь ругаю себя за знакомство в темноте. В темном лесу, видимо, не рассмотрели друг друга внимательно.
***
О «делюгах» в тюрьме не принято говорить. А вот о личном, чтобы не палить душу изнутри, иногда хочется выговориться. Выпустить проблему наружу. И на душе становится легче. Вот и сегодня начались нескончаемые разговоры о жизни. Не договариваясь, выбрали тему измены.
Первой не выдержала Татьяна.
— Не знаю, может, вы будете меня осуждать, я долго терпела измены мужа. До меня постоянно доходили слухи, что он уже много лет гуляет с моей родной сестрой. Мне трудно было в это поверить. Когда я пыталась что-нибудь выяснить, он сильно избивал меня. Вот! — Татьяна вытащила изо рта вставную челюсть. — Или я его, или он меня.
Татьяне около тридцати лет. На лице множество шрамов. Красивое лицо — и так изуродовано.
— Вы не думайте, что я маленькая и худенькая. Выследила, завалила обоих. В кустиках спали, обнявшись. Подкралась потихоньку, платочек с головы сняла, сначала ему платочек на шею накинула, потом ей. Задушила обоих.
— Не жалеешь? Нисколечко? — вступила в разговор Катюха, молоденькая блондинка. — А мне своего жалко, каждую ночь во сне ко мне приходит, прощения просит. Я, наверное, не выдержу, с ума сойду. Поехал в Москву денежек подзаработать на свадьбу. Приехал и говорит: «Свадьбы не будет, я другую нашел». Ну, я и кинула в него утюг, не очень удачно. В висок попала. Шесть дней в реанимации пролежал и умер. Не знаю, как все это получилось. Я не хотела его убивать, лучше б той бабе отдала. Беременная я быта. Ребеночка сама вырастила бы, мама с бабушкой помогли бы. А теперь ни его, ни ребенка. И мне тюрьма.
В камере повисла тишина. Обстановку разрядила Веселая Ольга:
— А я своему немного до сонной артерии не достала. Ушел из дома на пять минут, пришел через сутки пьяный и двух телок с собой привел. Говорит: «Дорогая, я решил реализовать твои сексуальные фантазии». Я его слегка и царапнула ножичком кухонным. Город у нас маленький, провинциальный. За углом похоронная контора «Спи спокойно». Он бегом, а я за ним. Забежал в похоронную контору, залез в гроб, крышкой от меня закрывается, ножки поджимает, — гроб не по размеру пришелся, в мужике больше ста килограмм. Ору ему: «Иди домой к детям!» — а он лежит в гробу — белая майка вся в крови — и повторяет, что не пойдет. Я вытащила его из гроба, домой повела. Сотрудники похоронной конторы «Спи спокойно» провожали его взглядом в последний путь.
Все громко засмеялись. Кстати, Татьяне сначала дали всего два года. Состояние аффекта. Но прокурор опротестовал решение, и суд пересмотрел дело. Дали двенадцать лет! Она на суде сказала: «Я начала их искать». Получается умысел, умышленное убийство двух лиц. А надо было сказать: «Иду я по лесу и вдруг вижу мужа с моей сестрой в кустиках. Не помню, что я с ними сделала». Тогда приговорили бы к двум годам. А экспертиза, между тем, выдала заключение, что в крови жертв содержится смертельная доза метилового спирта и умерли они не от удушения. Танюха сама признательные показания дала о том, как она их душила, глупая. О, как убийственно мы любим!
…Вся жизнь — театр. Иногда мне начинало казаться, что дверь камеры — это вовсе не дверь, а занавес на сцене. Занавес вот-вот откроется, и появятся артисты. Итак, зазвенели ключи, загромыхала тяжелая дверь, занавес вздрогнул и пошел вверх. Сейчас появится новый человек, поведает нам свою судьбу. Может, поплачет, а может, посмеется и развеселит нас, как Леха веселил меня.
Кто заехал к нам в «хату» сегодня? На пороге стояла красивая цыганка. На ней были длинные пышные юбки, на плечах платок. Женщины в камере оживились: всем сразу стало ясно, что сегодняшний вечер пройдет весело, что нам поведают много интересного, споют и спляшут.
— Анжела, — представилась цыганка.
Женщины заварили чифир. Я в тюрьме увидела, как чай не только заваривают, но и варят. Если в камере у кого-нибудь есть кипятильник, в кружку наливают кипяток, насыпают туда спичечный коробок («корабль») заварки и долго кипятят. Варят. Ложка должна стоять в заварке. Потом эту черную жидкость с удовольствием пьют. Она дает энергию, бодрит. Я один раз попробовала: у меня кишки завязались узлом, во рту пересохло, сердце выпрыгивало из груди. Не можешь — не пей. Заедают чифир солью, таранкой, селедкой или карамелькой. Вот такая вот чайная церемония.
Анжела появилась в камере как раз в этот момент. Женщины предложили ей «чифирнуть», Анжела с удовольствием согласилась. Жили очень тесно, спали на вонючих матрасах по очереди. Постельного белья не было, а какое было, быстро уходило на прокладки. Дикость. Изредка выдавали прокладки из «гуманитарии», но этого не хватало. У меня было свое постельное белье, и я его берегла как зеницу ока: стоило отвернуться, и оно бы испарилось. Случалось в камере и воровство, и крысятничество, но всегда находился старший, который все разруливал. В основном жили дружно. Вот и сегодня появлению в «хате» Анжелы все обрадовались.
У нее на плече я увидела паутинку. Леха рассказывал мне про татуировки, и я уже различала женщин по наколкам. Паук — это символ наркоманов и воров. Если паук ползет вверх — человек ворует, если вниз — завязал. Паук в паутине — символ наркозависимости. Крестики между пальцами или между грудями — символ воровок. Купола означают срок: сколько куполов — столько лет. Четыре точки и в центре пятая: один в четырех стенах.
Анжела порылась в своих многочисленных юбках и достала откуда-то карты. «Пассажирить» — проносить запрещенные вещи. Карты — это предмет, который отбирается на шмоне. Анжеле удалось их хорошо спрятать, «дубачка» (женщина, которая проводит личный обыск) не нашла их. «Давайте я вам погадаю», — в знак благодарности за теплый прием предложила Анжела. Она разложила карты на столе, и женщины стали по очереди к ней подсаживаться. Всем она рассказывала про «казенный дом», к чему — и без карт было понятно. Практически всем говорила, что всего срока сидеть не будут, освободятся условно-досрочно.
Я раньше часто говорила: не верю, так не бывает. А теперь верю всему, еще и не так бывает. Единственное, во что мне до сих пор не верится, так это в то, что вам могут предсказать вашу судьбу. Но иногда предсказания сбываются. Иногда гороскопы говорят правду, и люди начинают верить. И я решилась.
Анжела разложила карты. Как всем, она сказала мне про казенный дом и условно-досрочное. Потом — что настанет в мой жизни звездный час, когда я буду оправдана, и еще — что выйду замуж за своего первого мужа. Я пишу эти строки через год после освобождения и могу сказать, что ни одно из предсказаний не сбылось. Но ее слова все равно глубоко запали мне в душу. Возможно, она дала мне установку, и эти события еще произойдут. Ведь жизнь продолжается, тюрьма это не финиш. Жизнь имеет одно замечательное свойство: несмотря ни на что, она продолжается.
Я поблагодарила Анжелу, поблагодарила этот вечер, краюху тюремного хлеба, который нам дали на ужин. Я ощутила этот потрясающий запах в меру зажаренной и подрумяненной корки и позволила себе такое счастье — насладиться вкусом еды.
Вечер продолжался. Анжела рассказала нам, что она и пять ее сестер и братьев рождены на Колыме, на зоне. Ее отец, русский, во время войны остался сиротой, бродяжничал по вокзалам. Его подобрали цыгане и вырастили по своим законам. А что это за цыган, если не ворует лошадей? Вот и он воровал, конечно, и его посадили. Сидел он на Колыме, потом перевели на поселение. Там он и встретил цыганку, женился на ней. Они народили много детей, но цыганка рано умерла, и он вернулся с Колымы один, но с кучей детей. Один их растил, больше так и не женился.
— Хороший у меня отец, — закончила Анжела свой рассказ. — Русский, но настоящий цыган. Знаете, как поет… Я люблю ему подпевать, жаль, гитары нет.
— Давай без гитары, Анжела, пожалуйста!
И Анжела запела. Как мы ей аплодировали! Браво, Анжела!
***
— Курочка Ряба — она несет золотые яйца. Нет, не так. Она несет яйца Фаберже. Они ж дороже, чем золотые. Сколько стоит грамм золота? А сколько граммов золота в яйце? Все равно получается дешевле… — все подсчитывала что-то Ольга.
Они вот-вот драться начнут, а я никак не соображу, о чем идет речь. Я только вчера с очередного этапа, я ничего пока не понимаю, меня в свое время здесь приняли за туристку, и лично мне эта ассоциация очень нравится: она помогает мне преодолевать все тяжести пути. Если хорошенько подумать, это всего лишь экскурсия. Я согласна на крыше автозака проехать всю страну, до Арктики, посетить лагеря ГУЛАГа на острове Вайгач, лагеря для политических в Котласе и Усть-Пинеге. Сколько можно увидеть, узнать интересного!.. Если не можешь изменить ситуацию, измени отношение к ней. Но, несмотря на весь свой оптимизм, я очень устала.
Веселая Ольга между тем не умолкала.
— Так что стоит дороже: золотое яйцо или яйцо Фаберже?
Она обращалась ко мне. Я еще не владела ситуацией, но почему-то интуитивно ответила, скорее всего, невпопад:
— Дороже всего стоит человеческая жизнь!
На верхней шконке (ее еще называют здесь «пальмой») лежал кто-то, накрывшись с головой одеялом, видны были только глаза. Я внимательно посмотрела на новенькую, ее лицо показалось мне знакомым.
— Я Наталья Брылькова из Кром-Быков[2], не замужем.
Где-то я ее уже видела. Эти глаза…
Ольга не умолкала:
— Гони «делюгу», покажи «объебон» (приговор). — Она трясла койку, пытаясь спихнуть с нее тело. — Слышь ты, курица, лети с пальмы, я тебе сейчас устрою.
Ольга стянула с девчонки одеяло, и я наконец узнала ее. Она уже попадала сюда, но ее отпустили. Дали условный срок и отпустили. Девчонка в прошлый раз постоянно твердила одну и ту же фразу: «Наталья Брылькова из Кром-Быков, не замужем». За что сидела, она в прошлый раз не сказала, но теперь Ольга все выяснила. Оказывается, Наталье дали срок за кражу курицы стоимостью в сто двадцать шесть рублей. Она украла у родного дядьки наседку и посадила ее у себя дома на своих цыплят. А поскольку образ жизни у Наташки был не очень — гуляла ночами, на нож нарвалась, — то дядя и решил: «Надо посадить в тюрьму, целее будет». И в целях Наташкиной безопасности посадил, связи у него в милиции были.
Суд рассмотрел дело и дал Наташке условный срок в два года. Ее выпустили, но она не ходила отмечаться к участковому и в службу исполнения наказаний, и по ходатайству дяди условный срок превратили в реальный. Два года общего режима.
— Это я от тебя под одеялом пряталась. Знала, что ругать будешь, — сказала мне Наташка.
— Не верю, что за курицу посадить могут, — вмешалась Ольга. — Тебя, дуру, родители, наверное, не в капусте нашли, а в конопле. Делюгу гони.
— Возьми там, в пакете.
Ольга быстро извлекла из пакета бумагу и начала читать вслух:
— «Курица оценена в сто двадцать шесть рублей. Перышки переливаются золотистым цветом». Это следователь так пишет. Я вам говорила, что курица непростая. Золотая курица. Следаку делать нечего на работе, дурью мается, а людям срок тянуть.
С этого момента к Наташке и приклеилось погоняло Курица.
Потом Ольга рассказала мне, что тут произошло без меня. Когда Курицу привезли с суда, она орала как бешеная: «Дядя — пидор! Судья — пидор! Прокурор — пидор!» Она не только здесь, она и в суде так орала. Мать потеряла сознание, ее увезла «скорая», а Наташке надели наручники и увезли в тюрьму. Девчонка кричала: «Все равно повешусь! Жить не буду! Повешусь!» В тюрьме ее встретил доктор Рюрикович, сделал успокоительный укол, и вот Наташка спала на верхней шконке, пока веселая Ольга ее оттуда не стянула за ноги.
***
Доктор Рюрикович — так звали его, любя, зеки. Он был Юрий Юрьевич, а фамилию придумали зеки, Ререкин. Зеки имеют один очень редкий дар: подмечают всё. Родители Юрия Юрьевича знали, что мальчик будет здоровенький, красивый, похожий на отца, поэтому назвали Юрой, в его честь. Но того, что он будет иметь дефект речи и очень сильно картавить, — представить себе не могли.
Мальчик действительно вырос высоким и красивым, а к логопеду его так и не отвели. Надо сказать, что и со своим дефектом речи он всем внушал симпатию. Закончил медучилище, стал тюремным фельдшером. От природы был очень добрым, у него легко выпрашивали любую таблетку, за это и любили.
Так вот, когда доктор, краснея, называл свое имя-отчество, у него получалось что-то вроде «Рюриковича». Зеки сразу подхватили понравившееся слово, и прозвище прилипло к доктору очень быстро.
Доктор Рюрикович часто обращался ко мне за помощью. Он знал, что я врач, а так как врачей не хватает везде, а тем более в тюрьме, и посоветоваться ему было не с кем, то он советовался со мной. Выведет из камеры в санчасть и просит посмотреть сложные случаи. Послушает.
— Что с сердцем?
— Элементарно, Рюрикович! Мерцательная аритмия.
— Понятно. А девку одну посмотришь? Говорит, беременная.
— Посмотрю.
— Если беременная, тогда уже гинеколога буду вызывать из города, беременность прерывать.
— Элементарно, Рюрикович! Так матка уже выше пупка! Прерывать поздно. Рожать надо.
— Что же делать? — задумался Рюрикович.
Мы с ним дружили. На обходе только почешу у виска (это был наш условный знак, стыдно, когда в «хате» вши), а он уже банку «вонючки» несет голову обрабатывать.
Сегодня доктор Рюрикович вколол Курице успокоительное и тихо попросил меня присмотреть за ней. Сказал: «Ожидается суицид».
***
— Все равно повешусь, — твердила Наташка.
— Зачем ты ее разбудила? Спать ей надо после укола. Поспит, успокоится, — сказала я Ольге.
Действие лекарств взяло верх над эмоциями. Курица позевала, позевала и уснула. Проспала до вечера, а когда проснулась, как будто забыла обо всем. К ночи вся тюрьма просыпается. Ночью тюрьма не спит, спят только менты. В десять часов вечера отбой — это по их времяисчислению. А по времяисчислению зеков это начало активной ночной жизни. «Смотрящий» произносит приветствие и «открывает дорогу». «Дорога» — это тюремное средство связи. У этой технологии вековая история. Шарфы и свитера распускаются на нитки, из них плетется «конь», прочная веревка, веретеном при этом служит тюремная кружка. «Конь» выбрасывается в окошко, и его ловят из другой камеры. Вот так образуется тюремный интернет. Дорога жизни. По этой «дороге» передаются маленькие записочки («малявы»), сигареты, конфеты, кофе, чай. «Смотрящий» из общака рассылает вновь прибывшим. Вся тюрьма снаружи оплетена этими нитями и веревками. Я не играла в эту игру, но всегда за ней наблюдала, было интересно.
А есть еще «удав» — система труб отопления, по которой при помощи кружки можно общаться. Одна «хата» «подтягивает» соседнюю: если тот, кто хочет с тобой поговорить, находится не в соседней «хате», голос передается по трубе в разные концы тюрьмы. Только говорить нужно в кружку, плотно прислоненную к трубе, а слушать — в перевернутую.
А «ракушки», общение через раковины умывальников?.. Речь слышно очень хорошо. Я не знала точно, кто изобрел средства связи, но уверена, что этот человек сидел.
Наташка вместе со всеми всю ночь «стояла на дороге», развлекалась, хохотала. Под утро все завалились спать. Я лежала на верхней койке и наблюдала за Наташкой. Она сидела напротив меня, внизу, в зоне моей видимости. Но скоро я тоже задремала, повернулась лицом к стене. И вдруг меня что-то подняло с постели. Я вспомнила. Видимо, какой-то кадр запечатлелся в моем мозгу перед тем, как я заснула. И точно, Курица повесилась. Я соскочила со шконки и стала приводить ее в чувство.
— Глупая, что ты наделала?! Отсюда возвращаются, оттуда — нет! Самое дорогое у человека — это его жизнь. Неужели твоя жизнь стоит сто двадцать шесть рублей? — говорила ей я.
***
Если учреждение карательное, оно не будет миловать, сколько бы милосердных служащих в нем ни работало. Я сразу обратила внимание на то, что сотрудники милиции все разные. Среди них есть много порядочных людей, которые честно выполняют свой долг.
Наступило жаркое лето. День медицинского работника, мой профессиональный праздник. В этот день я находилась в ИВС в своем городе. В камеру зашла смена охранников, они выстроились, прочитали мне пламенную речь, поздравили с праздником, подарили новую алюминиевую кружку. Мне ее вручил Сережа и даже руку поцеловал. Оказывается, вот что случилось с ним, когда он был подростком. Возраст от 15 до 18 лет обслуживали терапевты, а не подростковый врач. Мальчик заболел, и я пришла к нему по вызову. В городе была эпидемия гриппа, все лежал и с высокой температурой. У Сергея тоже была температура. Я спросила: «А кроме температуры, что еще беспокоит?» Еще беспокоил живот. Я только посмотрела и сразу направила в хирургию, где ему прооперировали аппендицит. Мама Сергея тогда сказала: «Еще бы немного — и перитонит». «За эпидемией гриппа разглядеть аппендицит? Спасибо вам, доктор, вы спасли мне жизнь», — благодарил меня Сергей. Больных надо прежде всего смотреть. Пальпация, перкуссия, все, как учил учитель. Любить надо свою работу, любить больных, любить людей. Хотя это бывает иногда очень трудно. И сейчас я рада, что люди помнят меня, что благодарны за помощь и не отвернулись. Есть среди сотрудников милиции нормальные ребята, и они не должны отвечать за поступки других.
***
Закон — тайга. Прокурор — медведь. «Вопросы к прокурору есть?» Двери камер поочередно открывались и очень быстро закрывались. «Вопросы к прокурору есть?» — опять нет. Все это происходило в изоляторе временного содержания в городе Ж., как я начала потом его называть. Вопросов к прокурору не было ни у кого. Все знали, что вопросов прокурор не любит, потому что ответов на них не знает. А вот у меня всегда была масса вопросов: от санитарно-гигиенических до очень серьезных. Я их записывала на бумажку и задавала прокурору. Почему так затягивают суд? Почему меня до сих пор не освободили? Почему до сих пор не арестованы Кичигина с Шурукиной? В суде я заявила, что отказываюсь давать показания, пока не арестуют Кичигину и Шурукину. (Их продержали под следствием год, а потом выпустили: они дали против меня показания, полностью изменив первоначальные, и теперь гуляли на свободе.) Почему свидетели обвинения, которые меня в глаза не видели, находятся под давлением? Никто не свидетельствовал против меня, а я уже три месяца нахожусь в тюрьме. На каком основании? Меня нужно срочно выпустить. Я нахожусь в антисанитарных условиях. Почему не наведут порядок? Почему не потравят крыс?..
***
Иногда я задавала совсем неожиданные вопросы, из области римского права или дуэльного кодекса. Прокурор молчал. Сегодня я заготовила один-единственный вопрос, очень легкий, на мой взгляд. В каком году был принят Уголовный кодекс? И прокурор первый раз честно сказал, что затрудняется с ответом. Ребята-охранники хихикнули. Прокурор косо посмотрел на них, и через некоторое время мне приказали выйти во дворик. На этот раз все происходило не так, как обычно. Стояла жара, я была в шортах, майке, шлепанцах, и на лбу у меня оставались очки (я читала в камере). Очки мне приказали снять, что тоже показалось странным.
Во дворике меня уже ждала легковая машина. Я спросила, куда меня везут, ответили, что в больницу (мне недавно вызывали «скорую» из-за высокого давления, поэтому я не удивилась). Но когда я села на заднее сиденье машины, с двух сторон от меня разместились сотрудники милиции; это уже было странно. Машина выехала за пределы города, я поняла, что меня везут не в больницу, и снова задала конвоиру Ивкову тот же вопрос. В ответ он взял меня за волосы одной рукой, а ногой наступил на перемычку между наручниками. Моя голова оказалась на полу в машине. Как только я делала попытку немного подняться, он опять прижимал мою голову к полу машины, а ногой крепко удерживал браслеты.
Так мы доехали до Конышовки. Ивков разбил мне висок, выбил кусок зуба. Тело длительное время находилось в вынужденном положении и болело. Когда выехали в поле, он схватил меня за волосы и попытался выволочь из машины, но я изо всех сил держалась за железку в полу, к которой крепится ремень. «Сука! Сейчас ты будешь бежать, а я в тебя буду стрелять!» Голова моя начала падать вниз, тело стало безвольно-мягким, в ушах звенело.
Я очнулась, лежа на сиденье. Конвоир Ивков поливал меня холодной водой из пластиковой бутылки.
— Гони быстрей, а то не довезем! — кричал он.
Машина мчалась с огромной скоростью.
— Сука! Все знает, законы, конституцию, ты еще в ООН напиши или Николя Саркози позови на помощь!
— И напишу, и позову, и приедут!
— Нам дал задание прокурор, — заявил Ивков.
Такого я еще не видела. Такой жестокости, такого цинизма. Мне показалось, что я умираю. Собрав последние силы, я сказала Ивкову:
— Мои прадеды, священники, молились за меня. Ты перед Богом ответишь за это.
Я не имела права так говорить: вскоре после того, как меня освободили, Ивков похоронил всю свою семью, четыре человека сгорели в доме заживо. И я вспомнила великого Хайяма: «Холодной думай головой, ведь в мире все закономерно. Зло, учиненное тобой, к тебе вернется непременно».
— Руки за голову. Лицом к стене.
Я покорно выполнила команду и рухнула на пороге тюрьмы. Конвоир вызвал доктора Рюриковича, тот осмотрел меня.
— Вас били?
— Да.
Он составил акт о побоях, и меня отвели в камеру.
Девчонки мои меня выхаживали. Я две недели не могла нормально дышать, кашляла кровью. На виске и под глазом синяки, зуб выбит, ссадины от наручников. Я не спала сутками, летала где-то в темноте. Опять, как раньше, взлетала, падала, шла и сквозь эту темноту, видела все ту же нескончаемую дорогу и ту же нескончаемую стену. Черную. Черную.
***
Тюремный счет сначала шел сутками, потом неделями, потом уже пошел месяцами. Выматывало и тело, и душу. Щелканье наручников и конвой с автоматчиками уже не производили такого пугающего впечатления. Человек быстро ко всему привыкает, говорят, только первых три дня неудобно спать на потолке, а потом ничего, нормально. Иногда возникало такое ощущение, что ты родился в тюрьме и что нет и никогда не было другой жизни. Силы порой полностью покидали меня. А когда «слабеет тело, слабеет и дух», говорил великий Серафим Саровский.
Еда в этой «красной» тюрьме была чудовищная. Макароны с червяками, вонючая квашеная капуста, один запах которой выворачивал наизнанку высохший желудок. Только тюремный хлебушек радовал: зеки сами его пекли в тюремной пекарне. Это был особый хлеб, с кислинкой, с горчинкой, с привкусом человеческих страданий, но он оказался необыкновенно вкусен. Иногда пайка тюремного хлеба была единственной пищей за весь день. Спасали от голода бич-пакеты, лапша и каша быстрого приготовления — гениальные изобретения человека. Видимо, их тоже придумал великий мыслитель, посетивший места не столь отдаленные.
Иногда по «дороге» нам передавали продуктовую помощь, из-за тюремной решетки мы вытягивали пакеты с мандаринами, шоколадки. Самое главное, чтобы «конь» выдержал. Здесь не принято есть «в одну харю». Если голодают, то все, если появляются продукты, нужно устроить праздник. Однажды в голодный период «конь» принес нам гостинец. В спичечном коробке был кусочек копченого сала. Мы его разрезали на десять частей! Малюсенький кусочек копченого сала, вкус которого меня поразил!
Когда я попала в такие тяжелые условия, первой моей реакцией был протест. Я не хочу находиться рядом с этими людьми! Грязными, вшивыми, несчастными. Практически все женщины здесь лишены радости материнства. Что общего у меня с ними?! Но я «хлебничала» с этими людьми. Сначала мне казалось, что это падение, но я наступила на горло своей собственной песне, я делила с ними кусок хлеба, хлебала из одной миски, старалась понять их. Конечно, мне было страшно. Я знала, что многие из них больны. Но бояться заболеть, значит бояться жить. Никогда не надо ничего бояться, как правило, все страхи человека беспочвенны. Мы боимся того, что с нами никогда не случится, а случается то, о чем мы даже не думаем.
Прибыв из общества гастрономического безумия с основательно засоренными желудком и душой, я сначала похудела, не чувствуя при этом никакого духовного очищения. Душу терзали обиды, гнев. Я поняла, что душевные страдания окончательно разрушат мой и так ослабленный организм. Список ценностей сузился настолько, что включал всего несколько позиций. Как мало, оказывается, нужно человеку. Хлеб, вода, надежда, жизнь… Я понимала, что моих угасающих сил на многое не хватит, нужно оставить в душе самое ценное, а остальное отпустить, избавиться от лишнего груза.
Я не сама пришла к покаянию, меня привела к нему какая-то могучая сила. Я отпустила и простила ближним все обиды. Сначала мне казалось, что это была сила свыше, а может быть, это была моя внутренняя сила?
***
Спящая Ольга причмокивала, даже во сне улавливая вкусные запахи. Оказывается, запахи тоже могут присниться. Мне часто снился запах пирога, который пекла моя любимая мама.
Ольга открыла глаза.
— Картошечка жареная приснилась. Скворчит так, скворчит на сковородочке. Спать не дает. Вкуснятина. Я бы сейчас сковородочку навернула, не раздумывая. С солененьким огурчиком. Хрум-хрум…
Тюрьма обладает магическими свойствами. Есть в ней какое-то таинство. Церковь, театр, больница. Перешагнув порог этих заведений, попадаешь в другой мир, посетив который, начинаешь по-другому воспринимать жизнь. Есть свое таинство и в тюрьме. Одним из моих открытий в то время стало то, что ко мне вернулась первородная мечта. Как в детстве. Человек должен обязательно жить с мечтой. Пусть с детской, наивной, возможно, неосуществимой. Маленькой или большой. Но у человека должна быть мечта! Например, мечта о радости, которая ожидает тебя при встрече с близкими. Горечь разлуки делает эту радость еще более яркой, неповторимой, долгожданной. Это была, наверное, единственная моя мечта в то время, все остальное — суета по сравнению с этим.
В тюрьме каждый звук что-то означает. Если зазвенели ключи, значит, сейчас откроется дверь. И вот зазвенели ключи, и дверь действительно открылась. На пороге стоял вертухай с огромной корзиной. Небрежно поставив корзину, он обратился ко мне:
— Распишитесь в получении.
Чего там только не было, в этой корзине! Но самым дорогим, не сравнимым ни с какими покупными лакомствами, оказался мамин пирог, запах которого мне часто снился. Сегодня было 7 сентября — мамин день рождения. Ранняя осень. Теплая и щедрая, как мамины руки. Да, доставила я маме хлопот. Ей уже восемьдесят, откуда только силы берутся?.. Слепая — занимается моими детьми. Мы дети до тех пор, пока живы наши родители. Я знала, что мои ребята будут сыты и присмотрены, пока будет рядом с ними бабушка, моя мама. Я не ошиблась в слове «присмотрены». Она слепая, но видит все и чувствует своим внутренним зрением.
А пирог?.. Невозможно понять, как слепой человек может испечь такой пирог. Она чувствует тесто, она разговаривает с ним на своем языке, знает, когда и как оно себя поведет.
— Сегодня юбилей. Маме восемьдесят! — сказала я.
— Вот бабуля дает, — засмеялась, вставила свое слово Курица.
— Не называй ее «бабуля», она не любит это слово. Так она разрешает называть себя только своим внукам, больше никому.
Даже Курица, с ее ограниченным кругозором, слышала о способностях слепых людей.
— Самые лучшие поводыри караванов в пустыне — это слепые. Караван идет, верблюды мочатся в песок. Этот запах только слепой почует, — заявила она.
— Сама ты пустыня! А точнее, тундра дремучая. Курица таежная, — перебила ее немедленно Ольга.
Я унеслась мыслями в далекое детство, но звон ключей в двери вернул меня к реальности. На пороге появился тот же вертухай, вывел меня из камеры и повел на свидание. «Дачка» и «свиданка» — эти два слова обычно идут в паре. Грязное, тусклое стекло, по обеим сторонам два стула и две телефонные трубки.
— Ждите, — сказали мне.
Надо отдать вертухаю должное: он понял, что я плохо ориентируюсь в незнакомой обстановке, помог сесть, дал в руки трубку.
— Говорите, — подсказал он.
Мама пыталась что-то рассмотреть своими невидящими глазами через грязное стекло. Но не видела меня.
— Доченька, любимая моя, как ты тут? — услышала я мамин голос, но не могла говорить, меня душили слезы.
— Ты слышишь меня?
— Слышу, — выдавила наконец я из себя.
— Как кормят, сколько людей в камере?
Вертухай стоял рядом и в такую же телефонную трубку слушал весь разговор.
— Прекращайте задавать запрещенные вопросы, я сейчас прерву свидание.
— А что в моих вопросах запрещенного? Я хочу знать, в каких условиях содержится моя девочка.
— Не положено, прекращу свидание.
— А о чем можно говорить?
Мы просто молча смотрели друг на друга. Я уверена, она видела меня. Вдруг в моей голове замелькали фразы из книг, понимать которые научила меня моя мама. И я сказала ей:
— Я вам пишу. Чего же боле, что я еще могу сказать? Это хоть не запрещено? — обратилась я к вертухаю.
Он промолчал.
Мама мне ответила так же, стихами. Мы поняли друг друга, а вертухай молчал и больше не встревал в наш разговор. Я вернулась в камеру успокоенная и даже счастливая. Увидела маму, поговорила с ней, на душе стало легче.
***
— Надо торопиться. Бесплатные рецепты скоро отменят, — сказала Кичигина Шурукиной. — Посидим пару вечеров, еще на пару лимонов накарябаем рецептов.
— Поиграем во врачей, — заулыбалась Кичигина.
— Поиграем, — поддержала ее подруга.
— Надо позвонить Юрию Марковичу, спросить, какие лекарства лучше всего уходят, чтобы не брать всякую ерунду. — И Валентина Кичигина взяла трубку, набрала номер. Пока ждала ответа, рассматривала себя в зеркале. На ней был короткий цветастый халатик. Кого-то явно изображая, она уселась в кресло и положила ногу на ногу. — Похожа я на врача?
— Похожа, похожа, особенно подпись.
— Да, ночами тренировалась. Сразу и не отличишь.
В трубке послышался приятный голос.
— Алло, Юрий Маркович? Здравствуйте. Это Валентина Кичигина звонит… Да, всё, как вы сказали. Хорошо… Мы договорились с аптеками об обмене… Да, хорошо. Скоро будем у вас. До свидания.
Валентина положила трубку и вздохнула:
— Рецептурные бланки воровать нет уже никакой возможности. Разве это бизнес? Один-два рецепта. Нет, надо что-то срочно придумать.
— А чего мы паримся? Подпись вместо нее ты ставить умеешь отлично. Закажем бланки и печати, — и зачем она тогда нам нужна? Ведь заметит скоро!.. И так всё при себе держит, из рук не выпускает, как дитя малое. Вон как забеспокоилась, когда нескольких бланков недосчитались, всю поликлинику на уши поставила.
— Ну, я ее утешила. Она мне точно поверила. Говорю: «После развода вы, Светочка Петровна, какая-то не такая стали. Рассеянная. Ну положили куда-то не туда, с кем не бывает. Найдутся. Кто их возьмет-то, когда все свои?» Она и успокоилась. А теперь бланки перестанут пропадать. Давно надо было это сделать. Бланки, печати сейчас на каждом шагу делают. Даже с оттиска. Самое главное — подпись. Нет, как я ее, а?! Круто. Талант!
— А то!
— Я так мечтала врачом стать, да не получилось. Мать в деревне. Откуда денег взять? Что они, врачи эти, понимают? Они что, умнее меня? Конечно нет. Вот бы мне диплом где прикупить. Я бы справилась, я лучше врача соображаю. Завидую я им. Ну, ничего. И мы кое-что можем.
Валентина позвонила знакомому таксисту, который обычно развозил их по делам:
— Не знаешь, где можно рецептурные бланки и печати заказать?
— Знаю, конечно, чего я в городе не знаю.
— Отвези, срочно нужно.
Таксисты люди ушлые, обычно знают всех и вся. Вот и сейчас он завел Валентину в кабинет, поздоровался.
— Помоги хорошим девочкам. Вот наличность, квитанция не нужна. Платим за срочность. Очень нужно. Выручи.
— Завтра заезжайте, все будет готово.
Назавтра заказ уже был выполнен. Две огромные пачки бланков рецептов, тысяча штук. Круглые печати поликлиники. Штамп поликлиники и личная печать врача — моя печать. Где мое место в этой преступной группировке? В чем пособничество? Выписать рецептов на полтора миллиона рублей у них ума хватило без меня. А вот на сто семьдесят шесть тысяч рублей — тут я им, оказывается, способствовала. Это выяснилось после экспертизы, которая показала, что на первую сумму рецепты выписаны Кичигиной от имени врача Богословской, а во втором случае определить принадлежность подписи невозможно. Оказывается, это сделала я. Хотя конституция гласит, что все сомнения должны трактоваться в мою пользу, а Уголовный кодекс ей вторит, что они не могут быть положены в основу обвинения. Но только не в Железногорском суде, где судьи торгуют свободой…
— Теперь у нас работы непочатый край, день и ночь писать рецепты будем. Погулять станет некогда. Ничего, найдем время, это дело святое. Если у меня весной нет новой любви — значит, год будет прожит зря. Не будем изменять…
Валентина не успела досказать фразу, Нина ее перебила:
— Будем изменять!
— Я хотела сказать: не будем изменять своим традициям.
Подружкам было весело. Они предвкушали огромную выгоду.
— Бросим козу в сарафане, устроим веселуху. Если что — паровозом пойдет. Мы ей устроим.
Договорились поменять в аптеке лекарства, заказали все, что просил Юрий Маркович. Заказ был быстро выполнен. Нина передала знакомой аптекарше кучу рецептов. Та выкатила огромные короба, набитые лекарствами, нераспечатанные блоки без цен. Нина быстро поставила за больных подписи о получении на обратной стороне рецептов.
Коробки оказались неподъемные.
— Ой, заболела, ой, заболела! — шутливо запричитала Шурукина.
— Лечитесь, — в тон ей ответила аптекарша.
Подъехал тот же таксист, загрузил полный багажник.
Путь лежал в другой город, где не было льготных лекарств и где провизор Юрий Маркович с удовольствием скупал их за треть цены и реализовывал через свою аптеку.
Доехали быстро. Валентина набрала номер.
— Встречайте, мы подъехали.
— Хорошо, разгружайтесь.
Юрий Маркович протянул Валентине пачку денег.
— Как и договаривались, треть ваша.
— Спасибо.
Женщины снова сели в такси. Вот теперь бизнес налажен. Валентина приказала таксисту:
— В ресторан — обедать.
— Давай, подруга, выпьем за доктора, то есть за меня! — И Валентина откинулась на спинку стула, красивым жестом закинув ногу на ногу.
Чокнулись.
— Наконец-то сбылась мечта. Правда, сценарий наш слегка изменился, но ничего, какая разница. Лишь бы не влипли. А эта пусть мотается по Москвам, витает в облаках счастливая. Опустится на землю — обалдеет, — жестко проговорила Валентина.
Всю неделю сообщницы строчили рецепты, в выходные ездили к Юрию Марковичу. Так продолжалось несколько месяцев. Кичигина обулась, оделась, купила новую квартиру, мебель, шторы, ковры. А я ничего этого не знала, не бывала у нее дома. И только на новоселье в мою душу закралось сомнение.
Откуда я все это знаю? Вся эта информация есть в «моем» уголовном деле: запись телефонных разговоров с Юрием Марковичем, видеосъемка их встреч, подробные показания свидетелей, изъятие купюр при задержании. Я всего лишь потерпевшая сторона. Моим именем воспользовались преступники, а я в это время сначала рыдала после развода, а потом наслаждалась счастьем с Вячеславом. Все эти события происходили в одно и то же время. «А если они связаны между собой?» — подумала я. Нет. Это случайное совпадение. Я тогда не могла и подумать, что мной умело манипулируют.
***
После того путешествия на полу машины я очень долго приходила в себя. Болели растянутые мышцы, синяки покрывали все тело. Я сама себя стала бояться: начала скрежетать зубами, и кулаки мои постоянно были сжаты. Меня ведь никто никогда в жизни не бил. Хоть бы раз родители шлепнули. Схватить меня за волосы?! Опустить мою голову на пол, наступить ногой на наручники?.. Сколько боли и унижения в этой позе!.. Я едва сдерживала себя. Дай мне, Господи, сил не ответить на насилие насилием. В тюрьмах для пожизненных осужденных «Черном дельфине» и «Белом лебеде» заключенный должен, общаясь с охраной, принять «исходную позицию». В обиходе поза эта называется «ку». Заключенный должен на уровне колен с размаху удариться в ближайшую стену затылком, закрыть глаза и открыть рот. Руки вывернуты через спину вверх ладонями, пальцы растопырены. Эта позиция прописана в законе, как в обычных тюрьмах «руки за голову, лицом к стене». Вообще, за годы наблюдений в тюрьме я поняла одну истину. Зеки дружелюбно относятся к сотрудникам, беспредел зеков порождается ментовским беспределом. Если возникают конфликты, агрессия, то, как правило, в результате поведения сотрудников. Общаясь с теми и другими, я постепенно понимала, что зеки ведут себя более правильно, чем сотрудники.
После побоев меня долго не вывозили в суд. Ждали, когда сойдут синяки. Судья был поражен:
— Говорят, тебя избили в тюрьме. Давай назначу экспертизу о побоях.
— У меня синяки и следы побоев были при поступлении в тюрьму, а сейчас сошли. Я написала прокурору, чтобы он разобрался, но все эти бумаги, оказывается, были переданы майору Корзинину, в мусорное ведро.
Прокурор и судья весело посмеялись надо мной. Не было этого!
***
Бывает, и медведь летает, когда сучок обломится. Господи, дай мне сил и терпения. Сколько грязи я увидела! Грязь, в моем понимании, это не только вши, гниды, крысы, но и нечистоплотность человеческой души. Судья всячески затягивал процесс. То вещдоки искали, то свидетелей якобы не нашли. Прокурор читал дело очень неторопливо. Целых три дня зачитывал номера купюр, которые были изъяты у Кичигиной при аресте. Я-то тут при чем? На третий день я не выдержала и рявкнула на прокурора. Он понял мое раздражение и быстро закончил: «…и другие купюры разного достоинства».
После суда меня привезли в камеру. Я скрежетала зубами, в кровь искусала язык, кулаки просто чесались. Ненависть внутри меня бушевала с огромной силой, я готова была выломать все железные прутья, разорвать каждого, кто ко мне приблизится. За что я должна выслушивать на суде этот бред, эту ложь?! Но, как ни странно, сначала двести человек свидетелей дали показания, что они меня в глаза не видели. А когда все же арестовали Кичигину и Шурукину, свидетели завыли: «Нам следователь велел дать показания, какие были нужны ему!» То есть против меня. Им обещали за это свидания с детьми, передачи.
Протоколы судебного заседания.
Лист 46. Кичигина принесла десять или двадцать чистых бланков, показала мне, как нужно заполнять, и я их заполняла, указывая данные знакомых, а также фамилии из телефонного справочника. Подпись за Богословскую ставила Кичигина.
Лист 49. Мне Макухин (начальник БЭП) сказал: «Давай распределим роли, а то придется сажать всю больницу». Я не отрицаю, что брала бланки у Богословской. Но не похищала их.
Это показания свидетелей.
Лист 50. Ко мне в субботу пришел без адвоката следователь со стопкой рецептов и стал выяснять, какой рецепт мой, а какой нет. Я не спрашивала, почему нет адвоката, знала, что суббота, а кроме того, мне было сделано предложение: свидание с детьми в случае сотрудничества со следствием. Через некоторое время он принес напечатанный протокол допроса. Я его подписала. При осмотре рецептов номера с амбулаторными картами не сверяли, хотя я и просила об этом следователя. Я подписывала, где мне говорили. Мне рецепты показывали даже через окно выдачи пищи.
Это показания Кичигиной.
Князева.
Лист 53. Да только я не видела этих денег, это мне следователь сказал, что Шурукина передала Богословской деньги. Я сама не видела передачи денег.
Лист 54. Все кричали, что я не могла не видеть, как передавали деньги. Предполагалось, что передавались деньги, но я этого не видела и разговора о деньгах не слышала. Так говорил следователь. Это он мне сказал, что Шурукина передала деньги, а сама я не видела. Может, я испугалась, так как меня все ругали… Но я не видела денег.
Солодухина.
Лист 103. Между нами провели очную ставку, и Шурукина сказала, что она согласна с моими показаниями, а затем следователь ей заявил: «Нина, я тебя предупреждал, какие давать показания», — и она стала рассказывать совсем другое. Я считаю, что она дает лживые показания.
Лист 104. «Вы говорили, что вам угрожали, предупреждали, какие давать показания. О чем идет речь?» — «Оперативные работники угрожали, Макухин мне говорил, что уволит с работы».
Лист 105. Я уже устала от криков и угроз следователя, дала показания, какие им были нужны.
«Смирение и прощение, прощение и смирение, — твердила я себе. — Необходимо спасти свою душу от разрушения. Молитва, тихая молитва. Прощение грехов всем моим врагам. Привилегия сильных — это умение прощать. Пусть глумятся надо мной, я ведь лучше их знаю, кто я». И все же я стала озлобляться. Уже не могла спокойно говорить. Пыталась улыбнуться, но улыбка походила на оскал. В «мордогляд» (так здесь называют зеркало) я вообще перестала смотреть. Человек самый воспитанный может превратиться в зверя. Меня делают зверем окружающие меня люди, мою психику вымораживают. В изоляторе я одна, который месяц одна.
***
Если четыре дня человек ни с кем не разговаривает, то на пятый начинает разговаривать со своим внутренним голосом. Этого мне еще не хватало. Почему я его тогда испугалась, Лехи? Пришла бы сейчас, а он в камере бреется. Родная душа. Угнали Леху на зону, поговорить не с кем, только с крысами: вон они, почуяли осень, пришли погреть толстые бока, ходят по камере, не боятся — черные, серые, рыжие, большие, маленькие, всякие. Я в первый раз в жизни видела крыс. Поначалу я их испугалась, а теперь даже привязалась, всё живые души рядом. Под тумбочкой вывелись детеныши, пищали, просили есть. Я поставила им мисочку и регулярно, как детей по часам, кормила. А вот и моя подружка появилась. Тонкая и длинная, как колбаса, рыжая и особенно наглая. Я дала ей кличку Кичигина. Воровка страшная, тянет в норку все подряд: мыльницу, ложку, носки (как будто будет эти носки носить). Ходит по камере ночами, как каблучками стучит. Стоит только отвернуться, как она что-нибудь да и сопрет.
Я посмотрела на крысу. Глаза наши встретились. Крыса запищала. Писк показался мне похожим на смех, и я вскрикнула. Крыса бросила кусочек недоеденного хлеба и шлепнулась в унитаз. По камере полетели брызги, и рыжая нахалка уплыла. Был бы сейчас Леха, мы бы обсудили много тем. Создаст же природа человека!.. Андрогенов в его организме явно больше, чем эстрогенов. Я как врач знаю, что в каждом организме присутствуют и те, и другие. Мне вспомнилось, как Леха брился. Тщательно мазал лицо пеной для бритья, смотрелся в маленькое зеркало, не спеша, ряд за рядом, соскабливал с лица белую пену. Побрившись, проверял качество бритья на ощупь. Была ли у него щетина? Была. Грудь — очень маленькая на фоне широких плеч. Живот большой на фоне узких бедер. Фигура мужчины зрелого возраста, любящего пиво. Вот он причесал мокрыми руками коротко стриженые волосы, достал маленькую пилочку и стал обрабатывать ногти, а затем тщательно смазал руки детским кремом. Что-что, а руки у Лехи были холеные, белые, ногти коротко подстриженные.
— Леха, не все женское в тебе погибло, — сказала я, глядя на эти руки.
— Многое ты в жизни видела, но, видимо, не все, — ответил он мне многозначительно. — Это мой рабочий орган, понятно тебе? Показать, как работает? Попробуешь пальчика, не захочешь мальчика.
Я пересела от Лехи подальше. Бежать некуда, камера маленькая, он мог этим воспользоваться.
— Хоть и нравишься ты мне, но мне любовь нужна. Я без любви — никак. Не боись, а то сейчас визжать начнешь. Не трону. Хотя для быков нет священных коров, это да. Мне душа человека нужна, нежность, взаимность, а не секс. Секс — это очень примитивно. Это спорт. Неинтересно. А вот любовь — это да. И нежность, и страсть, и дух захватывает. А секс… Сегодня с одной перепихнулся, завтра с другой. Можно даже имя не спрашивать. Зачем?
Леха рассуждал как настоящий мужик. Я попробовала объяснить ему свой взгляд на вещи:
— Замкнутое пространство, вокруг одни женщины, а тут молодой организм, в котором возникает желание, бушуют гормоны.
— Нет, я с тобой не согласен. Женщина еще на воле во мне померла. Я, если бы даже не сел, все равно мужиком стал бы. У женщин тут это дело добровольное: не хочешь, тебя никто не заставит. Это мужиков на зонах насильно «опускают». Гомосексуализм, конечно, был в тюрьмах всегда.
И Леха поведал мне все, что знал по этому вопросу. Сначала насилие возникло как наказание. В ГУЛАГе считали, что этот обычай придумали опера, он стал их оружием в борьбе с «отрицаловыми»[3]. Есть похожий обычай у некоторых племен Африки: там мальчиков, не выдержавших испытаний при посвящении в мужчины, нарекают женским именем, наряжают в женскую одежду и отсылают на задворки стойбища.
— Это было и будет всегда. И у женщин было и будет. Только почему-то это все скрывают. Говорят, что нет ничего такого. Я, и когда освобожусь, буду жить на воле с женщиной. Все равно мужиком буду. Понятно тебе?
— Мне все понятно. Очень даже понятно. Мне не понятно только, кто тогда детей рожать будет.
— Вся страна делится на тех, кто сидел (значит, имел этот опыт), сидит (то есть этот опыт приобретает) и кто будет сидеть (то есть еще не научился). Куда катимся?.. Национальности уже нет, пол скоро отменят, а в графе «семейное положение» будем писать «безвыходное». К тебе это не относится. Ты выполнила свой долг, родила прекрасных детей.
— Ну и что из этого? И меня затягивают в эти же сети. Зачем мне это?
— Если к тебе кто будет приставать, а баба ты симпатичная, баульная, говори эту фразу, она тебе поможет: «Я не в этой жизни». Среди моего брата много всяких-разных. Это я любовь ищу, а многим баул твой нужен будет, оторваться нахаляву. Все как в жизни: отношения бывают по любви и по расчету.
— Я не в этой жизни, — повторила я фразу, пытаясь запомнить.
***
Однажды тюремный священник на проповеди сказал, что в тюрьме, лишившись свободы, оказавшись оторванными от плотских утех и искушений, тела людей превращаются в души. Душа, не имеющая в себе духа, мертва так же, как и тело, не имеющее души. Вот тема, над которой мне надо работать. Что я могу сказать о своей душе? Есть она или нет? Если есть, то откуда взялась и куда уйдет? Будет ли она существовать всегда? Сколько я должна заплатить, чтобы избавить свою душу от греха, проклятия, болезней, страхов, одиночества, смерти?
На самом деле узником можно быть только у своей совести. Сидеть в тюрьме своих грехов. Я часто задавала себе один и тот же вопрос: за что и зачем я здесь? Сначала смотрела на все происходящее со стороны, меня разбирало любопытство. Ведь можно прожить всю жизнь и так и не узнать, что это все существует. Я пыталась найти смысл во всем происходящем. Потом я стала получать удовольствие от возможности участвовать в этой жизни, помогать людям, понимать их, чувствовать их боль. Мне уже не хотелось на свободу, я понимала, что нужна людям здесь.
Я всегда была и буду свободной. Самое главное — быть свободной от греха, это важно для моей души. Что я должна сделать для нее? Простить всем своим врагам их вину, очистить свою душу от зла, ненависти, злобы. В суде как-то раз объявили обеденный перерыв, и я на лестнице повстречалась со своим судьей. Меня, конечно же, вел конвой. Судья очень спешил, я пропустила его вперед и сказала: «Я никуда не спешу. Я абсолютно свободна». На что он мне ответил: «В твоем положении только о свободе и говорить». Я сказала эти слова искренне, от души, а не из бравады. Я свободна, потому что никому ничего не должна, потому что помогаю людям, не прося ничего взамен. Потому что отдам последнее нуждающемуся, выслушаю, постараюсь понять любого. Подумаю своей головой, права ли я, приму решение во благо истины, но не из корысти. Я свободна в своих мыслях. Душа моя чиста, а значит, я свободна.
***
Это не исследование Фан Фаныча, который увидел тюремный закон через глазок. Я видела это все своими собственными глазами. Это три с половиной года моей судьбы. Я видела все: «коблов», «кентов по салу» (есть сало — ты друг, нет сала — уже не друг), ментов. Они все мне очень дороги, потому что были моими учителями. Я прошла эту школу жизни. Все, что нас не сломало, должно сделать нас сильней. Я выйду отсюда другая, сниму с себя обветшалые одежды веры в справедливость. Познав предательство и несправедливость, я буду совсем по-другому смотреть на жизнь, на людей. Но, несмотря ни на что, не перестану любить людей такими, какие они есть, грешных, запутавшихся. Возможно, хоть одному из них я помогу отыскать верный путь в жизни, и это будет для меня большой радостью, хотя, конечно, учили они меня, а не я их. Мне было интересно и весело с ними: они не унывали, радовались жизни и учили меня этому. Еще Петр I говорил, что тюрьма «есть ремесло окаянное, и для этого скорбного дела надобны люди твердые, но добрые и веселые».
Вот и Веселая Ольга никогда не унывала, хоть и поплачет порой потихоньку, чтобы никто не видел, по детям, которые попали в приют.
— Рано мне еще о душе думать. Молодая, глупая, еще столько грехов будет. Потом их все разом отмаливать буду. На пенсии. Ну и что, что попаду в ад? Гори все синим пламенем, зачем мне в рай? В раю климат хороший, а в аду компания хорошая. Всех своих мужей там повстречаю, — говорила она.
— Ольга, а сколько у тебя их?
— Много, но не в этом дело. Дело в закономерности. У меня по жизни так получалось: один муж — мент, а следующий — зек, потом опять мент, и опять зек.
— А разницу чувствуешь?
— Никакой. Мой последний мент то и дело в запои уходил, я в ментовке жаловалась, а они мне говорили, что он работник хороший. Потом он чуть детей не переехал на своей служебной машине, пьяный. Выгнали. Теперь подался в Ростов, в бандиты. Подрались мы как-то с ним, выгнал меня с детьми из дома. Вещи даже не забрала, так, самое необходимое. Как всегда, думаю, проспится, заберет меня с детьми от матери, сколько раз так было. А он не позвал. Подал на развод, привел в дом молоденькую девочку, она забеременела. Свадьбу устроили. Она в моем свадебном платье замуж за моего мужа выходила. Молоденькая, глупенькая, только что школу закончила. Я их из окна видела, счастья пожелала. Умерла она от родов. Мать ее ребенка забрала, а муж мой как раз тогда в Ростов к бандюкам подался.
— Прокляла ты ее, что ли?
— Да нет. Судьба у нее такая.
***
— В деревне Таракановке или Купареновке, сейчас точно не помню, несколько лет назад на колхозном поле посадили коноплю. Урожай удался на славу. На следующий год коноплю уже не сеяли, но она выросла опять. Чтобы уничтожить конопляное поле, обработали какими-то химикатами, но и это не помогло. На следующий год кусты конопли уже больше походили на деревья, ветки — толщиной в руку. И потянулись на поле наркоманы. Поле чудес, — сказала Ольга.
— А если эту коноплю поджечь, спалить это поле? — вставила, как всегда невпопад, Курица.
— У тебя вечно крайние меры — поджечь, повеситься, уничтожить, — тоже как всегда оборвала Курицу Ольга. — Тебя родители на этом поле нашли, а не в капусте.
— Что, нельзя было найти метода, как уничтожить эти чудо-деревья?
— А зачем? Что тогда наркоконтроль будет делать? За что денежки получать? Сидят они в этих чудо-деревьях и ждут. «Засада» называется. Пивка попили, протокольчики составили… Это рассказывала нам бабка Рая. Ей дали девять лет «за торговлю наркотиками». Ей уже стукнуло в тот момент семьдесят, получилось — дали пожизненно. Ноги у нее сильно болели, и она тоже ходила раньше на поле чудес за коноплей, растирку для ног делать. На самогоне коноплю настаивала и ноги растирала. Законов не знала, лечилась так. Как-то весной ноги совсем ходить перестали, на поле чудес трудно было ходить, вот бабка Рая и посадила коноплю в своем огороде… К осени конопля выросла, и потянулись наркоманы к бабке Рае. Прознали, что поле чудес наркоконтроль стережет. Бабка Рая не знала законов, не знала, что такое наркотики, но очень хорошо понимала, что такое деньги. Пенсия маленькая, на лекарства не хватает, а тут такая подмога. «И “Дону” теперь куплю себе, и “Инолтру”, и “Мабтеру”», — перечисляла про себя названия дорогих лекарств от болей в суставах бабка Рая. «Я и не знала, что такое марихуана», — оправдывалась она. А мак, оказывается, опием называют. Сколько мака росло в нашем огороде! Еще моя бабушка такие пирожки с маком пекла. А теперь все, отъелись мы пирожков с маком. Мы еще свиньям весь мак перевели, свиньи его очень прилюбляют.
— Свиньи не дураки, — вставила Курица.
— Замолчи, — как всегда, грубо оборвала ее Веселая Ольга. — Быстро на насест вспорхнула и не кудахчешь. — И Ольга показала Курице на верхнюю шконку. — А то сейчас расскажете этой дурочке, а мозги-то куриные, и пойдет она завтра на волю это поле чудес искать. Курица тупоголовая. Винтовая, наверное. Пробовала наркотики? Говори честно: это от наркотиков ты такая дура? — не унималась Ольга.
Курица забилась под одеяло, Ольга начала стаскивать с нее одеяло и шлепать Курицу по голове.
— Оставь Курицу в покое, последние мозги выбьешь.
— Винтовая она, вижу сразу: мозги не восстанавливаются после винта. Вон алкашки-«бормотологи», спецы по «гомырке», нитролак нюхают, а уже все в чувство пришли, отмылись, приоделись. Только эта — дурра дуррой.
И Ольга дважды стукнулась о голову Курицы своей головой.
— Бум-бум, пусто.
— У кого пусто? Это у тебя пусто, — высунулась из-под одеяла Курица.
— Не зли меня!
Тут Ольга что-то вспомнила и засмеялась:
— Читаю я недавно «делюгу», там следак пишет: «Нанесли два удара круглым тупым предметом». Отгадайте, что за предмет имел в виду следак? Никогда не догадаетесь. Голову. Твою голову.
— Нет, это твоя голова! — И Курица показала Ольге язык.
— Я тебе сейчас оторву твой круглый тупой предмет! — Ольга запрыгнула на верхний шконарь, оседлала Курицу и начала щипать ее за бока. — Сейчас я твои перышки причешу.
— Ой, боюсь щекотки! — Курица визжала и пыталась скинуть Ольгу с койки.
— Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы на свободу не просилось, — поставила диагноз я.
— Я тебе сейчас покажу, как Николай Валуев жарит шашлык. — Ольга показала жестом, как нанизывают мясо на шампур. — Знаешь, я тебя в последний раз спрашиваю, как Николай Валуев жарит шашлык?
— Не знааааю! — визжала Курица.
— Я тебе сейчас покажу. Бе-ме-хрю-ку-ка-реку!
Дежурный по «продолу» забарабанил в дверь, это означало, что он все видит и предупреждает.
— Ну вот, не дали тантрическим сексом позаниматься. «Поза сверху» называется, — приговаривала Ольга, слезая с Курицы.
— А почему вдруг «тантрический»?
— Потому что в одежде.
— «Продольный» «пикует», сейчас в «трюм» (то есть в карцер) пойдете на пару, там и займетесь тантрой.
Ольга тщательно проверила у Курицы все вены.
— Вены нормальные. А я-то думала, что тебе наркотики так мозг повредили. А ты просто от природы такая глупая.
На самом деле наркомания — огромная проблема. Тюрьмы просто забиты наркоманами. Тюрьма — это их спасение, поскольку изоляция — один из методов лечения. Возникает синдром отмены, ломка. Поломает их здесь, переломает, и сидят они здесь годы, ждут, когда же воля, чтобы опять уколоться. Наркоманов бывших не бывает. Скольким я помогала, когда у них случалась ломка… Лекарств — практически никаких, а потому — валерьянка, анальгин и доброе слово. Сочувствие и сострадание: им ведь не в тюрьме надо сидеть, а лечиться в специализированных клиниках. Пусть тоже под замком, но в клинике. Сколько случаев таких: вышел отсюда, укололся — и умер. Лечить детей нужно. Спасать.
***
Таких старух, как бабка Рая, называют в тюрьме «маханша» (содержательница притона) или «шваняйка» (опустившаяся старуха). Но Веселая Ольга быстро придумала ей погоняло Новая Русская Бабка. Раньше старые русские бабки внучкам пирожки с маком пекли, а нынче новые русские бабки наркотиками торгуют, маковой соломкой.
Вообще, наркоманы меня поразили. Одна мысль в голове — уколоться, и всего несколько слов. Очень ограниченный словарь. Они твердят и твердят одно и то же. И я, чтобы как-то понять этих людей, а поняв, попытаться помочь им как врач, посчитала своим долгом выучить их жаргон. Я записывала каждое услышанное от наркомана слово, а потом просила объяснить, что оно означает. Они мне с удовольствием рассказывали.
Галькаф — анаша.
Ганджа — гашиш.
Гара-хан — опий.
Голый вассер — сильно разбавленный раствор наркотика.
Дол бота — состояние наркотического голода.
Дрянь — анаша, опий.
Дурь — наркотики вообще.
Кругляк — расфасованный гашиш.
Лежбище — притон наркоманов.
Лоханка с кикером — табакерка с кокаином.
Майданщик — заключенный, торгующий наркотой в ИТУ.
Марафетчик — содержатель притона наркоманов.
Рассыпуха — кокаин.
Резидент — человек, снабжающий наркотиками.
Пойти похехекать — накуриться анаши.
Самосвал — шприц для инъекций.
Трасса — следы на руках.
Открытый пах — инъекции в паху.
Фактория — место сбыта наркотиков.
Глюки — галлюцинации.
Грузить — высказывать мысли.
Догоняться — кайф уходит, надо найти дозу.
Заморочка — спутанность сознания.
Измена — сильный страх вследствие интоксикации.
Кайф — наслаждение.
Колеса — таблетки.
Крыша — сознание.
Мутить — добывать наркотики.
Приход — первоначальная возбуждающая стадия после принятия.
Сидеть — регулярно употреблять наркотик.
Соскочить — избавиться от зависимости.
Наркоманы мне рассказали, что такое «бонг» или «бульбулятор», — устройство для курения каннабиса. Они постоянно стараются изготовить его в тюрьме из подручных материалов: пластиковых бутылок, ведерок из-под майонеза или целлофановых пакетов. Это была их любимая работа — мастерить «бульбулятор». «Передать бациллу», оказывается, это не заразиться инфекционной болезнью, а передать наркотики. «Дома» — констатация успешного попадания иглы в вену. Попал в вену, и ты уже дома. Как просто. Какая радость!..
Я объясняла им как врач, что наркомания — это болезнь и ее нужно лечить. Сейчас в тюрьме, когда уже прошла ломка, наступил момент изменить свое отношение к наркотикам и изменить свое отношение к себе. Наркотики — это смерть. «Неужели вы хотите умереть, такие юные и красивые?» — говорила я им. Рассказывала, как истово хотят жить больные раком, как они мужественно борются за жизнь. А тут — здоровые, молодые, которым жить да жить, своими собственными руками убивают себя. Я рассказывала им: «Вы просто не хотите или не знаете, как с этой болезнью справиться. Во-первых, нужно осознать, что вы больны». Помогала им найти точку отсчета, проанализировать, что явилось причиной болезни, и устранить эту причину. Ведь в жизни столько кайфа. Нужно заполнить пустоту внутри себя, заняться чем-нибудь полезным. Больше читать, интересоваться чем-нибудь другим.
У меня не было никаких лекарств, только одно желание объяснить, и я хотела, чтобы меня услышали и поняли. Не знаю, получилось ли это у меня, но я искренне этого хотела…
Я не давала подписку о неразглашении. Поэтому считаю своим долгом гражданина, врача, матери говорить и писать об этом. Обо всех этих проблемах нужно не говорить, а кричать. Возможно, тогда кто-нибудь услышит, что творится в тюрьмах.
***
Продолжу свой рассказ о новых русских бабках. Бабка Рая — гордая, властная, никогда не участвовала в разговорах, но всегда прислушивалась, присматривалась ко всем. Долго она и ко мне присматривалась. Я сначала не придавала этому никакого значения.
— Слышала, очень многое слышала о тебе, — как-то заговорила со мной бабка Рая.
— Откуда?! — Я была уверена, что первый раз в жизни вижу этого человека и никаких общих знакомых у нас нет.
Бабка Рая промолчала.
Она очень быстро, как-то бессловесно стала приручать одну женщину. Та делала ей массажи, ванночки для ног, стирала ее белье. Бабка Рая молча и властно восседала на нарах, наблюдая затем, что происходит в камере, а эта женщина суетилась вокруг нее, прислуживая.
С появлением бабки Раи в нашей «хате» стал витать дух какой-то тайны. Как-то раз бабка спросила меня:
— А ты врач?
— А что, непохожа?
— А Кичигина тоже врач?
— Нет, Кичигина медсестра.
— Кичигина больше на врача похожа. Солидная такая, вся в коже. А ты что? В кедах да кепке…
— Мне так удобно.
И бабка Рая снова замолчала. Разговора не получилось, она продолжала ко мне приглядываться. Я понимала теперь, что она что-то знает и молчит.
В очередной раз ко мне приехал на свидание сын.
— А говорят, тебя дети бросили. Ушли к отцу.
— За что это меня дети бросят?
— А за что тебя муж бросил? — вопросом на вопрос ответила мне бабка Рая.
— Бросил, и все. Не объяснил, почему.
— А надо было спросить. Может, какие-то сомнения появились бы. Задумалась. А как с мужем-то жили?
— Хорошо жили. Жили хорошо. Бросил, и все, и сомнений никаких.
— Надо было не слезы лить, а по сторонам смотреть, кто вам чего устроил.
Я сразу подумала, что бабка Рая клонит к тому, что «сделано» нам что-то. Из копытца напился — козленочком стал. Все это я уже слышала и потеряла интерес к разговору, а бабка Рая еще несколько раз начинала разговор, но, видя, что я не реагирую, замолчала.
Потом говорит:
— Много ценного рассказать тебе хотела, так ведь слушать не хочешь. Простая ты сильно, доверчивая, обидеть тебя легко. Душа открытая. Хитрости нет. Жалко мне тебя.
— Не надо меня жалеть. Я не люблю этого, — опять прервала разговор я.
— Учиться тебе надо у Кичигиной и Шурукиной этой, здорово они тебя облапошили.
— Баба Рая, говори, что знаешь. Загадки мне твои ни к чему. И так ребусами голова забита. Откуда Кичигину с Шурукиной знаешь?
— Сидели мы два года назад с ними в одной камере под следствием — они и я. Их потом выпустили. Не думали они, что следом заедешь, правду узнаешь. Видно, судьба тебя не зря в тюрьму затянула, всю правду узнать. Да и меня еще к тебе послала. В судьбу-то веришь?
— Верю.
— Заехала она круто. Не в пример тебе баулы огромные, нарядов много. Говорит, врач я. Поверила я ей. Убедительно говорит, говорить умеет. И на врача похожа — гордая. Но я ведь не первый год на Земле живу. Прислушиваюсь, присматриваюсь. Они с Шурукиной ночами шепчутся, план действий дальнейший разрабатывают. Ох, как хотелось ей врачом-то побыть!
Надумали они муженька твоего разыграть. Позвонили ему: дескать, ты на дежурстве людей спасаешь, а женушка твоя с мужичками по банькам бегает. Аборт она, думаешь, от кого сделала. Поверил он им. Долго они его доставали, разговаривать не хотел, трубку бросал, а потом — поверил. У вас дома проблемы начались, а им только это и нужно было.
Печати сделали, рецепты выписывать стали. Денежки потекли рекой. К тому времени ты успокоилась, мужика себе нашла. Хотели и с ним поругать, но ручонки коротки оказались. Ну ладно, пусть кайфует, по Москвам катается. Две недели тебе оставалось: хотели печати уничтожить, а тебя ментам сдать. Да Бог за тебя заступился: их менты раньше взяли. Понимаешь, что могло быть еще хуже?
И не хотели они показания против тебя давать, да их заставили. Врагов у тебя хватает. Следователь им приказал, я сама это слышала.
Если бы твой мужик им тогда не поверил, поговорил бы с тобой, ты бы сейчас в тюрьме не сидела. Семья бы твоя сохранилась. Ребеночек бы рос маленький. Подонок мужик у тебя оказался, а тебя они жалели даже.
Все, что рассказала мне бабка Рая, было для меня открытием. Я и не предполагала, что могу услышать такое. Вот теперь все встало на свои места, мне все было ясно: и поведение мужа, и слова Кичигиной: «Бросим козу в сарафане, устроим веселуху». Теперь я поняла поведение Кичигиной. Она была в образе. В моем образе. Играла во врача. И заигралась.
Так все это было обидно, так унизительно, а ведь у меня возникли сомнения, я интуитивно чувствовала, что что-то не так, была на грани разгадки, но мне не хватило времени додумать все до конца.
***
В то время нас всех «тягали» на допросы по делу Кичигиной. Мы выступали свидетелями. Через год, когда Кичигину выпустили, все уголовные дела на других врачей закрыли, и только одно мое дело пошло в ход. Поддельных печатей этих врачей не было. В дело шли их реальные печати и подписи, эти врачи с ней сотрудничали. Но она перестаралась. Обошлась без меня, изготовила печати и бланки рецептов. Ко мне тогда вообще не возникало никаких вопросов. Оперативник сам ознакомил меня с результатами экспертиз, показал поддельные печати, сказал, что до суда тревожить не будут и что у них нет ко мне вопросов. Я подписала протоколы в качестве свидетеля.
Получалось, не все коллеги меня предали, некоторые просто умерли. А Ирина Горовых стала чудить, «играть по пятому номеру», то есть симулировать психическое заболевание. Первое впечатление было — «косит», хоть она и лечилась уже некоторое время в психиатрической клинике. Эта «жизнерадостная» (так называют на блатном жаргоне психически нездоровых людей) с готовностью сообщила ментам все врачебные тайны, сдала явки, пароли, таксы. Она прочла много детективов, и это отразилось на ее больной психике. Вообще, она не считала себя рядовым врачом. Она дочь Екатерины Великой и маршала Жукова, разве может она быть рядовым врачом? И неважно, что ее родители жили в разные эпохи, экстракорпоральное оплодотворение, убеждала она нас. Мужа она из дома выгнала и в каждой женщине видела его любовницу, а во всех детях — незаконнорожденных детей мужа.
И вот у этой женщины менты брали показания и ставили мне ее в пример: пришла-де, все честно рассказала и ушла, а ты вот сидеть будешь. На суде мне показывали множество не поддельных, а выписанных этим доктором рецептов. С ее настоящей печатью. Я слушала этот бред прокурора. Ее рецепты, так пусть и отвечает за свое. Но ее в суде не было. Она лежала в психиатрической лечебнице, потом ее признали невменяемой, и суд освободил ее от уголовной ответственности.
***
В тюрьме и днем и ночью горит свет. Со временем это начинает очень сильно воздействовать на организм. Происходит дезориентация во времени, при свете человек не отдыхает во сне. Избыток, как и недостаток света давит на мозги.
Сегодня я ругала Теслу, изобретателя электричества, и Эдисона, изобретателя лампочки. Видимо, они тоже сидели в тюрьме… Вот, опять я злюсь. Как можно ругать свет?.. И вообще, никогда никого нельзя ни ругать, ни винить. Надо признать, что наличие света в камере при всех его недостатках имеет одно достоинство. В тюрьме можно читать днем и ночью. Можно прочитать все то, на что у тебя раньше не было времени. Можно заняться самосовершенствованием, выучить иностранные языки. Выбор языка будет зависеть от срока. Итальянский — года за два, за три, китайский или арабский — лет за пять-семь. Можно заочно научиться пользоваться компьютером или выучить правила дорожного движения.
Мне как-то попался справочник экскаваторщика. И я начала изучать устройство экскаватора. Тренировка мозга — это профилактика атеросклероза, болезни Альцгеймера, инсультов. Мозг должен постоянно работать, а основная функция мозга — это принятие решений. Бенжамен Франклин разработал собственный метод принятия решений. В 1772 году он изложил его в письме к другу: «Мой принцип заключается в том, чтобы разделить лист бумаги на две колонки. В левой пишу “за”, а в правой “против”. Далее в течение трех или четырех дней я обдумываю какое-либо предложение и записываю свои соображения — либо в поддержку выдвинутой идеи, либо против нее. В случае, если в обеих колонках встречаются взаимоисключающие доводы, они вычеркиваются. Если получается, что один довод “за” равен двум доводам “против”, то следует вычеркнуть все три. Аналогичная система действует в отношении двух доводов “за” и трех “против”, вычеркиваются все пять. В конце концов выявляется более или менее точное соотношение аргументов. И если день-два после этого ни в одной колонке не появляется новых соображений, я прихожу к окончательному суждению».
Я взяла лист бумаги, разделила его на две части. Вверху написала: «Я сижу в тюрьме», — в левой половинке написала «за», в правой — «против». И сделала так, как советовал Бенжамен Франклин. Первое, что я написала в колонке «за», была фраза: «Я жива», — и, собственно, все, что я писала в обеих колонках, уже не имело никакого значения.
В тюрьме люди очень много курят. Не всегда есть приличные сигареты, часто курят «Приму» или самокрутки. В самокрутку идет высыпавшийся из сигарет табак, остатки окурков, чайная заварка. На маленькие полосочки разрываются книжные страницы. Не прочитываются, а скуриваются. Как-то мне в руки попался недокуренный томик Некрасова 1964 года издания из серии «Школьная библиотека». Я взяла этот томик и начала читать обрывки из разных стихов Некрасова. Уже много позже, на свободе, мы сидели в небольшом ресторанчике в центре Москвы с подругой, и, говоря о духовном состоянии нашего общества, я вспомнила слова Некрасова: «Все, что мог, ты уже совершил. Создал песню, подобную стону, и духовно навеки почил».
…Китайский философ Конфуций учил: «У человека есть три пути, чтобы поступать разумно: первый — самый благородный — размышление; второй — самый легкий — подражание; третий — самый горький — личный опыт».
Мне достался самый трудный путь — личный опыт. А чтобы пройти тяжелый путь, нужны огромные силы. Где их взять? Как врач я понимаю, что надо хорошо питаться, пить много жидкости, чтобы не возникало обезвоживания и оставались силы. Организм впал в какой-то анабиоз, хотелось просто лежать под одеялом и не шевелиться. Мышцы атрофировались от недостатка движения, ноги и руки болели, ходить было больно, голова кружилась. В организме поселились лень и безразличие, я ощущала полное отсутствие стимулов. Так ведь можно и умереть. Интересно, а от лени умирают?.. Посмотрела на себя в зеркало и поставила очередной диагноз: лахудра. Внешний вид — это прежде всего состояние души. Волосы можно подкрасить, лицо умыть, зубы почистить. А как зажечь свои глаза? Это гораздо сложнее, надо собой заниматься. У меня ведь есть для этого море свободного времени.
Продуктов хватало только на два дня, понедельник и вторник, дальше голодали. Вот и сегодня осталась последняя ложка геркулеса. Нет, зеки отучили меня от слова «последний». «Жена у попа последняя», — сразу одергивали меня они. Правильно говорить так: осталась ложка геркулеса. Я ее заварила, получилась ложка каши. Хотелось ее съесть, но я намазала на лицо, сделала маску. Сын добился разрешения передать мне бигуди и краску для волос. Покрасила волосы, накрутила, локоны разобрала на пряди. Обтирание холодной водой, небольшая зарядка, ярко-красные брюки клеш и футболка в красную полоску с капюшоном. Смотрю в зеркало: недели работы над собой не прошли даром. Теперь нужно заново вызвать на своем лице улыбку. Вспомнить что-нибудь хорошее, детей, родителей.
Получилось! «Жизнь продолжается», — сказала я себе и шагнула из камеры. Меня ждал очередной этап в суд. Я зажгла огоньки своих глаз, доброжелательно здоровалась со всеми знакомыми, попадавшимися на пути. «Че, наверное, в салоне причесывали?..» — слышала я вслед чей-то шепот. «Посидите в тюрьме, — и вас причешут», — без злости думала я.
В зал суда стали вызывать свидетелей. Все видели меня в первый раз. Один мужчина сказал:
— Если б видел, запомнил бы. Как такую женщину не запомнить? Ваша честь, зачем такую красавицу в клетке держать? Отпустите. Зачем посадили?
— Чтобы мужики не украли! — рявкнул судья и объявил перерыв.
***
Хоть курица и несет дорогие яйца, ценой в собственную жизнь, мозгов у нее нет и никогда не было. Так утверждала Веселая Ольга. Нарвалась наша Курица на нож, одиннадцать суток провалялась без сознания в реанимации, восемьдесят шесть — в больнице. Наскучило ей в больнице, отсоединила сама трубки и сбежала. Куда спешила? Понятно, куда: в тюрьму. И теперь живот у Наташки все болит и болит. Стала повышаться температура. Сначала Курица кудахтала от боли, потом и кудахтать перестала: во рту пересыхало.
Я посмотрела живот. Напряжен. Симптомы раздражения брюшины. В месте, где стояли трубки, пальпировался огромный инфильтрат. Ольга смотрела на Курицу с раздражением, приговаривала «откудахталась», но подавала ей воду, мочила сухие губы и гладила по голове. По тому самому «круглому тупому предмету». Я понимала, что медлить нельзя, у Курицы развился перитонит и ей необходима экстренная хирургическая помощь. Вызвали доктора Рюриковича. Он не стал ее осматривать, поверил мне на слово и сделал все быстро и профессионально: заказал конвой и вывез Наташу в больницу, где были опытные хирурги.
— Спасибо, доктор, за экстренность. Это так сложно в этих стенах, — поблагодарила я доктора Рюриковича.
— Это вам спасибо за профессионализм, — ответил доктор.
***
— Какие у нас сегодня перепендюльки (то есть «как дела?»)? — спросила Веселая Ольга, проснувшись вечером перед открытием «дороги». Ей сегодня снилась, как всегда, жареная картошечка. И не только картошечка, но и свобода. Ольга развела руки, потянулась: вот такая огромная-преогромная, такая большая-пребольшая свобода.
Потом Ольга объяснила, какие перепендюльки на сегодняшнюю ночь. У Людки Раковой завтра юбилей, пятьдесят лет. А послезавтра еще один праздник — приговор. Потому всем задания: кто-то готовит плакаты, кто-то — подарки. Мне досталась несложная работа: написать имениннице поздравление в стихах. Я успела хорошо узнать Людмилу, так как она уже четыре месяца каталась по этапам. Мать четырех детей, муж умер рано. Работала как проклятая, денег вечно не хватало. Ушла на пенсию «по вредности» и получила акции предприятия: ну захотелось ей хоть раз в жизни большие деньги в руках подержать. Похвасталась брату умершего мужа (которому, кстати, из жалости комнату предложила, когда тот из тюрьмы пришел). Явился пьяный, деньги стал просить, избил ее сильно. Она его и ударила ножом. Нож длинный, вошел в брюшную полость, а вышел в грудную. Задеты печень, кишечник, диафрагма, аорта, легкое.
— Думала, убила насмерть.
— А он что? Живой остался?
— Выжил. Бог хранит детей, беременных и пьяных.
— Ничего себе, такие тяжелые травмы…
— Пьяный был. Такие не умирают.
— Мой муж-травматолог в таких случаях говорил: «Был бы трезвый, убился б насмерть».
— Выжил. Куда денется…
К утру стихи были готовы.
Ода тюремной сидельнице.
Сокамернице в юбилей.
Кто думал, что очутимся мы здесь? В судьбе крутые повороты есть. Арестовали ведь меня в мой день рожденья, Не ожидала я такого приключенья. Я думала, что одинока я в своей беде, Господь послал сокамерницу мне. На нарах мы томимся с ней: То плачем, то вздыхаем, то на секунду оживаем. Здесь раскисать нельзя, Здесь надо выживать, Держаться друг за друга, не дрожать. А коль поник, раскис, то сразу вниз. Слова Высоцкого приходят мне на память. Я песнь хочу пропеть ей в юбилей. Ей 50 исполнилось сегодня. Бывало много непогожих дней, Но чтобы быть такому — невозможно. Не приведи Господь, не пожелаешь и врагу На нарах отмечать свой юбилей. В народе говорят: «Не зарекайся. Ни от тюрьмы, ни от сумы не защитит сам Бог». А если от сумы к тюрьме? Где Божья справедливость? Судьбу не обойдешь и не объедешь, Судьба на ровном месте стережет. Ждет, что оступишься, сорвешься, А может, очень сильно ошибешься. Господь прощает все, если его просить. Но суд — суров, Неведомо ему Господне слово! И завтра прочитают приговор. Но в этот день он должен быть Не столь суров. День будет светлым. Мы ведь в это верим. Не надо омрачать свой юбилей. Пусть розы все цветут, Пусть птицы все поют, И радуют ее и дети пусть, и внуки. Пусть будет здоровье и счастье. Закончится это ненастье. Не быть этой гадкой погоде. И продолжится жизнь на свободе!Стихотворение оказалось пророческим, суд ограничился отсиженными четырьмя месяцами, признал превышение самообороны, а нанесенные травмы — легкими (!) телесными повреждениями. Ларчик просто открывался: дети у Людки хорошие, адвоката хорошего наняли. Адвокаты бывают хорошие и очень хорошие. Хорошие — это те, кто знают Уголовный кодекс, а очень хорошие — те, кто знакомы с судьей. Людкины дети наняли очень хорошего адвоката, цена вопроса — половина тех злополучных денег.
***
Тюремные двери — явление чрезвычайно удивительное. Двери, через которые ты входишь в тюрьму, широки и всегда открыты. Эти же двери, если на них посмотреть с обратной стороны, — узки и закрыты. Вот вновь замки загремели, дверь заскрипела и… И ничего. Все с удивлением ждали, кто же появится. Наконец-то! В дверной проем с трудом вписался пьяный опер Базалей. «Девчонки, сегодня праздник, а я еще ни в одном глазу!» Опер прошел в камеру и рухнул на лавку около стола. Камера оживилась, все любили, когда приходил этот веселый опер. Женщины обступили его со всех сторон и наперебой стали задавать разные вопросы. Прямого ответа он никогда не давал, но изображал намек, непременно подмигивая и улыбаясь.
— Ну что, девчонки, кофейком угостите? Я ведь к вам тоже не с пустыми руками. Угощайтесь. — И он кинул на стол несколько пачек дорогих сигарет.
Опер Базалей — красивый молодой мужчина в модной дубленке, шикарном свитере, всегда с запахом дорогого одеколона. Я никогда не видела его в форме. Как правило, он в свою игру переигрывал: не настолько бывал пьян, чтобы так шататься, потому что, поболтав немного и выпив с женщинами кофейку, он уходил вполне обычной походкой. Это был трюк, чтобы казаться проще и быть «ближе к народу».
— А какой сегодня праздник? Мы здесь все праздники забудем.
— Отгадайте.
Женщины стали перечислять праздники, начиная с государственных и заканчивая религиозными. Вспомнили даже про трехсотлетие граненого стакана. Но никакого праздника так и не обнаружили.
— Вот и не отгадали. Сегодня день рождения моей любимой тещи. А она мне еще не наливала.
— Вы же месяц назад праздновали этот праздник.
— Я же вам говорю, что день рождения любимой тещи! — Он сделал ударение на слове «любимой».
— Ясность полная. Теща у вас не одна.
— Совершенно верно. Вы мне нравитесь, девчонки.
— Вы нам тоже.
— Я очень сожалею, но завтра несколько честных арестанток должны будут покинуть наш централ.
Давно ходили слухи, что заключенных будут перебрасывать в новый корпус областного централа. Строят новые корпуса тюрем. Их закрывать надо, а их все строят. Интуитивно я почувствовала, что это коснется и меня.
Рано утром открылась «кормушка» и дежурный прокричал несколько фамилий, в том числе мою и Веселой Ольги.
— Оля, просыпайся, нас с тобой заказали, — стала я будить подругу.
Зима на дворе, а у Ольги — один пиджак, она ж летом заехала. Я дала ей несколько своих вещей. В автозаке холодильник, а путь неблизкий, три часа ехать.
В душе царила такая пустота, что было совершенно все равно, куда ехать и зачем. Хоть на казнь. Охранники с автоматами казались какими-то игрушечными.
Даже Веселая Ольга приуныла.
— Ты в Бога веришь?
— Верю. А в справедливость — нет.
— Меня, наверное, Бог покарал. Когда мужа забрали, я его осудила, сказала, что не перенесу такого позора и ждать не буду. Потом мать в город рванула, не захотела с внуками сидеть. Устроилась там на работу — и проворовалась. Ее посадили. Ее я тоже осудила. Потом сама в город поехала, детей забрала, мужика себе нашла, устроилась на работу, детей в садик отдала. Думала, жизнь налаживается. И вот сама в тюрьму попала. Так и оказалось все семейство в тюрьме, а дети в интернате. Освобожусь, буду мужа родного из тюрьмы ждать. Виноватая я перед ним, вот и наказание получила.
Дорога дальняя, на улице мороз. Хорошо, что у меня с собой было одеяло. Я пригрелась и даже задремала.
— Приехали! — заорал парень с автоматом, открывая дверь автозака.
Это была совершенно другая тюрьма, современная, огромная, с пластиковыми окнами.
— Больницу мне больше напоминает.
— Да, психиатрическую, — уточнила Ольга.
Слава богу, к ней опять вернулось чувство юмора.
К нам подошел молодой человек в форме.
— Отличным русским девчонкам отличная русская тюрьма, — попробовал схохмить он.
Дальше все пошло как обычно: проверка документов, вещей, крошечный бокс.
— Эти ребята вроде ничего, с юмором, — нерешительно заметила я.
— А чего им с тобой делить? Это менты показания из нас выбивают. А этим мы не нужны.
В боксе просидели недолго. Нас скоро вывели и быстро развели по камерам. Камеры светлые, просторные, на четыре человека. Кровати и столы выкрашены в белый цвет.
— Может, это нас в «Белый лебедь» привезли?
— Хоть в «Черный дельфин», мне все равно, восемь месяцев скитаюсь, — сказала Ольга.
Что нас ждало теперь?.. Новая тюрьма — это новые люди. Там мы уже всех знали, привыкли. А здесь? Если та тюрьма считалась «красной», то эта оказалась «черной». Здесь можно было пронести запрещенный сотовый телефон, алкоголь, карты. Можно было заказать в службе такси ужин из ресторана, и тебе его доставляли в камеру. Можно было заказать свидание, с кем тебе хочется, или попросить «продольного» вывести тебя из камеры и завести в соседнюю. Можно было все, при одном условии: за все нужно заплатить. У кого было чем платить, жили здесь очень неплохо.
Заехали мы в эту тюрьму зимой, и пробыла я здесь четыре месяца перед отправкой на зону. Меня уже ничего не удивляло, я замкнулась в себе. Жить стало гораздо проще и… неинтересней. Я ни с кем не сближалась, писала и ждала. Ждала прихода очередной весны моей жизни.
***
Именно эта весна оказалась самой тяжелой в моей жизни. Закончился суд. Помню только скамью в зале суда и дождик за окном — все «кап» да «кап». Мне дали три с половиной года лишения свободы. Пришло осознание всего, что случилось. Рухнули иллюзии, последние надежды.
Громадная современная тюрьма смотрела пластиковыми стеклопакетами на волю. За окном жил огромный город, куда-то спешили люди, ездили машины. Уже ровно год я была лишена свободы. В окно смотреть не хотелось, да и нельзя было подходить к окнам близко: можно угодить в «трюм». Весной в организме происходит гормональный всплеск и как никогда мечтаешь о любви. Но именно этой весной я переживала самый острый приступ одиночества. Казалось, я одна во всем мире, отвергнутая и позабытая.
Я не хотела тяжким бременем ложиться на хрупкие плечи моих детей и почему-то сказала им в суде: «Забудьте меня». Они хотели обняться, когда меня уводили с приговора, но им этого не позволили, конвойный грубо оттолкнул мою дочь, когда она бросилась мне навстречу. Но мои дети молодцы: они не плакали. По крайней мере при мне не плакали.
— Мама, что ты говоришь? Осталось всего два с половиной года. Ты у нас сильная.
Я только попросила конвой идти быстрее. Хотелось спрятаться, зарыться в песок, впасть в летаргический сон и проснуться через два с половиной года.
Очень многое я повидала за этот год, но интуиция подсказывала, что это только начало трудного пути. Ноги ватные, сил никаких, а идти надо. Путь тяжел, а оступиться нельзя: упадешь — по тебе сразу пройдутся. Тело и дух находятся в тесной взаимосвязи. Представьте себе воздушный шарик. Тело — это оболочка шарика, а дух — это воздух внутри него. Мое состояние в то время больше всего напоминало спущенный шарик.
***
Этой весной я чаще стала вспоминать Леху, его ценные советы. Теперь он казался мне чуть ли не философом и уж точно отличным психологом. Он рассказывал, что тюрьма — это магическое сооружение, которое создано для укрепления человеческого духа.
Как-то Леха спросил меня:
— Как ты думаешь, какова цель создания человека на этой планете?
— Воспроизведение себе подобных, — вспомнила я фразу из какого-то учебника.
— Вот именно, себе подобных. Дураки плодят дураков. Негодяи — негодяев, звери — зверей.
Я поняла, что Леха не удовлетворен моим ответом.
— Теоретически человек должен со временем становиться лучше, ведь растет благосостояние, повышается уровень жизни, развиваются науки. А на деле что? Человек год от года становится хуже. Чем глубже человеческий дух погружается в материю, тем хуже он становится. Человек был счастливым только тогда, когда жил в астральном теле. Физическое тело было дано человеку в наказание. Оно хотело есть, одеваться, иметь жилье. Астральное тело жило в раю, ему ничего не надо было, но дух человеческий продолжал погружаться в материю, астральные и эфирные тела уплотнялись, а человеческое тело грубело, так как зависело от холода, голода, жары, воды. Человек стал питаться мясом и сам чуть не превратился в животное. Затем природа попыталась исправить сотворенные ошибки и создала людей-ангелов, атлантов. Но и они исчезли с лица Земли из-за грехов.
— Леха, так ты веришь, что будет Апокалипсис?
— Нет. Люди сами должны спасти свою Землю.
— И кто эти люди?
— Зеки, — уверенно ответил Леха.
Такой ответ удивил меня.
— Вообще-то я читала, что преступники против человечества будут низведены до уровня животного мира.
— Так ведь это преступники против человечества. Не все зеки — преступники против человечества. Некоторые попадают сюда именно в подготовительных целях, чтобы спасти человечество. Именно в тюрьме дух приостанавливает свое погружение в материю и становится сильным.
Я не могла спорить с Лехой. Он всегда находил такие аргументы, против которых я была бессильна.
— А что ты скажешь о Страшном Суде, будет ли он?
— Обязательно будет, и знаешь, кого будут судить на этом суде?
— Кого?
— На Страшном Суде будут судить судей. Все идет к этому. Как ведут себя судьи? Для них не существует законов. Сегодня судьи живут вне закона, а зеки — в законе. Мы отвечаем перед законом, а они — нет. Это несправедливо, перед законом все должны быть равны. Судьи первые должны соблюдать законы, а потом требовать этого с нас.
— Нет, ты объясни, почему именно зеки должны спасти мир?
— Про закон Куба слышала? Это пересечение трех планов: плана разума, плана духа и плана воли. Куб — это тюремная камера. Здесь зеки — как космонавты внутри тренажера. Тренируют дух, разум и волю… Точно так же пульсары — четырехмерная геометрия времени. Четыре функции измерения: время, жизнь, чувства, разум. Опять, понимаешь, число четыре. Один в четырех стенах.
— Леха, так человечество не погибнет? Как ты думаешь?
— Не погибнет. Только мужики скоро все исчезнут, кроме меня, конечно. Останутся одни женщины. Они даже размножаться между собой начнут, только рождаться будут одни девочки.
Леха, как всегда, в своем репертуаре, один он мужик на всей Земле. Я озвучила эту фразу, на что получила немедленный ответ:
— А где ты мужиков видела?
Я задумалась. Особенно настоящих.
— Я один. Ты врач, о хромосомах что слышала?
Я судорожно начала вспоминать все, что знала о хромосомах. Вспомнила об X и Y-хромосомах, о сочетании XXY. Возможно, это как раз Лехин набор.
— Все правильно. А тебя разве в институте не учили, что Y-хромосома исчезает?
— Учили.
— Ну а что тогда глупые вопросы задаешь? Наукой доказано, что мужики исчезают. На себе, что ли, не почувствовала?
— Почувствовала, — задумчиво ответила я. — И все равно не поняла, как будут зеки человечество спасать. Пройдут подготовку в тюрьме, ладно. А потом?
— Ты еще ничего не понимаешь. Это можно доверить только зекам. Никто не справится. Этого не объяснить научно. Выносливость, выживаемость, умение черпать энергию там, где ее, казалось, нет. Из бетона стены, из доски… Умение видеть мир по-другому. Общаться с космосом. Почему зеки сидят «закрытые», но все знают? Ты не задумывалась над этим вопросом?
— Не приходилось.
— Дай бог, чтобы и не пришлось. Слышала про пилотные тюрьмы[4]?
— Да, вроде.
— Вот, только зекам можно доверить космос.
— Ужас. Леха, что ты говоришь?
— Какая разница, где зекам срок тянуть, на Земле или в космосе? Космос будет изучен полностью, за него я спокоен. А то только и падают корабли с неба. Непорядок.
— И то верно. Леха, ты, как всегда, прав.
— И в 2012-м я должен быть не в тюрьме.
— Это интересно. С твоим плотным тюремным графиком это может оказаться невозможным.
— Миссия у меня есть. Золото майя со дна озера поднять в Гватемале.
— Тебе то в Гвинею срочно нужно, то в Гватемалу. Путешественник ты мой.
— Представляешь, там восемь тонн золота! Но не золото меня интересует, как некоторых, а законы, написанные на 2156 табличках, которые зеки должны поднять со дна. А то туда потянулись с металлоискателями правнуки Остапа, которые никак не могут определиться: то в бандиты из ментов, то из ментов в бандиты. А как достанем законы, — восстановится справедливость. Все будут равны перед этими законами: и судьи, и прокуроры, и следователи. Никому не уйти от ответственности.
Духовное совершенствование и покаяние — вот два критерия, которые человеческий дух приобретает в тюрьме. Эти качества очень важны для спасения мира. Не переживай, что ты здесь. У тебя есть время, чтобы приобрести то, что нужно человеку для спасения.
Я, конечно, не верила ни одному его слову. Но кукурузное зерно маис Леха посеял в моей душе. Одно мне было ясно: не все зеки — преступники против человечества, и не все преступники против человечества — зеки.
***
Пребывание в тюрьме стало особенно невыносимым, когда наступила весна и в тюремную форточку нет-нет да и залетал свежий весенний ветерок.
Веселая Ольга взгромоздилась на подоконник.
— Да, погодка на улице замечательная, весна, а мы здесь паримся.
— Рассказывай, что видишь?
Ольга еще сильнее подтянулась, пробуя выглянуть в окно через решетку.
— Глупый вопрос. Что вижу? Волю — вижу. Тетку — вижу.
— Какую?
— Глупую.
— Как ты определила, что глупую?
— Умные за трамваями не бегают, а эта ничего, шевелит колготками. Ну вот, не догнала. Я же сразу сказала, что глупая. Я ни за кем не бегаю, даже за мужиками. Отбегалась на ближайшие несколько лет. Семь лет до приказа.
— Семь лет до приказа? — Это новенькая продолжала разговор с Ольгой. — Я только три месяца на свободе побыла. Третий срок тянуть буду. «Семёру» дали.
— «Семёра» — это мало, полезай на верхнюю шконку. А если бы «пятнашку» — сразу на нижнюю положили бы. Жалеешь, что не «пятнашка»? Один раз — это случайность, а третий раз это что? Рецидив! — весело заключила Ольга.
Женщина продолжала лежать на шконке, Ольга по-прежнему висела на решетке.
— Дамы, вы собираетесь сегодня вставать? — обратилась она ко всем.
— Нам нее-екуда больше спешить, нам нее-екого больше любить…
— Ты давай рассказывай, что на воле видишь?
— Комментатора нашли? За работу платить будете. С вас две пачки фильтровых. Договорились?
Ольга опять подтянулась на руках, чтобы хоть что-то разглядеть. Долго стояла молча. Потом сказала:
— Ну вот, подвалил.
— Кто? Мужик?
— Нет. Трамвай.
— А тетка?
— А тетки нет. Наверное, на такси уехала. Вот, не проследила из-за вас, куда тетка скрылась.
— Нужна она тебе?
— Нет, не нужна, пусть едет себе с богом.
— Ну, и мы тоже скоро поедем. Я привыкла круто разъезжать, на спецтранспорте. «Воронок» прямо на перрон заезжает. Никому нельзя, а ему можно. Прямо к «Столыпину». А «Столыпин» — это кто, знаете? Поезд, который заключенных возит, — объяснила Ольге новенькая.
— На «Афанасии Никитине» из Москвы в Питер ездила, а про «Столыпина» даже не слышала.
— Какие твои годы, все узнаешь. Я тоже не знала, жизнь заставила. Заезжает воронок на перрон, а там проводники, красивые такие, в камуфляже, с собаками. А ты на коленочках, баульчик в зубах, ручки наручниками за спиной застегнуты. И мелкими шажками до «Столыпина» ползешь. Только глазеночки подымешь, — а тебе по спиночке дубиночкой.
— А права человека? Мы ведь все-таки женщины.
— А прав тот, у кого больше прав. Женщиной ты была в прошлой жизни. А теперь вы заключенные. Так что, милые дамочки, баульчики сильно не набивайте, а то в зубах тяжело нести будет. Сапожки на шпильках, шубки норковые — всё выкладывайте здесь, на зону так и так не пропустят. Там вам все «хозовское» выдадут. Шубку из зоновской чернобурки или шаховского тушкана. «Фуфайкой» называется.
Новенькая, похоже, знала все зоновские порядки. Она это все говорила, косясь на женщину, которая заехала в тюрьму в богатой норковой шубе, красивых сапогах и с огромной сумкой, набитой красивыми вещами.
— Отродясь таких шмоток не носила, тебя касается. Продай.
Ольга заступилась за женщину в шубе:
— А тебе зачем? Куда ты в этих вещах пойдешь?
— В прогулочный дворик, вдруг парни повстречаются, а я там мимо них пройдусь. Говорю тебе, за те восемь лет, что тебе «впендюрили», шубу твою на зоне крысы съедят, моль посечет, плесень в ней заведется. Все равно в фуфайке будешь ходить, сразу с толпой сольешься, будешь как все. Я ведь дорого плачу. Сигарет целых три пачки предлагаю.
Опять в разговор встряла Ольга:
— Мало. Шуба новая, три тысячи баксов стоит, а ты три пачки фильтрованных предлагаешь.
— Глупые вы. Жалко мне вас. Скучно с вами. Я лично на шубах, как вы, не помешана. Детдом, потом зона, потом опять зона. Вышла на три месяца, цены в магазинах посмотрела и опять села. Страшно жить на воле. Здесь спокойней. Это для вас зона наказание, а для меня — образ жизни. — И новенькая снова обратилась к тетке в шубе: — Давай расставим по порядку человеческие ценности: здоровье, жизнь, воля, деньги, шуба. Что вам важнее? Думаю, что не шуба. Ну что, продаешь шубу? В последний раз спрашиваю.
Последний аргумент оказал нужное действие. Женщина, видимо, и в самом деле поняла, что шуба ей в данной ситуации не нужна и не пригодится в ближайшие восемь лет.
— Продано, — с грустью кивнула головой она.
И шуба перекочевала в баул к новенькой.
— «Пикует» дежурный, Ольга, слезай с решетки.
— Скучно с вами. — Ольга достала из-под подушки самоучитель итальянского, который давно кочевал по тюрьме. Срок ей дали небольшой, и она рассчитывала выучить итальянский язык, как говорили, несложный.
***
В связи с продажей шубы за три пачки сигарет я опять вспомнила Леху, его скромный баул. Где он, интересно, взял такие трусы, с рулем? На воле купил? А деньги на покупку где взял? Сам рассказывал, что выпросил у мужиков из соседней камеры, когда те выясняли, как положено, в чем он нуждается. В чем, в чем… В мужских трусах. Мужики и отдали ему свои. Скорее всего, так оно и было.
Вообще, мы обсуждали с ним много тем. Ему можно было задать любой вопрос и получить ответ. Пусть нестандартный, странный, но Леха всегда заставлял задуматься, не пользовался чужими словами и мыслями. Даже если это и были чужие слова, в его исполнении они приобретали новое звучание.
— Лех, а как ты относишься к гороскопам? Веришь?
— Верю. Даже могу составить тебе гороскоп.
— Опять заливаешь.
— Ты мне не веришь? — И Леха обиженно замолчал. — Вот ты кто по гороскопу?
— Телец, — ответила я.
— Если у тебя нет дома множества цветков в горшках и всяких вышитых подушек, ты можешь меня дальше не слушать.
Леха попал в цель. Подушки и горшки. Как он узнал?
— А кто из знаков мне подходит, кроме таких же рогатых и упрямых, как и я?
— Рыбы.
— У меня муж — Рыбы.
— Да, уютный был у него аквариум, — «подколол» меня Леха. — Но Рыбы, если им предоставить другой аквариум, с удовольствием переплывут туда. Значит, он нашел себе новый аквариум, Рыб твой. Плохо ему, скучает по своим рыбятам.
— Леха, ты, как всегда, прав. А ты кто?
— Я признаю только гороскопы майя, я человек маиса и готовлюсь к 2012 году, возможно, мне достанется долгожданный посох. Если я, конечно, в это время в тюрьме сидеть не буду. Надо постараться. Я земной, нежный, заботливый, но люблю баламутить все молодые годы жизни. Сексуальная неопределенность — это мой груз, но я скинул с себя этот груз и определился. Я мужик. Сила моей левой руки — гроза — это моя эмоциональность. Сила правой руки — олень — мужество. Я рожден в бедности, но это меня не тяготит. Несмотря на взлеты и падения, весь мой путь озарен искрой духовности. Я готовлю себя в шаманы священного календаря. Еще один срок на тренажере. Народ на воле мышцу качает, а мы души на колючую проволоку натягиваем.
Больше балласту — краше осанка. Мускул гимнаста и арестанта, Что на канате собственных жил Из каземата соколом взмыл…— На воле что, тренажеров нет?
— Таких нет. Не всем повезло школу эту пройти. Кто не сидел, тот не жил, — закончил свой рассказ Леха.
***
За этапом этап. Ты попал в жернова этой страшной машины под названием «система». И нет никакой возможности отсюда вырваться. Ты не в силах что-либо изменить и отдаешься на волю судьбы. Так легче. На зону — значит, на зону.
Этап на зону лежал через транзитную тюрьму. Это была уже третья тюрьма в моей жизни, до которой надо было еще доехать. Баулы освободили от лишнего барахла, чтобы ехать налегке, и мучительные часы ожидания этапа показались вечностью. Наконец раздался голос «продольного»: «На выход с вещами». К своим сокамерницам быстро привыкаешь, и возникает страх перед неизвестностью.
Автозак быстро домчал до вокзала и действительно заехал на перрон. Здесь ожидание было недолгим. Вспомнился рассказ о бауле в зубах и застегнутых сзади наручниках.
Раздался веселый голос молодого конвойного:
— Девчонки, быстренько выгружаемся.
Все дружно вывалились не перрон. Был по-весеннему солнечный день. После года тюрьмы сильно слепило глаза. Один молодой человек с автоматом и в камуфляже стоял с собакой на перроне. Двое других, тоже веселые парни, помогали загружать баулы в поезд.
— Девчонки, быстренько загружаемся.
Все продолжалось всего несколько минут, никаких наручников, дубинок и баулов в зубах. Возникло даже какое-то секундное ощущение свободы, и мелькнула мысль, что это просто поездка на юг, на отдых, к морю.
— Скажите, а поезд случайно идет не на юг?
— На юге курорты, а на севере зоны. Мы едем на зону.
— Жаль…
— Ничего, на зоне отдохнете, — сказал парень в камуфляже.
Вагон купейный, вместо дверей решетка, маленькие окна с одной стороны вагона. Веселые проводники изучили пассажиров, задавая два вопроса: «надолго?» и «за что?», не мучая себя и заключенных формальностями.
В соседних купе были слышны мужские голоса. Вдруг вагон стал медленно раскачиваться из стороны в сторону, постепенно качка усиливалась.
— Что происходит?
— Не переживайте, ростовские ребята балуются, раскачивают вагон.
— Зачем?
— Бастуют, чего-то хотят.
В какой-то момент стало казаться, что поезд оторвется от земли и взлетит, как самолет.
— Мы не улетим?
— Можем и улететь, пока они не получат своего.
— А чего они хотят?
— Водки, девчонок.
Качка постепенно прекратилась. Стало понятно, что требования ростовских выполнили.
Ехали три часа, потом опять перезагрузка из «Столыпина» в автозак. Все быстро и оперативно. Нас сразу отправили в баню, потом заперли в боксе. Расселяли по камерам темной ночью. Душная, грязная, вонючая транзитная тюрьма. Стены камер покрыты плесенью, вентиляции никакой, камеры огромные. Утешало только то, что мы должны были провести здесь всего три дня. Меня опять охватила паника. Почему я должна находиться рядом с этими грязными, страшными людьми, что у меня с ними общего? В Швейцарии над тюрьмами висят белые флаги в знак того, что в них нет ни одного заключенного. В России над тюрьмами пора вешать черные флаги в знак того, что в них нет свободных мест. Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, должен же в них кто-нибудь сидеть.
Оказывается, во многих странах тюрьмы приносят убытки, а в России — прибыль. Наша система правосудия продолжает жить по инерции гулаговских времен. ГУЛАГ в России был, есть и будет. Криминальный мир — отражение нашего несовершенного общества. В мире давно признали, что лишение свободы является одним из важных элементов наказания, но не единственным и не самым эффективным. Существует несколько научных теорий воздействия тюрьмы на человека:
1. Теория Гофмана «Умерщвление самости». Гофман отмечает, что внутри тюрьмы происходит фундаментальная переоценка себя и других. Человек вынужден принимать новые правила и отказываться от того, что можно было бы назвать его «самостью». И задачей института является смягчение, амортизация последствий этой переоценки. Но на входе в тюрьму индивид уже имеет определенный набор стереотипов, и важно выяснить, как этот набор будет взаимодействовать со сформированным в тюрьме. На выходе же индивид возвращается в утраченную для него систему взаимодействия, и ему нужно вновь самоидентифицироваться.
Пришло время хорошенько подумать. Если человек пришел в тюрьму с помойки, его очень легко вернуть на ту же самую помойку. А если пришел такой человек, как я? Верните меня, пожалуйста, туда, откуда взяли, и такой, какой взяли. Только непонятно, как это практически можно осуществить. Гофман не смог этого объяснить. И получается, что они меня собираются вернуть на помойку.
2. Теория Гидденса «Реконструкция самоидентичности». Эта теория пыталась найти общий стержень у всех учреждений, ограничивающих свободу личности. Этим стержнем оказалось умножение социальных рисков. Места лишения свободы полностью бессильны перед психологическими и социальными рисками: корпоративность и негибкость системы не только превращают тюрьму в источник опасности для общества, но и подвергают риску тех, кто находится внутри тюрьмы, — и служащих, и заключенных. А значит, тюрьма не может претендовать на полноценную адаптацию, исправление или терапию личности.
Вот как должна исправить тюрьма меня? Прокурор блеял на суде, что меня нельзя оставлять в обществе, что я социально опасна. Я попросила объяснить, что во мне конкретно не нравится прокурору. Он не смог этого сделать. Каким методом меня будут «воспитывать»? Будут ли думать, мучиться над способом, как вернуть меня из тюрьмы туда, откуда я пришла? Да никогда! Начальник нашей милиции Стрекалов заявил после приговора: «Упрямая, вины не признала, ведешь себя плохо. Мы сгноим тебя на зоне». Судьба моя была предопределена этими словами. Ведь я на суде предупредила, что продолжу борьбу за свое честное имя, и секретарь суда, порядочная женщина, зафиксировала в протоколах массу компрометирующих материалов на судью и следователя, ее потом судья уволил. И теперь фактически в моих руках оказался компромат на них. Что ж еще делать? Сгноить, конечно!
***
Автозак, громыхая на всех ухабах, быстро ехал по петляющей трассе. Два охранника с автоматами о чем-то болтали между собой. Женщины сидели молча. Я обратила внимание на женщину с толстой косой и родинкой на щеке, сидящую напротив меня. Она пыталась задавать охранникам какие-то вопросы, но они не обращали на нее никакого внимания.
— Мой генерал, разрешите обратиться, — говорила женщина.
— Я не генерал, а всего лишь лейтенант.
— А для меня ты генерал.
— Чего, в туалет захотела, что ли?
— Я вам, может, о высоком, а вы — как всегда.
— Это о чем же?
— О любви.
— Я сегодня вечером занят.
— Да и я несвободна.
— Вот видишь.
— Давай встретимся 15 декабря 2010 года. Я назначаю тебе свидание. Попразднуем.
— День рождения твой?
— Нет, день освобождения.
— Так я за три года забуду, что мне назначили в этот день свидание.
— А я напомню. Дай свой телефончик, я тебе позвоню.
— Вот привязалась!..
— Понравился ты мне. Вот веришь в любовь с первого взгляда?
— Да я тебя еще и рассмотреть не успел.
В автозаке было темно: железный фургон с одним маленьким окошечком над решеткой, которая отделяет заключенных от конвоя. Женщина подошла к решетке поближе, откинула косу назад и улыбнулась.
— Запоминай. Толстая коса и родинка на правой щеке. Как увидишь, знай — это я.
— «Особые приметы» это называется, — заметил охранник.
— Правильно, если бы не эти особые приметы, не попалась бы я, а значит, и не встретила бы тебя, мой генерал. Ну что, договорились?
Тут не выдержал второй охранник:
— Сейчас ты мне договоришься! Молчать, разговаривать не положено.
Женщина отошла от решетки, уселась рядом со мной, ей явно не хватало слушателей. Осмотрела всех. Похоже, мои уши понравились ей больше других.
— Не хочет быть генералом! А я б из него генерала сделала. Ну и пусть в лейтенантах всю жизнь томится. А ты в судьбу веришь?
Во рту у меня пересохло, разговаривать не хотелось. Всю дорогу я думала о доме и детях. Сегодня у моей дочери выпускной в гимназии. Сегодня она будет королевой бала. Но когда вместо привычного: «Ты что, со мной базарить не хочешь?!» — услышала: «Ты что, со мной разговаривать не хочешь?» — подумала, что женщина, конечно, болтливая, но не хамка по крайней мере.
— Меня Татьяной зовут.
Я молча кивнула в знак того, что услышала.
— Ты глухонемая, что ли?
Я покачала головой.
Автозак свернул с трассы и поехал по грунтовке. Машину затрясло так, что сидеть стало совсем невозможно. Татьяна опять заговорила. Разговаривала она уже, похоже, сама с собой, так как никто не желал ее слушать.
— Яичники нам все отобьет. Как рожать-то бабам после такого? Я ведь еще женщиной собираюсь быть.
В окно автозака были видны верхушки сосен, повеяло свежим ветерком, ветерком свободы. Вот она, совсем близко, за решеткой автозака.
— Мы как на отдых едем. Кругом красота-то какая…
«Как она умудряется что-то разглядеть? Бывала, что ли, в здешних местах?» — подумала я. Татьяна разговаривала, как радио, не умолкая всю дорогу. Автозак притормозил, развернулся. Послышался скрежет металла, открывались тяжелые ворота. Автозак въехал за ворота и остановился.
— Прибыли! — заорал охранник, открывая дверь.
Мы начали выгружаться, спрыгивая с высоких подножек. Машина стояла во дворе, выложенном красивой плиткой. Вокруг чисто, клумбы с цветами, сосны, туи, цветущая алыча, скульптуры, газоны тщательно подстрижены. После года пребывания в тюрьме первое впечатление о зоне — это рай, но это только первое впечатление.
Глаза отвыкли от света. Слепило яркое майское солнце, вокруг птички, бабочки, пчелы. Как давно я всего этого не видела… Небо было очень голубым, а деревья — очень зелеными. Я вспомнила, как поблекли для меня все краски мира после развода с мужем. Все стало серым. И сейчас я мысленно поблагодарила небо, оказывается, оно действительно огромное, а не разорванное на полосатые и клетчатые заплатки размером с тюремное окошко.
Нас построили на плацу для переклички. Солнце сразу стало трудиться над нашими бледными, потухшими лицами. Загар прилипал мгновенно, лица у всех порозовели. Как будто солнечный зайчик попытался заглянуть внутрь человека через глаза. Что там внутри? Все черно, выгорело, высушилось, погасло или есть еще надежда? Солнечный зайчик не терял надежды, перебегая из одних потухших глаз в другие.
Началась перекличка. «Называйте фамилию, имя-отчество, год рождения, статью, начало и конец срока».
Ожидая своей очереди, я погрузилась было в воспоминания, но быстро вернулась в реальность: рядом со мной кто-то тяжело вздыхал. Почти прямо передо мной стоял охранник с собакой. Собака внимательно смотрела на меня, скорее даже рассматривала, и… вздыхала. Морщилась, щурилась, поднимала брови, опять вздыхала. Я никогда не видела мимики на собачьих мордах. Эта старая собака явно долго здесь служила и повидала на своем веку многое. Казалось бы, в этих стенах, от этой собачьей работы можно окончательно стать «собакой», злой и кусачей. Но эта собака смогла сохранить свое «лицо». На меня смотрели добрые, умные глаза. О чем она думает? Возможно, обо мне?.. Приблизительно так: «А эту, с человеческим лицом, как сюда занесло?» Собаке было жаль меня, и я мысленно попробовала объяснить ей, что здесь все люди. Собака, кажется, заулыбалась…
***
Я стояла на плацу, и мысли жалили, кусали меня, о хорошем не думалось. Что-то я опять упала духом. Здесь мне на помощь, как всегда, пришел Леха. Я вспомнила его «доктор, падая духом, можно очень сильно ушибиться». Я стояла на плацу в строю, и это было похоже на утреннюю линейку в пионерском лагере. Дежавю какое-то, лагерь, да не тот. Концентрационный. Каким-то внутренним зрением я видела, как кожу с меня здесь снимут, сделают из нее портфель или ботинки и подарят прокурору и судье, преподнесут в качестве сувенира. Дело, мол, сделали, вот доказательство. Носиться будут долго, кожа оказалась прочной. Ах, вы еще и мозги ее хотите? Будет исполнено. Мы люди исполнительные. Подадим на блюде. Вам под нашим соусом, горчицы или хрена? Да, мозги у нее тоже качественные, как и кожа. Мозги так мозги.
Я раньше тоже думала: вот он преступник — убийца и гомосексуалист Леха. Оказался отличный парень. А судьи кто? Вечный риторический вопрос. От смеха судьи я тогда чуть не сошла с ума. Какое он имеет право смеяться? Свидетели на процессе приводят доказательства моей невиновности, а он хохочет. Говорит мне в лицо, что никто меня теперь не отпустит, раз я целый год нахожусь под стражей. Прокурор приказывает Ивкову избить меня, а начальник милиции клянется погонами, что сгноит меня на зоне. Так кто бандит? Леха? А эти кто? Честные и порядочные люди? Бандиты, наделенные властью, хуже, чем просто бандиты.
***
На плацу всё выкрикивали фамилии, наконец я услышала свою. Вот задумалась, могла ведь не услышать.
— Называйте свою фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, срок, начало, конец!
«Понятно! Гав! Гав!»
Я смотрела на собаку, которая сидела практически у моих ног. Собака кивнула, мол, смелее, не бойся, а потом опять принялась морщить брови и вздыхать. Я в это время быстро перечисляла все, что меня просили назвать. Уф, отчиталась. Напряжение внутри спало, я расслабилась, и на ресницах задрожала слеза. Сейчас по щеке побежит ручеек. Нет, только не это! Собака смотрела мне прямо в глаза. Она быстро шлепнула языком, и я будто почувствовала на своей щеке шершавый, влажный, теплый собачий язык. Прикоснулась к щеке ладонью, — слезы не было. Осталось ощущение нежного, доброго поцелуя.
Перекличка продолжалась. «Дубачка» (охранница) с ярко накрашенными губами продолжала выкрикивать те же слова, но никаких дополнительных вопросов к женщинам не было. Про меня только сказали:
— Это та самая, которая врач.
— Да, я врач, — подтвердила я.
После построения всех отвели в карантин, помыли в бане, выдали одежду: цветастое ситцевое платье огромного размера и белую косынку. «Матрешка», — сказала Татьяна, разглядывая себя в зеркале.
Пришла начальница карантина, тоже осужденная:
— Собираемся в ПВЭРе.
Помещение временной энергетической разгрузки. Или загрузки. Или перегрузки. Для меня это точно была уже перегрузка. Сняли последние личные вещи, отобрали все, что было дорого, даже то, что разрешали в тюрьме. В этих огромных платьях не по размеру и белых косынках все стали на одно лицо. Так можно окончательно потеряться, забыть, что ты личность.
Я вспомнила свою бабушку, которая говорила мне, что у меня удивительные предки — дворяне, академики, священники, учителя — и чтобы я никогда не забывала об этом. Именно сейчас я вспомнила ее слова. Еще она говорила, что я взяла от обоих родителей самое хорошее: от мамы — трудолюбие, а от папы — яркую внешность и прекрасное воспитание. От деда и двух прадедов-священников перешла ко мне вера. Я чувствовала, что они молились не только за себя, но и за меня. Верила и надеялась.
***
— Солнце ладошкой не закроешь, — сказала мне Татьяна. Она поняла, что меня окончательно расплющило, придавило, допекло. — Баба ты не простая, сразу видно… Тебя хоть в фуфайку одень, все равно стать видна.
И начался бесконечный разговор на тему «красота — страшная сила» и «красоту ничем не испортишь». «Хвалу и клевету приемли равнодушно». Я была воспитана на этой фразе, но Татьяна мне чем-то понравилась, мы разговорились.
Тут на пороге показался начальник учреждения, полковник. Все отчитались перед ним по той же схеме, что и на плацу, никто из женщин интереса у него не вызвал. Когда очередь дошла до меня, полковник строго заметил:
— А у вас будут большие проблемы, так как по поводу вас есть интересная оперативная информация.
— Какая? — оторопела я.
— Вы выдаете себя за другого человека. Вы действительно врач?
— Да.
— Ну, это мы еще проверим. Вы легко меняете внешность, документы, фамилии, можете подделывать подписи, печати, документы.
— Это не я подделываю, а под меня подделали.
— Выходит, вы жертва? Что же вы здесь делаете? Кстати, вы ругались матом в автозаке?
— Нет, — сказала я, и это была правда.
— Это я ругалась и болтала, — вступилась за меня Татьяна.
Начальник объявил, что собрание закончено. Все стали расходиться.
— А вы, доктор, останьтесь, да и вы тоже, — указал полковник на Татьяну. — Ишь, заступница нашлась.
Он вызвал конвой, и нас увели в штрафной изолятор, ШИЗО. Глотнув свежего воздуха, увидев солнце, — опять очутиться в камере. Хорошо, что мы с Татьяной были вдвоем. Теперь я поняла, что мне понравилось в Татьяне: она сразу повела себя как настоящий друг.
Кругом было удивительно чисто, как в операционной. Форточки открыты, свежо. Две лавки, стол, две кровати, пристегнутые к стене. Туалет чистый, отгорожен невысокой, облицованной плиткой стеной. Вошла «дубачка», высокая красивая женщина.
— Распорядок дня. Подъем в 6:00, кровати откидываются и пристегиваются к стенам. Отбой в 22:00, кровати отстегиваются от стен. Днем можно только сидеть на лавке и стоять.
«Дубачка» говорила громко, почти кричала. Гав! Гав! Это уже профессиональное.
— У, собака! — сказала Татьяна, когда «дубачка» захлопнула за собой дверь. Она, наверное, тоже услышала лай в голосе. — А дышать можно? Забыли спросить…
— Мы уже сегодня с тобой договорились, попали в камеру, — остановила я Татьяну.
— Доктор, не переживай, я с тобой. Это еще не конец нашей биографии.
Я прижалась к стене. Опять очень хотелось плакать. Медленно скользнула по стене вниз, села на корточки. Зеки часто сидят на корточках. Человек таким образом принимает эмбриональную позу и отчасти успокаивается. Это мои личные наблюдения. Я сидела на корточках и молчала. Как врач я понимала, что уходить в себя вредно для здоровья. «Ушла в себя, вернусь не скоро — это диагноз», — подумала я и постаралась вернуться в реальность.
— Татьяна, я благодарна тебе, что ты есть на этой грешной, но такой прекрасной Земле.
— Телеса обетованные. Мадам с арбузными грудями. А губищи-то, на трассе, наверное, стояла! — Это Татьяна все еще передразнивала «дубачку».
— Мы когда на плацу стояли, мне показалось, что это вообще сборная по гандболу или по метанию ядра. Где только таких красоток нашли?
— Такая не только коня на скаку остановит, но и танк через реку перенесет.
— Точно!
Мне стало немного спокойнее. Уже понятно, что мы с Татьяной найдем много общих тем. Любит она поболтать.
Тут Татьяна вспомнила фразу, сказанную на пороге этого «воспитательного заведения»:
— «Это та самая врач?» Мне кажется, эта фраза неслучайна. Ждали тебя здесь. Никто не вызвал у них интереса, кроме тебя. Я так, за компанию рассуждаю. Возможно, «сопроводиловка» пришла на тебя. Доктор, это еще не конец твоей биографии.
За дверью раздался голос:
— Обедать будете?
— А як же, — ответила Татьяна и пошла к «кормушке» принимать обед.
На обед подали щи из щавеля со сметаной, яйцом и даже мясом.
— Макароны по-флотски или гречку с мясом?
— А что, есть выбор?
— Да, — сказала раздававшая. Она также была из зечек.
— Тогда гречку, — решила Татьяна.
После тюрьмы это был шикарный обед.
— Неплохо здесь кормят. Значит, на работе три шкуры сдерут.
Только мы с аппетитом поели, как «кормушка» открылась и та же охранница проорала мою фамилию.
Меня привели в какой-то кабинет. За столом сидел солидный лысеющий мужчина, тоже полковник.
— Начальник санчасти Князев Андрей Константинович.
Я тоже представилась, как положено по уставу: осужденная такая-то.
— Вы врач. Но вы лишены права заниматься медицинской деятельностью. Я пришел взять с вас расписку, что вы не будете здесь заниматься самодеятельностью или давать комментарии к нашим назначениям. Даже оказывать первую помощь или заниматься санпросветработой. Висит человек в петле, и пусть себе висит. Понятно?
Он долго рассказывал, о чем я должна забыть, — обо всем том, чему учили меня мои учителя. Неоказание помощи — это преступление. А здесь преступление — это оказание помощи. Бред какой-то.
Князев подал мне бумагу. Я написала расписку и поставила свою подпись. Дальше просто сидела молча.
— Вы известны под кличкой Доктор. А клички по уставу запрещены. Вы и за кличку ответите. Тяжелая здесь у вас будет жизнь, сразу предупреждаю. Боишься?
— Черту страха я давно переступила. Отбоялась. — Этой фразой мне хотелось бросить вызов полковнику медицины. Чему ты меня учишь, коллега? Я думала обнаружить сочувствие, понимание. Хоть бы для приличия поговорил по-человечески…
Я вошла в камеру еще более подавленная. Татьяне захотелось развеселить меня хоть чем-нибудь, и она стала рассказывать о себе.
— Ты врачом двадцать лет проработала, а я — карманницей. Ты утром идешь на работу, и я иду. И так двадцать лет.
— И что, не попалась ни разу?
— Попадалась, да менты любят, когда с ними договариваешься. «Отсечку» от дневной выручки отдам, они меня и не замечают. А тут один урод за столько лет попался. Взяток он, видите ли, не берет. «Ты мент или не мент? — говорю я ему. — Бери деньги». А он не взял. Побоялся. А может, и правда больной какой-то попался. Первый раз видела, чтоб мент денег не взял. И вот я здесь! Ладно, за двадцать лет безупречной работы можно и посидеть, отдохнуть.
Татьяна сделала профессиональный жест «ножницы», изобразила, как вытаскивает из карманов кошельки, объяснила, что такое «фартыпер». Это, оказывается, предмет, которым вор-карманник прикрывает руку при краже. У Татьяны в качестве «фартыпера» использовались книги.
— Стою такая в автобусе, вся такая интеллигентная, книгу читаю. Никто и не подумает. Нет, я согласна налоги государству платить. Я не виновата, что люди с открытыми ртами и открытыми карманами ходят, соблазняют. Дети мои со мной в автобусе уже ездить не хотят: только захожу в автобус, они меня хватают за руки и держат, знают, что воровать начну. Дети у меня хорошие. Зовут меня Танька Золотая Ручка. Сын прислал на тюрьму письмо-летопись. Хочешь, посмеемся?
Татьяна вытащила надежно спрятанную бумажку.
— Слушай. «Привет, мама! Пишет тебе твой сын Альберт. Извини за этот клок бумаги. Я пишу тебе, пишу, а конверта все нет и нет. Я в этот понедельник пойду писать заявление в училище. Бабушку слушаюсь. Стараюсь быть таким, как ты пишешь. Тальянку не обижаю и люблю. Деда слушаюсь. В школе все хорошо. Не лезу куда не надо. Надо быть поумней, ты со мной согласна, ведь так, мамуль? У меня есть продвижения в футболе. Тренер хвалит. Был турнир. Заняли первое место, за шесть игр забили сто одиннадцать голов. Большинство этих голов посвящал тебе, родненькая моя! Ты, наверное, обиделась на меня, что так долго не писал. Просто не было времени на летопись. Ты, конечно, если сможешь, прости. Смотрим сериал «Сонька Золотая Ручка», и я подумал, что ты «Танька Золотая Ручка-2», но ты лучше ее воруешь. Знаешь, почему, мамуль? Потому что она не умеет уходить красиво с большими деньгами. У нас их будет еще больше, если ты захочешь, мамуль! (Нарисована пачка долларов.) Целовать готов тебя целый срок! Да храни тебя Господь, мамуль! Твой сын Альберт».
— Интересная «летопись»?
— Очень.
— Я думала, цензор операм меня сдаст вместе с письмом, раскрутят еще на срок. Пронесло.
В «кормушке» опять послышалось: «Гав! Гав!» Выкрикивали мою фамилию, я вышла в коридор, меня отвели в тот же кабинет. Теперь меня вызвал начальник учреждения. Разговор он начал так:
— Дело заказное. Жизнь у тебя здесь будет тяжелой. Поступила «сопроводиловка».
Если я буду молчать, и этот подумает, что боюсь. Нужно быть решительней, отстаивать себя, иначе забьют здесь.
— Я знаю, что дело заказное. Я знаю, что со мной хотят расправиться, но я не подзаборная и не беспородная. У меня есть дети, родители. За мной есть жизнь, есть кому спросить. Вы хотите ответить за мою жизнь? Отвечать будете именно вы, а не те, кто меня заказал. Я найду способ озвучить вашу фамилию своим родителям. Вы хотите отвечать за всех?
Полковник слушал меня внимательно. Наверное, ему здесь никто никогда не перечил.
— Я прошла три тюрьмы, и никто не отважился посадить меня в карцер. Как вы думаете, почему? Никто не хочет отвечать за меня, а вы хотите ответить. И за меня, и за тех, кто меня заказал. Глупо. Как может «исправить» меня ваше исправительное заведение? Только испортить. Я хочу попросить вас, помогите мне выйти отсюда такой, какой я пришла к вам. Это будет правильно.
Добавит сейчас еще пятнадцать суток, или тридцать… Нет, молча слушает почему-то. Потом говорит:
— Обжаловать приговор будете?
— Обязательно.
— Я прошу вас об одном: не нужно обжаловать. Дело громкое. Отменят приговор, по головке никого не погладят. Даю слово: пока я здесь, вас никто не тронет. Я хочу уберечь вас от ошибок. Это ведь зона. Засадят перо в бочину, «мяу» не успеете сказать.
Как он быстро перевел тему, ишь, «уберечь» меня…
— Это чтобы уберечь меня от ошибок, вы запрятали меня в ШИЗО?
— Вас сейчас выведут на зону. Будут проблемы, обращайтесь.
— Спасибо.
Я вернулась в камеру к Татьяне светящаяся от счастья:
— Сейчас нас с тобой выведут на зону.
— Договорилась. Умница. Надо уметь с ними договариваться.
(Я спокойно жила целых полгода, пока этот человек был у власти. Но его скоро забрали, говорят, на повышение.)
Пока мы с Татьяной собирали вещи, из моего баула в ее перекочевало много вещей. Я и не заметила как.
И вот нас ведут на зону, а она мне по пути:
— Это не твой шампунчик?
— Мой.
— Это не твоя расческа?
— Моя.
— Это не твое мыльце?
— Мое.
— Чего развеселились? Сейчас обратно отведу. — Гав! — Гав! — Это вмешалась в наш разговор «дубачка».
— Доктор, простая ты, бесхитростная. Учись жить. Тюрьма не место исправления, а школа новых преступлений.
— Это не для меня.
— А то я бы тебя воровать научила.
— Не надо.
— Тогда не унывай. Это еще не конец твоей биографии.
***
Я преодолела еще один уровень страха. Это зона. Колючую проволоку можно просто видеть из тюремного окна — это одно, а еще можно ощущать, насколько она колючая, — это совсем другое. Видеть гвозди — и спать на них. Я никогда не задумывалась над такими простыми вещами. До сегодняшнего дня я видела гвозди и не подозревала, что мне придется на них спать. В жизни не бывает так плохо, чтобы не стало еще хуже. Курс молодого бойца пройден, еще немножко — и дембель.
Есть такие моменты в жизни людей. Например, когда нужно послужить родине. А кто сказал, что в армии лучше? Юнцы безусые, безбашенные, из-под маминого крыла — и в пекло. Я человек взрослый, меня сложно сломать. Только нужно найти идею, смысл, выяснить, зачем я здесь. Я выполняю какую-то важную миссию. Нужно придумать себе мотивацию. Краеугольным камнем теории выживания я все-таки считаю надежду. Именно здесь я поняла, что такое надежда. Это свет в конце туннеля. Если он есть — значит, ты выживешь, если нет — погибнешь.
Я переступила порог помещения, в котором мне предстояло жить и трудиться, выживать. Меня встретила дневальная, завхоз. Она возилась в туалете, драила кафельную плитку. Резиновые перчатки, красное, потное от напряжения лицо. Оторвавшись на секунду от работы, кивнула на верхнюю шконку:
— Это твое место.
«Отлично», — подумала я. Огромное помещение. Огромное количество двухъярусных кроватей, заправленных белыми простынями. Восемьдесят мест на сорока квадратных метрах. Полквадрата на человека. Бывали в тюрьме времена и похуже, когда спали по очереди. Здесь хоть свое спальное место есть. «Это твое место». Все сказанное здесь имеет двойной смысл. Врач высшей категории, место которого у постели больного, на страже жизни человеческой. Но нет, мое место на нарах. Душа кричала, возмущалась, но мозг сохранял хладнокровие. Я поблагодарила сегодняшний день за то, что он настал, поблагодарила полметра жизненного пространства, которые мне определили. Трижды поблагодарила за то, что это полметра жизненного пространства, а не безжизненного. Поблагодарила солнце, ярким светом осветившее мою верхнюю полку из большого окна, на котором к тому же не было решеток и в которое была видна близкая и такая далекая воля.
Спальня оказалась пустой, весь отряд был на работе. Я разложила вещи. А что, собственно, у меня было? Зубная щетка, паста, мыло. Всё. Это из материального. Леха был прав: в тюрьме дух перестает погружаться в материю. И это хорошо. Слишком много материального в нашей жизни.
Я немного успокоилась, пришла в себя. Меня поразила пугающая тишина. Почему-то на цыпочках, как будто боясь нарушить чей-то покой, я пошла по спальне. Было в ней что-то магическое, я не сразу поняла, в чем дело. На спинках кроватей висели таблички: фотография осужденного, год рождения, статья, начало и конец срока. То же, что докладывали на плацу, но тогда это не произвело на меня впечатления. Я разговаривала с собакой и не прислушивалась к сказанному. А сейчас я шла по рядам, рассматривая таблички. Начало и конец срока располагались, как на кладбище, через тире. «Родился — умер». Теперь до меня дошло, что меня так шокировало. Годы освобождения. 2018-й, 2025-й, 2032 год. Разве такое бывает? — спросите вы. Да, бывает. Начало срока — 2000 год, конец — 2032-й. Ходоков, которые отсидели по сорок лет, я повидала немало, но эти годы шли не сплошняком, а с переходами в 4–6 сроков. А чтобы 32 года одним сроком…
Я запомнила кровать и с нетерпением стала ждать, когда отряд вернется с работы и я смогу увидеть эту женщину. Конечно же, я ее увидела. Обычная, как все. Вот что такое надежда! Эта женщина знает, что наступит 2032 год и она окажется на воле. Она надеется на это. Теперь я как врач могу описать, что происходит, когда надежды нет. Сразу вспомнились лагеря «Белый лебедь» и «Черный дельфин» для осужденных пожизненно. Символы живого существа, обреченного на смерть. Одинокий лебедь с распростертыми крыльями. А ведь лебеди парные птицы, поодиночке жить не могут. Или черный дельфин (на самом деле он выкрашен в серый цвет) в фонтане, в котором ни капли воды. Жил: родился, тире, умер. Значит, тире обозначает жизнь. Прочерк. А жил ли вообще? Мораторий на смертную казнь — это хуже смертной казни. Человек, осужденный на пожизненное заключение, адаптируется в течение года. А через год у него на фоне хронического стресса отказывают надпочечники, потом почки, потом печень. Уже через год от него буквально пахнет смертью. Это специфический, тяжелый запах, от которого сходят с ума даже тюремные собаки. Для этих людей уже не наступит ни 2018-й, ни 2025-й… Вот что такое отсутствие надежды.
***
«Раз существуют тюрьмы и сумасшедшие дома, то должен же кто-нибудь сидеть в них», — это сказал мой гениальный коллега Антон Павлович Чехов. Я поняла, что вызвала интерес у публики. Меня хотели задеть: кто — локтем, кто — словом. Я извинялась. «Дура, что ли?» — косились на меня зечки. Биографии этих женщин в большинстве своем были написаны на их лицах. «Асфальтная болезнь», «бордюрный синдром», «удар лицом об угол дома» — такие диагнозы поставил бы мой бывший муж-травматолог. Когда отряд дома, в узком проходе между кроватями оживленно, как на скоростной трассе. Но никто никому на ногу не наступит. Потому что никто этого не простит (никто, кроме вновь прибывших).
Они цепляли меня до тех пор, пока я не стала с ними общаться. Переступила еще один психологический барьер. Я не такая, как они, я другая, я лучше. А чем, собственно говоря, я лучше? Такая же зечка, как они. Неважно, какими путями человек пришел сюда. Я здесь, значит, я такая же, как они. Осознание этой тяжелой истины дало мне возможность понять, что чем дальше я буду отдаляться от них, тем больше они будут меня задевать.
«Завтра на работу пойдем, там узнаешь, кто ты». Это говорили мне, человеку с двадцатилетним стажем, женщины, у которых ни одного трудового дня за душой. Быстро настало это «завтра». И как только стало можно лечь в постель в 22:00, я моментально вырубилась.
Голос из репродуктора:
— Внимание, зона! В учреждении объявляется подъем!
Это Панков. Я подскочила на кровати, не понимая, где нахожусь. Нескольких секунд хватило, чтобы сориентироваться. Мне снилась криокапсула, меня поместили в нее и объявили, что разморозка назначена на 2 ноября 2009 года. Я радовалась увиденному сну, но голос из репродуктора через некоторое время объявил построение на работу. Я никогда не боялась работы. Быстро построились и строем пошли до швейной фабрики. «Бугор» (бригадир), достаточно молодая женщина из зечек, досиживала 18-летний срок. Шить научилась и требовала того же от своих подчиненных. «В рот меня мама целовала», — часто вставляла она в разговор примечательное выражение. Это была самая понятная фраза из ее пламенной речи. Еще я поняла, что понагнали интеллигенцию, а работать некому. Маньяки, убийцы, винтовые, наркоманы, сатанисты — вот и все труженики. Сатанисты, посмотри, как работают. А интеллигенты — тунеядцы, что с вами делать. Это я еще «перевожу» ее монологи на великий и могучий.
Никому не удавалось вставить слово в ее монолог, это было опасно для жизни.
— Шей, умняшка!
«Бугор» свалила около моей швейной машинки гору раскроенной ткани. Хоть бы для приличия показала, как челнок вставляется или как нитка заправляется… Я пыталась приглядеться, как делают это другие, но работа на конвейере доведена до автоматизма, трудно уследить за движениями рук. «Роботы, а нелюди», — подумала я. Зомби. Наркоманов можно сразу определить по синюшно-багровым кистям рук. Работают как заведенные: наркотик, особенно «винт», не скоро покинет их организм. К тому же, только я пыталась поднять глаза, как «бугор» начинала орать. Я быстро привыкла к ее блатному наречию. Гений словесности!
— Подачу давай! — орали зечки, требуя у исполнителя предыдущей операции работу для себя. «Или они работают теперь так потому, что в жизни никогда не работали?..» — размышляла я. Видела я, как дрались женщины за подачу. В руках у каждой ножницы. Это здесь и сейчас они швеи, а там и тогда — убийцы; вот и сжимают в руках ножницы, перед тем как идти подачу просить. Видела я и кровопролитие. Страшное зрелище, когда режутся не на жизнь, а на смерть.
«Научусь шить, не уступлю вам», — думала я, по рабоче-крестьянскому обычаю плотно обвязывая белый платок вокруг шеи. Когда в очередной раз ко мне подошла одна из них, плотно сжимая в руках ножницы, со словами: «Умняшка, подачу давай», — я встала из-за швейной машинки, так же крепко держа их в руках.
— Я сейчас тебе такую подачу дам, мало не покажется. — И я сделала навстречу женщине несколько шагов. Выглядела я, наверное, как хищница. — Дам я тебе подачу, жди!
Вся бригада перестала шить, все насторожились. Подраться на ножницах, — в этом не было ничего нового. Но я в этой роли выглядела неординарно, от меня такого не ожидали.
В подобных ситуациях обычно находится авторитет, который разруливает ситуацию. Через ленту с другой стороны быстро перепрыгнула зечка, которая из своих тридцати четырех лет просидела уже восемнадцать.
— Доктор, успокойся. Тебе это не к лицу.
А бригада зашептала: «Уважуха, уважуха».
Мое нервное истощение достигло апогея. Каторжный ненормированный труд по 12–18 часов в день, тяжелый сон, после которого с трудом вспоминаешь, где ты и кто ты. Узаконенное рабство. Я забыла все, что знала в этой жизни, помнила только фамилию, имя и отчество. Многие не выдерживали такого нечеловеческого ритма работы. Испокон века шел этот обычай: замастыриться. Или на работе порежут, или сам порежешься, чтобы на работу не идти. Вскрывались, вешались, чтобы отдохнуть — на время, если получится, или навеки. Одна наркоманка вскрыла себе шею, прошлась около сонной артерии. Повезло. А на том свете работают? В раю, наверное, нет. А в аду, скорее всего, работают, как на этой каторге. Я не мастырилась и не позволяла делать это другим. Научилась шить, назло всем. Я сказала себе, что это нужно, необходимо. На данном этапе жизни — это самое главное, чтобы выжить.
Я писала детям и родителям письма, как с фронта о боевых действиях. Писала им о преодолении страхов, комплексов, трудностей. Представляла им себя героем, который скоро победит на этой войне и вернется домой с почетом. Когда я получила на зоне первую зарплату швеи, то вдруг обнаружила, что она больше, чем моя зарплата в поликлинике. Я похвасталась этим в письме детям. «А разве такое бывает?» — удивились в следующем письме они. Бывает, все бывает, любимые мои. Не удивляйтесь. Я теперь ничему не удивляюсь.
***
— Мы все с приветом, поэтому и живем в этом мире, — утверждал Леха.
Я пыталась докопаться до правды, понять суть происходящего.
— Доктор, Минздрав предупреждает: комплекс неполноценности неизлечим. Смотри на жизнь проще. Учись. Вот похож я на придурка? — Леха закатил глаза.
— Нет.
— А вот так?
— Да нет вроде…
— А так? — На лице остались одни белки.
— А вот так похож.
Леха внезапно посерьезнел:
— Учись, глупая.
— А зачем мне учиться? Я ведь все равно глупая, — парировала я.
— Наконец-то дошло, что глупая. С приветом нужно быть, чтобы выжить. Происходят необъяснимые явления. Законы написаны и пылятся, сверхчеловеки, которым законы не писаны, такое творят, а ты понять что-то хочешь, добраться до истины. С ума сойти хочешь? Нет истины, нет правды. Делай вид, что ты этого не понимаешь, не-до-по-ни-май. И живи спокойно, но с приветом. Только так можно выжить.
И я задала вопрос, как всегда, невпопад:
— Леха, а сколько ты классов закончил?
— Я ведь тебе уже говорил, что пять, а ты что подумала?
Я задавала этот вопрос ему уже несколько раз.
— А я думала, что шесть!
Я еще шире открыла рот и больше закатила глаза. Я не знала, что еще сказать Лехе. Мои мысли двинулись по другому маршруту. Подумать только, пять классов, а как мыслит. Я пыталась закрыть рот, открытый от удивления. Но язык не помещался и не давал челюстям сомкнуться. Чтобы не выглядеть совсем уже идиоткой, я сделала вид, что открыла рот, чтобы задать Лехе вопрос. Приятно иметь дело с умными людьми.
— Леха, а ты согласен, что Ева произошла из адамова ребра?
— Наивная какая-то ты, веришь всему, что тебе наболтают. Женщина появилась на восемьдесят миллионов лет раньше, чем мужчина.
— И что же она эти восемьдесят миллионов лет делала без мужика? — саркастически спросила я.
— Радовалась жизни.
— Логично. Без мужиков жизнь — просто прелесть. Ничего другого не остается, как радоваться жизни.
— Зря хохочешь. Опять умничаешь. Сделай лицо попроще. Мужики вот опять исчезают. Бабам придется еще восемьдесят миллионов лет одним жить.
— Жили же без мужиков как-то. Значит, опять проживем.
— Говорю же тебе, с приветом в этом мире можно выжить. У кого меньше мозгов, тот и выживает.
Интересная мысль о количестве и качестве женских мозгов. Я сразу вспомнила рассказ моего бывшего мужа об одной женщине, которой он делал трепанацию черепа, после того как ей нанесли несколько ударов топором по голове. Мой муж сказал мужу этой несчастной женщины: «Жить она, возможно, и будет, но мозгов у нее теперь не останется точно». На что муж той женщины ответил: «Спасибо, доктор, мозгов у нее отродясь не было».
— Бабы потому и живучее, что у них мозгов меньше. — Леха продолжал наносить точечные удары. — Мужчинами не рождаются, мужчинами становятся. Что ты можешь возразить против этого, доктор?
— Леха, ты, как всегда, прав.
***
Римский ученый Плиний Старший пишет в своих рабочих записках: «Страусы представляют, что, когда они засовывают голову и шею в землю, их тело кажется сокрытым». Вот бы и в самом деле так: раз — и нет проблем. Идеальный вариант… На пустых клетках остались надписи «Страусов не пугать, пол бетонный!» и «Местные куры начали нести яйца по 5 кг. Набьем морду страусу!» От страусов в этих клетках остались одни воспоминания. Даже перья тщательно убрали: у крутых зечек были теперь серьги из этих перьев. Вот и все, что осталось от страусов: серьги и пустые клетки. Куда же делись страусы? Я шла по тюремному парку и пыталась направить свои мысли по другому маршруту. Свободно ходить здесь можно было только в редкий выходной. Локальная система вся на замках, свободно никуда не пройдешь. Через этот парк лежал путь в библиотеку. Я решила воспользоваться этим и рассмотреть оазис. Огромное количество памятников Ленину. Когда у нас в стране менялись идеологии и памятники Ленину убирались с площадей и из кабинетов во всех городах, кто-то умный не отправил памятники на помойку, а привез их сюда, на зону. Пусть стоят. И это правильно. Этим памятникам только здесь и место. Ведь чем знаменит Ленин? Всю жизнь по тюрьмам и по ссылкам. В этом что-то есть. Воспитательное.
Я шла и рассматривала памятники. Круто. Русалочки с жалкими лицами, готовые в любую минуту утопиться. Актуально. А вот Петр I со свитком указов. Законы были жестокими, но смертную казнь можно было заменить на порку или ссылку в Тулу, в оружейники. Больше всех наказаний Петр ценил порку. Выпороли, заставили работать, — и проблема решена.
Во время прогулки по парку я опять погрузилась в привычное состояние душевного покоя. То самое, которое я называю Доктор Даун. Я отдыхала. Я была рада, что мне удавалось думать о чем-то другом, что я вообще еще могу мыслить. Я продолжала рассматривать эти странные статуи в парке. «Раз мне еще что-то интересно, значит, я еще живу», — думала я. В зияющих оконных провалах недостроенной церкви каркали вороны. Я перекрестилась, прочитала «Отче наш» и пошла дальше. Мой путь лежал в библиотеку. В тюрьме с книгами было трудно: на полке стояла единственная книга в черном переплете, «Самоубийство» Алданова. Желания читать ее у меня не было. Библиотека находилась на втором этаже двухэтажного здания. Вдруг откуда-то сверху, с крыши, донесся трескучий звук. Этот звук не редкость на зоне. «Работает рация, — подумала я. — “Дубачки” залезли на крышу с рацией». Я опять старалась пустить мысли по другому маршруту, нельзя же все время думать об одном и том же.
Я в изумлении еще шире открыла рот: по краю крыши прихрамывал огромный черный ворон с разорванным крылом. Это он говорил трескучим человеческим голосом: «Придурки, придурки». Я слышала, что такое бывает, но увидела впервые. Когда-то давно зечки подобрали раненую птицу, спасли ей жизнь и научили говорить. «А-мм-ни-ст-ия, а-мм-нис-тия», — продолжал вещать ворон, старый мудрый ворон.
Наконец я вошла в библиотеку. Здесь был большой выбор книг, глаза сразу разбежались. Библиотекарь, тоже из зечек, строго посмотрела на меня, похоже, оценила мой IQ, и немедленно спросила:
— А читать-то ты умеешь?
У меня еще больше открылся рот.
***
— Букварь я еще в первом классе скурил, но буквы сразу выучил. А вот с математикой — напряг. Дважды два четыре, а что мне еще нужно? Четыре стены.
Леха жадно глотнул воды из пластиковой бутылки, в камере было очень жарко. Потом снял свои штаны и остался в трусах с рулем и майке-алкоголичке.
— Давай развлечемся, в бутылочку сыграем.
Он полил из бутылки свои короткие волосы, зафыркал от удовольствия, плотно закрутил пробку и раскрутил бутылку на полу. Бутылка долго вращалась, потом остановилась, указывая именно на то место, где сидела я.
— Ага, попалась. Тебе меня целовать!
Я опять забилась в угол камеры.
— Я не мухлевал, так само получилось.
Я молчала.
— Давай тогда я тебя поцелую, — предложил Леха, похоже, надеясь, что от второго предложения мне станет легче, чем от первого. — Для быка нет священных коров. Соглашайся, когда еще придется так поразвлечься.
— Я не в этой жизни. У меня с ориентацией все нормально.
— С ориентацией-то у тебя все нормально, а вот с мужиками как?
Этим вопросом Леха поставил меня в тупик.
— Да никак у меня с мужиками. Не повезло.
— Вот. А я здесь, рядом. Я ласковый. Я нежный. Я внимательный. Я идеальный мужчина.
— Захвалил прям себя.
— Так что? Будешь в бутылочку играть или нет?
— Как-нибудь в другой раз.
— Ты же говорила, что следующего раза не будет. Сюда попадают один раз, это если случайно, как ты. Или не выходят отсюда никогда, как я.
— Ну да, следующего раза не будет, — пыталась спасти положение я.
— Тогда соглашайся сегодня. Что ты в жизни видела? Да ничего. А здесь такой мужчина повстречался на жизненном пути. Не всем так везет, как тебе. Соглашайся, глупая!
— Давай о чем-нибудь другом поговорим, — попыталась я увести Леху от излюбленной темы.
— Мы живем во времена проклятого богатства и великого блуда, а ты девственность продолжаешь изображать. Почему мамонты вымерли? Потому что вели себя не как все. Нужно быть такими, как все, тогда тебя замечать не будут. С толпой нужно слиться. Все гуляют, — и ты гуляй. Все воруют, — и ты воруй. А ты всё: «За что меня посадят? Я ведь не ворую!» За то и посадят.
Устами Лехи, как всегда, глаголила истина.
***
— Будьте любезны, у вас есть «Философия футуриста»?
— Нет.
— А «Метафизика» Канта?
— Нет.
— А «Сто лет одиночества»?
— Есть.
— Вот и отличненько.
Библиотекарь посмотрела на меня с подозрением.
— Спасибо, вы очень любезны, — сказала я ей тогда, крепко прижимая книгу к груди.
Мой обратный путь лежал через тот же парк. Говорящий ворон улетел. Памятники продолжали стоять так же молчаливо, клетки для страусов оставались по-прежнему пустыми, а меня все еще мучил вопрос «куда делись страусы?» Я слышала несколько версий. Страусов было всего два. Он и она. А это неправильно: страусу нужен гарем, много наложниц. Яиц они не откладывали, поскольку для этого нужно углубление в земле, а тут кругом пол бетонный. Да еще эти зечки противные. Шоколадом кормили, курить учили. Вот перья у страусов и стали выпадать. Наступило страусиное облысение. У нас им и так плохо, холодно, это же птицы из теплых стран.
Как они оказались на зоне? Раньше здесь был хороший хозяин, зеки его Отцом звали. Умер на службе. Так вот, делал он для зечек много добрых дел. Побывав в нескольких тюрьмах Европы, привез оттуда новшество: там содержатся в клетках птицы, потому что это должно успокаивать заключенных: мол, не одни вы в клетках, не одним вам плохо. Вот на европейский манер и установили в зоновском парке клетки со страусами. Но недолго пришлось им тут пожить. Шеи вытянулись, головы стали упираться в потолки клеток. Новых клеток никто им не соорудил. Зечки подписали на клетках: «Страусов не пугать, пол бетонный». А то случится еще у страусов сотрясение мозга.
Люди смотрели на страусов и думали: «Нам-то хорошо, это вот страусам плохо». И жить становилось легче. И тут нашелся один «дубак»-умняшка, местный гусевод: китель блестит от гусиного жира, ширинка замаслена, на ботинках гусиный помет лепешками, и попахивает от него навозцем. Решил тяжелую жизнь на зоне страусам поправить, проявить человеческие чувства. Страус — птица крупная, на травку ей надо, на свежий воздух, пасти ее надо. Какая разница: гусь или страус? — решил великий гусевод. Решил и начал действовать. Подогнал автозак к клеткам, погрузил птиц и повез на травку, к «запретке», пастись. Открыл дверь автозака, выгнал птиц на травку. Птицы вышли из машины, огляделись. Голова у страусов маленькая, а сообразили, что воля рядом. Первой побежала самка. Великий гусевод даже не сразу понял, что это побег, а самка быстро набирала скорость. Она уже была около «запретки». Первая полоса с колючей проволокой невысокая, и казалось, что самка сейчас через заграждение перепрыгнет. Подвели ослабевшие крылья и потерявшее подвижность тело. Птица прыгнула… и повисла на колючей проволоке. Из ее больших глаз полились слезы. Истекая кровью, она издавала такие страшные крики, что великий гусевод, видавший виды на зоне, заплакал.
Страус-самец заволновался, заметался. Он выгибал шею, нарезая около «запретки» круги, исполняя свой последний танец. Он кричал, кричал от боли и бессилия. Крылья безнадежно хлопали. Водитель автозака включил сирену, чтобы заглушить эти пронзительные крики, стон и плач несчастных птиц. Исполнив вокруг самки еще один безнадежный танец, самец бросился на колючую проволоку рядом со своей подругой.
Удивительнее всего в этой истории то, что страусы повели себя как лебеди. Такое поведение для страусов нехарактерно, несвойственно им. В нормальных условиях, когда у него гарем, самец может сам сломать шею самке. А здесь такая нежность, такие чувства. Сидя в тесной клетке, птицы полюбили друг друга, неволя побудила их к такому взаимопониманию, к преданности, которая несвойственна им. Они мирились со всеми лишениями, со всеми унижениями и, казалось, покорились своей тяжелой судьбе. Но нет. Почувствовав волю, они, как все живое, поспешили навстречу долгожданной свободе. Дорого же им обошлась эта свобода…
Великий гусевод плакал, глядя на птиц, и думал: «Что я скажу начальнику? Выгонят ведь с работы. Хотя… Когда люди вешались на моем дежурстве, не выгоняли, и теперь не выгонят. Что-нибудь придумаю».
Он вспорол брюхо птицам, вызвал по рации подмогу. А на планерке гордо рапортовал начальнику:
— Наглые, безмозглые птицы проглотили ключи от всех зоновских дверей, парализовав тем самым работу важного стратегического объекта. Я был вынужден вспороть брюхо и достать ключи.
— Что, две птицы договорились?
— Да, я думаю, что так.
— Все ключи?
— Абсолютно.
Гусевод выпрямился, как если бы ему собирались повесить орден на грудь, разгладил лацканы засаленного мундира и, стукнув грязными ботинками, отряхнул с подошв навоз. Пахнуло не очень приятно.
***
Секрет успеха заключается в том, чтобы общаться с теми, кто лучше, драться с теми, кто сильнее, любить того, кого нельзя, не умереть там, где умирают другие, смеяться над жизнью, когда она смеется над тобой. Мое знакомство с начальником медчасти зоны продолжалось. Князев Андрей Константинович. Фамилия говорила сама за себя. Я быстро прозвала его великим князем Андреем Константиновичем, а его жену Татьяну, которая работала здесь же, — великой княгиней. Была в нем какая-то харизма. Вначале я почувствовала в нем родную душу, коллегу, единомышленника и даже, глупая, рассчитывала на его поддержку. На самом деле это был злой гений, как потом выяснилось. Он часто приглашал меня побеседовать и часами не выпускал из своего кабинета. Расспрашивал, как я могла докатиться до такой жизни, напоминал о расписке, которую я подписала, отказавшись заниматься медицинской деятельностью, даже оказывать экстренную помощь.
Доктор — это моя кличка, погоняло. А сама я — пугало. По крайней мере так думала про меня его жена. Она постоянно заглядывала в его кабинет, когда мы беседовали.
— Что ты с ней разговариваешь? Кто она такая? Ты посмотри на нее, на кого она похожа! — сорила словами эта женщина, тоже врач.
Я молчала, опустив глаза. Иногда я искусывала свой язык до крови, чтобы не заговорить. Здесь я научилась молчать. Научили. Скорее всего, конечно, она просто ревновала меня к своему полковнику. Когда жена в очередной раз устроила небольшую сцену, он, разозлившись, выгнал ее из кабинета со словами: «Если я полковник медицины, то она генерал», — и он показал на меня. После этих слов я чуть не потеряла бдительность. Но, вспомнив слова Лехи о том, что верить здесь нельзя никому, быстро сориентировалась: приятные слова в этих стенах произносятся только для приобретения симпатии, сближения, выуживания информации, а потом могут быть использованы против тебя. Хвалу и клевету приемли равнодушно.
Санчасть, которую возглавлял полковник, была новенькой, хорошо оборудованной, в наличии имелись все лекарства. Фишка была в одном: все это было недоступно зекам. Это как современная кухня, оборудованная по последнему слову техники, в доме, где еще не живут: все есть, нет только электричества. Техника — вот она, а пользоваться ею нельзя. Так и санчасть. Все включено, эксклюзив. Он видел, что я понимаю, куда уходят лекарства. Мешки психотропных препаратов, где они? Полковник дрессировал меня, но врача во мне убили еще на суде, и слова полковника о неоказании первой помощи я уже воспринимала абсолютно равнодушно. Кто они, эти люди в черных халатах? Палачи. Врач против палачей. Они не сломают меня, я буду бороться за чистоту своего белого халата и своей души.
***
— Доктор, тяжело тебе придется, не такая ты, как все, инакомыслящая.
— То есть «политическая», другими словами.
Леха всегда попадал в цель. Наши мысли часто встречались.
— По себе знаю, как тяжело тем, кто не такой, как все. Я инаколюбящий, ты инакомыслящая. Видишь, как много у нас с тобой общего, а ты не хочешь со мной общаться… Вот как ты относишься к тому, что ты женщина?
— Положительно, — ответила я.
— Тебе хорошо. Тебя не рвут на куски сомнения. А здесь такая ломка была. Я сначала думал, может, я что-то не то курнул? Ну, когда все это началось. А теперь определился. Я — мужик, и точка!
Я объяснила Лехе, что это состояние в медицине называется гендерной дисфорией: человек не может принять свой гендерный статус и испытывает по этому вопросу острую неудовлетворенность.
— Ты не просто мужик. Ты хороший мужик, — опять, не подумав, ляпнула я.
— Ты согласна! Наконец я тебя уболтал!
— Нет, нет и еще раз нет. Давай не начинать сначала.
Леха обиделся, отвернулся лицом к стене и скоро задремал. Вчера он охранял мой покой, сегодня — я его. Спал Леха и в самом деле как настоящий мужик: храпел очень сильно. Я попыталась тоже прилечь, но храп не давал возможности заснуть. Мне стало скучно, я смогла выдержать только полчаса и решила, что Леха поспал уже достаточно. Что бы такое сделать, чтобы он проснулся? Пощекотать, почесать пятку? В камере стояло пустое алюминиевое ведро, «дубаки» принесли нам утром теплую воду для умывания и забыли забрать. Я тихо, на цыпочках, подошла к Лехе и пристроила ведро напротив его лица. Мощный звук попадал в ведро, усиливался и возвращался к Лехе. Он сам себя будил, я только наблюдала за этим процессом. Когда Лехины уши не могли больше выдержать его собственного храпа, он сделал попытку спастись, повернулся на другой бок. И ведро, конечно, опрокинулось на бетонный пол и загремело. Леха, не успев проснуться, подскочил на нарах.
— Что у вас там происходит? — раздался за дверью голос охранника.
***
Жизнь — это океан, прекрасный и безбрежный. Плыть нужно лишь вперед под парусом надежды и берегов счастливых достигать. А меня трепало по волнам, и мой корабль с трудом удерживался на плаву. Все штормило и куда-то несло, ничего не оставалось, как отдаться на волю волн. Только на пути в никуда нет препятствий.
Я находила тысячу оправданий и объяснений всему, что со мной происходило. Красавец «Титаник» — и тот затонул, а дырявая лодка, бывает, дотягивает до берега. Неважен способ, важна конечная цель — доплыть до желанного берега, вроде такого близкого, но такого коварно далекого. Прекрасный берег манил, он являлся ко мне в мечтах, счастливых мечтах о доме. Дочь порадовала: с золотой медалью закончила гимназию. На выпускном балу она была в черном. Лаконично, красиво, изысканно. Но это черный цвет. Я была против, она настояла на своем. В семье не до праздников: ни отца нет, ни матери, даже старики без сил и не могут прийти на бал. Ничего, будут еще праздники и в нашей семье.
***
— Скажи мне, ответь на вопрос. Когда у каждого большого дурака и маленького придурка будут крутая машина и квартира, куда народ дальше двинет? Как можно будет маленького придурка от большого дурака отличить? Это сейчас пока хорошо: крутая машина — маленький придурок, нет машины — большой дурак. Жалко мне этих людей. Копошатся, копошатся, — продолжал Леха с видом знатока. — Гонятся друг за другом, завидуют. Сначала в десны бьются, потом дружат до поцелуев, потом опять съесть друг друга готовы. Что нужно им, спрашивается? — Леха задрал свою майку. — Что под одеждой? Я тебя спрашиваю! — Леха смотрел на меня раздевающим взглядом.
Я и не представляла, что ответить на такой сложный вопрос; откуда мне знать, что у людей под одеждой, это Леха все знает.
— Где голая правда жизни?
— В тюрьме.
— Так раздевайся…
Опять самец во время брачных игр. Я забилась в дальний угол. Зачем я вообще с ним разговариваю? Это становится невозможным, его мысли, слова и поступки непредсказуемы. В нем говорят одни животные инстинкты, а я с ним вступаю в разговор. Зачем? Я опять засомневалась, что у нас сложились дружеские отношения. Леху постоянно переклинивало, его брутальность зашкаливала, он не упускал ни малейшей возможности показать мне, что он не простой мужчина, а мачо. В ответ меня охватывал не сексуальный порыв, а леденящий ужас.
— За удовольствие лучше платить, чем расплачиваться.
Тема понравилась мне больше, чем предыдущая. Я поняла, что Леха голоден и его просто нужно накормить.
— Леха, а давай чайку попьем.
Чувство голода и жажда в эволюционном ряду стоят выше сексуальных желаний. Я очень удачно вспомнила проверенный опытом метод и засуетилась. Достала продукты, стала накрывать на стол. Леха закурил. Он смачно затягивался, прищуривая свои и так довольно узкие от природы глаза. Молча следил за моими движениями. Ему нравилось, что я такая понятливая: все его намеки понимаю. Но мне удалось перевести стрелку на другую тему, и Лехе это понравилось еще больше.
— Ты начинаешь соображать. Тюрьма тебя этому научит.
— Спасибо, Леха, — сказала я ему.
То ли от дыма, то ли от тусклого света Леха продолжал щуриться. Взял простыню, натянул ее на верхнюю шконку, подставил швабру и соорудил то ли шатер, то ли бельведер, не поймешь. Уселся на нары, скрестив ноги, и еще долго сидел, молча меня разглядывая. Обжег палец, не заметив, как закончилась сигарета, и тут же прикурил от нее другую.
— Леха, бросай курить. Знаешь, как вырастили в Чернобыле табак? Курить его нельзя, а выбросить жалко. И решили написать на пачке: «Минздрав в последний раз предупреждает».
— Я уже столько читал о вреде курения, что решил бросить читать.
Леха приступил к чаепитию. Он жадно отхлебывал из тюремной кружки горячий чай, обжигая губы и руки. Но продолжал пить и призывал меня сделать так же.
— Так вкуснее, — говорил он мне.
— Я подожду, пока остынет. Мне спешить некуда.
— Это мне некуда спешить. А у тебя семья, дети. Не говори так. Тебя больные ждут. Что, у нас в стране врачей до хрена? Людей, которые за малые деньги делают большое дело. Ценить и беречь надо, а не по тюрьмам гноить! Не понимают. Говорю тебе, большие дураки и маленькие придурки в стране живут.
— Леха, тебя не понять. То ты говоришь, что придурком надо быть, чтобы выжить, то оказывается, что кругом одни придурки.
— А что я неправильно сказал? Люди стремятся выжить.
Странная у Лехи философия.
— Я не знаю, как можно здесь выжить.
Я погрузилась в размышления и воспоминания. Одни вопросы, ни одного ответа.
— Все ответы до боли просты. Раз случилось, значит, так надо.
Даже слабовидящий заметил бы слезы на моих глазах. Леха понял, что меня временами охватывает паника, и попытался утешить, чем мог.
— Тюрьма, возможно, сделает для тебя больше, чем вся твоя жизнь. Она тебя закалит. Место, где, казалось бы, человек должен думать только о хлебе и воде, а человек вдруг начинает задумываться о великом.
***
«У перстня в надписи была большая сила: “Пройдет и это” — надпись та гласила!»
Как хорошо, что время не стоит на месте. Оно идет. Это как раз тот случай, когда очень хочется, чтобы время шло быстрее, а оно, как назло, топчется на месте. Ты постепенно понимаешь, что это годы твоей жизни, которые должны быть прожиты, а не отмечены галкой в календаре. Что радовало в жизни? Радовала осень. Осень близка к завершению года. А годы и срок как-то перепутались в голове, спорили между собой, кто важнее. Срок все норовил победить в споре. Вечерами стояли холода. Когда возвращалась с ночной смены, уже ничего не видя вокруг от усталости, вдруг все же замечала, что ранняя звезда светит ярче, а ветер поет осеннюю песню. Я благодарила красивую золотую осень за то, что она не поскупилась на позолоту и оранжево-розовые закаты, которые словно говорили мне: «Одевайся теплее, завтра будет холодно».
Иногда не спеша летал первый снег. А куда ему спешить? Еще вся зима впереди. Она еще скажет свое холодное слово, и бураны снежной завесой еще закроют землю. Я ежилась, закутываясь в клетчатый хозовский платок. Я не замерзну, меня согреет мысль о теплой встрече. Мне тепло, мне совсем не холодно, я не замерзну. Во время построения на плацу, где зеки стояли иногда часами, жались друг к другу и говорили, что рядом со мной теплее, я продолжала генерировать тепловую энергию, чтобы согреться самой и согреть окружающих.
Как-то раз разозлилась синь поднебесная. Откуда-то вырвался сильный ветер. Он валил все на своем пути. Затем прорвало небесные трубы, и полилось как из ведра. Я стояла у окна и смотрела на безумие природы. Умный ворон каркал на подоконнике: «Придурки, придурки, пр-р-рячьтесь, пр-р-рячьтесь». Он хотел улететь, но ветер подхватывал его и швырял обратно. Крылья уже не могли справиться с сильными порывами ветра. Ливень намочил перья и сделал тело еще более неподвижным и тяжелым. Но ворон продолжал сопротивляться ветру, ливню, природе. Его все бросало и бросало, он бился крыльями об окно и стену и, прожив на Земле триста лет, готов был уже погибнуть в схватке с природой. Но это был умный ворон. У него все же хватило ума камнем упасть вниз и спрятаться от стихии под крыльцом.
В это время всех позвали на ужин. Не ходить на ужин не разрешалось, даже если ты был сыт. Считалось нарушением режима. Но стоять и считать головы, когда такой разгул стихии, никто тоже не будет. Бывали редкие моменты, в случае форс-мажора, когда разрешалось передвигаться, как здесь говорили, «по зеленой». То есть не строем.
Я сильно рисковала, но решила не идти. Девчонки быстро сбегали и вернулись, сильно промокнув. Рассказали, что, когда сидели в столовой, от порывов ветра упала с потолка люстра, и как раз на то место, где обычно сидела я.
***
На облаке болтали два ангела. Они говорили, что работа у них тяжелая, неблагодарная. Говорили, что люди глупые и не понимают: когда Господь что-то забирает, нужно не упустить того, что он дает взамен. Еще они говорили, что им сверху очень хорошо видно, кто чем на Земле занимается. А рядом, на другом облаке, сидел Бог и продолжал лепить из глины новых людей. Он бережно замачивал глину и не спеша лепил человеческие фигурки. Людей нужно сделать много, глину следует экономить, чтобы на всех хватило. Бог разговаривал с фигурками, вселяя в них душу, объяснял, какими они должны быть. А что происходило в это время на Земле? Что делали люди? Люди бросались друг в друга грязью. Грязь до кого-то долетала, до кого-то — нет. Но руки у людей все равно уже оказывались испачканы.
Бог был очень занят своим любимым делом и не видел, чем занимались люди. Он продолжал лепить новых человечков и объяснять прописные истины в надежде, что люди когда-нибудь поймут. Он бесконечно занимался этой тяжелой и неблагодарной работой, а люди продолжали бросать друг в друга комья грязи. «Жизнь — это тяжелая работа», — сказал мне кто-то, и я проснулась. Была еще темная осенняя ночь, все спали. Дежурные пришли на просчет, пересчитать спящие головы, и даже их шаги и треск рации не разбудил людей. Я опять заснула, и мне вновь приснилась та же черная стена. Я опять шла, падала, разбивая в кровь колени, снова поднималась и шла. «Жизнь — это очень тяжелая работа», — с этой мыслью я проснулась, когда голос из репродуктора заорал:
— Внимание, зона! В учреждении объявляется подъем!
***
Меня кто-то пытался разбудить грубыми толчками в бок. Так не хотелось открывать глаза… Только что объявили отбой, и сон быстро умчал меня в царство Морфея. Я протестующе бормотала сквозь сон: мне не нравилось, что кто-то хочет потревожить заслуженный мной отдых. Но будивший меня человек не успокаивался, он тряс мою вторую шконку, как трясут яблоню, обнаружив на верхушке единственный заветный плод, который держался прочно и не желал падать.
Я села на постели, еще не понимая, что происходит. Передо мной стояла дежурная.
— Собирайтесь.
— Куда?
— Узнаете.
— Прямо сейчас?
— Да.
Куда, зачем?.. Что за необходимость куда-то мчаться ночью?..
— Можете мне что-нибудь объяснить?
— Сейчас вам все объяснят.
Мне приказали надеть верхнюю одежду. Значит, поведут куда-то за пределы здания. Меня вывели во двор и проводили в сторону административного корпуса. На улице февраль. На душе холодно, да и нехорошее предчувствие еще сильнее морозит душу. Что происходит? «Меня ведут на расстрел», — мелькнула в голове шальная мысль. Именно так, наверное, водят на расстрел. Ночью, чтобы не было свидетелей, чтобы проснулись люди, а тебя нет. Первая мысль, которая в таких случаях возникает у зеков, — освободили, повезло человеку.
Меня ввели в кабинет. За столом сидел полковник Корнеев. Работать тут он начал недавно и уже успел заслужить у зечек славу тирана и матерщинника. Проверяя отряды, он обнаружил кошку, которая спала на кровати одной зечки. А заводить животных в местах лишения свободы категорически запрещено по уставу. Он не нашел ничего лучшего, как придушить несчастную кошку на глазах у всех, и сказал, что будет так поступать с каждой кошкой. Удивить зечек сложно: многие из них совершили преступления с особой жестокостью, но тут всем стало ясно, что с этим человеком шутки плохи. К нему быстро приросла кличка Полковник Фаллос.
Про меня, видимо, забыли; предыдущий начальник, дав мне клятвенное обещание не трогать меня, несмотря на прямое предписание, оказался человеком слова. И вот близилось УДО, условно-досрочное освобождение, а у меня, как ни странно, не было ни одного нарушения.
Полковник сидел в вальяжной позе, явно поджидая меня.
— Ну что, тварь конченая, кошка обосранная, допрыгалась?!
Я посмотрела вокруг себя. Проверила, нет ли кого рядом. Такую фразу я в свой адрес никак не ожидала услышать.
— На УДО собираешься? Спрашивается, собираешься или нет? Тебе, тварь, говорю. Прикинулась киской. Знаем мы тебя, как ты людей наебывала. Гноить таких тварей, как ты, надо на зоне! Предписание есть, но ты смогла тухлой овечкой прикинуться. Не получится!!! Давай подписывай документы, иди посиди в ШИЗО, подумай.
Он швырнул в меня измятый как бы в порыве гнева листок. Я подняла его, стала читать. Все написанное было не обо мне и не про меня. Оказывается, например, что во время ужина я вынесла хлеб из столовой «ухищренным способом».
— Куда ты, сука, хлеб тот засунула? Тебя спрашиваю. Не нажралась? Хоть хлеба здесь нажрешься. Тварь.
Я внимательно, несколько раз прочитала все, что было написано в бумажке. Мое злостное нарушение наказывается начальником учреждения пятнадцатью сутками штрафного изолятора. А обвиняют меня в выносе хлеба из столовой, да-да, ухищренным способом.
От всего увиденного у меня пересохло во рту.
— Что молчишь, коза драная? Сказать нечего?
Я многое повидала за эти годы, но к такому оказалась все-таки не готова.
— Мне нечего сказать, — выдавила я из себя наконец. — Я со всем согласна. Давайте подпишу.
Полковник швырнул мне ручку. Ручка ударилась об стол и улетела в угол комнаты, развалившись на куски. Он швырнул в мою сторону еще одну ручку, которую я умудрилась поймать практически на лету.
— Там, где ты училась, я преподавал. Понятно тебе, кошка облезлая?
Я молча поставила подпись под протоколом.
— Уведите эту лахудру!
Меня отправили в штрафной изолятор. Туда, где мы когда-то сидели с Танькой Золотой Ручкой. Но тогда была весна, и неунывающая Танька была рядом. А сейчас 2 февраля и ледяная камера с открытой настежь форточкой, которую не разрешали закрывать. Меня раздели догола, дали огромную белую рубаху. Отстегнули от стены нары. Казалось, что, если бы на мне было хоть нижнее белье, мне б стало гораздо теплее. Ну хоть полотенце, которое можно было бы накинуть на плечи. Меня колотил страшный озноб, зуб на зуб не попадал.
В такой рубахе кладут под иконами умирать. «Неужели это конец и я никогда не увижу своих детей?» От этой мысли мне стало еще холоднее. Я попыталась взять себя в руки, но ничего не получалось, силы как-то очень быстро стали покидать меня. Челюсти сводило от холода или от того, что хотелось плакать, кричать, звать на помощь. Но не было сил. Я искусала себе губы, и во рту появился сладковатый привкус крови.
От холода меня потянуло в сон, я начала бесконечно зевать и поняла, что замерзаю. Тогда я стала ходить взад и вперед по камере, пытаясь согреться. Читала стихи, разговаривала сама с собой, жестикулировала. Я не помню, как прошла эта ночь. Я впала в забытье. Мне виделась все та же бесконечно длинная черная стена, и путь мой был тяжел, как никогда раньше. В моем теле дрожали, казалось, каждый мускул, каждая клеточка, каждый волосок. Организм впал в оцепенение, кровь от холода замедлила циркуляцию, озябшие руки не подчинялись командам головы.
За окном свистел ветер. Громко хлопала форточка, как будто сама природа помогала мне, стараясь ее захлопнуть. Я попросила ветер о помощи, и он старался для меня. Самое удивительное, что к утру форточка действительно закрылась. Я поблагодарила ветер за помощь. Хотя и лютовал неистово, но увидел мою нужду и сменил гнев на милость. Еще я поблагодарила морозное зимнее утро, которое нехотя наступало в моей жизни. Березу, которая стучала своими ветвями в мое окно и прогибалась в поклоне при каждом порыве ветра. Кому ты кланяешься, березка? Мне? Здороваешься? А вот и ранняя утренняя тучка подоспела, накрыла березку платочком.
Столько интересного вокруг! Почему я не замечала всего этого раньше? Леха учил меня черпать силы из стены, доски, куска хлеба. Я поговорила с березой, с тучкой, с форточкой, и мне стало теплее и уютнее. «Я люблю тебя, жизнь!» Сегодня я нашла в этих словах какой-то новый смысл, новое звучание. Березка замерзла, тучка накрыла ее платочком, мол, не замерзай. Мне было очень холодно, и ветер захлопнул форточку. Чудеса, да и только!
Этим сказочным зимним утром я с новой силой ощутила желание жить! Жить! Жить! Вопреки всему и всем. Кто тот вчерашний ночной лицедей, злой гений, демон? Разве может он меня обидеть? Я мысленно перечисляла всех, кому прощаю, и мне становилось теплее.
***
«Кормушка» с грохотом открылась. Я вздрогнула от неожиданности. Пока кто-то долго наблюдал за мной в глазок, я сидела тихо, как мышка. Мне вспомнились слова моего учителя Лехи, который сказал, что в тюрьме год можно на параше простоять на одной ноге. Я, как фламинго, пыталась удержаться на одной ноге. Пошатывалась сначала, потом ничего, научилась. Мне было даже забавно и весело: что-то вроде утренней гимнастики.
Я понимала, что УДО мне теперь не видать, и разрешила мыслям идти своим чередом, не гнала их. Остался один год и семь месяцев. Смогу ли я простоять этот срок на одной ноге? Я еще раз попробовала. Нога дрожала, но потом я сконцентрировала волю, заставила себя стоять смирно. Нога мне подчинилась, но потом начала дрожать с новой силой. В тюрьме надо иметь железные нервы. Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы на волю не просилось. Аргументов не было, сил тоже.
Я смотрела на открывающуюся «кормушку». Рубашка на мне огромная, волосы были распущены, даже заколки и резинки забрали. Пока нечего было делать, я заплела себе множество косичек. Они еще держались, и на голове царил условный порядок, какая-никакая, а все же прическа. Организм мой немного адаптировался к холоду. В голове копошились фразы, стихи прилетали в мою голову и тут же улетали. Даже ручку мне не дали с листком бумаги.
Из «кормушки» торчала рука, на ладони лежали двенадцать таблеток. Человек за дверью молчал. Рука была мужская. Огромная ладонь и двенадцать таблеток, пять красных и розовых и семь белых разного диаметра. Я молча смотрела на руку. Мужчина пожаловал в гости, а я не готова. В огромной рубахе, без макияжа, без прически. За дверью продолжали молчать.
Что бы это значило?.. Что-то из курса психиатрии мелькнуло в моих мыслях, я сразу вспомнила, что «дурак красненькому рад» и все психотропные препараты красного цвета, чтобы психи их употребляли с удовольствием. Я терапевт и не смогла привести в пример таблеток красного или розового цвета. Белые, желтые, коричневые… Это явно психотропные препараты. Зачем они мне? Я себя давно диагностировала: голосов не слышу, команд мне никто не дает, веду себя не агрессивно, а тихо, как мышка. Стоп. Тихие тоже бывают. Какие у них симптомы? Нет, забыла. Я продолжала анализировать свой психический статус, не находя в нем ничего патологического. Опять стоп. Леха говорил, что мы все с приветом, поэтому и живы в этом мире. Так как я до сих пор жива в таких условиях, значит, я с приветом. На этом диагнозе я и остановила свою мысленную дифференциальную диагностику. Потом еще раз пересчитала таблетки на ладони. Dosis letalis min… или max. «Смертельная доза», — подумала я. Что нужно этим людям от меня? Им нужно, чтобы я умерла?
Человек за дверью продолжал молчать. Мистически, загадочно. Что должна была сделать я? Захотелось начать разговор первой. Но человек за дверью наконец не выдержал:
— Я долго буду здесь стоять?
— Чем обязана? — выдавила из себя я.
Я узнала голос начальника медчасти великого князя Андрея Константиновича; как ни странно, сегодня он был без супруги.
— Вы должны принять эти таблетки.
— От какой болезни? У меня ничего не болит.
— Боль — это не основной симптом. Есть болезни, при которых ничего не болит.
— Меня никто не осматривал. Лечение может назначить врач, и только после осмотра. Я своих больных всегда осматриваю.
Я пыталась вспомнить все, что не успела забыть из медицины. Назначать лечение без осмотра — это преступление.
— Очень грамотный врач, поэтому ты здесь, а я не такой грамотный, поэтому не здесь.
— Пока не здесь.
— А это уже сопротивление администрации и неподчинение сотрудникам. Это перевод на строгие условия содержания.
Я мобилизовала всю свою любезность:
— Простите, пожалуйста, а что это за таблетки, как называются? Я обязана знать, а вы мне обязаны объяснить. Что от чего? Это прописные истины медицины.
— А это уже тянет на бунт и дезорганизацию нормальной работы учреждения.
— Я не знаю, на что это тянет, но таблеток этих принимать не буду.
— А за это ты ответишь. — И он захлопнул «кормушку».
— Жри ты эти таблетки сам, — сказала я, когда «кормушка» захлопнулась.
Эта фраза, видимо, тянула уже не на новый срок, а на высшую меру. Надеюсь, полковник ее не расслышал, а если даже и расслышал — что с того? Я взвесила все за и против. Если приму таблетки, вероятность того, что не увижу детей, увеличивается пропорционально дозе. А если я их не приму, то, даже угодив в колонию строгого режима, еще могу освободиться и увидеть родной дом.
Когда «кормушка» захлопнулась, я встала, поджав одну ногу. Смогу ли я до конца срока простоять на одной ноге? Смогу!!! Принесли завтрак, но я к нему не притронулась, мне уже казалось, что эти таблетки попали в пищу. Не притронулась ни к обеду, ни к ужину, пила только воду из-под крана.
Теперь я боялась только одного: придут санитары со шприцами, повалят и уколют. Такое тоже бывает. Леха меня об этом предупреждал.
Когда я объявила голодовку, великий князь говорил:
— Вот сейчас ослабнешь без еды, тогда я тебе и волью в организм все, что мне надо.
— В моем организме должно быть то, что надо мне, а не вам.
Хотя я и тогда не исключала возможности, что потеряю сознание от голода и они вольют в меня все, что захотят.
Зачем я им нужна?! Зачем им моя жизнь? Нервы сдавали. Голод и холод быстро давали о себе знать. Мысли как будто примерзали к черепной коробке, руки и ноги превратились в ледышки. Как согреться? Вот я маленькая. Бабушка испекла в печи хлеб и дала мне краюшку. Я выбежала с ней на улицу. Горячий хлеб обжигает руки. За мной увязались кошка с собакой, тут же прилетели птички, и я стала крошить для них хлеб. Вот я уже более взрослая. Мама напекла вкуснейших беляшей. А вот уже я сама жарю своим деткам блинчики со сметаной.
Следующая сцена: мой бывший муж чем-то недоволен. Тоже голодный, что ли? А вот он же — после развода. Страшный ливень, холод, на улице нет ни одного человека, только я и он. Встретились на опустевшей улице, и нет в этом мире никого, кроме нас. У меня звонит телефон. Говорит дочь:
— Мама, ты где?
— Я с твоим папой на улице.
— Там такой ливень! Идите домой. Хватит вам по лужам шлепать. Купите мне пепси и шоколадку и приходите.
Я веду его домой, буквально тащу на себе, он упирается, идти не хочет. Доходим до магазина. Он мне говорит: «Ты иди купи, а я тебя здесь подожду». Я все покупаю, выхожу, — его нет. Убежал. Я хотела не плакать, а орать. Меня бросило в холодной пот, в ушах зазвенело, слезы полились рекой. Или это был просто холодный осенний дождь?.. Я понимала, что теряю сознание.
***
Леха продолжал наносить точечные удары по моему измученному мозгу.
— Есть тети как тети, есть дяди как дяди. А есть дяди как тети, и есть тети как дяди. Вот скажи, сколько лет ты прожила с мужем?
— Двадцать три.
— И где сейчас он?
— У Люси.
— А что он тебе хорошего в жизни сделал?
— Детей.
— А еще что?
— Не знаю. Не могу вспомнить. Теперь уже кажется, что ничего.
— Почему он сейчас не с детьми?
— Не знаю.
— А что ты про него вообще знала?
— Ничего. Не разглядела толком темной ночью.
— Мне кажется, что он вообще не мужик. Вот я — мужик. Ласковый, нежный, а главное — надежный. А он — так…
— Не знаю. Забыла как-то все. И вспомнить нечего.
— Мужиками не рождаются! Мужиками становятся! И вообще, человек, построивший дом, посадивший дерево и вырастивший сына, — это не обязательно настоящий мужчина, это может быть и настоящая женщина!
— Леха, ты можешь помолчать? Я окончательно запуталась.
***
Иногда я ловила себя на том, что у меня в голове не осталось ни одной мысли и я катастрофически тупею, работая на конвейере. Это ужасно, но я сама виновата: прогнала все мысли из головы! Видите ли, «об этом не хочу думать, и об этом тоже». Нужно не бояться думать всегда и обо всем и радоваться каждой пришедшей на ум мысли. Я разрешила мыслям свободно течь в моей голове. Швейная машинка уже не стучала по моим измученным мозгам, а служила как будто музыкальным сопровождением мыслей. Я научилась шить и одновременно думать. Это было для меня большим достижением. Вначале я не могла справиться с безумным ритмом работы, получалось или шить, или думать. Руки на конвейере работают быстрее, чем соображает голова. А теперь я научилась шить и в то же время размышлять.
Черная полоса стала разметкой моей жизни. Я больше не гнала от себя эти мысли, я разрешила им быть. Надо разобраться, действительно ли я несчастна? Быть жертвой даже тепло… Даже тепло… Чушь какая-то, почему я жертва? Это была странная, но очень интересная мысль. Я чувствую себя жертвой, потому что меня бросил муж, потому что меня посадили в тюрьму. Потерпевших в тюрьме называют «терпилами» и очень не любят, даже презирают. Стоит только раз стать «потерпевшим», и ты будешь им всю жизнь. Я в тюрьме, чтобы что-то понять. Понять то, чего не смогла понять на воле. Я даже разрешила прийти в свою голову мысли, что я счастливая женщина. Как хорошо, что Земля вертится, реки текут, время бежит, как хорошо, что порядочных людей больше, чем плохих, и по ту сторону черной стены есть дорогие, родные мне люди, которые меня любят и ждут.
Швейная машинка продолжала стучать, не мешая моим мыслям. В цеху стоял страшный шум, а я в мыслях летала по ту сторону черной стены. «Дубачка» проорала, что меня приглашают на свиданку, что ко мне приехал муж, но я ее сначала не расслышала, а потом не поняла.
— Какой муж, чей муж? — испуганно переспросила я.
— Твой муж. Быстро, быстро собирайся. На три дня приехал.
У меня в жизни был один-единственный муж, и сейчас в голове стучала одна-единственная мысль: это он. Самую страшную боль человеку может причинить лишь тот, кто подарил ему больше всего счастья. Этот человек подарил мне прекрасных детей, а это самое большое мое счастье. «Я счастливая», — думала я, снимая с себя на ходу пыльную рабочую одежду. Я не шла, а летела, «дубачка» поспевала за мной с трудом. Всего трое суток, время пошло, нужно спешить.
Я готова была забыть всю боль, которую он мне причинил, как на крыльях мчалась в комнату свиданий все через тот же тюремный парк. «В одну клетку не входят дважды», — появилась в голове еще одна странная на первый взгляд мысль. «Второй раз за первого мужа», — а вот эта мысль уже была глупостью, но я вспомнила предсказание Анжелы.
***
Ты обойден наградой? Позабудь. Дни вереницей мчатся? Позабудь. Небрежен Ветер: в вечной Книге Жизни Мог и не той страницей шевельнуть…Я утешалась поэзией Хайяма, а Леха вешал мне на шею мою мочалку на длинном шнурке, которую он позаимствовал у меня, чтобы помыться. Он вешал ее мне как медаль, провозгласив: «Награда». Я возвратила ему мочалку: «Подарок». Мы продолжали дурачиться, и мочалка кочевала с моей шеи на Лехину. Нам было весело.
— Я же тебе уже говорил, что мужчины украшений не носят. Мне не нужны мочалочные бусы.
Леха искал любой способ дотронуться до меня, я уже хотела наказать его, влепить пощечину, как полагается, но ограничилась шлепком по руке. Это привело его в чувство. Он перестал ржать и закатывать глазки, серьезно посмотрел на меня, и я уже решила, что сейчас он произнесет одну из своих дежурных фраз, но оказалось, что я плохо знаю Леху. Он был неисчерпаем, и поэтому мне с ним было интересно. Он продолжал меня удивлять.
— Я тебе предлагаю отношения двух живых людей.
— В смысле? Если один партнер мертв, это уже некрофилия. Леха, ты о чем?
— Это ты о чем? Доктор, вам не плохо?
— Очень плохо…
— Ты не хочешь меня понять. Секс в паре субъект — субъект. То есть человек — человек, неважно, какого пола. Знаешь, ведь бывает еще хуже.
— Что может быть еще хуже?
— Ты не знаешь?
— Откуда мне знать, остроумец мой?
— Где ты жила, глупая, кто тебя учил жизни? — сказал Леха, введя меня в окончательный ступор.
— Ступор, Леха, кома. Я теряю сознание.
— Доктор, вам врача вызвать?
— Не надо, просто помолчи, прошу тебя.
— Доктор, с такой слабой нервной системой ты в тюрьме долго не проживешь.
Я нащупала около себя кроссовку и запустила в Леху. Он увернулся, и кроссовка просвистела мимо его уха.
— Ну и глупая же ты! А что, лучше вариант секс — субъект — объект? Компьютер, робот или прибамбасы всякие? Где мужиков-то набрать на всех баб желающих? Я живой, тепленький, а не компьютер говорящий…
Найти бы родственную Душу, Что так похожа на мою. И вместе тишину нам слушать Здесь, на Земле… и там, в раю…***
Зоновская гостиница оказалась достаточно приличной, имелись даже номера «люкс». Быстроногая лань меня бы явно не догнала. У нее нет крыльев, а у меня есть. В самые тяжелые моменты жизни я ощущала у себя наличие крыльев: не идешь, а словно паришь над землей. Какая-то могучая сила подхватывает тебя в тяжелый момент, когда кажется, что уже не сможешь сделать ни шагу. Я врач и знакома с анатомией человека, но теперь знаю точно: крылья у человека есть. Невидимые и почти неощутимые, маленькие или большие, но есть. Раньше я не верила в сказки. Я верила в законы. Теперь, наоборот, я верю в сказки, но не верю в законы.
Я взлетела на второй этаж гостиницы. «Звезды» (так зовут здесь охранников) показали мне мой «звездный» номер. Только не уточнили, сколько звезд. Я посмотрела «дубачке» на погоны, у нее было четыре звезды. Почти пятизвездочный отель.
Я в изумлении застыла на пороге номера. Все происходящее было очень неожиданно, но в то же время до того трогательно, что я с трудом сдерживала слезы. Передо мной стоял Вячеслав.
— Как ты меня нашел?
— Было бы желание. Мне дети сказали, где ты.
Мы обнялись, а потом долго стояли молча друг напротив друга, не зная, что и сказать. Нет, нам было о чем поговорить. Просто все как-то стало понятно без слов.
— Как тебя пропустили сюда?
— Я сказал, что ты моя жена. Они попросили предъявить документы: «Ксиву гони, мужик».
— И что, предъявил?
— Да нет, конечно. Брака, говорю, нет, но все равно жена. «Сожитель? Предъявите документ из домоуправления, что проживаете вместе». Да нет, говорю, в разных городах живем. «Иди отсюда, мужик, не парь нам мозги. Не положено. В разных городах они живут… Может, и в разных странах?» Возможно и так, говорю. «Дурак ты, что ли, мужик? На воле вон сколько баб одиноких». Ну, я им объяснил, что баб одиноких много, а любимая женщина — одна, и она здесь, у них. А они мне: «Да когда к нам попадают, свои мужики бросают, не все, конечно, но большинство». Такую женщину нельзя бросить, ее можно только потерять, — вот и все, что сказал им я. «Странный ты какой-то, мужик», — сделали они вывод.
Сначала мне не понравилось пренебрежительное отношение охранника к Вячеславу и это панибратское слово «мужик». Но он ведь действительно мужик! Как редко сейчас можно услышать это слово в исконном смысле. Красивый, сильный, надежный. Мужик. А Леха меня убеждал, что мужиков нет, перевелись все. Как это нет? Есть! Должны быть!!!
— Дети в порядке, родители тоже. Я к ним заезжал. Даже переночевал. Рады были.
— Спасибо тебе.
— Да не за что. Соскучился.
Вячеслав притянул меня к себе и поцеловал. Слова стали лишними, и так все было ясно. Хоть из всех углов номера на нас и косились камеры наблюдения и мы чувствовали скованность, но это не помешало счастью встречи. Возможно, здесь и прослушка есть. Ну и что?.. Мы болтали три дня без умолку, нам было о чем поговорить, давно не виделись, соскучились. Мы не затрагивали никаких запрещенных тем, мы даже не думали о том, что наш разговор может быть записан. Мы говорили о жизни, о детях, о любви, о счастье. Как будто и не было разлуки, не было этих тяжелых лет, грузом упавших на нас. Мы болтали, смеялись, не обращали на камеры никакого внимания. Нам было очень хорошо вместе.
Можно рядом жить, каждый день встречаться… Только вот чужими навсегда остаться. Можно жить вдали, но, когда вам туго, И за сотню миль чувствовать друг друга…***
Меня, как здесь говорят, «прокрутили через матрас», то есть пятнадцать суток штрафного изолятора ШИЗО чередовались с выводом в отряд, ночевкой на своем матрасе и опять помещением в ШИЗО. Вся эта история началась, как только я напомнила, что нарушений режима у меня нет, а время УДО подошло. Подняли мое дело и увидели «сопроводиловку», которая предписывала превратить меня в «тюремную пыль». Моя «отрядница» так дала ответ на мой вопрос: «Я — офицер. Я выполняю приказ». Записав мне в дело массу нарушений, каждое из которых можно погасить только через полгода, администрация учреждения успокоилась. УДО мне теперь не видать. Я стала привыкать к мысли, что придется доживать здесь весь срок до конца.
Жить на зоне мне стало немного легче. Я привыкла и начала чувствовать, что кто-то борется за наши права. Запрещались переработки, ненормированный рабочий день «до звонка». А это иногда были и сутки, и более. Молодые здоровые женщины умирали на работе. После проверок все опять было по-прежнему. До очередного ЧП. Установили порядок — один выходной через две недели, но и это было прекрасно. Баня, стирка и даже театр. «В тюрьме, так в тюрьме, — повторяла я часто слова, завещанные мне Лехой, — отсюда возвращаются». И помнила своих ушедших из жизни коллег.
Голова цела, как бы мне ее ни сносили. Мозги, как ни странно, варят. Во враче-мозгоправе не нуждаюсь. И в костоправе — тоже: это я вспомнила своего мужа, которого, к счастью, начала забывать. Я находила себе тысячу утешений, чтобы продолжать жить дальше.
Приехал Вячеслав, и я вновь почувствовала свою защищенность. Меня теперь никто не сможет обидеть. Я уже ощущала себя другой, более сильной, чем раньше. «Я сел в “ту” повозку», — говорят в Испании. «Я поймал птицу счастья», — говорят в России. Я села в «тот» поезд. Неважно, что это был «Столыпин», сказала себе я. Аналогия, возможно, не очень удачная, если люди хотят сказать, что их жизнь кардинально изменилась. Я села в «тот» автозак, который изменил всю мою жизнь. Все заново. Все с нуля. Я сидела на холодных развалинах своей судьбы, и мои озябшие мысли дрожали.
Чтобы спастись, я заполняла свой внутренний мир позитивом. Я увидела очень много хорошего в тюрьме. Уже писала о тюремном хлебе, равного которому нет и по вкусу, и по энергетике добра, и по спасительной силе для угасающего организма. Еще баня с какой-то живительной водой, смывающей проблемы, возвращающей к жизни. И, конечно, тюремный театр. Самым лучшим театром считается крепостной театр, где играли крепостные артисты, а значит — невольники. Видимо, сродни крепостному — тюремный театр, где, как и в игре крепостной актрисы, видна та непонятная гордость, которая особенно развивается на краю унижения…
Я стояла у афиши и читала краткое содержание пьесы: сегодня вечером наш тюремный театр будет давать «Сороку-воровку». Двор богатого фермера Фабрицио. Видна открытая клетка с сорокой. Готовится праздничный пир по поводу возращения сына хозяина из армии. О, счастливый день! Нинетта счастлива. Фернандо передает ей серебряную ложечку с просьбой продать ее, а вырученные деньги спрятать в дупле каштана. Когда Фернандо уходит, сорока хватает одну из серебряных ложек и улетает. Девушку сажают в тюрьму. Ведут ее на казнь. Солдаты находят украденную ложку в гнезде сороки на колокольне. Все проясняется. Сказка со счастливым концом.
— Привет, подружка.
Меня кто-то потянул сзади за рукав, и я увидела Таньку Золотую Ручку.
— Ты какими судьбами опять здесь? Ты ведь освободилась по УДО!
— Освободилась. Только очень ненадолго. Не успела до дома доехать, как меня опять повязали.
— Даже детей не увидела?
— Нет, не увидела. Хотела подарков им накупить. Как с пустыми руками к ним приеду? По старинке работать начала, а там знаешь какой на воле прогресс. Видеокамер понаставили везде. Воровать нет никакой возможности.
— Опять ты за старое.
— Да никогда я с этим не завяжу. Работа у меня такая. Я больше ничего не умею. Профессионализм нужно повышать. Тоже какие-то нанотехнологии в своей работе использовать.
— Фартыпер — робот дистанционный. Робот-рука, — подколола я Таньку.
— Мне бы твои мозги. Говорю тебе, учись воровать. Что просто так сидишь?
— Да мне за серебряную ложечку впендюрили, которую не я сперла, — на равных заговорила я с Татьяной.
— Пойдем на спектакль?
— Пойдем.
Это было радостное событие для меня — увидеть опять Таньку. С ней можно весело провести время, поболтать о жизни. Она не грузит своими проблемами, у нее их как будто бы и нет.
— Встретимся в клубе. Я займу тебе место.
Обычно в клубе очень много людей, а он маленький и не вмещает всех желающих. Я пришла попозже, и в клубе уже было не протолкнуться. Я заглянула внутрь зала, пытаясь разглядеть там Таньку. И уже собралась уходить, как увидела, что она замахала мне рукой, мол, продвигайся сюда, я заняла тебе место.
Все было как в настоящем спектакле. Костюмы, декорации, игра артистов потрясающая. Танька язвила:
— Им, наверное, сказали: «Хорошо сыграете, завтра всех домой отпустим». Вот они и старались. Я бы тоже так сыграла, если бы меня домой, к детям отпустили… ну хоть на денек. А ты бы сыграла?
Я задумалась.
— Какому Селадону отдаться, чтобы купить себе свободу? — сказала Танька.
— Да, умерла в тебе великая актриса. А я не умею выкарабкиваться. Сидеть до конца срока. Я смирилась.
— Доктор, я тебе всегда говорила, что это не конец твоей биографии, а, возможно, начало новой жизни. Если ты стоишь на черной полосе, присмотрись внимательно, а вдруг она взлетная?
***
Со вторым пришествием Татьяны Золотой Ручки на зоне стало жить гораздо веселее. Шел последний год моего заключения, ссылки в другую жизнь, в параллельные миры. Я была недоступна, вне зоны действия сети. Я не могла изменить мир вокруг себя, но очень сильно изменилась сама. Зачем мне все это? Моими подружками стали воры, убийцы, наркоманы. Но почему-то я не стала от этого хуже. Я не боялась набраться от них чего-то дурного, они учили меня жить здесь и теперь, все свое свободное время, хотя его тут было очень мало, мы старались провести весело.
Танька часто заходила за мной и вытаскивала на какое-нибудь спортивное мероприятие, где мы с ней в голос орали. Я уверена: сборные на олимпиады нужно готовить только на зонах. Победа обеспечена! Оле — оле — оле! Или в театр. Это были очень редкие дни выходных, когда открывались двери «локалок». (Все здания на зоне окружены заборами с замками, — наследие, которое осталось с тех пор, когда у женщин еще был строгач. И когда его отменили, локальную систему оставили.)
Сегодня в нашем тюремном театре будут давать «Ромео и Джульетту» — Шекспир, замахнулись и на него. Мы договорились с Танькой, что сегодня я иду пораньше занимать место. Я привела себя в порядок. В зеркало смотреться не хотелось. «Увяданья золотом охваченный, я не буду больше молодым», — было написано на зеркале. Но, повязывая платок вокруг шеи, я отметила для себя, что он мне к лицу. Большие глаза стали на исхудавшем лице еще больше, огонек в них пока не погас. В душе была жива надежда, что все это временно и там, за этой черной стеной, есть другая жизнь. И я еще буду счастлива и любима.
«Нет повести печальнее на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». Я шла по тюремному парку, пытаясь вспомнить что-нибудь еще из Шекспира. По аллее, как всегда, прогуливался старый мудрый хромой ворон со сломанным крылом. Народ повалил в сторону театра, и он похромал прочь, подальше от людей, а то затопчут. Он занял позицию близ посаженных кустов и приговаривал: «Р-р-ромео, Р-р-ромео, Р-р-ромео!!!»
Я заняла место для Татьяны, но она почему-то сегодня не пришла. В самый последний момент, когда уже дрогнул занавес, я посадила на ее место молоденькую девочку, Оксанку.
Все было прекрасно, как всегда. Костюмы — шикарные, декорации — отменные, игра артистов — великолепная. Они читали Шекспира наизусть! А ведь это очень сложно запоминать! Спектакль — на одном дыхании. Так не хотелось расставаться с артистами!.. Зал еще долго аплодировал, и артисты несколько раз выходили на поклон. Мы вышли из клуба вместе с Оксанкой.
— Тебе чья игра больше всего понравилась? — спросила я ее.
— Ромео. А вам?
— А мне кормилица Джульетты, такая славная старушка.
— Да, пятнашку досиживает за детоубийство… а как играет! Мы все не те, кого из себя изображаем.
Оксанка — молоденькая девочка, детдомовская. А такая взрослая в суждениях. Недавно у нее подружка освободилась, Кристинка, тоже детдомовская. Хорошо они дружили. Кристинка — художница, талантливая и очень красивая.
— А что, Кристинка тебе пишет?
— Нет. Обещала писать и пропала.
Мы не спеша шли с Оксанкой по тюремному парку, она рассказывала мне о жизни в детдоме, о своей большой любви, о том, как попала в тюрьму, как познакомилась с Кристинкой. Я ее внимательно слушала.
— Вы взрослая, серьезная женщина. Вы ведь скоро освобождаетесь. Поможете мне Кристинку найти, когда на воле будете?
— Конечно! — пообещала я.
Тюремный парк был уже полупустой, нужно было спешить, а то охрана не любит праздношатающихся. Мы поспешили с Оксанкой в сторону отряда, и разговор наш прервался. Старый мудрый ворон не покидал свой пост. Он продолжал каркать: «Б-р-р-раво, б-р-р-раво, б-р-р-раво! Пр-р-р-ридурки! Пр-р-р-ридурки!»
Через несколько дней Оксана все-таки смогла поговорить со мной.
***
В зале судебного заседания было малолюдно. Холодное осеннее утро. Даже свет множества лампочек не давал необходимого количества света, чтобы окончательно проснуться и осознать происходящее.
Холодный ветер завывал за окнами с многочисленными решетками, пытаясь прорваться в помещение и своим ледяным дуновением разбудить еще дремавших, казалось, людей. Ожидание судьи в зале затянулось. Он, похоже, не спешил. Охранники пытались настроиться на рабочий лад, перетаптываясь с ноги на ногу. Один даже собирался зевнуть, но быстро взял себя в руки и вышел приоткрыть дверь перед приближающимся судьей. Судья не спеша, придерживая подол черной мантии, вошел в зал судебного заседания.
«Встать, суд идет!» — вяло, по инерции произнес судья стандартную фразу, усаживаясь в кресло. Все дружно, законопослушно подчинились его воле. Судья молча дал знак, и все его правильно поняли: можно садиться. Все было как всегда; и судья, как и все присутствующие, тоже был вял и еще, казалось, не проснулся. В «клетке», там, где стояла скамья подсудимых, находился мужчина. Не молодой и не старый, средних лет. Но седой, коротко подстриженный. Мужчина пребывал в том прекрасном возрасте, когда молодость уже ушла, а старость еще далеко. Годы веселого ребячества ушли, все глупости уже совершены, на висках появилась седина. Нужно, пока не поздно, браться за ум. Самое время, когда жизнь можно начать заново, жениться, детишек завести. Поставить точку и начать жизнь с чистого листа.
Мужчина был одет в черный свитер. Высокий воротник подчеркивал мужественные скулы и подбородок. Рукава свитера были немного подтянуты к локтям и обнажали сильные красивые руки с накачанными мышцами. Женщинам нравятся такие мужские штучки.
Судья монотонно, как пономарь, начал читать: совершил, подозревается, обвиняется, может скрыться, и так далее. Все так пресно и банально, без эмоций, скучно, что казалось: все в зале скоро заснут от этого монотонного чтения. Бывает, и сами судьи засыпают от своей пламенной речи. Я сама знаю одного такого. Но это был не тот случай: мужчину в черном свитере обвиняли в убийстве. В судебной практике эта статья встречается нередко, ст. 105 УК РФ. Иногда с судьей вступал в диалог прокурор, они как бы разговаривали друг с другом на понятном им одним языке и, казалось, они не дадут вставить никому ни слова. Им все и так ясно и понятно. Совершено преступление. Преступник в «клетке». Еще пара заседаний — и прочтут обвинительный приговор. И гуляй, Вася, на зону, на строгач. Десятка в лучшем случае. Это если жена и дети придут, поплачут. Это если этот самый Вася из «клетки» с судьей спорить не станет. А если вдруг права начнет качать, спорить, да не дай бог оскорбить судью попытается, то лес ему валить в тайге лет пятнадцать придется.
Но мужчина в черном свитере сидел молча, внимательно слушал все, что говорили судья и прокурор, никого не перебивал; он больше походил на аристократа, чем на зека. Хотя опытный взгляд определил бы сразу: места не столь отдаленные он уже посетил. Одна маленькая татуировочка красовалась на его руке. Четыре точки в вершинах квадрата, в центре пятая. Что означает: «один в четырех стенах». Картинной галереи из своего тела не сделал, но свое присутствие «там» увековечил.
Пасмурное утро не хотело уступать место не менее серому дню. Было все так же темно и холодно. Состояние дремоты не покидало зал. Каждый боролся с дремотой по-своему. Судья, при очередном ее приступе, старался читать быстрее. Адвокат закрыл глаза под очками и, скрестив руки на груди, делал вид, что внимательно слушает. Обвиняемый подыгрывал им, молча склонив голову. А сам думал: «Сейчас вы все у меня проснетесь!»
Пару раз нервно вскочил со своего места адвокат. Сказал пару дежурных фраз, пытаясь достучаться до правосудия. Но никто не заметил даже, что он вставал, и тем более, что он говорил. Какая разница. Можно подумать, что даже после выступления самого опытного адвоката что-то изменится… А вдруг? Он пригласит человека из тайной комнаты. А лучше в зал зайдет тот, кого считают убитым, и скажет: «Ребята, я жив! А что вы тут, собственно, заседаете?» Все уголовное дело сразу превратится в ложь, чушь, идиотизм. Так тоже бывает. Но это не тот случай. Большинство уголовных дел писаны вилами по воде. Это скорее художественные произведения, где автор долго выбирает главного героя, а потом под него расписывает роли остальных. Может быть вот такой сюжет, а может — и совсем другой. Сюжет зависит от многих факторов. Не буду углубляться в эту тему. О ней можно написать целую книгу. Скажу лишь, что это очень больная для многих тема.
Наконец судья с прокурором устали, их самодовольные, высокопрофессиональные речи утихли, и появилась возможность вставить слово. Слово дали мужчине в черном свитере.
— Ваша честь!
Обвиняемый начал говорить, демонстрируя белые красивые зубы, так несвойственные лицам, посетившим места не столь отдаленные: от курева и чифиря люди там быстро теряют драгоценные жемчужины, и их рот превращается к концу срока в беззубый оскал. А услугами тюремного стоматолога они не пользуются, так как умеют делать все сами, даже удалять зубы.
Видно сразу, что мужчина не злоупотреблял тюремными вредными привычками, чистил регулярно зубы и, скорее всего, планировал жить на воле, а не стать завсегдатаем здешних мест. Заметно было и то, что как ни старался он достойно держаться, но все же слегка нервничал. Мускулы на его лице подрагивали, а во рту сохло.
Судья все же удостоил его своим вниманием, поднял глаза от бумаг, которые перекладывал, и отложил их в сторону. Он понимал, что сказать подсудимому нечего. Но пусть скажет хоть что-нибудь. Право голоса еще никто не отменял.
— Прошу приобщить к моему уголовному делу справку о моей смерти и прекратить против меня уголовное преследование, а дело уголовное закрыть.
Первым проснулся адвокат. Он аж вздрогнул от услышанного. Мужчина в черном свитере достал из заднего кармана брюк вчетверо сложенный листок. Адвокат, согнувшись, быстро просеменил к «клетке», забрал листок и положил его на стол судье.
— Ваша честь! Я присоединяюсь к ходатайству моего подзащитного.
Быстро сориентировавшись в сложившейся ситуации, адвокат понял, что это не блеф, но что это, он так еще и не понял.
— Ты его обыскивал? — шепнул один охранник другому.
— Обыскивал, — пытался оправдаться второй охранник.
— Почему не нашел тогда?
— Не было.
— Откуда взялась?
— Не знаю.
— Тишина в зале! — заорал судья.
Тоже, видно, проснулся. Снял одни очки, надел другие. Видимо, тут было больше диоптрий. Внимательно стал рассматривать бумажку. В зале воцарилась тишина.
За окном наконец-то наступил день, посветлело. Все в зале как-то по-новому посмотрели друг на друга. Личность подсудимого была установлена. Еще в начале заседания. И все, что было написано в справке о смерти, совпадало с данными мужчины в черном свитере. В справке о смерти было написано, что он убит девять лет назад.
В это время года мухи уже не летают, а то бы в зале судебных заседаний услышали их жужжание. В зале воцарилась полнейшая тишина. Такого поворота событий никто не ожидал. Все внимательно следили за судьей, а он зачем-то начал разглаживать мантию у себя на груди, потом стал что-то стряхивать с подола. Понятно, что мантия должна быть чистой, но как ни пытался судья сделать вид, что он абсолютно спокоен, ему это не удавалось.
Прокурор достал из кармана огромный носовой платок и несколько раз протер им лысину, от которой буквально валил пар. Адвокат стал что-то записывать на листке бумаги. Наверное, готовил речь. Мужчина в черном свитере тоже слегка нервничал, хотя и держался очень стойко. Если этот финт не прокатит, значит, придется посидеть в тюрьме. Он хорошо знал законы, в которых всегда можно найти лазейку. Как посадить человека, которого нет в живых?
Первым пришел в себя судья.
— Давайте теперь без протокола, — слегка охрипшим голосом начал он. — Как удалось воскреснуть?
— А я и не умирал, — ответил мужчина.
— А справкой где запаслись? Знали, что пригодится?
— В морге дали. Где такие справки дают? Умер, и дали.
— Так говоришь, что не умирал?
— Значит, воскрес. Вы правы, ваша честь.
Потом в чувство пришел прокурор. Он тоже долго вертел в руках бумажку, нюхал ее, вот-вот попробует на зуб, не дождавшись экспертизы. Бумажка явно была подлинной, не поддельной.
— А кто же вас убил? — спросил прокурор.
— Да пацаны, трое. Я их не знаю. Срок до сих пор тянут на строгаче.
Судья с прокурором переглянулись. Их взгляд означал, что три уголовных дела разом превратились в ложь, чушь и идиотизм. А три пацана из преступников превратились в жертвы. За что срок тянут — непонятно.
— Давайте продолжим, — опять вступил в разговор судья. — Каким же образом вам в морге справку о смерти дали?
— Ваша честь, да каким образом трупу могут в морге справку дать? Вы так спрашиваете, как будто мне ее там прям в руки вручили.
— Извините за некорректный вопрос.
— Я понял, о чем вы хотите меня спросить.
— А… — хотел что-то вставить прокурор.
— Да не мне дали, жене моей дали!
— А она что в морге делала?
«Ну и дебил, жила она там», — хотел ответить мужчина, но, собрав всю свою любезность, чтобы ничем не оскорбить суд, промолчал, а потом сказал:
— Что делала моя жена в морге? Труп мой опознавала.
— А… — протянул прокурор.
Судья понял, что прокурору сегодня очень плохо с утра, вопросы какие-то странные задает, потеет. И он взял инициативу в свои руки.
— А вас в это время не было в морге? — спросил он у подсудимого.
«Вот еще один… Как я тогда мог быть в морге?..» Вслух мужчина только сказал:
— Ваша честь, если бы я тогда был в морге, то сейчас не стоял бы, вернее, не сидел бы перед вами.
«Сам запутался», — подумал он, так как говорил он это все стоя.
— Так, говорите, в морге была ваша жена? — опять заговорил прокурор.
Судья посмотрел на прокурора. Он знал, что тот сейчас опять спросит, что она там делала, и объявил перерыв.
Несмотря на перерыв, зал судебных заседаний не покинул никто, кроме судьи. Он опять заставил себя долго ждать. Видимо, переваривал происходящее. Прокурор долго не выходил из зала, но, поняв, что перерыв затягивается, все же вышел: без него все равно не начнут. Действительно. Кто вопросы интересные будет задавать, и не по одному разу?
Судья пил кофе, курил в своем кабинете. Хорошо, когда все идет как по маслу. Раз, и проскочило. Все правильно, все сошлось. Проблем никаких. Город маленький, сейчас быстро слух пойдет, что покойник ожил, матери малолеток взбаламутятся, жизни никому не дадут.
Судья курил не спеша, смотрел на улицу через решетки на окнах. «А свободен ли я?» — подумал он вдруг. В зал судебных заседаний идти не хотелось. Набравшись мужества, судья надел на себя мантию и, зачем-то прочитав «Отче наш», направился в зал судебных заседаний.
«Встать, суд идет!» — как всегда, уверенно произнес он. Все присутствующие дружно подчинились. «Можно сесть». Все дружно сели.
— Продолжаем судебное следствие, давайте без протокола, — сказал судья.
— Не возражаю, — ответил прокурор.
— Не возражаю, — это уже адвокат.
«А зачем нам протокол?» — подумал мужчина в черном свитере.
— На чем мы остановились? — спросил судья.
— На жене. Что она делала в морге? — опять сунулся со своим вопросом прокурор.
Судья строго посмотрел на него.
«Это будет длиться вечность. Срок отсижу в этом суде», — подумал подсудимый и в очередной раз мобилизовал свою любезность:
— Ваша честь! Я готов все рассказать суду и прошу зафиксировать мое чистосердечное признание. Моя жена опознавала мой труп.
— Это мы уже слышали, — сказал прокурор, — не нужно повторяться.
— С вашего позволения, я продолжу. Жили мы с женой плохо. Я гулял. Часто не ночевал дома. Мы были на грани развода. Я тогда сильно пил и по пьяни залетел в тюрьму на семь лет. Жене моей ничего не сообщили. Я тоже ей не писал все эти годы: не думал, что она меня искать начнет. А она заявление в милицию написала о моей пропаже. Начали искать по моргам и больницам, ну и нашли труп мужчины, в котором она меня и опознала. Похоронила честь по чести. Оплакала, — все как положено, хороший, говорит, был муж. А потом замуж вышла за другого. Но справку о моей смерти сохранила. Ребенок сиротой был признан, а она — вдовой. Деток еще нарожала. Мужик хороший ей попался. Я пришел, она беременная была. Открывает дверь, а я вот он! В обморок упала, еле успел ее поймать, а то бы ребенка лишилась. Плачет, кричит, прощения у меня просит: «Прости, что замуж вышла. Я ведь не знала, что ты живой», — и справку о смерти мне тычет. «Прости, что живой!» — Повернулся и ушел из дома, но справку о смерти с собой забрал.
Все слушали как завороженные. Некоторые женщины прослезились.
В зале судебных заседаний опять с волнением ожидали, когда же закончится очередной затянувшийся перерыв. Судья, как всегда, не спешил. На этот раз он пришел налегке. В его руке было несколько листков, а тяжелого тома уже не было. Одной рукой он, как всегда, придерживал мантию.
«Встать, суд идет!» Судья читал долго. Все в зале и мужчина в черном свитере в «клетке» стояли и внимательно слушали речь судьи. Не все, что он говорил, было понятно неискушенному в юридической науке человеку. Наконец все услышали: «На основании гл. 4, ст. 24, п. 4 УПК РФ, в связи со смертью обвиняемого, уголовное дело закрыть. Справку о смерти приобщить. Освободить из зала суда».
Этого уже не было в протоколе. Это был шок для всех. Прокурор, казалось, сейчас вспыхнет. В зале все оживились, стали громко обсуждать происходящее. Адвокат поспешил к «клетке», чтобы первым пожать руку свободному человеку.
— Умер — значит умер, чтобы тебя здесь больше никто не видел. Понял?
— Понял, — ответил мужчина.
Подошли охранники. Зазвенели ключи. «Клетка» с грохотом распахнулась. Бывший подсудимый сделал шаг навстречу свободе. Охранники достали другие ключи и расстегнули наручники.
— Вы свободны, — сказал один из охранников.
Мужчина круговыми движениями массировал запястья, на которых еще несколько минут назад были наручники. Оковы пали! Он тихо покинул зал суда.
***
— Оксана, неужели все это правда? Сказки энского суда, да и только! — спросила я Оксану.
— Я была на том суде. По этому делу я проходила свидетелем, единственным. Видела я, как он того мужика завалил: за то, что он ко мне приставать начал. Я только кричала ему: «Не трогай его!»
— А кто тебе этот мужчина? — спросила я.
— Мой любимый!
— Ничего себе. А где он сейчас?
— Где-то на воле, где точно, не знаю. Обещал, что приезжать будет, один раз приехал. Говорит: «Малышка моя, я ждать тебя буду», — шоколада, мармелада привез, красивых слов наговорил и уехал. И до сих пор нет его. Но я надеюсь, что он приедет.
— А ты-то как в тюрьме оказалась?
— Его ведь отпустили, а как его посадишь? Его ведь в живых нет. Да не в этом дело. Цепочка бы потянулась огромная, проще его было выпустить. Его и выпустили, а меня арестовали. Говорят: давай показания, что убила. Я в отказ. Меня в карцер с хлоркой посадили. Говорят: не выпустим, пока не сознаешься.
— С какой хлоркой?
— Вонючка такая белая, которой в общественных туалетах посыпают.
Я вспомнила сразу разъедающий глаза, нос, удушливый запах.
— Посадили меня в карцер, а там хлорка, сопли текут, легкие обжигает, дышать невозможно, ноги разъедает. Стучу в дверь карцера. Ору: откройте только, я вам все подпишу! Они этого только и ждали. А какая мне разница. Я все детство в детдоме провела. А это та же хрень.
Оксане тяжело было это все вспоминать, но она продолжала:
— Да что я. Все банально и примитивно просто в жизни. Родители — алкоголики. Им зеленый змий говорил: плодитесь и размножайтесь. Потом их родительских прав лишили, а нас, голодранцев стаю, в детский дом упекли. Они потом горе свое, что детей всех забрали, пуще прежнего в водке топить начали и вскоре умерли, не похмелившись. А вот Кристина — там совсем другое дело. Она тоже детдомовская, тоже — ни отца ни матери, только порода чувствуется, не простая она, а какой породы — и сама не знает.
Раз я пообещала Оксане, что, когда освобожусь, помогу ей найти Кристину, то посчитала нормальным кое-что спросить о Кристине. Как выяснилось, Оксана мало что знала сама. Знала, что она тоже детдомовская, Кристина Иванова, 1981 года рождения, знала, что 6 лет от звонка до звонка оттарабанила. УДО ей было не нужно: дома нет, идти некуда. Знала, что художница, очень хорошо рисует. И еще. (Это было огромной тайной, об этом, кроме Оксаны, не знал никто, она долго не решалась об этом и мне сказать, но потом все же решилась.) У Кристины был ребенок, он тоже в детском доме. Она его в тюрьме родила.
— Как в тюрьме? — удивилась я.
— Да очень просто. Изнасиловал ее один охранник — урод. Когда она из тюрьмы на малолетку ехала.
***
Малолетку Кристину привезли в тюрьму, где содержатся все вместе — взрослые, мужчины и женщины, а также малолетки до их отправки на зону для малолеток. Такие у нас в России порядки в тюрьмах. Мне самой стала интересна судьба этой красивой и талантливой девчонки. Я ее не видела, она освободилась до того, как я заехала на зону. Оксана показывала мне ее фото. О ее таланте на зоне ходили легенды. Одаренная художница.
При любой возможности я расспрашивала Оксану, что она еще знает о Кристине. Родителей нет, дома нет, прописки нет. Ушла в никуда и пропала.
— Так вот, — продолжала Оксана, — заехала она в тюрьму общего режима. А там на нее сразу с порога один аденоидный глаз положил.
— А кто такой аденоидный? — не поняла я.
— Ты ведь — врач, знаешь, как выглядит человек, у которого аденоиды.
— Аденоиды? Да, знаю.
— Ну вот, я тебе сейчас покажу, — Оксана заткнула себе нос, открыла рот, оттопырила уши, пустила слюну изо рта, высморкалась громко и гнусаво заговорила: — Гнусавый аденоид сразу глаз на нашу красавицу положил, слюни и сопли так и потекли у него. А знаешь, как на тюрьме в трюм водят? Там у них каптерка, где матрацы лежат. Он ее туда и повел за матрацем вонючим. Говорит, крыс здесь много, держись за руку, а то страшно будет. Она ему и дала руку, а он ее на эти самые матрацы и швырнул со всей силы. Там какие-то ведра посыпались, загромыхали. Он сначала испугался, думал, что кто-нибудь услышит и на шум прибежит. Но было тихо. Он ее и изнасиловал, гнусавый аденоидный черт. Да еще и пригрозил, чтобы никому не рассказывала. Пришла она в камеру с этим вонючим матрацем, плачет, платье разорванное, вся в синяках. Бабы спрашивают, что случилось, а она молчит. «Панасодют детей у тюрьмы! Воспитывай их тута, — ворчала в углу камеры одна бабка. — Я поэтому своих детей не заводила, знала, что из тюрем не вылезу. Как освобождалась, сразу залетала, но всегда аборты делала. Вот, — задрала она рукава кофты, показывая купола и ангелов. — Купола — это годы отсидки, а ангелы — мои нерожденные дети. Все тело в куполах и ангелах. Не рожала своих. Все срока чужих детей воспитываю».
***
— Оксана, а за что посадили Кристину? — продолжала уже как допрос я свое следствие.
— Она выбила в детском доме одной девчонке яблоком глаз.
— Ужас какой!
— Да она не специально, случайно так получилось. Девчонка сама напросилась. Смеялась, издевалась над ней. Говорит: все здесь брошенные, и ты тоже. А та отвечает: нет меня не бросили, моя мама скоро приедет за мной и заберет меня, она обещала. — «Она наврала тебе, твоя мама, брехушка она! Брехушка, брехушка!» — кричала девчонка. А дело происходило осенью, в саду детского дома. Яблок в тот год уродилась уйма. Кристина подняла яблоко, не целясь, попала девчонке в глаз. Та заорала как резаная, закрывая лицо руками. Глаз быстро заплыл, затем превратился в синяк. Да если бы эту девчонку к врачу отвели, то глаз бы спасли, но когда опомнились, уже делать было нечего.
— А что, Кристинка свою мать действительно пятнадцать лет ждала?
— Да, ждала. Каждый день ждала.
— А видела ли она ее хотя бы раз? — спросила я.
— Конечно, та к ней много раз приезжала. Сначала в дом малютки, а потом в детский дом. Она правда обещала ее забрать. Кристине было лет пять-шесть, когда мать куда-то вдруг пропала. Вот с тех пор наша художница и начала ее портреты рисовать. Знаете, сколько у нее было портретов матери?
— А у тебя ничего не осталось? — спросила я.
— Да нет, это личное. Зачем они мне? А надо было попросить на всякий случай. Не знала, что так получится.
— А вы в одном детском доме были? — продолжала интересоваться я.
— Нет, в разных. Мы только здесь, на зоне, познакомились и подружились. Судьбы у нас похожие, детдомовские мы. У нас хоть от матери с отцом дом остался после их смерти, а у нее вообще ничего. Я ее жалела за это, да и человечек она редкий. Умница, красавица. А талант какой!
***
В душной, прокуренной камере женщины варили чифир. Кристина лежала на верхней шконке, с головой укрывшись одеялом. Фу, как воняет, дышать нечем, выворачивает наизнанку. Подобные приступы тошноты и слюнотечения стали посещать Кристину регулярно. Она не понимала, что с ней происходит. Заболела, — думала она. Вчера, после того как дали вонючий борщ из кислой капусты, она летела с верхней шконки до параши, с трудом успев донести содержимое усохшего желудка до унитаза.
— Траванулась она чем-то, девчонка наша, — рассуждали в камере женщины, которые жалели Кристинку.
— Да ладно, косит, придуряется. Жрать вонючку не хочет и нам аппетит портит. Еще так сделает, — жить на параше будет, — говорили другие.
— Спускайся, попей чифирку, может, полегчает, — сказала ей одна.
От слова «чифир» Кристину опять потянуло к параше. Она стала быстро сглатывать слюну, которая накапливалась во рту и не сглатывалась.
Глаза стали совсем запавшими, черные круги под ними делали лицо уставшим и больным.
— Спускайся, спускайся! — настаивала женщина. — Чифир надо тараночкой заедать.
Она достала из пакета сушеную рыбку и стала очищать, отрывать плавники и выкладывать тоненькие аппетитные кусочки на клочок газеты. Кристина смотрела на женщину и на спасительный кусочек таранки. Сокамерница поняла, что Кристина спускаться не будет, и подала ей наверх самый аппетитный кусочек. Девушка кивнула в знак благодарности, взяла в рот соленый кусочек и как будто утолила мучающую ее жажду. Слюнотечение и тошнота прекратились.
— Что-то наша Рыбка Золотая тает на глазах, — жалели ее женщины, — заболела девчонка.
— Да ладно, бабы, совсем здесь забыли про тяжелую женскую долю. Глядите, как ее на солененькое потянуло. С икрой наша Золотая Рыбка, похоже.
— Беременная, что ли?
— А вы что, не видите разве? Бабы, бабы, забыли, как сами такие были.
— Да она еще ребенок, — разговаривали между собой женщины.
Кристина лежала на верхней шконке и даже не всегда понимала, о чем они говорят. Да, за светлые блестящие локоны ее прозвали тут Золотой Рыбкой. Но про какую икру они болтают и почему смеются?
В темном кабинете с решетками стояли металлический стол и две табуретки, привинченные огромными винтами к полу. На одной из табуреток сидел опер. Конвойный завел Кристину в этот кабинет и закрыл за ней дверь. Опер указал Кристине на другой табурет. Кристина села, опустив голову.
— Ну что, Рыбка Золотая, доплавалась?
Кристина молчала.
— Говорят, что с икрой наша Рыбка. Это правда?
Кристина продолжала молчать.
— И кто же отец твоего рыбенка?
Молчание.
— Что молчишь? Ты находишься в местах лишения свободы, без права свиданий. И от кого в такой ситуации можно забеременеть? От кого? Я тебя спрашиваю.
Кристина не произнесла ни слова.
— Или что? Непорочное зачатие? Да, такое бывает. Ты будешь говорить или молчать сюда пришла? Все дети от Бога? — продолжал опер. — Да? Я тебя спрашиваю.
Кристина опустила голову. Она не знала, что сказать и как себя вести.
— Из зеков кто? Или кто из сотрудников отцом ребеночка такой красавицы захотел стать? Или уже с икрой заехала в тюрьму? А, Рыбка Золотая?
Кристина молчала.
Опер нажал на кнопку звонка, в двери появился тот охранник, который привел ее сюда.
— Отведи ее в карцер! Пусть посидит и подумает.
Охранник отвел Кристину в карцер, и, когда захлопнулась за ее спиной дверь, она заплакала. Села на такой же привинченный к полу металлический табурет, обняла колени руками. Она вспоминала маму. «Где ты, моя любимая? Почему не идешь ко мне? Кто разлучил нас? Я знаю, что ты любишь и ищешь меня. Ты меня не забыла, ты меня обязательно найдешь. Я одна в этом безумном, жестоком мире! Где ты, моя любимая мамочка?»
Кристина вспомнила детский дом, то, как злая начальница закрывала ее в чулане. Первый раз это случилось, когда Кристина разрезала детдомовские простыни на холсты и стала на них рисовать. Второй раз ее закрыли, когда она отстала от строя по пути из кино, побежала в магазин за красками. Денег у нее, конечно же, не было, и она попросила «хорошего дяденьку» в магазине купить ей краски. «Хороший дяденька» ей краски купил, а начальница обвинила ее в том, что она украла в магазине краски, да еще и из строя сбежала. С тех пор она часто попадала за всякие провинности в чулан. И как-то раз попросила «добрую няню» принести ей в чулан холст, кисти и краски. И теперь ей специально хотелось нашкодить, чтобы ее заперли и она могла опять рисовать маму.
Кристина сидела в карцере и думала: «Были бы у меня сейчас кисти, краски и холст. Я бы нарисовала маму, и мне не было бы так одиноко».
Она сидела в той же позе, обняв руками колени. Живот уже начал напоминать круглый аквариум, в котором плавали рыбки. Появились новые ощущения. Рыбки внутри живота били хвостом.
Кристина погладила рукой живот, откинулась, хотела прислониться к спинке, но это был металлический табурет, и спинки у него не было. Неудобно сидеть, тяжело. Она встала, вытерла слезы и стала прохаживаться по камере. В животе опять что-то зашевелилось. «Я не одна», — подумала Кристина и погладила рукой живот. Она вспомнила того гнусавого урода-охранника, который изнасиловал ее, и вдруг все ему простила. «Я теперь не одинока!»
Кристина смотрела то на грязное окно под потолком, то на металлическую дверь и опять вспоминала детский дом. Вспоминала свою злую начальницу, которая быстро поняла, что у девчонки талант и картины ее будут продаваться. Позже выяснилось, что во время очередного визита матери она закрыла девочку в чулане, а матери сказала:
— Больше не приходите сюда, девочку удочерили.
— Я ведь не писала отказ от нее.
— Вы плохая мать. Вас лишили родительских прав, — ткнула она матери в нос бумажку.
— Где моя девочка? — пыталась узнать правду мать.
— Тайна усыновления. Закон. Мы — слуги закона.
Дверь в карцер распахнулась. На пороге стоял тот же самый конвойный, что привел туда Кристину.
— Выходи! — скомандовал он.
Кристина вышла, ее опять повели к оперу.
— Ну что? Посидела в карцере, вспомнила, кто отец ребенка?
Кристина молчала.
— Ладно, скажи лишь одно, он зек?
— Нет.
— Он сотрудник?
— Нет.
— Ты уже в тюрьму с воли с икрой заехала, Рыбка Золотая?
— Да.
— Ладно, хоть этого добился.
До Кристины дошло, к чему он клонит, и она решила увести опера подальше от истины. Она уже кое-чему научилась, сидя в тюрьме.
Опер стер пот со лба. Фу, а то сейчас пытай всех мужиков в тюрьме, кто отец. Оно ему нужно?
— Ну вот, так и запишем, — продолжал опер, — все это случилось не в тюрьме. Правильно я говорю?
— Правильно, — сказала Кристина.
— Теперь иди в больничку. Пусть врач тебя посмотрит.
Опер нажал на кнопку звонка, опять появился тот же конвойный.
— В больничку веди.
— Слушаюсь.
Кристину привели в тюремную больницу, ее осмотрела врач-гинеколог, Кристина сдала анализ.
— Да, беременная, — подтвердила врач. — Срок уже хороший. Что будем делать?
Кристина молчала.
— Рожать будем. Других вариантов уже нет, — сказала врач и дала команду медсестре заполнить документацию.
Медсестра записывала:
— Фамилия, имя, отчество, год рождения.
Кристина назвала.
— Фамилия, имя, отчество отца ребенка? — спросила медсестра.
Кристина молчала.
«Пытают с самого утра сегодня. Надоели», — подумала она.
— Я тебя спрашиваю, — повторила свой вопрос медсестра.
— Я не помню, вернее, я не знаю.
Вот и подошел к концу срок Кристининого заключения. А куда идти? Идти никуда не хотелось, потому что идти было некуда. Девушка без адреса — это про Кристинку.
Ее вызвал начальник учреждения, выспросил, что да как. Да никак, тюрьма — дом родной.
— Выпускникам детского дома положено по закону жилье.
— Я выпускница тюрьмы. А мне что положено?
Своим вопросом Кристина привела представителя системы в замешательство.
— Чисто по-человечески мне вас жалко, но закона нет. Пока нет, — извинился представитель страшной машины под названием «система».
— Не нужно меня жалеть. Я не люблю, когда меня жалеют. Обойдусь как-нибудь без вашей жалости.
Кристина за много тяжелых лет научилась держать себя в руках.
— Чем мы можем тебе помочь?
— Да ничем. Сама как-нибудь справлюсь.
Слуга системы молчал. Ему нечего было сказать.
— Попрошу вас только об одном. Разрешите мне взять с собой картины, написанные мной в тюрьме и на зоне.
Освободившись из тюрьмы, Кристина сразу поехала в детский дом, чтобы забрать свою дочь Веру. Она очень соскучилась по девочке и даже не знала, как та теперь выглядит. Выросла, наверно. Кристина очень сильно волновалась. На пороге ее встретили не очень гостеприимно, мол, явилась мамашка из тюрьмы.
— Куда забирать ребеночка будете? Есть ли у вас жилье, прописка, работа?
Кристина стояла, опустив глаза.
— Я художница. Буду рисовать картины, продавать их и зарабатывать на жилье и жизнь.
— Вот когда заработаете, тогда и приходите за ребенком.
Кристина была готова к такому повороту событий. Она прошла эту школу: детдом, тюрьма. Нужно было каким-то образом выживать. Кристине удалось продать несколько своих работ, и некоторые из них даже очень удачно. Люди как карандаши, — каждый рисует себе жизнь сам. Кто-то ломается, кто-то тупит, а кто-то затачивается и рисует жизнь дальше.
Как радовалась Кристина первым заработанным деньгам! На них она смогла купить холст, кисти и краски. Ее посетил необыкновенный прилив сил и творчества. Из-под ее кисти выходили светлые, жизнеутверждающие, радостные полотна. Они нравились покупателям и быстро раскупались.
Пришло время подумать о приобретении какого-нибудь жилья, самого дешевого, самого примитивного, главное, чтобы там можно было прописаться. Кристина искала какой-нибудь сельский домик, но ей неожиданно повезло: заработанных денег хватило, чтобы выкупить в сельсовете старый барский дом. Большое здание было разрушено, но сохранился маленький гостевой домик.
Это была русская усадьба, построенная в лучших традициях своего времени. Во время войны там располагался госпиталь, после войны — школа. Но наступило такое время, когда учить в школе стало некого, и она закрылась. Усадьба имела жалкий вид. Колонны потрескались, портики отвалились, здание было почти разрушено. Вороны свили в нем гнезда. Летучие мыши с визгом проносились над ухом. Но хорошо сохранился маленький домик для гостей. Он был уменьшенной во много раз копией большого дома. В этом домике доживал свой век старый одинокий сельский учитель, и после его смерти домик пустовал.
Моя героиня стояла напротив этого полуразрушенного дома, держа за руку маленькую девочку. В другой ее руке был пакет, который собрали ребенку, провожая его из детского дома. У Кристины никогда не было своего дома: сначала детский дом, потом тюрьма, потом зона. Как ни убог этот дом, но это ее дом, который она купила за свои деньги.
Это была очередная осень ее жизни и первая осень ее вольной жизни. Она стояла перед неизвестностью.
***
Кто был в тюрьме, тот в цирке не смеется…
Самое простое в жизни — это или сойти с ума, или считать себя неудачником. А вот выжить… Это уже не так просто, но возможно. А быть счастливым — это вообще великое искусство. Счастливым вопреки всему. Я очень счастливый человек, судьба посылала и посылает мне интересных людей. Мои родные дождались меня. Какие-то незримые силы не позволили разрушить меня. Возможно, за мою доброту, любовь к людям, чистое сердце. Я любила и всегда буду любить людей. Все мои помыслы были и будут направлены на спасение здоровья и жизни человека. Я не озлобилась, не потеряла вкуса к жизни. Я любила и люблю жизнь!
Мой ангел-хранитель, спасибо, что ты всегда рядом со мной. Моя память помогла мне забыть все плохое, что со мной случилось. Хорошее помню хорошо, а плохое — плохо. Я простила всем, кто меня обидел.
Не бывает плохих и хороших тюрем… В любой тюрьме — УЖАСНО!!! Как нарывы, передо мной вскрывались проблемы. Я врачевала человеческие души, лечила людей милосердием. Надеюсь, эта система или выздоровеет, или отомрет окончательно. Она агонизирует. Я пыталась понять причину заболевания системы. Чем ее лечить? А может, ей действительно лучше умереть, этой надоевшей всем старой скрипучей системе?
***
«Меня на волю гонят мусора, а я привык к плацкартному вагону».
Длинная спальня с двухъярусными нарами и купейной системой проживания действительно походила на поезд. У каждого своя станция. День и час, с точностью до минуты, когда ты должен сойти. За долгие годы пути люди сначала изучают друг друга, присматриваются, затем привыкают. Все как в поезде: приятен тебе сосед или нет, ты все равно знаешь, что это временно, поезд остановится, и вы расстанетесь. Был человек — и вышел.
Но самое интересное в этой ситуации, когда едет пассажир долго и ведет себя достаточно спокойно, но вот станция совсем близко, и пассажира охватывает необъяснимое беспокойство, страх, он не находит себе места. Я смотрела на освобождающихся, на их панику и думала, что со мной такого не будет. Стряхну с одежды пыль, распрямлю согнутую спину и шагну навстречу долгожданной свободе. Ан нет, меня накрыла такая же паника, как и всех. Руки тряслись, все валилось из рук, пища комом вставала в горле…
Я стояла посередине зеркальной комнаты. Четыре пыльные зеркальные стены и я, одна в четырех стенах. Вот мое многократно размноженное отражение. Истощенное, ослабленное, постаревшее. Я попыталась улыбнуться зеркалу. Нет. Это не был оскал зверя, раненого, измученного и ожесточившегося. Это была улыбка нового человека. Много пережившего, выстрадавшего, с глазами потухшими, но все еще живыми.
Это моя летопись, работа над ошибками. Я — сильный человек и имею мужество признать, что совершила в жизни много ошибок. И если бы можно было идти другим путем, какой путь выбрала бы я? Предать — никогда, убить — ни за что, украсть — разве что у себя самого. Сдать всех, а самому остаться на свободе? Нет, нет и еще раз нет. Это не мой путь, какую бы дорогую цену я за это ни заплатила.
Голос из репродуктора по ту сторону зеркальной комнаты заговорил, нарушив ход моих мыслей:
— Называйте фамилию, имя, отчество, год рождения, статью, начало и конец срока.
От неожиданности я вздрогнула, а потом заговорила, стала отвечать на вопросы. С кем я говорила? С зеркалами. Знала, что ошибиться нельзя, а то не выпустят. Это как детектор лжи. Проверяют, не забыл ли ты самого себя. Бывает такое в тюрьмах, когда вместо одного человека выходит на свободу другой. Срок можно купить или продать. Вот в целях профилактики и проводится этот опрос. Выяснили, что это действительно я, что срок честно отсидела, никому не продав.
Прав был Леха, говоря, что, как бы ни был велик срок, он имеет одно очень хорошее свойство. Он заканчивается. «Отсюда возвращаются. Были бы мы…» — слышала я Лехин голос.
Зеркала вздрогнули, дверь открылась. Голос из репродуктора строго скомандовал: «С вещами на выход». С какими вещами? Даже зубную щетку выбросила, чтобы не осталось тяжелых воспоминаний. Освободилась от всего материального, что имела. Разве я стала бедней? Нет, я стала богаче, я стала видеть то, что раньше было для меня недоступным и невидимым. Стала понимать то, что не суждено было понять.
***
Я переступила порог зеркальной комнаты. Оглядываться нельзя — плохая примета. Но зеркала, множащие изображение, дали возможность увидеть. У меня есть крылья. Почти невидимые, полупрозрачные, но очень сильные, несущие меня из этого ада.
На пороге зеркальной комнаты ожидали меня мои любимые мужчины: отец, брат, сын и Вячеслав. Красивые, сильные, любящие и любимые. Кто сказал, что нет мужиков?..
Второе ноября. Пасмурный осенний день. Раньше я бы сказала, что день ненастный, холодный, а потому нерадостный. Теперь я говорю, что это самый радостный день в моей жизни. Ничего, что сегодня не выглянуло солнце, оно выглянет завтра, обязательно выглянет.
Я переступила порог родного дома. В комнате было тепло, мама держала в руках зажженную свечу. Я хорошо видела мерцание огня, а мамин силуэт оставался маленькой черной тенью. Но в доме вкусно пахло пирогами, и я поблагодарила всех святых: мама дождалась меня!
***
После освобождения первым моим желанием было забыть все как страшный сон, но, побыв дома, немного придя в себя, я стала все чаще вспоминать своих девчонок.
Зачем мне это было нужно? Я собирала им посылки и несла короба на почту. Конфеты, шоколад, кофе, чай. Хотя самой было очень трудно жить без работы на пенсию родителей, да еще помогал Вячеслав встать с колен на ноги. Соберу посылочку — и на почту, пусть мои девчонки порадуются.
Одна сотрудница почты меня приметила, она знала меня и раньше. Сказала, когда я в очередной раз пришла отправлять посылку на казенный адрес:
— Когда вы все это забудете?
— Никогда! — ответила я ей, не раздумывая. — Такое не забывается.
Мне запретили работать врачом два года. А чем я должна еще заниматься? Вязать носки? Или строчить на машинке? (Хотя первые месяцы шитье на машинке мне помогало писать эту книгу. Всплывали воспоминания.) Такая уйма свободного времени. Чем заняться, чтобы не сойти с ума от всего случившегося? Забыть! Забыть! — говорила я себе, но поняла, что сделать это практически невозможно. Я должна найти Кристину. Я дала обещание Оксане. «Да все вы обещаете, когда освобождаетесь. Да только потом быстро забываете», — бытует такое мнение на зоне. «Пацан дал слово», — говорят те, кто живет по понятиям.
***
Единственное, что я знала о Кристине, это адрес того дома-интерната, где она воспитывалась. Я долго собиралась с мыслями. Зачем мне нужна чужая жизнь, чужая судьба, когда я в своей-то ничего не понимаю? Я сама жертва. Я проиграла. Меня бросил муж. Я попала в тюрьму, лишилась работы и великого звания — врач! Таких, как я, на пушечный выстрел к людям нельзя подпускать, решил суд.
Я ругала себя за бесцельно прожитые годы. А вдруг не бесцельно? Смысл?.. Во всем происходящем должен быть смысл. По теории ментов, я должна была сгинуть, и они сделали для этого все. А по теории сотворения человека Богом, я для чего-то осталась в живых. Я зачем-то нужна на этой Земле. То, что я видела, испытала, пережила, должны знать все. Я обязана рассказать об этом как мать, как врач, как гражданин. Я хочу, чтобы произошло чудо и люди проснулись. Проснитесь, оглянитесь вокруг! Судьи, прокуроры, следователи! Вы такие же люди, как все, а не сверхчеловеки. Судить должен закон, но не судья. Законов достаточно, чтобы оправдать человека или смягчить его участь. И всегда находится лазейка, но не для всех.
Это не крик отчаяния. Я не сломалась. А сколько людей, ищущих себя после тюрьмы и не могущих себя найти!
Я поспешила на поиски Кристины и очутилась в детском доме, пахнущем манной кашей, подгоревшим молоком и детскими страданиями.
***
— Я разыскиваю выпускницу вашего детского дома Кристину Иванову, — сказала я директору этого богоугодного заведения.
Она порылась в бумагах. Подняла уставшие глаза и спросила:
— А вы кто, собственно говоря, ей будете?
— Троюродная племянница двоюродного дедушки, — попыталась объяснить я ей.
Я не умею врать, и она мне явно не поверила, но все же сказала:
— Она не наша выпускница, она попала в тюрьму, и ее дальнейшая судьба мне неизвестна.
Я и сама знаю, что она попала в тюрьму. Ничего нового директор мне не сказала. И я не солоно хлебавши, надышавшись казенными запахами, покинула этот грустный уголок Земли. Выйдя за дверь, я, чуть не плача, прошлась по саду. Здесь и произошла трагедия, которая привела Кристинку в тюрьму, та секунда, которая изменила всю ее жизнь. Осенние листья уже начал заметать снег. Они превратились в замерзшие ледышки и хрустели под ногами.
Я вышла из ворот детского дома и заплакала. О чем я плакала? Не знаю. Обо всем сразу. Проходили мимо какие-то люди и косо смотрели на меня. Разве могут люди понять чужие слезы?
Что же делать? Я плакала от бессилия. Мои поиски прервались, так и не успев начаться. «Думай, доктор, думай!» — твердила себе я. А еще детективное агентство собиралась открывать, чтобы не умереть с голоду. Так, стоп! В каждом детском доме есть пожилая нянечка, которая отработала в нем лет пятьдесят, знает всех и вся и до сих пор в памяти.
На горизонте показался молодой человек, я его окликнула:
— Молодой человек, подскажите мне, пожалуйста, где живет няня из этого детского дома. Старенькая такая.
— А, баба Шура…
— Да, да, она.
— Вон там на горе дом с синим забором.
— Спасибо вам, вы очень любезны, — поблагодарила я парня.
Интуитивно я вычислила, что такой человек должен существовать, и парень, шедший мимо, подтвердил мое предположение.
***
— Здравствуйте, баба Шура. — Я не могла сдержать слез и заплакала, бросившись в объятья старушки.
Она рассматривала меня подслеповатыми глазами, пытаясь вспомнить.
— Вы меня не знаете, — сказала я бабе Шуре. — Мы с вами незнакомы.
Зачем старушке ломать голову, вспоминая меня.
— Да, вроде никогда не встречались.
Память у бабы Шуры была хорошая. Она сразу вспомнила Кристину Иванову, когда я о ней заговорила.
— Да, помню такую девчонку. Помню хорошо. Как такую забыть.
Я рассказала бабе Шуре всю правду, где была, что испытала, и о том, что интересуюсь не из праздного любопытства. Таким святым людям, как баба Шура, не лгут. Она сразу почует ложь, замкнется и ничего не расскажет.
— Да, досталось этой девчонке! Была у нас здесь одна хапужница, нет ее уже на белом свете. Прибрала девчонку к рукам. В чулане держала, рисовать заставляла, а картины продавала. Ювенальное искусство называется. А матери ее от ворот поворот дала, чтобы не мешала денежки на ребенке зарабатывать.
— А вы видели ее мать? — спросила я у бабы Шуры.
— Конечно, много раз.
— И почему она ее оставила?
— Времена были такие. Нагуляла она ее. Позор для семьи. А когда времена изменились, девчонки уже не было. Мать приехала ее забрать, а ей сказали, что девочку отдали в семью. Мать лишили материнства заочно. И тайну сохраняли все. Закон такой.
***
Я, конечно же, нашла ту самую усадьбу, где поселилась Кристина.
Осень уже давно шуршала желтыми листьями. Я шла по лугу с высохшей травой, моросил небольшой дождик, навевавший на меня грусть. Я шла не спеша, наслаждаясь великолепием природы.
Дорожка завиляла вдоль реки, и на горе уже был виден барский дом. Деревушка осталась где-то слева от меня, и я уверенно пошла по проселочной дороге в сторону имения. Каштановые аллеи встретили меня сыпавшимися на голову и трескавшимися при ударе колючими шишками. Клены поражали желто-оранжево-красной мозаикой. Птички облюбовали кусты калины: после первых морозов калина становится сладкой и необыкновенно вкусной.
Дождь иногда переходил в мокрый снег. Как бы долго ни держалась красота осени, зима все равно возьмет свое. Меня, недавно освободившуюся из тюрьмы, поражала яркость красок. После грязных прокуренных тесных камер я не могла надышаться свежайшим чистым воздухом. Ради такой красоты стоит жить. Почему я на это не обращала внимания раньше? Бежишь, спешишь, торопишься, глаз некогда поднять, — работа, семья, дети. А жить и радоваться жизни начинаешь лишь после того, как судьба тебя встряхнет и скажет: раскрой глаза, жизнь так прекрасна, а ты убиваешься, горюешь, плачешь… Я понимала, что начинаю жить только теперь, жить заново, жить по-новому.
Размышляя о жизни, я незаметно дошла до усадьбы. Сейчас я все узнаю и увижу собственными глазами. Поднявшись на гору и подойдя поближе к усадьбе, я увидела полуразрушенный барский дом и пепелище маленького домика, поросшее травой. Сразу поняла, что здесь давно никто не живет. Вороны встретили меня карканьем; не было говорящего ворона, он бы мне рассказал, что здесь случилось.
***
Я почувствовала неладное, в воздухе витал запах беды. Мой поисково-спасательный корабль опять нарвался на рифы. Рядом не было никого, кто мог бы прояснить ситуацию. До ближайшей деревни несколько километров, она осталась в стороне.
Я пустилась в обратный путь. В сторону деревни вела проселочная дорога. Дождь усилился, и я открыла зонт, потуже затянула шарф. Как быстро все меняется в жизни! Совсем недавно я была полна надежд на встречу, но вот опять леденящий холод забрался мне под одежду и в мою еще не согревшуюся после тюрьмы душу.
Деревушка оказалась небольшой. Было холодно, прохожих не видно, все сидели по своим хатам, — людям в такую погоду не хотелось даже носа высовывать на улицу. Я постучала в крайнюю хату. Чувствовала, что там кто-то есть, но мне долго не открывали. Я уже собиралась идти к следующему дому, но решила постучать еще раз.
Из-за двери мне закричали: «Слышу, слышу!» Я подождала немного, замки загромыхали, дверь отворилась, и на порог вышла уже немолодая женщина в фуфайке и цветастом платке. Она посмотрела на меня доброжелательно.
— На дворе возилась, поросят прибирала, корову.
— Здравствуйте, — поздоровалась я.
— Заходите, что на пороге стоять! — Женщина пригласила меня в дом.
Я зашла. В доме было тепло. Я продрогла и хотела согреться.
— Я к вам по делу, — не знала, с чего начать я, предчувствуя тяжелый разговор.
— Да к нам в такую даль без дела никто и не приходит.
— Вы Кристину Иванову знаете?
— Да как же не знать, — женщина тяжело вздохнула, подтвердив мои подозрения.
— А как ее можно найти?
— Да никак. Ушла она отсюда. Жила она вон там, в барской усадьбе.
Я не хотела перебивать рассказ женщины и молчала. Но она сама не стала больше ничего говорить.
— Может, чайку? С дорожки? — предложила она после затянувшегося молчания.
— Не откажусь, — ответила я.
Женщина засуетилась у плиты, заваривая чай, собирая на стол еду. Она явно тянула с разговором.
— Что случилось? — поторопила я ее.
— Да погорели они. Дом сгорел, картины сгорели, и девочка тоже сгорела.
Женщина заплакала и стала вытирать слезы фартуком.
— А Кристина?
— А Кристина куда-то после похорон Веры ушла, и больше ее здесь никто не видел. Да и куда ей идти, она ведь детдомовская. Пропала, да и все.
— А когда это все случилось? — спросила я.
— Да уже несколько лет прошло, — женщина вытирала слезы. — Судьба начнет бить одного, пока не добьет, а кто-то живет и беды не ведает. Помогали мы ей, когда она здесь поселилась. А тут в город поехала, а дом-то и вспыхнул, — замыкание проводки. А девочка одна дома была, спала. Пока мы туда добежали да пожарку вызвали, делать уже было нечего.
Женщина замолчала. Я тоже не знала, что сказать. Сказала, что обычно говорят в таких случаях: «Царствие небесное…»
***
Теперь мне кажется, что не было в моей жизни этих людей, этих тяжелых лет. Я просто прочитала эту книгу. Вернее, я ее написала, пытаясь читать. Но это очень тяжело.
Я перевязала рукопись красной атласной лентой, написала на обложке «Капкан для птиц» и отложила в сторону. Мне стало значительно легче. А ведь первым моим желанием было бросить рукопись в огонь, как когда-то поступил Леха со своими платьями. Но рукописи не горят.
Черная стена
Черная стена, а вдоль стены — дорога. Я оказалась далеко от своего порога. Как очутилась я за черною стеной? Дорога эта мне ниспослана судьбой. Я всю ее обязана пройти, Как ни было бы трудно мне в пути. Там за стеной, за чередой затворов Остались те, кто ждут, кто так мне дорог. Изорваны, испачканы одежды, Потеряны мечты, утрачены надежды. Иду одна, сбивая ноги в кровь. Я падаю и поднимаюсь вновь. Закрыла свет та черная стена. Нет рядом никого. Совсем одна… Конца не вижу страшному пути! Звезда надежды, путь мне освети! Я знаю лишь одно: что так угодно Богу. Что вывел он меня на страшную дорогу, Чтоб стала я еще сильней, Познав всю боль, познав людей! Мои стихи, написанные в тюрьме в 2007 году.1
Парижский уголовник 30-х годов. — Прим. ред.
(обратно)2
Село в Курской области. — Прим. ред.
(обратно)3
Отрицалово, отрицательно настроенные осужденные — заключенные, которые, с точки зрения администрации ИТУ, мешают ее работе, отрицательно влияют на других осужденных. — Прим. ред.
(обратно)4
Предполагалось, что в этих вновь созданных тюрьмах будет использован, например, принцип раздельного содержания заключенных. — Прим. ред.
(обратно)


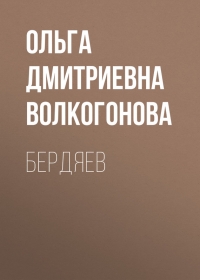


Комментарии к книге «Капкан для птиц», Светлана Богословская
Всего 0 комментариев