«МОЖЕТ БЫТЬ, Я ВАС НЕ ПОНЯЛ...»
ПОЧТОВЫЙ РОМАН ИСААКА ДУНАЕВСКОГО И ЛЮДМИЛЫ ГОЛОВИНОЙ (РАЙНЛЬ)
Предисловие
Кто-то заметил, что письма Чехова похожи на его рассказы. О письмах Дунаевского можно сказать, что они похожи на его песни, а особенно - на его притягательную инструментальную музыку: увертюры, вальсы, симфонические миниатюры — романтические, возвышенные, радостные...
Сегодня, впрочем, Дунаевский подвергается обстрелу именно за солнечность. Не так давно в популярном сатирическом журнале появились такие строки:
Когда по ночам лютовали аресты,
Но, стоны глуша, ликовали оркестры,
Царил Дунаевский, веселый маэстро,
О счастье народа песней пленя,—
Тогда за кого принимали меня?
Меня принимали за дурака!
В своем раже дискредитировать и сокрушать лакировочное искусство 30-х — 50-х годов мы начинаем путать Дунаевского с Бабаевским, то есть перестаем отличать талантливые, романтические произведения от бездарных, неуклюжих приспособленческих опусов. Гораздо проще поставить на одну доску роман «Кавалер Золотой Звезды» и кинофильм «Кубанские казаки» (по формальным признакам они вполне заслуживают этого), нежели попытаться выяснить, почему «Кавалера» не читали даже из-под палки, в то время как «Кубанские казаки» всегда шли в переполненных залах, а мелодии Дунаевского из этого фильма (например, «Ой, цветет калина») сразу же стали народными.
Трагедия Дунаевского состояла в том, что он верил Сталину. Но композитор отлично понимал: даже в кровавых буднях 30-х годов жизнь не могла полностью остановиться. Он знал, что люди страдали не только от наветов и пыток, но и от неразделенной любви. Дунаевский видел, что люди не разучились радоваться жизни — солнцу, весенней траве, новому производственному рекорду (а почему бы и нет?), появлению сына или дочери, хорошему спектаклю, и именно эту жизнь он воспевал. Так рождались крылатые мелодии «Нам песня строить и жить помогает», «Как много девушек хороших», «Широка страна моя родная», «Ох ты, сердце, сердце девичье», «Каховка, Каховка, родная винтовка» и всеми ныне поносимый великий «Марш энтузиастов». Так рождались его лучшие инструментальные сочинения, в том числе знаменитая увертюра к кинофильму «Дети капитана Гранта». Так впоследствии родился «Вольный ветер» — единственная советская оперетта, которую музыковеды поставили в один ряд с творениями Оффенбаха, Штрауса, Легара, Кальмана... Можно ли было упрекнуть Дунаевского в односторонности? Пожалуй, да. Но только не в приспособленчестве...
Ну а был ли Дунаевский свободен в своем становлении и развитии как художник? Здесь хотелось бы предварительно процитировать слова Игоря Золотусского о «слепоте несвободы»: «Это катаракта, которую только сильные могут содрать со своих глаз. Да и то при условии, что она может покрыть глаза сильных. Крупный талант не слепнет, я не знаю примера, чтоб он сломался, стал петь не свою песню,— могли быть минуты слабости, но родовая черта таланта не слабость, а сила». Думаю, что эти прекрасные слова вряд ли могут быть догматически применены к музыкальному искусству. Как известно, талантливая музыка всегда многозначней словесного текста, для которого она предназначена, а иногда даже вступает в противоборство с ним. Хороши бы мы были, вздумай воспринимать гениальную музыку Шостаковича сквозь призму верноподданнического текста его кантаты «Над Родиной нашей солнце сияет» или эффектного финального хора из кинофильма «Падение Берлина» — «Сталину слава!». А чудесные мелодии Дунаевского — почему же их до сих пор «заслоняют» тексты типа «Эх, хорошо в стране советской жить!», «Золотыми буквами мы пишем всенародный Сталинский закон», «Нам нет преград ни в море, ни на суше»?.. Если «родовая черта таланта не слабость, а сила», то сила Дунаевского в том, что он прославлял Жизнь наперекор царившей Смерти, то есть пел свою песню, а не чужую.
Вернемся, однако, к письмам композитора. Часть его эпистолярного наследия вошла в сборник «И. О. Дунаевский» (М., 1961) и в однотомник избранных писем (Л., 1971). В различных периодических изданиях продолжают появляться фрагменты новонайденных писем. И все же огромное количество писем еще не собрано и не издано. Любопытно отметить, что, за немногими исключениями, Дунаевский переписывался преимущественно с женщинами. Конечно, у него было немало преданных друзей среди мужчин, но переписка с ними носила, как правило, или деловой, или шутливый характер. И лишь перед женщинами композитор с неистощимой тороватостью раскрывал глубокие тайники своей души.
Без переписки Дунаевский не мыслил своей жизни, и подчас случайное письмо, полученное от кого-то, могло дать новый творческий импульс. Но пустой переписки композитор не терпел. В каждом письме искал прежде всего содержательность. «Я не понимаю, к чему тратить время на письма,— писал он своей корреспондентке из Николаева А. Л. Перской,— если люди в самом деле не заинтересованы друг в друге? Вот почему в письмах я ищу пытливого отзвука на многое, что меня интересует в самых разнообразных людях. Вот почему я стремлюсь углубить даже письменные отношения, сделать их содержательными и интересными».
При каких же обстоятельствах возникла переписка Исаака Осиповича Дунаевского и Людмилы Сергеевны Головиной (в замужестве — Райнль)?
В 1937 году двадцатилетняя студентка химического факультета МГУ, очарованная музыкой из кинофильма «Цирк», написала композитору письмо, в котором объяснилась в любви к его музыке и попросила прислать ноты. К этому времени Дунаевский уже успел привыкнуть к излияниям восторженных поклонниц, но именно в Людмиле он интуитивно разгадал родственную душу подлинного друга — буквально с первого же непритязательного письма.
Уже во втором письме Дунаевский пишет ей «родная» и «милая», остроумно использовав арию из своей оперетты «Ножи», чтобы смягчить впечатление от слишком быстрого употребления этих эпитетов. Одновременно эти «родная» и «милая» смягчают критическую реплику по поводу и интерпретации Людмилой «Лунного вальса». Рефрен же «в другой раз» не оставляет сомнения, что Дунаевский стремится укрепить эту дружбу.
А Людмила отвечает ему с очаровательным трогательным кокетством, за которым угадывается легкая влюбленность в музыкального кумира молодежи тех лет.
Дунаевский и вполне определенно (хотя как бы мимоходом, весело) предостерегает ее от утопических мечтаний, от того, чтобы она не обманулась и не влюбилась по-настоящему, и панически боится ее потерять.
К этому времени семейное счастье, казавшееся незыблемым, медленно, но верно начало разрушаться. Со второй половины 30-х годов композитор фактически перестал быть мужем Зинаиды Сергеевны, с которой прожил более десяти радостных лет. Шло время. Скажу, забегая вперед, что впоследствии у Исаака Осиповича образовалась новая семья. Но положение по-прежнему оставалось двусмысленным, жизнь все так же шла через ухабы: формально он не расторг брак с Зинаидой Сергеевной. О неустроенности быта Дунаевского мы узнаем из его же письма к Л. С. Головиной-Райнль от 29 ноября 1947 года: «Мой сын уже большой! Художник! Ему 15,5 лет. Но жизнь моя сложна и мучительна. В 1945 году — 15 января — у меня родился второй сын от другой, моей фактической жены. Зовут его Максим. По-латыни maximus значит самый большой. И это действительно одно из самых больших и самых мучительных моих переживаний... все это страшно неустроено, раздвоено...»
Нужно сказать, что в 1937 году, когда началась переписка Дунаевского и Людмилы Головиной, жизнь юной студентки тоже была далеко не безоблачной: жертвами репрессий стали ее отец и дядя — известный пролетарский поэт Василий Князев (автор песни «Никогда, никогда, никогда, никогда коммунары не будут рабами!»).
Переписка длилась более пятнадцати лет. Были длительные перерывы, когда они теряли друг друга — их разлучала война, а также обстоятельства личной жизни. Возможно, некоторые письма покажутся слишком интимными. Но они представляют собой ценнейший художественный документ, раскрывающий личностное очарование двух людей, чья любовь-дружба была возведена в высшую степень человеческой духовности (некоторое «балансирование» на острие здесь вполне естественно). Поразительна фраза Дунаевского: «Мои чувства остаются неподнятыми Вами». Не непонятыми, а не поДнятыми! В контексте письма открытость чувств композитора необычайна, это открытость в сочетании с огромным доверием к своей корреспондентке.
Письмами Дунаевского Л. С. Райнль распорядилась с потрясающей простотой. Вот что мне рассказал музыковед Д. М. Персон, в свое время опубликовавший фрагменты нескольких писем: «Полные копии писем, без малейших сокращений, Людмила пересылала мне из Арамиля в Москву. Пересылала небольшими партиями — по мере того, сколько успевала перепечатать за неделю. Потом приехала в Москву с оригиналами: «Сличите с копиями, я не пропустила ни одной запятой».— «Людмила,— говорю я ей,— тут, знаете ли, такие вещи... неужели вы не боитесь посторонних глаз?» — «Боюсь,— отвечает.— Даже перед машинисткой было неловко — она могла подумать, что я нарочно рекламирую себя в таком виде. Но еще больше боюсь прикоснуться хоть к одной букве... Понимаете, это уже не принадлежит мне. Это, мне кажется, уже достояние нашей культуры... Вот в своих письмах я многое убрала, уничтожила. А в его письмах — не могу. Когда будете публиковать, сокращайте сами, что хотите, о моей репутации не думайте — лишь бы не навредить Зинаиде Сергеевне... А потом эти письма в нетронутом виде я подарю какому-нибудь музею...»
Таким образом, сама Л. С. Райнль во многом помогла разрешить вопрос об этичности публикации ее переписки с Дунаевским. Тем более что в письме к Д. М. Персону от 19 января 1957 г. она, так сказать, документально подтвердила свое решение: «Переписка эта носит большей частью личный характер, но мое мнение таково, что раз она существовала и тем более занимала такое большое место в жизни И. О. [...], то выбросить все личное — значит обеднить образ И. О., не показать его внутреннюю красоту».
Итак, перед нами настоящий «роман в письмах». Причем под словом «роман» я имею в виду не только взаимоотношения мужчины и женщины, но и литературоведческий термин. Это повествование со сложным сюжетом, развернутым во времени, где есть и завязка действия, и развитие событий, и кульминация, и очевидная неизбежность печальной развязки...
В 1955 году, после смерти композитора, Людмила Сергеевна приехала в Москву, и 3.С. Дунаевская вернула ее письма (кроме двух первых, потерявшихся, и двух последних, оказавшихся среди бесконечного количества других бумаг). Таким образом, в руках у Л. С. Райнль оказалась почти вся переписка. Вернувшись в Бобровку, где она работала инженером на заводе искусственного волокна, Людмила Сергеевна пережила страшное потрясение, после которого долгое время находилась в состоянии полусна-полусмерти. Об этом она рассказала в письме к Д. М. Персону от 5 марта 1957 года:
«Вы, конечно, при встрече обратили внимание на мой несколько странный вид. Все, что на мне было,— все это не мое, чужое, а сама я тогда только начала оправляться от этого ужаснейшего потрясения, которое граничило у меня с сумасшествием. Дело в том, что 4 октября прошлого года, ночью, сгорел дом, в котором я жила. Сгорел со всем имуществом, спасти не удалось ничего. Сгорела и моя несчастная парализованная мать. Дети, раздетые и разутые, выскочили из огня первыми и благополучно. Я, уже в бессознательном состоянии, задохнувшаяся и обожженная, вывалилась из окна. А больная мать осталась. Несколько минут растерянности все решили. Спасти ее не удалось, вытащили уже обугленный труп. Вот и все. Сохранившаяся переписка по случайности находилась у меня на заводе».
Людмила Сергеевна пережила Исаака Осиповича почти на четверть века — она умерла в декабре 1979 года, в возрасте 62 лет. Зная, что болезнь неизлечима, она успела распорядиться своим архивом, в том числе перепиской с Дунаевским. Нужно сказать, что после пожара архив Людмилы Сергеевны стал вновь как-то незаметно расширяться: она хранила письма В. В. Князева, начала переписываться с А. И. Хачатуряном и другими известными композиторами и писателями. «Лично я считаю, что мой архив б е с ц е н е н,— писала она за несколько месяцев до смерти другу студенческих лет А. Е. Иванкову,— то есть очень дорого стоит, поэтому ни о какой компенсации не может быть и речи — конечно, я все передам в дар, безвозмездно...»
Александр Ефимович Иванков мне рассказывал: «После смерти Людмилы Сергеевны наследники передали мне письма Дунаевского. Выполняя ее волю, я подарил их Государственному центральному музею музыкальной культуры имени Глинки. Что же касается писем самой Людмилы Сергеевны, то ее дети — дочь и два сына — на семейном совете пришли к выводу, что они не представляют какой-либо художественной ценности. И решили их уничтожить. И действительно уничтожили — сожгли письма своей матери... Те самые письма, которые случайно уцелели во время пожара...»
В удрученном состоянии работал я в музее имени М. И. Глинки, снимал копии с писем Дунаевского. Конечно, письма композитора сами по себе были содержательны и прекрасны, но без ответных писем Л. С. Райнль все же чего-то не хватало.
В 1987 году умер Д. М. Персон. Его вдова, Мелитина Михайловна Бернер, выполняя волю покойного, передала мне небольшую часть архива. Имеет ли смысл описывать мои чувства, когда, разбирая бумаги, я вдруг нашел пакет с авторскими машинописными копиями писем Л. С. Райнль к Дунаевскому? Значит, Людмила Сергеевна на всякий случай сняла копии и со своих писем и передала их Персону. Воистину — рукописи не горят!
Искать ее первые два письма было бессмысленно — очевидно, сам Дунаевский их не сохракил. Но существовали еще два последних письма, которые композитор не успел приобщить к остальным. Недавно я нашел и эти письма Л. С. Райнль — они оказались в ЦГАЛИ (ф. 2062, on. 1, ед. хр. 510).
Так сложился этот удивительный «роман в письмах».
Н. Шафер
***
[Ленинград, 30 мая 1937 г.]
Тов. Людмила Головина!
Ваше милое письмо я получил и благодарю Вас за теплые строчки.
Увы! Все, что Вы просите, пока не предназначалось для фортепианного исполнения, и даже у меня не существует в фортепианном изложении, а только в партитурах. Но так как Вы правы в том, что многие просят у меня эти вещи, то придется сделать фортепианные изложения этих вещей, но для этого нужно время и... Ваше терпение. Если Вы обладаете им, то пишите, куда Вам можно будет послать, так как близятся каникулы, и люди в это время передвигаются с места на место. (...)
Будьте здоровы.
Жму Вашу руку. И. Дунаевский. (...)
Не бойтесь меня, я не страшный!
Ленинград, 28/VI —37 г.
Этот кусочек из моей оперетты «Ножи» вполне подходит к случаю, хотя не годится ни по форме, ни по содержанию к моим чувствам в данном случае.
Слово «родная» — это очень большое слово, ну а милой я даже хочу Вас назвать.
Так вот, милая Людмила! Теоретик из Вас плохой. Никакой ошибки в «подозрительном» для Вас такте «Лунного вальса» нет. Там действительно должно быть ре-бемоль, а не ре-чистое, так как ребемольный аккорд разрешает предыдущую гармонию. Кроме того, если Вы будете играть, как Вам хочется, то Ваше ре войдет в противоречие с ре-бемолем в басу.
Нет! Придется на этот раз примириться Вам с авторской орфографией. Я это категорически требую, так как мои корреспонденты из уважения ко мне должны соблюдать мои гармонии.
Я думаю, что Вы ничего не будете иметь против того, чтобы я заменил Ваш экземпляр «Лунного вальса» другим, лучшим. Вообще с моими произведениями делается черт знает что. Издательства, желая удовлетворить спрос, печатают мои песни на всяких бумажных отбросах любых цветов. Я очень негодую на это, но они говорят, что на миллионные тиражи нет хорошей бумаги. Но Людмила Головина должна иметь произведения Дунаевского на хорошей бумаге.
Все, что Вам не хватает, я Вам в ближайшие дни вышлю. Постараюсь выслать печатный сборник, если удастся заполучить его в издательстве. Он вышел небольшим пока тиражом.
Я буду рад (без кавычек) Вашему посещению, если Вам придется быть в Ленинграде. И мне «ужасно» хочется посмотреть, что Вы из себя представляете. Почему? Об этом в другой раз. Ваши письма мне нравятся. Почему? В другой раз. А пока потрудитесь не задерживать ответа. Я здесь до 15—16 июля, после этого еду на юг. Маме Вашей передайте мой привет и скажите, что я легко «вдохновляюсь», если есть от чего.
Людмила! Будьте здоровы, отдыхайте хорошо. Жму Вашу руку и шлю свой нежный привет.
И. Дунаевский.
[9 июля 1937 г.]
Чтобы не быть ошибочно понятой, начну издалека, что, надеюсь, и послужит мне оправданием.
Домой я выехала в виду непредвиденных задержек лишь 8-го июля. Москва провожала меня неприветливо: было пасмурно и все время лил дождь. Но чем ближе приближалась я к югу, тем ярче и солнечнее становилось вокруг. Казалось, все в природе пело: и солнце, и звонко-зеленая степь, и прозрачный воздух, напоенный ароматом полевых трав и цветов. И вся эта гамма ощущений как-то бессознательно осязалась и воплощалась, была неразрывно связана с такими же бодрыми и солнечными песенками Дунаевского (да не будет композитор в претензии за такое сравнение).
От станции пришлось ехать 30 км легковой машиной, и это еще более поднимало настроение. Над дальнейшим опускаю занавес... Скажу только, что после первых приветствий мне дали Ваше письмо. Я с нетерпением разорвала конверт, затем... Ни за что не догадаетесь, что я сделала затем. Я села за стол, положив рядом письмо, и за все время трапезы не притрагивалась к нему, лишь изредка поглядывая плотоядно на него.
Кончив кушать, ушла в свою комнату и только там медленно извлекла письмо из конверта и прочла его. Меня сразу же очень тронуло то, что оно не было отпечатано на пишущей машинке. Ваши вопросы, заданные самому себе и оставшиеся без ответа до «другого раза» (?), как и следовало ожидать, заинтриговали меня. Как долго мне придется ждать этого «другого раза»?
Да, забыла поблагодарить Вас за ноты. Правда, они все у меня есть, но мне ценен сам знак внимания.
В «Лунном вальсе» покоряюсь Вашим требованиям и авторитету, хотя, нужно сознаться, убедить меня полностью Вам не удалось. Ведь когда я беру ре-чистое в скрипичном ключе, я беру такое же ре и в басовой партии. Хотя, правда Ваша, теоретик я очень плохой, и даже больше — совсем почти незнакома с теорией. Кстати, о знакомстве. Уж, видно, суждено мне первой делать шаги в этом. Скажите же, как обращаться к Вам, ведь я не знаю Вашего имени, а по фамилии называть все время как-то неудобно.
Простите за бессвязное письмо, но сейчас поздно, а с дороги, да еще плюс после ванны и хорошего ужина — ужасно хочется спать. Но клянусь своей бородой — или (что звучит солиднее) клянусь маршем из «Цирка» — буду стараться, чтобы последующие письма были интереснее.
Пока желаю Вам спокойной ночи, разве может что-либо соперничать сейчас с хорошей постелью!
Да будут удачи сопутствовать Вашей поездке на юг.
Людмила. (...)
Из другой комнаты доносится хорошая музыка, а мне еще надо оторвать ноги от пола и подняться с кресла, чтобы выключить лампу и бухнуться в постель.
Dixi!
(по-латыни это значит: нет больше пороха в пороховницах).
Ленинград, 23/VII—37.
Я с удовольствием прочитал Ваше очаровательное, живописное письмо. Пожалуй, в нем самом Вы ответили на то, о чем я обещал Вам сказать «в другой раз». Я получаю очень много писем. Помимо обычной остроты и любопытства, связанных с перепиской со многими неизвестными корреспондентами, я ищу в этих письмах отзвуки нашей жизни. (...) Конечно, не на все письма я отвечаю. (...) Но если я улавливаю в письме нечто такое, что отвечает моей огромной пытливости, то я проникаюсь к этому корреспонденту чувствами нежности и веду с ним переписку до той поры, пока его письма отвечают основной идее переписки.
Для того чтобы я был правильно и исчерпывающе понят, надо многое говорить о себе. (...) Сейчас скажу кратко: художник должен, как губка, впитывать людей и окружающую действительность. Мне 37 лет, я прожил, как мне кажется, интенсивную и не лишенную хорошего содержания жизнь. И тем не менее я никогда не говорю про новые явления, что я их уже где-то видел, где-то и когда-то испытал. В каждом человеке есть что-то новое. А особенно в новом, юном советском человеке, формирующемся иначе, на другой закваске, чем формировались мы, люди среднего поколения. (Вы заметили, что я из деликатности не сказал о себе: «Люди старшего поколения».)
Так вот, милый человек, в письмах скрещиваются самые разнообразные струи, мысли, желания. Многое в них покрыто пылью и плесенью старого, многое сверкает радостью и полнокровием нового, нынешнего. Ваше письмо отличается вторым признаком, и оттого оно мне дорого и приятно. Впрочем, это предварительное впечатление, которое Вы в дальнейшем еще должны подкрепить.
Вы совершенно правильно заметили разницу между машинкой и собственным почерком. Но тут дело не только в этом, а в том, что нашу переписку я буду вести без участия секретаря, а это, в свою очередь, значит, что эта переписка становится моим глубоким личным делом. (...)
«Песня о стрелке» («Пиши, не забывай») и «Застольные куплеты» отправляются Вам одновременно с этим письмом. Слова «Стрелки» весьма «философичны». В общем, исполнение этой песни требует большой изящной простоты и выразительности.
Ну, милая Людмила, буду кончать. Если среди буйного и сосущего восприятия отдыха и природы Вы вспомните меня, то напишите о себе побольше. Не смущайтесь тем, что я уезжаю. Вся корреспонденция будет мне переотправляться. Так что обязательно пишите, пока не получите моего адреса, на адрес ленинградский.
Сердечно и нежно приветствую Вас. Жду Ваших нужных строк. А я, в свою очередь, обещаю об очень многом и об очень интересном с Вами разговаривать. (...)
Будьте здоровы, счастливы. Отдыхайте хорошенько.
И. Дунаевский.
P. S. После того как написал свое письмо, еще раз прочитал Ваше.
Сообщаю для сведения: 1) Зовут меня Исаак Осипович. 2) «Dixi» по-латыни значит «сказал». То есть, как у нас говорят, «Все!». А порох Ваш тут ни при чем. Когда латынь была в почете у древних, человечество еще не додумалось до этой штуки.
Я надеюсь, что Вы поймете, что я шучу и что не собираюсь заниматься уроками лингвистики. Ваше письмо так обаятельно, что мне начинает казаться мое письмо слишком серьезным и нудным. Если это и Вам покажется, то это будет очень для меня неприятно. Тем более что по свойству своей натуры я умею и смешить.
Dixi! («Есть порох в пороховницах!»)
Москва, 1 августа 1937 г.
Милая, хорошая Милочка! Ваше письмо получил в Ленинграде за два часа до отхода поезда. Спешу Вам написать хотя бы несколько слов. Я в Москве, откуда сейчас еду дальше в Севастополь, потом морем куда глаза глядят. (...) Когда будете возвращаться в Москву, напишите, где в Москве Вас разыскать.
«У ж а с н о» хочу Вас увидеть, какая Вы.
За латинское замечание не сердитесь — это я хотел сам хвастнуть давно растерянным знанием этого языка. (...)
Сердечно Вас приветствую и крепко жму руку. Я бы поцеловал Вас, да... Впрочем, целую крепко.
Вы — хорошая. Вас поцеловать даже просто нужно.
Ваш И. Дунаевский.
[Первая половина августа 1937 г.]
При первом взгляде на Ваше письмо я хотела разразиться гневом. Как?! Чем больше я пишу, тем меньше Ваши письма! И я уже решила написать Вам лишь несколько строк, проверить, правильно ли подмечена обратная зависимость в размерах писем. Но... оказывается, слишком рано погорячилась. Вы отвечаете на мои мысли и полностью разбиваете первоначальное впечатление.
Вы путешествуете морем — счастливец! Я никогда не плавала на морских пароходах, хотя у моря бывала не раз. Вы часами будете просиживать на палубе на каком-нибудь соломенном кресле, томясь от безделья,— вот этим-то я и воспользуюсь! Вы, милостивый государь, как-то обещали мне написать подробнее о себе. Извольте же исполнить данные обещания. Отдерните край занавеса и дайте взглянуть на Вас поближе. Вы не смеете (!!!) отказываться! Меня очень интересует Ваша жизнь, вся, начиная с Ваших родителей и кончая днем, когда Вы получите это письмо.
То, что я умею шутить, я Вам, кажется, доказала. Но Вы меня не знаете серьезной, а таковой я бываю очень часто. Вот, например,— мне очень хочется с Вами познакомиться, но... в то же время я боюсь этого. Вы, возможно, составили себе мнение обо мне, не совсем совпадающее с действительностью. Возможно, я представляю Вас иным, чем Вы есть на самом деле. Так вот, я боюсь разочарования — и Вашего, и своего.
Видите, я очень откровенна. И всегда после такой откровенности в письмах, при последующих встречах даже со знакомыми, бываю очень дикой, потому что мучительно стесняюсь того, кто хоть немного заглянул мне в душу. (...)
В Москву я еду числа 15-го августа, нужно устраиваться с общежитием. (...)
Жду от Вас какой-нибудь экзотической карточки, например — что может быть оригинальнее! — Вы верхом на дельфине! Серьезно, была бы очень рада, если бы Вы подарили мне свою карточку. Это было бы знакомством на расстоянии.
Мила.
(...) С нетерпением жду ответа.
Все больше и больше начинают нравиться «Колыбельная Мери» и «Лирическая» из «Искателей счастья», особенно вступление.
Ленинград, 3/IX—37 г.
Это, миленькая моя, не фокус писать письма, когда свободна и делать нечего. Теперь я понимаю Ваше «геройство», когда Вы от скуки в Щербиновке частенько брались за перо и писали неведомому композитору. А вот попробуйте писать, потому что хочется, потому что есть потребность, не взирая на занятость, усталость и прочее. Видимо, на это Вас не хватило. Письмо Ваше нудное, такое же, как, наверное, и Вы были в тот момент. Очевидно, желание спать оказалось сильнее желания писать. Думаю, что проще было бы сразу завалиться в постель. Я не сержусь на Вас, но Вы мне испортили настроение. (...)
(Ага! Всыпал! Будете теперь знать!)
Я еще Вам очень серьезно скажу: не надо заменять праздничную приподнятость и вполне понятную остроту нашей переписки формальными вежливыми отписками. Это, сударыня, сделали Вы, и Вам надлежит в этом немедленно сознаться.
Пожалуйста, не язвите насчет расточительности моих поцелуев. В том и сказывается вся отвратительность Вашей ужасающей натуры, что Вы чудесный и светлый мой порыв готовы немедленно разменять на банальные колкости.
Ничего! При встрече мы с Вами посчитаемся. (...)
В Москву я вряд ли выберусь раньше 9-го. Десятого проеду в Киев, но от утра до 8-часового [вечернего] киевского поезда есть время, чтоб взглянуть на Вашу злобную старческую физиономию. Ждите моей телеграммы о дне выезда. (...)
Бесконечно сердитый И. Д.
Целовать Вас больше никогда не буду (даже в письме!).
Москва, 6/IX—37 г.
Ваше письмо заставило меня вначале искренно расхохотаться, потом мне стоило уже труда удержать на лице улыбку, и, наконец, я рассердилась. Так вот благодарность за то, что эти два дня я никуда не отлучаюсь из дома и жду Вас, жду минутами, часами. Бегаю по два раза в день на почту и совершенно не могу углубиться в занятия. И сегодня (когда выяснилось, что Вы не приедете) отказалась идти на танцплощадку (сколько самоотречения-то!), лишь бы сейчас же ответить Вам; а Вы... Вы носите написанное уже письмо два дня в кармане и не только не удосужитесь бросить его в ближайший почтовый ящик, но и отдать для этой же цели тому же секретарю!
А я вот сегодня, лежа на нашей импровизированной тахте и держа в руках учебник (увы, только держа), услышала, как за стеной запели Вашу песенку и... Впрочем, не буду продолжать, не стоите Вы этого.
Это, миленький мой, не фокус приезжать в Москву, когда этого требуют дела, когда это необходимо. А вот попробуйте приехать, потому что хочется, потому что есть потребность (взглянуть на старческую физиономию), не взирая на занятость, усталость и прочее. Видимо, на это Вас не хватает. (...)
Несколько слов о нашей переписке. Почти всегда я пишу Вам, находясь в приподнятом настроении. ПОЧТИ всегда Вы не обманываете моих ожиданий. (...) Но меня часто грызет мысль, что пишете Вы не мне одной, а очень многим. Может быть, отчасти это и было причиной того, что я написала Вам такое письмо. Этим неудачным маневром я думала вызвать Вас на более длительный разговор. Увы, невинная хитрость не удалась. Вы не пошли на эту удочку. (...)
А все-таки мне доставляет удовольствие мысль о том, что Вы меня не представляете, не можете сейчас видеть, а я вот беспрепятственно разглядываю Вас. И Ваш пристальный взгляд не попадает в цель, он мертв. Хотя, нужно сознаться, при писании первых страниц этого письма я держала Вашу карточку перевернутой возле себя.
В заключение... Впрочем, заключение сделаете сами.
Dixi!
Мила.
Ленинград, 9 сентября 1937 г.
Во-первых, я категорически отвергаю Ваши обвинения: письмо свое я отправил немедленно. Я вынужден сказать, что мои деловые (уже не говорю о других) корреспонденты мечтали бы о такой моей аккуратности. Во-вторых, не думайте обо мне дурно и знайте, что я пишу не всем одно и то же. В-третьих, поговорим немного о романтике.
Моя жизнь довольно красочна, хотя и утомительна. Сюда я причисляю все разделы моей работы, взаимоотношения с людьми, радость творчества, удовлетворение удачей и гордость успехами; сюда я причисляю художественное честолюбие, щекочущее самолюбие и прочее, прочее, прочее. И все-таки, когда приходят Ваши письма, то в моей, казалось бы, и без того довольно ярко освещенной жизни становится еще светлее. (...) Я глубоко дорожу всяким проявлением ко мне теплоты и внимания. Я думаю, что это вследствие того, что я скромен. Знаете, ведь бывают люди, которые выходят на поверхность жизни и забывают это правило. (...)
Я же чувствую признательность за каждое такое проявление, откуда бы оно ни исходило. Судите сами: где-то в глуши тайги, в захолустье Омского края или Харьковской области простые человеческие души хоть на минуту освещаются моими теплыми строчками — ответом на их теплоту. Письмо от композитора Дунаевского, песни которого они поют и любят, мне кажется, является для них чем-то отличающимся от их нормального ощущения.
Но каким образом могло случиться, что Вы вдруг ни с того ни с сего потеряли чувство сравнения и решили себя причислить к одной из многих, которым я пишу. Вы, право, меня обижаете, потому что судите обо мне как о конторе по сбыту чувств и флирта или, чего хуже, по кружению голов двадцатилетним девушкам.
Каким образом случилось, что Вы не разглядели в моих письмах того, что называется романтикой? (...) Стоит ли мне еще сознаваться в том, как нетерпеливо жду я Ваших писем, как они влияют на мое настроение, как своими телеграммами мне хочется ни на один лишний час не оставлять Вас вне правильного ощущения моих подлинных настроений?
Вы видите, я сказал больше, чем надо. Мы с Вами об этом поговорим подробно и лично. Но... не испытывайте мою душу: перелететь к Вам по воздуху я сегодня не смогу, и Вам придется Ваш свободный вечер провести без меня.
Что касается моего приезда, то я еще Вам надоем в мои частые московские пребывания. Мне удивительно хорошо при мысли, что Москва приобретает для меня новый и... острый интерес.
Людмила! Пишу Вам это с огромной тревогой. Мне не нравится, что Вы не танцуете, что Вы держите учебник, ничего не понимая в нем. Мне хотелось бы, чтобы это было шуткой, на которые Вы так щедры. Боже упаси, если я воткнусь тяжелым (хоть и приятным) камнем в Вашу радостную жизнь. Об этом Вам надо подумать. Я хочу Ваших слов, Ваших чувств, Вашей теплоты, но при одном условии: чтобы это было Вашей радостью.
Если все, что я пишу, повергнет Вас в недоумение, учтите краску стыда, зальющую мое лицо, и простите меня, дурака, попавшего пальцем в небо. (...)
Мой нежный, нежный привет Вам, моя хорошая.
Ваш И. Д.
Ревякино, 16/IV—41 г.
Дорогой Исаак Осипович!
Позвольте, хотя и с некоторым опозданием, поздравить Вас с великой, вполне заслуженной наградой — званием Сталинского лауреата. (...)
[...] Помните ли Вы меня, Исаак Осипович? Вашу «старую знакомую» Людмилу Головину, с которой у Вас одно время была оживленная переписка, окончившаяся знакомством? Так вот, за эти два-три года огромные перемены произошли в моей судьбе: я вышла замуж, и у меня десятимесячный сын. Замужество мое оказалось неудачным: влюбившись без памяти в человека, ставшего моим мужем, я недостаточно хорошо узнала его характер, а последний оказался очень тяжелым. Год пролетел как во сне, а потом... не буду перечислять всего, что мне пришлось вынести, достаточно уже того, что наша совместная жизнь в дальнейшем для меня невыносима. Муж не хочет развода со мной и грозит отнять у меня ребенка в случае моего ухода. Я не хочу прибегать к помощи суда, но положение мое очень тяжелое. Будь бы жив папа, он помог бы мне во всех отношениях. Но вот уже два года, как наша семья распалась: брат учится в Ростове, а мама переехала ко мне на постоянное житье. И вот под давлением всех перечисленных обстоятельств я решилась на... побег от мужа. Уладив с работой, я «снимаюсь с якоря» и переезжаю куда-нибудь подальше от Ревякино [...]
[Ленинград, 27 апреля 1941 г. Дунаевский отозвался взволнованным письмом. "К сожалению, - пишет в своих воспоминаниях Л.С. Райль, - письмо Исаака Осиповича, такое тёплое и сердечное, у меня не сохранилось"]
Тула, 7/V—1941 г.
Добрый день, мой дорогой друг!
Да будут все дни Ваши добрыми и хорошими. (...)
Из Ваших рассказов я могла понять, что и Ваша личная жизнь сложилась не совсем удачно. По-моему, это особенно несправедливо по отношению к Вам, которого любит вся страна, который нужен стране. Я, например, останусь признательной Вам на всю жизнь с того самого момента, когда Вы так мило и сердечно ответили на мое первое письмо. Вы — это то необычное, что иногда бывает в жизни некоторых людей.
Ну, пока все.(...)
Подписываюсь по-прежнему Мила.
Моя новая фамилия — Райнль. (...)
Москва, 22/Х—1947 г.
Милая, хорошая Людмила! Как я рад, что нашел Вас, что могу Вам снова писать. Так получилось, что я прозевал Вас, ибо Вы дали мне для свидания такой короткий срок, что ни повидать Вас, ни дать Вам знать о своей радости я не мог. (...) Да и жизнь тогда, помню, какая-то была сумбурная, полная забот и переживаний. (...) Были годы тяжелого раздумья, душевного одиночества, обиды и разочарований, когда никому не писал, не отвечал. Не хотелось... По сравнению с моим ленинградским периодом все как-то осело на одну ступень, жизнь в творчестве, в обществе приобретала новую окраску, исчезло кипение, задор, когда я находился в переписке и общении со всей страной. Меня многие забыли, а может быть, и потеряли мой след. Война и здесь внесла свои опустошения. Мой почтовый ящик большей частью наполнялся газетами и журналами, а не письмами моих далеких и близких, знакомых и незнакомых друзей. Вы — чуткая, хорошая душа. Я никогда не переставал думать о Вас таким образом, когда мысль бродила по жизни. Может быть, именно поэтому не стоит долго останавливаться на большом, но печальном периоде моей жизни. Скажу только, что я не изменился, ничто во мне не изменилось. Но... «делателям погоды» в сфере муз[ыкального] творчества понадобились кое-какие изменения в расстановке сил. Вот и все, собственно говоря. Захотите — расскажу подробнее. Надеюсь, что мы с Вами продолжим теперь и наше знакомство, и нашу светлую переписку. Так вот, вылезши из этого периода и сохранив нетронутой свою творческую гордость и честь, а заодно, конечно, и человеческое достоинство (высший дар!), я, по окончании крупной и напряженной работы над моей опереттой «Вольный ветер», почувствовал потребность в ответе на многие письма, лежавшие у меня по два-три года. (...) И вдруг... натыкаюсь на Ваше письмо. Почти с безнадежностью я написал (...) и уехал отдыхать в Хосту (Сочи). Приехал вчера, и — Ваше письмецо, которого я совсем не ожидал. Вот теперь спешу ответить, спешу так, как спешат писать только своим возлюбленным. (Я надеюсь, что Вы меня правильно поймете и не обидетесь.) Спешу и потому и, если хотите, главным образом потому, что грустью и горечью веет и от Вашего старого письма, и от нового. Я ведь ничего не знаю. Вы пишете о тяжелой болезни Вашего сына и больше о себе не хотите ничего, писать. Где Вы, почему Вы, что Вы, кто Вы, как Вы? Почему Саки? Почему Вы кочуете? (...)
Потом так: мои письма как луч света, воспоминания обо мне освещают душу.
Людмила! Значит... темно? Очень темно?
Но в таком случае имеете ли Вы право, уже садясь за письмо ко мне, ограничиваться несколькими строчками, ничего не говоря о себе, о своей жизни, самочувствии и т. д.? Я думаю, я хочу думать, я буду просить Вас посвятить меня, если возможно, в эти вопросы. Что с Вашим сыном?
Мне хочется, чтобы Вам было хорошо. Есть на свете очень мало людей, судьба которых меня глубоко трогает. И среди этих людей — Вы, моя родная! Мне хочется, чтобы Вам было хорошо. И если Вам плохо, то доставите ли Вы мне радость помочь Вам всем, что в моих возможностях? Вы должны хорошо меня понять:
Вы — это моя смешливая, чудесная, задорная корреспондентка. Ваши письма — все у меня хранятся. И если Вы вспоминаете нашу переписку, наше короткое личное знакомство как светлый период Вашей юности, то знайте навсегда, что Вы — тоже часть моей юности. Только юности другой — творческой. Вы — часть того периода, когда моя творческая сила была всепобеждающей [...]. Об этом ушедшем и невозвратимом не надо жалеть. За это только надо благодарить судьбу. Но именно тогда, в тот период, я мог с душевной просветленностью восторгаться Вашими светлыми письмами; именно тогда я мог с замиранием всего существа искать на автомобиле Ваш адрес где-то в Останкино, в корпусах студенческих общежитий, искать свою милую незнакомую корреспондентку Людмилу Головину. Это вовсе не был авантюризм, поиски легких приключений, фрайерство знаменитого человека. Нет, боже упаси! Это именно была улыбка жизни, полнота жизнеощущения, радость жизни! (...) Может быть, эта непорочная наша связь и есть именно та радость, лежащая над всем житейским у меня и у Вас, что освещает наши души. Я не знаю, как это называется, и я не знаю, ревнуют ли мужья и жены к такого рода явлениям. Но я знаю, что это прекрасно, когда люди сохраняют в своих душах нерасплескиваемую энергию радости соприкосновения пусть маленьких, но громадных по своему свету кусочков общей священной слитности. (...)
Судьбе все-таки было угодно, чтобы мы снова нашли друг друга [...].
Я сейчас ничего больше не хочу Вам писать. (...) Я буду счастлив получать Ваши письма и обещаю, что самой большой радостью будет для меня отвечать на них. (...)
Ваш И. Дунаевский. (...)
Саки, 3/XI—47 г.
Мой дорогой друг!
С невыразимым волнением прочла я Ваше чудесное письмо. Ваши теплые дружеские слова принесли мне какое-то моральное облегчение, даже посветлело (и потеплело) вокруг. Благодарю Вас от всей души за это письмо, строчки которого навсегда запечатлелись в моем сердце, благодарю за участие, которого я никогда не забуду.
Исаак Осипович, так много хотелось бы рассказать Вам, но какое-то душевное отупение и усталость сковывают все желания. Постараюсь хоть вкратце посвятить Вас в свою жизнь.
Уже два месяца, как мой сынишка (7-ми лет) лежит, не вставая, в постели. У него воспалительный процесс левого тазобедренного сустава, болезнь очень тяжелая и затяжная. (...) Сейчас, когда диагноз установлен, мне удалось даже достать очень редкое и дорогое лекарство для него — пенициллин — и дня через два должны начать лечение. Я очень надеюсь на это лекарство и многого жду от него.
Постараюсь ответить хоть на часть Ваших вопросов.
Война застала меня в Тульской области.... Спустя два месяца после начала войны у меня родилась дочь — Татьяна — и я окончательно порвала всякие отношения с мужем. Он оказался нехорошим человеком, но так как я его любила первой и, возможно, единственной любовью, то чувство это исчезло не сразу, а вытравливалось постепенно и очень мучительно. Подумайте, все пять лет (с 40-го по 45-ый год) мы жили в одном доме, работали в одной школе! Он ничем мне не помогал, мне было очень тяжело и морально, и материально, и если бы не мама, ухаживавшая за детьми и бывшая вообще моим верным помощником, мне не вынести бы этих ужасных лет войны. Сейчас я с удивлением вспоминаю эту жизнь. Кроме работы в школе, я занималась тяжелым физическим трудом — вручную обрабатывала и огораживала огород в 0,15 га, кормивший нас, пилила, колола дрова, таская их из лесу на себе, и еще многое другое. И при этом голод. Помню одну ужасную весну, когда из продуктов ничего не было, и при такой тяжелой физической работе приходилось питаться буквально пойлом: сваренной на воде крапивой, забеленной немного молоком, без хлеба. (...)
После окончания войны сердобольные соседи начали делать попытки через подрастающих детей помирить нас с мужем. С огромным трудом мне удалось уволиться с работы (глубокой осенью), и я попала в Москву, где мне предложили большой выбор мест для работы. После пяти лет этого ужаса я мечтала о глухом местечке, где было бы тепло, сытно и меньше всяких житейских забот. Таким образом, я и попала в Крым. (...)
Так вот, стойко выдержав всю тяжесть войны, я здесь почувствовала себя усталой и физически, и душевно, одинокой и, не смейтесь, старой. (...) Мне хочется, чтобы отношения между нами излучали радость. Вы эту радость мне даете, а я не могу ответить тем же, это очень больно.
Ну вот, излилась хоть немного и, наверное, испортила настроение Вам. (...)
Исаак Осипович, все, что Вы пишете о себе, мне очень интересно и дорого, верьте, я ценю Вашу откровенность. О Вашем печальном периоде, если не хотите — не пишите, я поняла Вас. Но одну вещь для меня Вы должны сделать: я жажду Вашей музыки и прошу Вас выслать мне все, что возможно иметь в фортепианном изложении. И еще небольшая просьба, хотя мне и совестно писать о ней: вложите в эту посылочку несколько спиралек для электроплитки на 220 вольт и немного белого стрептоцида (лекарство для Юрика) — здесь даже этого достать нельзя!
Благодарю Вас за добрые пожелания, боюсь, что они невыполнимы. Ах, если бы Вы отыскали меня хоть на полгода раньше, многое могло бы не случиться! Ваше же молчание я сочла за нежелание продолжать дальнейшее знакомство.
Позвольте и Вам пожелать такого счастья, какого Вы заслуживаете.
Людмила.
Москва, 12/XI—47 г.
Дорогая Людмила! Я ездил на несколько дней в Ленинград по делам постановки моей новой оперетты «Вольный ветер», поэтому немножечко опаздываю с ответом на Ваше письмо. Я его внимательно, очень внимательно прочитал. Да, Вы правы — оно меня очень расстроило и взволновало. (...) Мне больно и жалко, что человек, такой хороший, пылкий и радостный, каким Вас готовила юность для будущей жизни, обязательно должен попасть именно в житейскую пакость, выбираясь из которой, он должен познать всю горечь человеческих обид, несчастий и разочарований. Ну что ж! Как говорят французы: c’est la vie!
Жизнь, жизнь! Остается только верить в хорошее и ждать. Скучное это занятие, но необходимое. А еще более необходимая вещь — это опыт. Он умудряет человека и позволяет ему избегать ошибок. Сейчас по всему видно, что философские разглагольствования не могут Вам помочь в том безрадостном состоянии, в каком находится Ваша душа. Мне хочется только молиться всем богам, чтобы она просветлела и чтобы Вам стало хорошо. (...)
В жизни моей (а мне скоро 48) было несколько встреч с женщинами, которыми я горжусь, свойства и содержание которых, собственно, и составляют свойства и содержание самой моей жизни, моего творчества, моих убеждений и моего общего морально- этического облика. Я говорю «встреч с женщинами», но имею в виду вообще романтические переживания, начиная с периода юношеских, даже детских лет, когда моими «женщинами» были лучистоглазые девочки и девушки.
Воспоминания об этих замечательных переживаниях моей жизни [...] и впредь останутся для меня дорогими. Но в годы моей зрелости я пережил несколько встреч иного порядка. Я имею в виду встречи с незнакомыми людьми, то есть переписку с некоторыми девушками (именно девушками!), характер и формы которой довольно своеобразны и интересны. (...) Эти письма начинались с хороших, человечески простых выражений восторгов по поводу моего творчества. Надо Вам сказать, что в те годы я получал огромное количество подобных писем и, конечно, не мог на все отвечать. Но какие-то письма по совершенно трудно объяснимым причинам вдруг останавливали мое внимание. (...) Что же в этих встречах-переписках было такого, что осталось в моей душе дорогим воспоминанием? Это была радость! Хорошая, буйная, молодая радость, несшаяся ко мне и поддерживаемая мной. Это была, во-вторых, прекрасная дружеская сердечность. (...) И, наконец, это было интересное и своеобразное «воспитание душ», тянувшихся ко мне через мою музыку. (...) Может быть, это своего рода себялюбие, но мне дорого и близко все, что хоть маленьким кирпичиком строило мое человеческое «я». И человек, давший мне радость сознания, что «я есть», что окружающая жизнь может быть чертовски хороша и светла,— этот человек всегда останется у меня в душе.
(...) Не подумайте, бога ради, что я являюсь каким-то профессионалом в вопросах «душевной помощи по почте всем нуждающимся». Вы бы меня этой мыслью глубоко оскорбили. Важно понять то, что все эти чудесные люди, о которых я Вам пишу, в сущности, физически, житейски (Вы понимаете?) не нужны были мне, как и я им. И не романтика отношений нужна была нам. (...) Важно было познавание больших и хороших чувств и мыслей, которые вообще существуют и к которым человек вообще должен стремиться. (...)
Мне казалось принципиально важным, что моя «смеющаяся Людмила» существует для всех, в том числе для меня. И я думал, что чем больше таких Людмил будет на свете, тем лучше будет жизнь и... мои песни. Вот почему я любил Вас и Ваши письма, как люблю жизнь и солнце. (...) Наши «отношения» не переросли и не могли перерасти в «жизненное счастье» по вполне понятным причинам. Но вот видите, жизнь подтвердила, что мы бесконечно рады друг другу.
Я Вам так пространно пишу об этом, чтобы и самому понять, и Вам дать почувствовать, как важно и нужно иметь людям, кроме говядины и баранины, так же и человечину. (...)
И я хочу всеми моими силами охранять Вашу душу. Это дружба? Пожалуйста, называйте. Вы мне пишете: «Мой дорогой друг!» Конечно, друг! Но, мне кажется, не только. Может быть, и меньше, а может быть, и больше... Слова у нас явно измельчали. Ну, хватит, а то запутаемся. (...)
Желаю Вам самого лучшего и прежде всего выздоровления Вашего сына. Пожалуйста, пишите побольше. (...)
И еще одна просьба: я совсем забыл Ваши черты. Не пришлете ли Вы мне Ваше фото, хоть какое-нибудь? Пожалуйста.
Передайте привет Вашей матушке, которую я не имею чести знать.
Ваш И. Дунаевский.
[Саки, 24 ноября 1947 г.]
Милый, дорогой Исаак Осипович! — Вот видите, я уже не решаюсь называть Вас другом, несмотря на то, что Вы мне близки и дороги, как лучший друг. А ведь друг бывает ближе, чем родственный по крови человек. Да к чему далеко ходить? Вот Вам горький пример. Мой единственный братец все время писал нам хорошие письма, пока учился в институте и я помогала ему. Сейчас же он крепко стоит на ногах, одинок, как «вольный ветер», и... пишет очень редко и скупо. Я, конечно, никогда не унижусь, чтобы просить его о помощи, это можно сделать только в отчаянную минуту, но должен же помнить он хоть о своих обязанностях по отношению к матери!
Моё [теперешнее] состояние по сравнению с тем тупым отчаянием, когда я написала Вам предыдущее письмо, можно сравнить со «смехом сквозь слезы». Я радуюсь, несмотря ни на что. Главные причины этого — перелом в болезни сына и... Ваши письма, излучающие тепло и бодрость. Кстати, пишу Вам на работе, чтобы не затягивать ответ. В комнате одни рамы, не топлено и холодно так, что временами приходится откладывать ручку и согревать руки. Поэтому и почерк такой корявый, а чтобы это не слишком бросалось в глаза — пишу помельче. За окном падает первый снег, и всё вокруг светлеет. Как радовалась я в детстве первому снегу и как сейчас не рада!
Сынишке моему настолько лучше, что он начинает даже ходить. И аппетит появился, только, к сожалению, трудно достать что-либо питательное для него. В нашем курортном городишке в единственном «Коммерческом магазине» (!!! — так гордо звучит только название) нет даже хорошего какао. Но, главное, пенициллин помог.
(...) На днях мне посчастливилось услышать монтаж Вашей оперетты по радио. (...) Музыка просто блестящая, замечательна песенка моряков, как всегда, удачны лирические арии и дуэты, очень мелодична ария матери. Это не пристрастие, нет. (...) Да возьмите в пример песни других советских композиторов — они так же быстро забываются, как и входят в моду, в то время как Ваши песни живут и здравствуют, несмотря ни на какую «погоду». Ваша «Песня о Родине» стала неофициальным гимном народа. И мне было очень приятно констатировать тот факт, что большинство песен, певшихся во время праздника, принадлежат Вашему перу. Кстати, Ваши торжественные поздравления с 30-летием Октября прозвучали для меня похоронным маршем, отпевающим мою юность: я ведь ровесник Октября, правда, не Октябрьской, а Февральской революции. И 15 февраля мне уже будет 31 год. Я так подробно пишу об этой печальной дате, потому что мне было бы очень приятно прочесть в этот день Ваши дружеские слова.
(...) Знаете, я все же эгоистка: мне было приятно читать, что из наиболее интересных корреспонденток я осталась у Вас одна. Ну что ж, женщина всегда остается женщиной и любит первенствовать, если не может быть единственной. (...)
Как поживает Ваш сын? Он, наверное, уже совсем большой. Вы ничего не пишете о своей жизни, а я не решаюсь спрашивать, хотя мне иногда и хочется это сделать. (...)
Ваша «смеющаяся (несмотря ни на что!) Людмила».
24/XI—47 г.
Москва, 29/XI—47 г.
Моя дорогая, милая Людмила! Хоть Вы уже и старая (шутка ли — 31 год!), но Вы для меня остаетесь Людмилой молодой, радостной, смеющейся девушкой, тем более что я просто не знаю, забыл, не знал и раньше Вашего отчества. (...) И, читая Ваши письма, я чувствую себя влюбленным в Вас, как и раньше, в те давние дни, которые так живо стоят в моем сознании и воспоминания о которых, такие теплые и хорошие, Вы оставили, увы, без гроша внимания. (Меняю перо!)
И вот сейчас, хотя и чувствую себя свиньей перед Вами, я спешу написать Вам под свежим впечатлением прочитанного письма. И заверяю Вас: это письмо мое нужно мне не меньше, чем Вам, потому что мне хочется Вам писать. Я чувствую себя свиньей, потому что мне обидно, что в выздоровлении Вашего сына я не сыграл никакой роли. И что пока я собирался выслать Вам стрептоцид, Ваш Юрик взял да и стал поправляться. А пока я соберусь выслать Вам спиральки, да еще какие-то мудреные, с пломбами, так Вы останетесь совсем без пищи. И истощавшая, голодная, Вы перестанете меня радовать своими письмами. Нет, нет! Я серьезно возьмусь за практические, житейские заботы о Вас, хотя и не приспособлен к ним.
Я бесконечно рад, что Ваш сын поправляется. (...) Я вообще ужасно рад всякой Вашей радости. Это не слова! Это глубокая правда. (...)
Посторонний человек может принять такие слова за любовь. А ведь мы с Вами бесполые, платонические корреспонденты. Любовь? Гм! Черт побери, как это называется! Может быть, я хочу, чтобы Вы были полностью увлечены мной? Может быть, я хочу, чтобы Вы светились великолепными ощущениями «транспространственного» общения со мной? Вы понимаете, Людмила, о чем я говорю? Я искренне и правдиво хочу, чтобы Вы взлетели из мрака и отчаяния. Это не игра в чувства. Это — опора для будущих взлетов и жизненных побед! Это — опора для Вашей измученной души. Вы — чудесная! В каждом слове Вашем я чувствую превосходного человека. И я протягиваю Вам на расстоянии все, что заключено в моем существе, и отдаю Вам в распоряжение. Я хочу, чтобы Вы хотели жить и любить. (...)
В Вашем письме Вы отказались назвать меня другом. Значит, Вы так поняли мое письмо? Значит, Вы струсили и отступили? Ведь Ваше последнее письмо и холоднее и абстрактнее предыдущих. Вы прошли мимо моей трепетной горячности, хотя в Вашем письме есть много замечательного. Но оно от Вас, а не от нас. Вы не ответили на мои мысли, чувства и строчки, хотя хвалитесь, что выучиваете на память мои письма. И мне жаль, что мои чувства остаются неподнятыми Вами. Жаль не потому, что Вы можете не принять меня, а потому, что, мне кажется, именно в этом состоит та особая наша взаимность, которая составляет радость ни с кем не делимого, можно сказать, тайного общения наших душ. Что именно в этом общении и есть то особое ожидание чего-то замечательного, что составляет самый потайной и самый неведомый уголок твоей жизни. Всё! Всё, всё я сказал. Ничего не желаю больше говорить.
Но я хочу, чтобы Вы дорого ценили свою душу и свою любовь. И хочу научить Вас сильно любить. И хочу, чтобы в каждой Вашей реально осязаемой привязанности к человекам была доля нашей нереальной, но глубочайшей близости. Поняли? И чтобы эта близость Вас оберегала, вдохновляла и... спасала от несчастий. И кто знает? Вы несколько лет тому назад ушли от меня, забыли наши письма и... потерпели фиаско. В тяжелую пору Вашей жизни мы нашли друг друга. И кто знает?.. Может быть, эти письма будут Вам нужны в Вашей жизни.
Людмила! Я сейчас немного взнервлен, и оттого, может быть, и письмо мое несколько возбужденное и сумбурное. Я обещаю больше не писать Вам в подобном стиле. Но я сказал Вам то, что хотел, и могу теперь к этому больше не возвращаться. (...)
За похвалы моей музыке — благодарю. О «Вольном ветре» — отдельно. О песнях — отдельно. То, что Вы любите мою музыку,— доставляет мне большую радость. Но «Вольный ветер» - это успех особого рода, и я Вам о нем скажу в особом письме.
Мой сын уже большой! Художник! Ему 15,5 лет. Но жизнь моя сложна и мучительна. В 1945 году — 15 января — у меня родился второй сын от другой, моей фактической жены. Зовут его Максим. По-латыни maximus значит самый большой. И это действительно одно из самых больших и самых мучительных моих переживаний. [...] Все это несколько поуспокоилось, но... все это страшно неустроено, раздвоено.
Я Вам напишу об этом подробно и особо.
Я нежно целую Вас и оберегаю во всех моих думах о Вас, которые уже становятся моим бытием.
Думаете ли Вы так же обо мне?
Ваш любящий друг и фантаст. И. Д.
P. S. Письмо было мной перечитано на следующий день. Оно не было отправлено. Мне показалось, что это письмо уклонилось от пути наших взаимоотношений. Я еще раз прочитал Ваше письмо. Я понял, что я не должен отправлять такое письмо. Но... отправляю. В этом — дружба. (...)
8/XII—47 г.
Милый друг, получи я Ваше письмо десять лет тому назад, и переписка оборвалась бы: Вы бы меня спугнули. Сейчас же я не убегаю и даже отвечаю на Ваше письмо, несмотря на то, что уши и щеки у меня до сих пор горят. Изменяю своему обыкновению и пишу Вам сразу же, под горячую руку.
Я чувствую себя глубоко виноватой перед Вами, в чем — не спрашивайте, напишу когда-нибудь позже, только не сейчас. Сейчас же мысли так разбегаются, что я лучше буду писать по порядку затронутых Вами вопросов.
Первым долгом — у меня к Вам большая просьба на будущее, я надеюсь, я почти уверена, что Вы ее исполните: никогда и ни в чем не идти против моих желаний. Хорошо?
Посылаю Вам в этом письме свое фото, самое «свеженькое». (...) Знаете, внешне я переменилась сразу же после замужества и узнала это только по фотокарточкам: у меня как-то посерьезнели и погрустнели глаза. (...) Раньше же я могла улыбаться и смеяться зачастую без всякого повода — просто потому, что на душе хорошо и ясно.
Мне кажется, Исаак Осипович, что Вы не совсем верно представляете себе мой разрыв с мужем, если называете его фиаско: мой бывший муж не женат до сих пор, несмотря на то, что он умен и интересен. Ему уж больше так не любить, как он любил меня. Разлад начался с его невозможной, ничем не обоснованной и глубоко меня оскорблявшей ревности. Это было просто болезнью: он ревновал меня к прошлому, к будущему, к грустной песенке, даже к вещам. Постепенно этот моральный садизм принял невозможные размеры. Но я знаю, что и до сих пор какое-то чувство ко мне у него сохранилось. И если бы я смогла его простить и поверить в перемену его характера, все было бы иначе. Но я этого никогда не смогу сделать. (...)
И если бы наша с Вами переписка не прекращалась, многое могло быть иначе. (...) Я, не чувствуя себя такой одинокой, не наделала бы глупостей, которые трудно поправить теперь.
(...) Должна Вам сознаться, что Вы смутили меня, и чем более я вдумываюсь в Ваше письмо, тем менее его понимаю. И еще скажу, что эта наша «транспространственная» близость, с одной стороны, волнует меня, доставляя какое-то неведомое наслаждение, а с другой — мучает сознанием какой-то своей греховности, как тайный порок. Ну вот, выговорила то, что думаю и я, теперь писать уже легче. А сказать Вам то, что я думаю, даже самое затаенное, я должна была обязательно: не только потому, что считаю Вас своим другом, но еще и потому, чтобы Вы не писали мне письма «по заказу» — интересные, благовоспитанные и пропущенные Вашей собственной цензурой; чтобы в письмах были Ваши истинные мысли и думы и чтобы Вы знали, что со мной можно говорить не только как с девочкой, но и как с товарищем (а в дружбе я больше всего ценю товарищество). (...) Я чувствую, что доросла до этого «звания», и если раньше благоговела перед вами, как перед старшим и знаменитостью, то теперь могу прямо посмотреть в глаза, как человеку. Вот этими «атавизмами» девической застенчивости можно объяснить то, что в моих письмах Вы не находите ответа на свои мысли и чувства. Да к тому же не в моих привычках распинаться о чувствах. (...)
Ну что ж, кончаю, страшно перечесть... (...)
Ваш друг Л.
Москва, 26 декабря 1947 г.
Милая Людмила! (...) Сел писать Вам, чтобы хоть успеть попасть к Вам на Новый год своим сердечным поздравлением, полным большой и теплой дружеской нежности к Вам. (...)
Ваше письмо я долго обдумывал. Я могу сказать Вам две вещи: 1) Вы — превосходный человек с очень хорошей душевной конструкцией (редкое явление!). 2) Вы изволили совершенно точно заметить, что в нашей переписке и наших отношениях есть какое-то неведомое наслаждение и ощущение... тайного порока. Если эти выражения и не совсем верны, то мысль, безусловно, правильна, и в этом отношении Вы мое предыдущее письмо с его мятущимися чувствами поняли правильно. Да иначе, пожалуй, и не могло быть. (...) Но я не могу сейчас писать о Вашем письме. Ответ за мной! (...)
За фото очень благодарю Вас. Видно, что это не совсем Вы. Моя душа и моя мысль фотографируют Вас несколько иначе, и я не сомневаюсь, что настоящее Ваше фото близко к моему снимку. Вы не думайте, что я Вас изображаю какой-то необыкновенной красавицей. Нет, я даже помню Вас в прошедшие годы: Вы были совсем не красивая. Впрочем, Вы одна из самых красивых женщин, которых я встречал когда-либо. Позвольте на этом кончить коротенькое письмо и пожелать Вам еще раз счастливого Нового года. (...)
Ваш И. Д. (...)
15/1-48 г.
Дорогой Исаак Осипович!
Боюсь, что Вы меня несправедливо обвиняете и ругаете за долгое молчание. Я не виновата, ей-богу!
Наступающий Новый год я встретила неудачно. В своем поздравительном письме, которое мне было очень приятно получить (получили ли Вы мою телеграмму?), Вы мне забыли пожелать здоровья, и вот результат: 1 января у меня в семье было трое больных — дети и мама, застудившиеся в предпраздничной суматохе. У детей подозревали даже воспаление легких, и несколько дней и ночей мне пришлось провести у их постелей. Затем слегла и я: грипп плюс переутомление. (...)
Из газет узнала, что «Вольный ветер» уже поставлен на сцене театра (как мне хотелось бы быть вместе с Вами на премьере!). (...) Если верить пословице, то обещанного три года ждут, но один уже прошел, и я надеюсь, что не пройдет и двух лет, как я получу желанные ноты. Не правда ли? (...)
Исаак Осипович, почему Вы так долго не пишете? Неужели всегда дела будут заслонять собой все остальное? Или Вы относитесь к этим письмам как к развлечению и не испытываете потребности в писании их? Мне скучно и даже грустно без Ваших писем, хотя душу и согревает мысль, что Вы существуете и, может быть, иногда думаете обо мне.
Будьте здоровы и счастливы.
Людмила.
Москва, II/IV—48 г.
"Маркиз бросился к ней в объятья и нежно прижал ее русую головку к своей богатырской груди, не в силах промолвить хоть одно слово после долгой и томительной разлуки. А графиня стояла, затаив дыхание, и слезы радости катились по ее румяным, цвета утренней зари, щекам. Птички пели в саду, приветствуя восход дневного светила".
Герцог Ровиго. Собр. сочинений, том IX, издание 1790 г.
Это, конечно, придуманный мной эпиграф в духе сентиментальных романов восемнадцатого столетия. Но несомненно одно: маркиз — это я, а Вы, конечно, графиня. Птицы остались безусловно на своих местах с тех давних пор.
Так начну я свое письмо в тайной надежде (хитрец!) шуткой замять чувство стыда перед Вами за долгое молчание. Улыбнется, дескать, и простит. Могу представить Вам заверенную по всем правилам справку о пребывании моем в гастрольных концертных поездках. (...)
Но, увы, не могу представить Вам справки о том, что, сотни раз вспоминая о Вас, я чувствовал свою вину перед Вами, ибо Вы могли подумать бог знает что по поводу моего молчания. Если хотите, верьте мне без справки; если не хотите, дуйтесь на человека, который полон к Вам самых нежных чувств, но который достоин сожаления и сочувствия в его безграничной занятости в поездках. (...) Может быть, каменное сердце графини смягчится, если она узнает, что ее маркиз, горячо любимый маркиз, имел грандиозный успех у широких зрительских и слушательских масс и еще раз убедился, что [...] любовь народа к нему, маркизу, осталась незыблемой.
"...На румяных щеках графини появилось нечто вроде улыбки... Ведь она так верила в него и... не ошиблась..."
Итак, прочь шутки! Три дня в Москве оказались вполне достаточным сроком для того, чтобы узнать все сплетни и пакости, привести в порядок очень маленькую часть дел, связанную с бытом, увязнуть в модных сейчас экономических вопросах моего Ансамбля, который я, вероятно, не смогу предохранить от сокращения, и, воспользовавшись воскресеньем, засесть с утра за давно и душевно желанное письмо к «ней». Знайте раз и навсегда, что причиной молчания у меня в отношений Вас бывает часто невозможность написать такое длинное письмо, которое хотя бы немного исчерпало все, что мне хочется Вам сказать. Мне всегда кажется, что скомканным письмом я Вас обижу больше, чем молчанием. А ведь долгов у меня (помимо нот) накопилась уйма. Ни одного письма к Вам (верьте!) я не закончил. Сколько сокровенных тем и мыслей, событий и фактов я должен Вам описать и рассказать! Я еще даже не рассказал Вам о себе, о прошедших годах переживаний, я не рассказал Вам об общественных событиях, касающихся и волнующих меня. А нарастают все новые и новые. Я не рассказал о своем впечатлении от Вашего декабрьского письма, которое я снова перечитал и по которому мы с Вами должны открыть прения. Когда же все это сделать? Или объявить «Людмилину декаду»? «Воскресника» одного не хватит. (...) А как на двух-трех листиках описать все мысли и переживания, то есть поступить в духе той товарищеской дружбы, о которой Вы пишете? Разве, к примеру, Вам не хочется знать обо мне все? Именно все, начиная хотя бы с описания многих незабываемых встреч в поездке? Например, встреча с 2.000 студентов в Одессе? Хочется? А вот я не напишу, потому что мне еще надо сказать Вам, что на улице прекрасное весеннее солнце, что оно гармонирует с моей радостью по поводу того, что я пишу Вам, и что через три-четыре дня Вы перестанете на меня сердиться, и что еще через максимум четыре дня я буду держать Ваше письмо в своих руках, письмо, полное нежности и прощения. Как обидно мне, что среди вороха накопившихся писем я не нашел дома хотя бы одного Вашего, самого важного, которое я всегда распечатываю первым. А разве Вам не хочется, чтобы я описал свои мысли по поводу событий на музыкальном фронте? Хочется? А вот я не напишу, потому что мне еще надо сказать Вам, что «Вольный ветер» утвержден на Сталинскую премию и что со дня на день это должно быть опубликовано. Где же все обнять и все рассказать, когда надо сейчас кончать вступление к новому письму (опять долг!) и крепко поцеловать Вас, пожелав здоровья и всего самого лучшего. Да! Поцеловать! В цитированном выше романе герцога Ровиго дальше сказано:
"...Маркиз прижался губами к ее глазам, помутневшим от тоски и давно неизведанного счастья. Птички пели торжественную поэму любви. Солнце уже давно взошло, опаляя своими лучами алебастровые плечи графини, застывшей в поцелуе..."
Вот видите? Вы, конечно, рассудительно скажете, что, вместо всей этой болтовни, «он» мог бы давно уже кое-что рассказать интересное из обещанных тем. Но моя болтовня является свидетельством сам не знаю откуда пришедшего хорошего настроения, которым я хочу заразить и Вас — на случай, если мое письмо застанет «графиню» в невозмутимом и безразличном состоянии духа.
Ваш И. Д.
До очень скорого письменного свидания!
[Саки, 20 апреля 1948 г.]
Мой дорогой, горячо любимый маркиз!
Правда, в горячей любви графиня маркизу никогда, конечно, не объяснялась, но чувство его не обмануло: он действительно любим. И, откидывая прочь Вашу милую уловку, (...) пренебрегая всеми условностями (все так необычно в наших отношениях!), я могу действительно признаться в любви не только к композитору, но и к человеку (не к мужчине). И я иногда немного грущу о том, что моего чувства и моей преданности Вам никогда не узнать и не оценить в полной мере, потому что Вы — баловень судьбы, а истинное чувство всегда проверяется в беде. Другое дело, если бы Вы были несчастны, одиноки, забыты и покинуты всеми, но этого, слава богу, никогда не будет, поэтому печаль моя светла и прозрачна, как слеза ребенка, и неизменно переходит в радость (вот где диалектика-то!).
Знайте, что я на Вас не только дуться, но и обижаться никогда не буду, так как я понимаю Вас и ценю каждый знак внимания с Вашей стороны, горжусь им. Ну вот, хотела написать шутливое письмо, а вышло такое серьезное! (...)
Вы все время дразните мое любопытство и желание знать все о Вас — берегитесь, я буду платить Вам тем же. Хотите, я заинтригую Вас? Да? Ну так вот — первый сюрприз: письмо это Вы получили с опозданием потому, что только вчера я приехала из Москвы! (Могу представить не только справку, но и железнодорожный билет.) (...)
Я, кажется, начинаю верить в приметы. (...) Стоило Вам умолкнуть (а я действительно нехорошо объясняла себе это молчание), как на меня посыпались удары судьбы.
23-го марта я проездом была в Москве и испытывала почти непреодолимое желание позвонить Вам и послать свой, быть может, прощальный привет. Обстоятельства помешали этому. Потом, живя так близко от Вас, я десятки раз в день удерживалась от искушения услышать Вас, подходила к телефону — и уходила. (...)
Ну вот, хочется ли Вам узнать, что произошло со мной, чем была вызвана эта поездка, как я убереглась от большой опасности, почему сейчас больна и пр., пр.? Тем более что некоторую роль сыграли в этом и Вы. Я обещаю Вам обо всем рассказать подробно, но только после того, как Вы расплатитесь со всеми долгами. (...)
Не обижайтесь за краткость письма — я очень слаба.
Так как целовать себя я Вам не разрешала, то примите обратно свой поцелуй...
Ваш друг. (...)
Москва, 2 мая 1948 г.
Конечно, человеческий род имеет большое количество типовых разновидностей. Но я имею все основания предполагать, что инженер Людмила Райнль, проживающая в г. Саки, в Крыму, представляет собой уникум, давно ждущий научного исследования.
Вы совершенно достойны моей вступительной тирады, так как поступили: а) не как милый человек; б) не как друг вообще; в) не как любящий друг в особенности. Но самое странное это то, что Вы поступили как женщина. Какие бы ни были у Вас причины, чтобы не повидать меня, будучи в Москве,— самый факт никогда мною прощен Вам не будет. Я это говорю вполне серьезно. Вы пишете о большой опасности, которой Вы подвергались. Тем более! (...) Я допускаю, что Вы в Москве не были лишены и без меня дружеской помощи и участия. Это, в свою очередь, подчеркивает тот факт, что наши отношения и наша дружба стали окончательно литературными.
(...) Ну что же? Займемся литературой. Предупреждаю читательницу, что все нижеизложенное не является вымыслом, а сюжет построен на фактах, действительно имевших место.
День 1 Мая (поздравляю Вас!) выдался на редкость удачным. Радио сообщило, что такого теплого 1 мая не было с 1886 года. Так вот в этот день я, как обычно, пользуясь отсутствием телефонных звонков и всяких дел, собирался серьезно поработать. Но, увы! В 9 часов утра сообщили мне, что обворовали мою дачу. А в 1 час дня сообщили об ужасно трагической смерти моего хорошего приятеля и соратника по песням, поэта С. Алымова. (...) Я не могу сказать, что Алымов был вполне моим другом. (...) Но мы творили вместе, и,видимо, в этом все дело. (...) Вы, наверное, знаете такие песни, как «Пути-дороги», «Мечты солдатские», «Новогодний вальс». (...) Я лишился своего поэта, так хорошо понимавшего меня, очень любившего во мне и ценившего мою душу, мое творческое устремление. Я осиротел. Был у меня в прежние годы Лебедев-Кумач. Сейчас он очень болен, работает мало. Да и по-человечески он значительно бледнее Алымова. Повисли в воздухе мои творческие мечты. (...)
Вот, Людмила, какие дела! Я не буду расстраивать Вас дальше своими настроениями. Есть и радостное в жизни, да о нем писать не хочется. Кстати, несмотря на постановление Сталинского комитета об оперетте «Вольный ветер», правительство мне премии не дало. Пять минут продолжалось мое огорчение, уступив место философскому взгляду на вещи. (...) Самое смешное, что 19-го меня поздравлял с премией сам председатель Комитета искусств, газеты уже забрали мое фото, и вдруг... Ну, неважно! Пусть печалятся нищие творческим духом. Я не для премии работаю. Пока голова на плечах, я не унываю. Успех «Вольного ветра» огромен. Разве это не премия? (...)
Засим желаю Вам всего лучшего, здоровья, всяческих радостей. Целую Вас крепко, сержусь на Вас, но всегда люблю Вас и Ваши письма, которые буду ждать с нетерпением.
Умоляю поскорее написать! Не держите писем в кармане! Некрасиво!
Ваш И. Д.
P. S. Уже свернув письмо и положив его в конверт, я, перед тем как запечатать его, решил прочитать снова Ваше письмо. Я почувствовал, что Вы не совсем виноваты, а главное, что в своем ответе, увлекшись переживаниями, опустил то, очевидно, очень серьезное, что грозило Вашей жизни. Я почувствовал, что несправедлив к Вам: может быть, то очень важное, что Вы пережили, вынудило Вас избежать свидания со мной. Я не осуждаю Вас, потому что я очень Вас люблю, люблю все Ваше, люблю давно и как-то странно устойчиво. С тех давних лет, когда Вы впервые улыбнулись мне Вашим чудесным первым письмом. С тех давних лет, когда я так романтично разыскивал Вас. И это живет, живет. Странно, ведь я люблю и любил женщину, близкую мне, дорогую и сейчас. Но почему я так бываю одинок и мне не хочется делить ни с кем своего одиночества? Почему сегодня я так дорого бы отдал за свидание с Вами, моим фантастическим другом? Может быть, Вы боялись вспугнуть реальностью мир наших «волшебных» отношений?
Пойду и напьюсь! Во имя Вашей жизни, Вашего счастья. Мне грустно...
Москва, 16 мая 1948 г.
Людмила, дорогая, что с Вами? Это ни на что не похоже! И все потому, что Вы не докладываете мне о Ваших действиях, живете, совершенно отбившись от рук. Я просто ахнул от тревоги и боялся распечатывать конверт, написанный рукой Вашей мамы! Разве можно так пугать? (...)
Что у Вас? Я немного понимаю в медицине, но мастит — это воспаление грудных желез, бывающее у кормящих женщин... Вы — кормящая женщина? Когда Вы родили, от кого, кого? Как постыдно осознавать, что так называемый друг не считает нужным сообщать об очень важном, что случается в его жизни. (...) Я теперь не верю ни на грош всем Вашим уверениям в дружбе. И не смейте мне о ней больше говорить. Обращайтесь ко мне, пожалуйста, официально и извольте немедленно написать, как Ваше самочувствие. Вы не подумайте, что я в любую минуту прощу Вас. Только Ваши большие и чуткие поступки могут вернуть Вам мое, увы, потерянное отношение и прощение. Вот как я с Вами буду поступать. И в качестве иллюстрации моей суровости я посылаю Вам мой новейший, несколько кокетливый портрет.
Если у Вас есть любящий и любимый человек, пусть он ревнует Вас, как Отелло.
В этом письме я Вас целовать не буду — Вы не заслужили моей ласки.
С совершенным почтением, милостивая государыня.
И. Дунаевский.
26/V—48 г.
(...) Ну что ж, начну с фактов, а потом попытаюсь объяснить их. Во-первых, сегодня исполняется два месяца моему младшему сыну Сергею, во-вторых, я бесконечно рада, что опасность для меня миновала и дело не дошло до операции, в-третьих, передо мной лежат два письма: отца моего ребенка и Ваше, и я отвечаю Вам первому.
(...) Подумайте только, два года тому назад я была веселой и беззаботной, как птица! На Перекопе, где началась моя производственная работа, я сразу же попала в компанию молодежи, милых и интеллигентных людей. (...) Были счастливы и резвились, как дети. И вот случилось так, что из Симферополя к нам приехал монтажник для установки стационарного киноаппарата в нашем клубе. (...) Сама не знаю как, против моего желания, начался молниеносный роман. Как будто дурманом меня опоил. (...) Но главное — это дети. Он сумел их так расположить к себе, что они в нем души не чаяли, как и моя мама (первое время). Я поверила, что он будет для них настоящим отцом, лучшим, чем их родной отец. И несмотря на то, что я никогда не могла ответить утвердительно на его вопрос — люблю ли я его хоть немного,— несмотря на то, что многое в нем было противоположно моим представлениям о мужском идеале и вызывало во мне какое-то органическое отвращение, я поверила и удивилась его необыкновенной любви. (...) Что он был когда-то женат и имеет ребенка, я знала давно от него, но он вдруг сознался, что до самого последнего момента жил вместе с женой, с которой решил, правда, расстаться, так как она была неверна ему, но которую все-таки бросил только тогда, когда полюбил меня. После этого признания, когда он плакал у моих ног, все сомнение, недоверие и отвращение к нему всколыхнулось во мне с новой силой. И я стала так обращаться с ним, разрешать себе такие поступки, что мне теперь стыдно о них вспомнить. (...) Он терял мое уважение и в то же время поражал силой своего чувства, какой-то собачьей преданностью. Из Перекопа, где не было подходящей для него работы, он по моему совету переехал в Саки, откуда непрерывно звал меня к себе. Я же в это время серьезно подумывала о том, чтобы навсегда разорвать с ним всякие отношения. Но дети уже научились звать его отцом и очень любили его, это и решило мои сомнения. В Саках началась та же история. (...) Эта жизнь продолжалась года полтора, пока я невольно не оскорбила его так ужасно, что он сделался больным от ревности. (...) Как он ревновал к Вашим письмам! И однажды даже унизился до того, что спросил, от кого я получаю письма, так действующие на меня (я помню, что когда я читала одно из Ваших писем, он в это время смотрел на меня, и я почувствовала на своих щеках проступивший румянец).
Мы последнее время все думали о переезде в другое место. (...) Было решено, что Игорь (мой муж) поедет первым, устроится. (...) Но я-таки допекла его окончательно, и он из Москвы прислал мне прощальное письмо. (...) Поступок был, правда, некрасивый, так как я ждала ребенка от него, но мое сердце вдруг пронзила такая острая жалость к нему, тем более что я была вполне согласна с его письмом и чувствовала свою вину перед ним, что я, недолго думая, собралась и поехала в Москву накануне родов. (...)
В Москву я доехала благополучно, где меня на день задержала его тетка, а ночью уже отвела в родильный дом. И вот, вдали от всех близких, родился у меня сын. Тяжело мне было, но не хотелось никого видеть. (...) Все это время, пока не приехал из Данилова Игорь, посещала меня только его тетка. (...) Мы объяснились и решили пожить некоторое время отдельно. (...) В Москве нас очень приглашали на завод возле Свердловска, возможно, туда и поедем и попробуем жить по-новому. Во всяком случае, я постараюсь быть ему примерной женой: если уж этот нежеланный ребенок родился, то я не хочу лишать его отца. (...)
Вот теперь Вы можете судить меня как хотите. И можете решить, могла ли я в таком состоянии и положении стремиться увидеться с Вами, тем более что вы несколько долгих месяцев молчали, и это совпало с отправкой Вам моего злополучного фото, что не могло не внушить мне некоторых мыслей. Кстати, я должна поблагодарить Вас за Ваш замечательный портрет — время, очевидно, не властно над Вами.
Вот исписала убористо четыре листа и так мало сказала! (...) Вы знаете, когда я впервые вышла из больницы и зашла в парк, я увидела сочную, свежую траву между покрытыми свежей листвой деревьями и благоухающими кустами сирени, и мне вдруг захотелось, как девчонке, покувыркаться в этой мягкой траве. Только большая слабость и сознание, что я все-таки мать трех детей, удержали меня от этого легкомысленного поступка. (...)
(...) Так смените же гнев на милость, не браните больше Вашу бедную «смеющуюся Людмилу». (...)
Москва, 5 июня 1948 г.
Прочитал Ваше письмо. Тут уж подлинно скажешь: ...М-да-а-а-а!
Но давайте по порядку. Прежде всего я очень рад, что Вы выздоровели, и, как бы там ни было, прошу принять мои поздравления с рождением сына. Это существо ни в чем не виновато, и давайте пожелаем ему здоровья и хорошего роста. Я немного растерян в своих мыслях и не знаю, выражать ли Вам сочувствие или, честно говоря, ругать Вас.
С одной стороны, передо мной трудный и мучительный, полный тревог и смуты путь человека. С другой — совершенно неожиданное для меня опровержение всех моих представлений о нормальных человеческих характерах, чувствах и взаимоотношениях. А самое главное, Вы предстаете передо мной с таких сторон, о которых я не догадывался и которых, прямо скажу, я не хотел бы знать о Вас. Не то, что Вы разрушили свой образ, живший у меня так нерушимо и целостно до дня Вашего первого письма. Не то, что Вы сами поставили смеющуюся Людмилу в кавычки, тем самым приглашая и меня это сделать. Нет, нет, мои ощущения сложнее. И если я в чем-нибудь разочарован, то это только в том, что мне Ваши переживания казались издали более возвышенными, чем на самом деле. Людмила чудесно и обаятельно смеялась, и я хотел бы, я думал, что горе ее и все мучительные трудности, все пережитое ею за долгие годы,— все это будет светиться тем необычным и чудесным светом, отличающим поэтическую, содержательную натуру, какой Вы являетесь передо мной в Ваших чудесных письмах. (...)
В поисках простого человеческого счастья нельзя губить свою душу, нельзя унижать себя и других, как это Вы сделали; нельзя метаться из стороны в сторону, поддаваясь соблазну дешевого оригинальничания.
Все, что Вы мне описали, свидетельствует лишь о том, что Вы просто плохо знаете и себя и людей. Странно, что неумение определить свои подлинные чувства Вы возвели в некий образ жизни и мышления, в систему взаимоотношений. Не зная, для чего Вам это нужно, Вы чуть ли не из спортивных помыслов увлекаете человека. Не зная, любите ли Вы его, Вы отдаетесь ему. Не зная будущих путей Ваших взаимоотношений, Вы сходитесь с ним для брачной жизни. Измучив человека довольно оригинальной системой обращения, происшедшего только оттого, что Вы не знали, заслуживает ли он Вашей любви и доверия, Вы, после того, как он Вас покинул, рискуя своей жизнью и жизнью будущего ребенка, бросаетесь в путь за ним, за этим человеком, отцом Вашего ребенка. И сейчас, устав от надуманной Вами же борьбы, Вы склоняетесь перед фактами, каковые неумолимо существуют.
Извините меня, мой странный друг, за то, что Ваши мучительные переживания, Вашу боль и слезы, Ваши физические муки я так сухо и, может быть, жестоко вложил в простую, до ужаса простую схему. Но Вы не сможете меня опровергнуть, потому что всю свойственную Вам романтичность и поэтичность, которая Вас не покидает даже при описании, по сути дела, этически отталкивающих вещей, Вы сами разменяли на... пошлость. Вся ведь штука в том, что за красивой природой, за искрящимся смехом, за вальсированием на асфальтовой дорожке, за полнотой мимолетных желаний и капризов, за сладостью тревожащих тело снов идет жестокая, обыкновенная жизнь с ее уплатой по гамбургскому счету.
В том-то и великая трудность человеческого поведения и такта, чтобы сделать переход из мечты в явь возможно более возвышенным и незаметным для внутренних эстетических чувств.
Что же осталось от брызг Вашего обаяния, юмора, радости и солнца, которыми Вы щедро наделяли окружающих Вас и встречаемых Вами людей (в том числе и меня)?
Осталась простая, бедная женщина с тремя детьми, собирающаяся с мужем в дальний, неизведанный путь борьбы за обыкновенное существование.
За все счастье, за все радостное и хорошее, что Вы мне дали своим существованием, своей перепиской со мной, я плачу той болью, которую нанес мне Ваш удар — Ваш последний рассказ. Это не боль жалости к Вам, это не боль разочарования. Это боль протеста против всего того, что Вы сделали с собой. И несмотря на то, что любое наше письмо я не променяю на все Ваши перипетии, я так же, как и Вы, принимаю факты такими, какие они есть. И поэтому, а также и потому, что люблю Ваш привычный образ, я от всего сердца желаю Вам счастья и... покоя. (...)
(...) Мне очень больно, что в Ваших переживаниях Вы всячески избегали обращения ко мне, которого Вы называли другом. Вы хотели не вмешивать меня в Вашу земную жизнь, оставив мне сферу Ваших «небесных полетов». Это очень гордо и красиво, но... я не могу поблагодарить Вас сейчас за это, потому что мне пришлось выпить сразу большой кубок Ваших житейских страданий. И, может быть, если бы я пил вместе с Вами по каплям, моя дружеская любовь, мой разум спасли бы Вас от многих ошибок. (...)
Напишите мне обязательно, куда Вы едете и как мне писать Вам, если Ваш муж позволит нам переписываться. Убедите его в том, что это совсем не опасно для его семейного благополучия.
Ваш И. Д.
Если будете в Москве, я обязательно хочу Вас видеть. (...)
P. S. У меня завелась привычка: после написания Вам письма снова перечитывать Ваше. Так я сделал и в этот раз. Вы пишете, что ждете моего ответа и совета с тревогой.
Что я могу Вам теперь посоветовать? (...) Судя по Вашим собственным высказываниям, Ваши отношения с мужем изрядно покалечены уймой ненормальных элементов. (...) Мне кажется, что если вы оба не проявите достаточной воли и разума к тому, чтобы постараться вытянуть и развить все лучшее, что, несомненно, существует у вас по отношению друг к другу, то вы не уживетесь. Мне также кажется, что если Вы идете в жизнь с человеком как на смирение, сохраняя в душе Вашего мечтательного и поэтически рвущегося куда-то беса, то добра из этого не выйдет. Разные характеры — это полбеды, а вот если в душе звучит разная музыка мира, любви и природы — это уже плохо и добра не сулит. Консерваторий для обучения такой музыке не существует. Увы!
Ваш И. Д.
Людмила! А все-таки УМ — великая вещь. Сейчас Вы должны пользоваться только им.
[Арамиль Свердловской обл.] 24/VIII—48 г.
Дорогой Исаак Осипович!
Я себя сегодня чувствую так, как будто бы проснулась после длительного тяжелого сна, во время которого мне и приснились все мои злоключения. И пробудившая меня музыка была музыкой Ваших мелодий. (...)
Уже без прежней боли я перечла Ваше последнее письмо (письмо, которым Вы меня так глубоко ранили) и еще раз убедилась в силе Вашей логики и анализа. Во всем почти Вы правы, Ваши выводы, правда, беспощадные для меня, помогли мне лучше разобраться в себе самой. Одним только словом нанесли Вы мне пощечину незаслуженно — никогда я не была и не буду пошлой и вообще органически не перевариваю пошлость. Ну, к этому разговору когда-нибудь еще вернемся, сейчас могу только сказать, что, следуя Вашему мудрому совету, взялась за ум и самоанализ. О результатах напишу позже, когда сама буду уверена в них. (...)
Желаю Вам здоровья, счастья и радости.
Л.
Москва, 31 августа 1948 г.
Дорогая Людмила! Ваше письмо вернуло мне веру в Вас, которую я было начал терять. Вы даже не могли предполагать о тех переживаниях, которые я испытывал в связи с Вашим долгим молчанием. Ведь Вы исчезли, не указав в последнем письме адреса. Таким образом, мне казалось, что я снова Вас потерял. (...)
(...) Чувство большой человеческой горечи я сменил на «все равно» и запрятал глубоко-глубоко затаенную надежду, что Вы снова дадите о себе знать когда-нибудь. (...) Так я с Вами попрощался и хотел уже как-нибудь в свободный часок собрать Ваши письма и связать их в пачку как «законченное дело о жизни, дружбе и странном конце хороших взаимоотношений двух рабов божьих, имярек».
Но вот Вы и появились с... Востока. Я подумал сейчас о том, что сказал бы, читая эти строки, Ваш близкий, любящий и любимый человек, например, муж? Имел ли бы он право ревновать Вас? (...)
Ваш образ не мешает и не мешал мне любить, увлекаться и жить, как хочется. Я не «крутил» с Вами романа по переписке, я не ревновал Вас. Наши жизни идут параллельно, не мешая друг другу. И все-таки эти пересечения наших путей, эти иногда нечастые письма всегда создавали такое ощущение, что есть в моей жизни «НЕКТО и НЕЧТО», о чем, хочешь не хочешь, а думаешь, чего, хочешь не хочешь, а ждешь. И это «нечто», такое радостное, такое нужное, всегда было покрыто в душе облачком грустной ласки и нежной благодарности. Вот, пожалуй, я на этом закончу свое затянувшееся вступление, сам испугавшись, как бы не случилось, что, развивая мысли о своих ощущениях, я и впрямь могу доказать, что можно и следует ревновать и такому «нечто». (...)
Я, конечно, несказанно радуюсь, что в Вашем письме прозвучала прежняя Людмила. Но Вы, вероятно, слишком высокого мнения о моих способностях видеть все на расстоянии. Конечно, я могу себе представить, как хорош сосновый бор на Урале. Я могу себе представить также, что новая работа может захватить и что ради нее можно забросить и «домашние дела». Но все же Ваше письмо требует серьезных комментариев, и я думаю, что Вы не замедлите их мне дослать. (...)
Я Вас не собирался преднамеренно оскорблять, обвиняя в пошлости. Я Вас слишком хорошо чувствую, чтобы считать пошлой. (...) Но знайте, что самый лучший, самый светлый человек опошляется, если он летает ниже своих возможностей и если в этом низком полете он кричит: «Как мне хорошо!» А оказывается, что он сам себя обманывает, врет сам себе. И это есть пошлость. (...) В Вас, Людмила, есть подлинная и вместе с тем ясная и простая поэзия. Вы должны в жизни, как бы сказать, жить стихами. Поэтому и подпускать к себе Вы должны людей только таких, которые это понимают. (...) Крылья у Вас целы! Целы! Пригладьте немного помятые перья и пойте во весь голос во славу жизни и неиссякаемой красоты!
О себе мало что могу сказать. Все по-прежнему. (...)
Желаю Вам счастья, здоровья и радости, моя Людмила, мой друг.
Ваш И. Д. (...)
Москва, 19 декабря 1948 г.
Уходят недели, за неделями — месяцы, а Ваших писем нет. Я еще в начале сентября ждал письма Вашего в ответ на мое. Может быть, оно затерялось? Проверил по атласу СССР. Арамиль — город, расположенный чуть к юго-востоку от Свердловска. Значит, это не такая безысходная глушь, какой она мне раньше представлялась. (...)
(...) Ваше молчание начинает меня и удивлять и серьезно беспокоить. (...) Если Вы получите это письмо, черкните мне хотя бы пару слов, даже если эта пара слов будет Вашим нежеланием со мной переписываться. Тогда я просто буду знать, что ждать Ваших писем мне уже не надо.
В качестве вознаграждения за сообщение, что с Людмилой и почему она молчит, я Вам в любом случае вышлю много своей музыки, которую я для Вас собрал. (...)
И. Д.
[Арамиль, 27 декабря 1948 г.]
И как перлы в загадочной бездне морей,
Как на небе вечернем звезда,
Против воли моей, против воли своей —
Ты со мною везде и всегда!..—
сказал Апухтин и я.
Милый друг!
Вот, не писала Вам так долго, а не прекращала ни одного дня душевного общения с Вами. Как странна и удивительна общность наших чувств в нашей необычной дружбе! Когда я читала Ваши строки о «некто» и «нечто», мне казалось, что я читаю свои мысли по отношению к Вам. Одно сознание, что Вы существуете и иногда вспоминаете обо мне, наполняет мою жизнь особым содержанием.
Ну вот — после таких признаний я вряд ли решусь предстать когда-нибудь перед Вашими сиятельными очами.
Теперь о том, что было причиной моего молчания. Почти два месяца я боролась за жизнь своего малышки, сына, который был мне почти безразличен и, во всяком случае, лишним в моей жизни и который теперь мне так дорог. (...)
Я знаю, мне опять достанется от Вас за это. Я понимаю, что так друзья не поступают, что нужно делиться и хорошим, и плохим, но Вы — необычный друг, и я никогда не могу себя заставить относиться к Вам запросто, как отношусь к товарищам своих детских лет. К тому же Ваша жизнь так отличается от моей «борьбы за существование», что Вы не сможете себя представить на моем месте. И то, с чем приходится мне поневоле каждодневно сталкиваться, может произвести на Вас впечатление «житейской грязи», от которой мне всегда хочется оберечь Вас. И еще дьявольская гордость, вернее, ложный стыд мешают просто сказать, что мне сейчас плохо живется. Возможно, это потому, что я с детства избалована. Но должна сказать, что я — заведующая химической лабораторией завода, правая рука главного инженера завода — принуждена урезывать себя и семью во многом для того, чтобы приобрести нужную вещь, не говоря уже о предметах комфорта, которые сейчас для меня недоступны. Приходится, например, только мечтать о хорошем радиоприемнике и довольствоваться репродуктором.
Между прочим, в Крыму, когда у нас был радиоприемник, я как-то слышала Ваше выступление по радио с обработанными Вами негритянскими песнями. Помню, что на меня очень подействовал Ваш голос, взволновал и смутил меня так, что я почувствовала, что краснею, и сердце ускоренно забилось. Это — от одного звука Вашего голоса... [А] что было бы при встрече! Я бы или окончательно смутилась и потерялась, или бы излишней развязностью попробовала перебороть себя.
Ну вот, начала письмо в мажорном тоне, а кончаю в минорном. (...)
Ваше последнее письмо принесло мне большую радость, которая живет во мне и сейчас. Это письмо убедило меня в том, что я для Вас кое-что значу даже теперь, когда Вы узнали все мои недостатки. Правда, мне было бы еще приятнее, если бы Вы не доказывали, что ревновать к Вам не следует. Кстати, нет нужды Вам сейчас об этом беспокоиться, так как я живу одна, без мужа. Переписка с ним оборвалась. (...) Решив, что я теперь для него пожертвую всем, он потребовал от меня, чтобы я своих детей отдала их отцу. (...) Убедившись же в том, что дети у меня на первом плане и для него я ими никогда не пожертвую, он умолк, по-видимому, навсегда. Мне это особой боли не принесло, так как я во всем обвинила только себя. Обидно лишь за сынишку. (...) Ну, о нем довольно. Меня сейчас гораздо больше интересует, как и где Вы отдохнули. Надеюсь, хорошо?
Близится Новый год, а это мой любимейший праздник. Как хотелось бы мне встретить его вместе с Вами! (...)
Ночь с 18 на 19 янв[аря] 1949 г.
Пишу под звуки радио — муз[ыкальная] картина «Садко» Р[имского]-Корсакова. Хорошо!
Брал с собой в Ленинград Ваше письмо от неизвестного числа декабря. (О, женщина! Вам трудно поставить дату! Что же будут делать потом всякие искусствоведы, которым придется ломать себе голову над «научным» вопросом: «Когда было написано письмо Людмилы Райнль к покойному композитору?»)
Я уже побывал в Ленинграде и хотел Вам еще оттуда написать. Но, увы, закружился в вихре всяких званых обедов и ужинов, во время которых «нагружался» до отказа. Но не думайте, что я [именно] по этим «делам» ездил в Ленинград. У меня действительно были очень важные дела. Кстати, я наконец-то смог повидать свой «Вольный ветер» в ленинградской интерпретации («Садко» окончился), о которой много слышал (начался эстрадный концерт — радио выключаю!). (...) Я не могу передать Вам оваций зрительного зала, узнавшего о моем присутствии. Это был триумф, глубоко взволновавший меня. Вообще поездка была содержательной. За мной ходили репортеры, мои речи и встречи записывались на пленку и т. д. Да, конечно, жизнь у меня другая, чем у Вас, и Вы это изволили правильно констатировать. Но... Как же Вы неправы, утверждая, что мне не понять Вас! Я не только хорошо Вас понимаю, я физически ощущаю Вашу жизнь, полную забот, тревог и лишений. Я уже думал над глубокой несправедливостью судьбы, обрушивающей на Вас столько тяжестей. Я никогда не могу избавиться от сопоставлений Вашего образа, такого, каким он мне предстал в далекие прошлые годы, с тем, что сейчас есть. И мне кажется, что где-то совершена Вами большая ошибка, от последствий которой Вы не можете избавиться. Вы вся — умная, чудесная, светлая! Ваш свет и Ваша (пускай сейчас немножко скептически грустная) улыбка пробиваются даже сквозь тьму настоящей Вашей жизни. (...) Я скажу Вам без всяких преувеличений: Вы очень интересный человек! (...)
Я уже и раньше много Вам писал о том странном и необычайном месте, которое Вы занимаете в моей душе. Ведь с обычной точки зрения, я Вас не люблю, по Вам не тоскую, не мечтаю о Вас как о женщине. (...) Но вместе с тем именно Ваши свойства, глубина Ваших переживаний, глубокое душевное Ваше обаяние сделало меня Вашим постоянным «спутником», не теряющим, поскольку это от меня зависит, Вас из виду, глубоко переживающим Ваши невзгоды и печали. Ваше человеческое, незаурядно человеческое создало во мне ту прекрасную привычку ждать Ваши письма, как ждут свиданья с любимой, писать Вам так, как вдохновенно пишут только тем, кто очень хорошо всё чувствует и очень хорошо всё понимает. (...) И на основе моих ощущений, моих представлений о Вас я могу сказать, что Вы заслуживаете большого и радостного счастья. Придет ли оно к Вам? Зазвенят ли Ваши письма ко мне когда-нибудь этим большим человеческим счастьем? Ах, как я хочу этого! Может быть, даже больше, чем Вы сами. Потому что Вы могли потерять у себя веру в будущее, а я у Вас ее не потерял, не могу потерять. Вы для меня — чуть-чуть оторванная от реальности, от «житейской грязи» (как Вы пишете) — сохраняетесь в том виде, в том образе, который Вы сами, вероятно, утеряли. И вот сохранность Вашего образа, его чистота и обаяние, которое я пронес за годы нашего «письменного знакомства»,— она-то и составляет силу моего воздействия на Вас. Хочу я или не хочу, вольно или невольно, но я Вам показываю Вас такой, какая Вам нужна. [...] Мне трудно выразить ясными словами всё то, что есть у меня в душе для Вас. Но почему-то уверен, что я прав. (...)
Меня глубоко взволновало Ваше письмо. Ни один архилюбящий человек не напишет таких писем! Но каково же мне читать о всех ужасах, обидах и боли, которую Вы переживаете и пережили? (...) Мне хочется по-человечески Вас пожалеть и по-человечески Вам помочь. Любование «философией чувств» вещь хорошая, но за этим всем стоит простая жизнь с ее простыми потребностями. (...) Я бесконечно ценю Ваше трогательное желание уберечь меня от житейской вульгарности. Но я ведь с ней все равно сталкиваюсь. Поэтому снимите меня на некоторое время с пьедестала «неприкосновенности» и поймите, что я обыкновенный, простой человек, желающий, кроме романтики, и проникновения в жизнь во всей ее наготе.
Поэтому я, ломая Вашу гордость, хочу у Вас спросить: что стоит друг, если он при виде горя и печали друга только причмокивает языком от сочувствия и не делает ничего, будучи что-либо в состоянии сделать? Надеюсь, что Вы мой вопрос поняли. И я прошу Вас принять мою помощь. Это для меня ничего не составит, а Вам, я знаю, это необходимо.
Кроме того, разрешите мне в качестве новогоднего подарка прислать Вам деньги на покупку радиоприемника, который Вам даст возможность слушать и мою музыку среди другой.
Я жду с нетерпением Вашего скорого письма. А пока я хочу Вам пожелать так много хорошего, как может желать только искренне преданный человек.
Людмила! Верьте! Любите жизнь! Помните, что я этого хочу. (...) А чтоб Вы совсем рассмеялись от неожиданности, я крепко Вас обнимаю и целую, худую и некрасивую. Для моих чувств Ваши габариты не имеют никакого значения. Вы для меня всегда остаетесь обширной и красивой. Вот как!
Ваш И. Д.
1/II—49 г.
Милый друг, вместо ожидаемой Вами улыбки я расплакалась над Вашим письмом. Я очень ценю Вашу деликатность, но мне стало так грустно...
Относительно Вашего предложения могу сказать Вам (только Вам я решаюсь сказать об этом откровенно), что я нахожусь в мучительном раздумье: быть или не быть?
(...) Чем ближе становитесь Вы мне, чем теснее незримые нити связывают наши души, тем менее мне хочется, чтобы среди этих нитей была материальная зависимость. (...)
Другое дело — радиоприемник. Тут уж искушение слишком велико, а я ведь только слабая женщина! Приходится сознаться, что мне это вдвойне приятно, потому что он будет всегда напоминать о Вас. Но позвольте заметить, что, собираясь сделать подарок, не спрашивают о том разрешения. (...)
Меня немного удивил Ваш призыв — любить жизнь. Неужели у Вас создалось такое мнение обо мне, что я не ценю жизнь? Наоборот, я страстно люблю жизнь, такую, какая она есть. И чем больше мне лет, тем больше я ценю жизнь, только, к сожалению, мне не удается занять в ней то место, которое хотелось бы. Моя работа, правда, по-своему интересная, тяжелая трудовая жизнь в сельской местности (вот что значит Бобровка) целиком поглощают у меня время и силы, но не захватывают полностью. Гораздо сильнее меня влечет к себе другое, недоступное по разным причинам: я очень люблю искусство — музыку, хороший театр, литературу, живопись. В свое время я подвизалась на всех этих поприщах, но всегда неуверенность в себе, своих силах мне мешала. (...) Также очень люблю танцы и спорт и занималась ими с детских лет. В Москве, в годы студенчества, увлекалась легкой атлетикой, коньками, лыжами, акробатикой, художественной гимнастикой. Была хорошим спринтером и выступала на первенство Москвы по гимнастике. Недурно рисовала, писала. На сцене рискнула выступить сравнительно недавно, в Крыму (удалось преодолеть свою застенчивость) и с довольно шумным успехом (у нас был хороший режиссер). В общем — задатков было много, а ничего не вышло. Всему виной — мой характер и воспитание. И главное, как Вы очень чутко заметили, была совершена ошибка, непоправимая ошибка, за которую расплата — моя жизнь. Эта ошибка — мой первый брак, распявший мое человеческое достоинство до такой степени, что я перестала себя уважать. Потом — годы войны, годы тяжелой и упорной борьбы за жизнь, свою и близких мне людей. После войны — вторичная ошибка, происшедшая тоже от жажды жизни и любви, и потом уже жизнь не для себя, заботы не о себе. Даже вечерами, вместо отдыха, стараешься взять какую-нибудь дополнительную работу. А если бы не эти земные цепи, я бы еще взлетела, да еще как! Ведь я сейчас и зрелее, и умнее, и жаднее к жизни, чем когда-то!
Но... Об это «но» часто приходится спотыкаться. Ведь добровольные цепи — самые прочные в мире. (...)
Ну, я сегодня что-то чересчур разболталась и расхвасталась о себе, всему виной Ваше письмо. Теперь я его уже перечитываю не с таким волнением, как в первый раз, но все же я хочу сказать, что никто и никогда так не играл струнами моей души, как Вы, и никогда ни у кого цель этой игры не была благороднее Вашей, хороший Вы мой! Вы для меня являетесь путеводной звездой, никогда не меркнущей на моем горизонте. Так сияйте же всегда на моем жизненном пути, освещая все извилины его и согревая душу.
А теперь я хочу в отместку Вам, готовому оборвать шуткой самый торжественный момент, отплатить тем же: не кажется ли Вам, что наши дифирамбы несколько напоминают известную басню Крылова «Кукушка и петух»?
И разрешите мне узнать — все ли месяцы этого года Вы намерены провести в Москве; если нет, то в какие из них Вы будете отсутствовать? Это на случай, если мне удастся съездить в Москву. (...)
12.III.49 г. Москва.
Милая моя, славная Людмила!
(...) Слишком часто в нашей жизни личное стало зависеть от общественной атмосферы. Ваше письмо от 1 февраля, такое нежное, ароматное, проникнутое глубоким доверием ко мне, требовало и соответствующего ответа. Для этого мне надо было отделить свою душу от всех внешних впечатлений, от всех бурных событий, пробежавших новой грозой и ливнем на нашем творческом горизонте. Мне нужно было бы погрузить себя в Вашу жизнь, в Ваши думы и чаяния, отдать свою душу Вам, забыть дикий вой дерущихся, сумятицу мелких инстинктов и самолюбий, страшную силу новых, далеко не осознанных мыслью и чувством постулатов и проблем высокой политики в искусстве и творчестве, к которому я имею честь или несчастье принадлежать. Признаться, я такого отделения души своей в этой обстановке не смог сделать, как и не смог отрешиться для Вас от окружающей жизни. (...)
Сложный Вы и противоречивый человек! Мне всегда нравилось Ваше парение, отмечавшее Вас как художественную натуру. С тех первых писем, когда зародилось мое большое и удивительное любопытство к Вам. (...) «Смеющаяся Людмила» — это был почти полный синоним всего моего творчества. В Вас я видел стык мой с жизнью, связь мою с душой молодежи. Смотрите! Из всей громадной моей переписки довоенных лет осталась только переписка с Вами. Сколько разных чувств и ощущений она вызывала во мне! От почти шального и опьяняющего романтического приключенчества (чудесные никогда не забываемые поиски Вас в лабиринте студенческого городка, гостиница, музыка!) через светлую радость одного лишь восприятия Вас и всего Вашего, через тоску по Вашим письмам; когда Вы исчезли в кошмарном бреду военного времени, через самые письма, полные большого и содержательного общения,— к прекрасной и особенной по духу дружбе, а может быть, и... любви, не знающих никаких целей, никаких интересов, кроме целей и интересов возможно жаднее, возможно глубже пить из этого чистого, не загрязненного ничем и никем родника чувств, настроений и мыслей. Я уже Вам когда-то раньше писал, что я не знаю, да мне и неинтересно знать, как всё это называется. Может быть, если бы наши жизненные орбиты сошлись, то в этой точке возник бы замечательный по богатству человеческий союз! Может быть, если бы наши орбиты сошлись, то произошла бы яркая вспышка романтических чувств, одуряющая попойка страсти и... наши пути давно бы разошлись, оставив в наших душах, может быть, сладкое, а может быть, и горькое воспоминание. Всё это — может быть. Наши пути не сошлись! Я об этом никогда не задумывался, да и не надо. Вы плели свою жизнь, я — свою. И все-таки наши жизни идут параллельно. (...)
Вы никогда не сможете представить себе, как я удивлен, как скорблю я о том, что Вы не смогли создать себе жизнь, достойную Вас. (...) Что значит жажда жизни и любви, о которой Вы пишете? В чем она у Вас проявилась? (...)
Я тоже мог за свои 49 лет говорить неоднократно о жажде жизни и любви. Я эту жажду претворял в реальные факты, делал много хороших и дурных поступков; имея много денег, вкушал, что называется, от древа добра и зла, любил по полчаса и по десять лет, дружил, обладал, сам отдавался, завоевывал, играл Бетховена почти продажным женщинам, чтобы проследить, как это на них действует, лепил себе кумиров из ничтожеств и проходил мимо [подлинных] кумиров из опасения, что они — ничтожества!
Но упиваясь радостью, плача от горя, стыдясь себя за мимолетные похоти, проклиная себя за боль и муки, доставляемые другим, я держал всегда свою генеральную линию жизни в полной целости и неприкосновенности. Этой жизни я не искал в случайностях, а создавал ее закономерно силой и глубиной реальных чувств, а не кажущихся привидений. И если в жизни моей случились драматические нескладности, давящие на меня по сию пору, то виной этому не пресловутая жажда жизни и любви. (...)
А Вы? Вы пытались себе создать жизнь (вернее, реальное бытие) на основе тех случайностей и призраков, к которым влекла Вас Ваша жажда. В этом Ваша страшная ошибка, от которой Вы должны себя решительно впредь предостеречь! Я говорю это, потому что мне чудится каким-то двадцать шестым чувством, что Вы склонны снова пустить Вашу жажду на волю стихий. Что единственно Вы приобрели огромной ценой? Счастье матери! Но как оно у Вас болезненно, это счастье, в вечных страхах за жизнь родного маленького существа! (...) Вы уничтожили Вашу юность, молодость и теперь выколачиваете тяжелым трудом средства для существования, в то время как Ваши призраки-негодяи канули куда-то, предоставив Вам расплачиваться за все! Как рано Вам приходится сдавать в архив воспоминаний то, что могло бы еще жить и трепетать явью и полнокровной реальностью! Я никогда еще так сурово не осуждал Вас, и никогда еще мне так не хотелось, чтобы Вы нашли свое счастье в жизни! Как Вы его заслужили! И как Вы не сумели его поймать! Людмила! Простите меня за мою горячность! Вы очень хорошая! И не винить Вас мне хочется, а помочь Вам обрести свое достоинство и не швыряться больше собою. И если бы я умел молиться, я помолился бы за Вас, за Ваше здоровье, за здоровье Ваших близких людей, за Вашу любовь, за любовь к Вам, за Ваше счастье, за Ваши успехи, за Ваше благополучие, за нашу неувядаемую дружбу и радость взаимного общения, за... Вашу жажду жизни и любви (но в моем понимании)!
Сейчас прямо под стать кончить лозунгами: «Да здравствует...!» и т. д. (...)
Я крепко, несчетное число раз целую Вас. (Я сошел с ума! Что сказала бы княгиня Марья Алексеевна!)
Я нежно, нежно целую Вашу душу!
Ваш И. Д.
Приемник у Вас скоро будет. Я просто ждал, пока Правительство снизит цены! И, видите, дождался! Ура!
Людмила! Я Вас люблю! Не смейте мне отвечать взаимностью!
P. S. (...) Вообще Вы ужасный человек, и я начинаю убеждаться, что люблю Вас и ценю только потому, что не имею никакого представления о подлинной свирепости Вашей натуры.
Что? Съели?
Ваш И. Д. (...)
2.IV. 1949. Москва
Мой милый, дорогой друг!
Что же Вы замолкли? Или что-нибудь случилось? Или Вы снова погружены в свои тяжелые и многообразные дела? Или Вы снова что-то «сотворили» с собой и боитесь выдать себя каким-нибудь неосторожным словом? Или Вы сердитесь на меня за мое последнее письмо? Я часто передумываю, не причинил ли я Вам какой-нибудь боли своими назойливыми рассуждениями и философствованием. Но я всегда не ошибался, доверчиво полагаясь на Ваше прощение, ибо мои письма к Вам всегда были искренними, идущими от глубин моего сознания и нежных чувств к Вам, от ласкового бережения Вашей чудесной и светлой души. Нет! Вы не можете на меня сердиться! Почему же Вы умолкли? Мне не хватает Ваших писем. Вы об этом забыли? Что с Вами?
Ваш И. Д.
8/IV—49 г.
Мой нежный друг!
Вообще не следовало бы в таком настроении, как у меня сейчас, писать Вам, но, во-первых, я не знаю, когда оно пройдет у меня, а во-вторых, принимайте меня такою, какая я есть,— не все же Вам читать о приятных вещах!
Я сержусь на Вас за только что полученное письмо, а не за то, которое Вы имеете в виду. О! То письмо я получила поздно вечером, вернувшись домой усталой и продрогшей после двухнедельной командировки из Свердловска. Я читала его, задумываясь почти над каждой фразой, около двух часов и потом почти до утра проворочалась в постели, не в силах уснуть. (...)
Ваши фразы: «Я Вас люблю. Не смейте мне отвечать взаимностью!» — диаметрально противоположны друг другу. Разве не естественно для любящего человека ждать взаимности и желать ее? Правда, в своих письмах Вы не раз говорили о своей дружеской любви ко мне, даже спрашивали как-то, думаю ли я так же о Вас. В последнем же письме прозвучала новая нота: Вы запрещаете мне отвечать взаимностью. Это — противоестественно. Может быть, я понимаю Вас, но мне хочется, чтобы Вы сами разъяснили этот парадокс. Я же обещаю не говорить Вам о своей любви до тех пор, пока Вы сами не будете меня просить об этом!
Я сержусь на Вас за Ваше предположение о том, что я что-то «сотворила» с собой и боюсь выдать себя неосторожным словом. Ваше двадцать шестое чувство Вас на этот раз обманывает: пока Вы, невидимый, со мной, я надежно защищена от всех случайностей и призраков, защищена нашей дружбой, хотя ей, кажется, уже тесно в рамках этих понятий. И уж, конечно, если бы даже что-либо и случилось, я бы не стала бояться выдать себя, а, наоборот, чистосердечно Вам во всем призналась. (...)
Я вообще начинаю бояться, что Вы, готовый даже молиться о моем благополучии и счастье, можете невольно причинить мне сильную боль. Так мне подсказывает мое простое шестое чувство. (...)
Я должна согласиться с Вами, что моя жажда любви была не созиданием, а просто ожиданием чего-то чудесного. Я спала с открытыми глазами и ждала волшебного принца, который должен прийти и пробудить меня своим поцелуем к жизни. Сейчас, к сожалению, я уже уверовала в то, что мое счастье утеряно, как и счастливая сорочка, в которой я родилась. И я скромно мечтаю лишь о более спокойной работе и жизни, культурной жизни с хорошей книгой, театром и музыкой. (...)
Кстати, Ваше сердце, сердце любящего друга, не подсказало Вам, как мне было плохо? Когда у меня не было просто ни физической возможности, ни желания написать Вам? (...) Если Вы не хотите потерять свою Людмилу навсегда — вырвите меня отсюда!
Ну вот, начала «о здравии», а кончаю «за упокой». (...)
Исаак Осипович, Вам, как другу, от которого я не скрываю ничего, я должна признаться в некоторых фактах, начинающих меня серьезно тревожить. Ваши письма, наше общение, вначале просто приятное, постепенно становится мне жизненно необходимым. Я могу это сравнить с воздухом, необходимым экипажу подводной лодки, напрягающему для спасения своей жизни все усилия, в то время как тело наливается усталостью, как свинцом. Это мне уже начинает мешать жить и работать. Больше всего пугает тот факт, что, глядя на Ваш портрет, я нахожу Вас красивым, в то время как раньше критически относилась к Вашей внешности.
Подумайте, чем это может кончиться, и прекратите это наважденье. Сама я это сделать уже не в силах.
Я нежно целую Ваши глаза.
Ваша Л.
P. S. Пожалуйста, не затягивайте ответ. Мне очень хочется уловить Ваше дыхание, Ваш резонанс на мое письмо. (...)
Сержусь, но... люблю!
Л.
Москва, 12 апреля 1949 г.
Как всегда,— ночь...
Поговорим о странностях любви...
А. Пушкин. «Гавриилиада»
Что с несомненностью я установил в Вашем письме, которое сегодня получил?
1) Что Вы — брюзга несносная!
2) Что Вы только теперь начинаете чувствовать ко мне ту дружескую любовь, о которой давно пишете мне!
3) Что, вероятно, под влиянием ужасающей дикости и скучности обстановки даже я начинаю казаться Вам красивым!
4) Что Вы должны научить меня искусству точного видения на почтительном расстоянии. (...)
Задачу на сей раз Вы ставите передо мной трудную, но так как это делаете ВЫ, то у меня нет ни малейшего желания уклониться от ответа. Он затруднен еще тем, что в первый раз за всю нашу переписку, за все время нашего знакомства я боюсь, что я Вас не понимаю.
«Не смейте отвечать мне взаимностью!» Нет! Это не парадокс!
Между нами громадная разница. Я — будем говорить грубо и, конечно, далеко не точно — «благополучный» человек, имеющий в жизни, как говорят, все, что может иметь человек — славу, деньги, положение, не одну, а даже две семьи, не двух, а, кажется, трех любящих женщин, в разной степени вращающихся в моей жизненной орбите — кто в прошлом, кто в настоящем. Да, я благополучно сижу на пороховой бочке, не взорвавшейся до сих пор исключительно благодаря моему умению «творить жизнь» и благодаря удивительной «способности» моей отдалять час расплаты за счет трагических противоречий, разъедающих жизнь и целостность всех участников (прошлых и настоящих) этой житейской драмы (или комедии, как угодно!). Удивительные способности мои к подобной жизни зиждятся на моем неиссякаемом оптимизме и... материальном благополучии. А знание людей, с которыми приходилось и приходится сталкиваться, порождает умение лавировать с большими или меньшими потерями вот уже в течение более чем 15 лет среди разных бурь и подводных рифов.
Мой оптимизм в свою очередь зиждется на моем творчестве, путь которого изобилует большими успехами, дававшими мне своего рода «неприкосновенность личности». Эта картина блистательного внешнего «величия» при бурной и полной всяческих мук и терзаний, но богатой эмоциями жизни, продолжается и поныне, хотя двойственность и глупость моего бытового здания не может долго и безнаказанно продолжаться без грядущего и неминуемого обвала. Вам не должно показаться странным, что именно благодаря такой жизни я обладаю почти полнотой той свободы для себя, которая делает мои дела, привычки, потребности и привязанности лишенными почти всякого контроля со стороны. Одним словом, при обычных и «нормальных» путах, связывающих любящих и любимых людей, я сохраняю нетронутым свой внутренний мир, которым я безраздельно распоряжаюсь. Даже мой кабинет, эта «экстерриториальная зона», находится там, где живет женщина, перед которой я не подотчетен, и не живет та женщина, при которой этот кабинет не был бы экстерриториальным.
Вот в этом внутреннем мире, к безраздельному господству в котором я привык, в нем-то и живут наши с Вами отношения. Вы не единственная, с которой я вел дружескую и содержательную переписку в разное время. Но Вы - единственная, которая сумела так прочно стать большой частью этого мира, которая сумела породить во мне такое крепкое чувство ласковой и нежной привязанности, глубокой дружеской заинтересованности в Вас, которую, в сущности, я так мало лично знаю. Я уже Вам об этом неоднократно писал и признавался в гораздо более ясных и красивых выражениях. Но часто шутя по поводу наших «транспространственных» отношений, я никогда не считал их «романом по переписке» и меньше всего думал о возможности их превращения в реальные романтические взаимоотношения. Нет! Это была и есть дружба, бескорыстная и бестелесная. И я имел право сказать от имени дружбы этой, что я Вас люблю. И, клянусь, я не погрешил против истины, против моего внутреннего мира. И если я Вас потеряю, я буду долго и горестно оплакивать эту потерю, хотя Вы в моей обиходной жизни не играете никакой роли, так же, как я в Вашей. Наши отношения — это мир мечтаний и фантастики, соприкасающихся с реальной жизнью только потому, что мы, кроме того, реальные и живые люди, спрашивающие и отвечающие, болеющие и смеющиеся, заинтересованные друг в друге и во всем том обычном, что каждого из нас окружает. Теперь возьмем Вас.
Вы - совсем другое дело! Будучи в совершенно ином положении, в совершенно других условиях, будучи изрядно потрепанной сложившейся жизнью и одинокой,— Вы могли до поры до времени согласовывать свои отношения с той версией, которую я им придаю. Вы не считали нужным слишком задумываться над «забавной» формой нашей дружбы, потому что Вы получали от нее то, чего Вам недоставало: участия, внимания, большей или меньшей чуткости, а главное - хорошего человеческого отношения (совершенно реального!). Частенько, после очередного письма к Вам, я задумывался, не слишком ли я затягиваю «романтическую нить» нашей переписки, не увлекаю ли я Вас в ту сторону, где начнется разрыв между фактами и желаниями. И пока этого не было, пока Вы отвечали мне хорошей теплой дружбой, пока мои глаза и мое фото Вас не тревожили, я понимал и радостно приветствовал Вашу взаимность, понимаемую мной только в определенном смысле.
Но в самое последнее время я почувствовал другое. И это другое позволило мне сказать: «Я запрещаю Вам отвечать мне взаимностью». Ибо я не могу хотеть, чтобы Вы полюбили меня, как женщина любит мужчину. И в сегодняшнем Вашем письме я прочитал и Вашу собственную тревогу. Я ощутил Ваше желание большего. Вы сами пишете о тесноте рамок. Вы сами пишете, что «это» начинает мешать Вам работать и жить. Вы пишете о жизненной потребности Вашей в общении со мной, в письмах моих. Если будет Ваша воля, я никогда не лишу ни Вас, ни себя этой радости общения.
Но наваждение, которое вы просите меня прекратить, ибо ВЫ сами не в силах это сделать, звучит для меня тяжким укором, так как чувствую, что один я виноват в нарушении Вашего покоя.
Смешно запрещать человеку любить, если он хочет любить. И мне... радостно читать Ваше «люблю». Любите меня крепко, сильно, если сможете любить от имени нашей прекрасной и нежной дружбы, если сможете сделать эту любовь затаенной частью Вашего внутреннего мира, частью Вашей мечты, радостно вздымающей Вас, а не мешающей жить и работать. Но Вы, Вы... Ведь Вам хочется простого, реального человеческого счастья, а не мистических формул и путешествий к звездам.
Может быть, я Вас не понял. Может быть, Вы подшутите надо мной за все мои напрасные излияния. Я этого очень желаю. Я желаю, чтобы наши отношения дружеской любви вернулись на старое место, откуда их сдвинуло такое простое и естественное право человека желать.
Я хочу, чтобы я мог целовать Ваши глаза и душу без Вашего головокружения и тревоги. Я хочу говорить и слушать искреннее «люблю» и придавать ему только один смысл, не мешающий жить, не угнетающий, а радостный от сознания существования двух людей, сплетенных давней и чудесно расцветшей сознательной человеческой дружбой.
Моя дорогая Людмила! Мое славное и нежное существо! Мне очень, очень грустно... Больше я Вам сегодня ничего не скажу. Благодарю Вас за все, что Вы мне даете, за вдохновение моей мысли, за мои чувства.
Помните, что я считаю не только дни и часы, но и минуты в ожидании Вашего ответа.
Ваш И. Д.
21 апреля 1949 г.
Как долгой ночью ждет утра
Больной, томясь в бреду,
Так дни все эти от тебя
Я милой вести жду...
Мой милый, дорогой друг!
Наконец-то я дождалась Вашего письма! Вначале я его просто боялась распечатать. С каким трепетом я принялась за его чтение и какие разнородные чувства вызывало оно во мне! Мне хочется, чтобы Вы поняли меня, как всегда, с исчерпывающей полнотой.
Действие первых страниц Вашего письма было подобно ушату холодной воды, вылитой на мою бедную голову (не знаю — заслуженно или незаслуженно). Но, оказывается, эта вода не погасила огонек в моей душе, а он как бы очистился, стал гореть ровнее и спокойнее.
Я очень, очень люблю Вас. Читали ли Вы Стендаля «О любви»? Если нет — прошу Вас, прочтите. В этой книге Стендаль классифицирует разновидности любви и говорит о зарождении и кристаллизации любви. Чем длительней стадия кристаллизации (видите, и в понятии любви употребляются химические термины!), тем устойчивее, возвышеннее любовь.
Моя любовь выдержала очень длительную кристаллизацию с момента нашего письменного знакомства. От преклонения перед Вами как перед любимым композитором, через самое глубокое уважение к Вам как к человеку — к сильной и нежной привязанности. Сознание этого было подобно вешним водам, которые вначале бежали маленькими ручейками, а потом в какой-то непременно долженствующий наступить день — хлынули сразу, бурным потоком, все сметающим на своем пути.
Вы очень верно всегда и во всем меня понимаете, но... Маленькое н о все же существует.
Мне хочется рассказать Вам прекрасную сказку, читанную мною так давно, что воспоминание это смутно, как сон. За точность пересказа я не ручаюсь.
Молодой человек, увидя в диковинном саду девушку, влюбляется в нее. Он проникает в сад, добивается знакомства с девушкой и постепенно сближается с ней. Многое в ней для него непонятно и странно: ее легкие прикосновения оставляют на его руке следы, подобные ожогу. Оказывается, отец девушки, ради науки, подвергает опытам единственную дочь. С детства он приучает ее организм к сильному яду, дозы которого постепенно увеличивает. Этот яд, безвредный для нее в силу привычки, становится опасным для окружающей жизни: цветы от прикосновения девушки вянут, животные погибают. Ее дыхание, ее поцелуи опасны даже для человека, которого она полюбит. Она чувствует себя отверженной. Молодой человек, постоянно общаясь с ней, становится невосприимчивым к яду, приобретает иммунитет. Отец предоставляет им свободу, наблюдая в стороне за последствиями их общения. Он опять экспериментирует.
Когда молодой человек узнает от отца правду и убеждается в том, что и он такой же отверженный и опасный для окружающей жизни, то приходит в ужас. Огромной ценой удается ему достать флакон жидкости, уничтожающей действие яда. Скрывая свою обреченность, он отдает этот флакон любимой, чтобы спасти хотя бы ее. Девушка выпивает противоядие... и умирает на руках возлюбленного, который остается вдвойне одиноким. Оказывается, организм девушки настолько привык к яду, что нейтрализация его действия является смертельной, своего рода [тоже] ядом.
Все это потребовалось мне рассказать для того, чтобы сравнить действие Вас и всего Вашего на меня. Я настолько пропиталась, свыклась со всем тем, что исходит от Вас, что жизнь без нашего общения для меня немыслима. Я не могу и не хочу прекратить это общение. Это — непрерывный источник моей большой радости. Но меня встревожило то, что я слишком много стала думать о Вас. Если раньше сознание того, что Вы существуете, думаете иногда обо мне, дорожите моими письмами, было достаточно для поддержки во мне бодрости духа и это не отражалось, не мешало (наоборот!) моим житейским делам, то теперь думы о Вас мешают мне сосредоточиться даже на деле. Спустя два-три дня после отправки письма к Вам я начинаю торопить время в ожидании Вашего ответа. Это меня пугает. Я многое передумала за последнее время о возможных путях развития наших отношений и пришла к выводу, что прекраснее и светлее нашей необычной дружбы-любви ничего не может быть. Всякие другие отношения будут уже не то. И если бы Вы даже питали ко мне другие чувства, то и тогда я считала бы нечестным с своей стороны желать коренной ломки Вашей обычной жизни. Что могла бы я дать взамен? Свою изломанную жизнь? Я бы никогда не согласилась (ради Вас же), даже если бы Вы меня просили об этом, связать свою жизнь с Вашей какими-то цепями, кроме естественной привязанности. Мне слишком дорого Ваше счастье, чтобы думать только о себе, хотя иногда (очень редко!) у меня появляется такое эгоистическое желание, чтобы в один прекрасный (или ужасный) момент Вы потеряли бы все: и славу, и положение, и материальное благополучие. Только тогда Вы смогли бы убедиться в истинности отношений окружающих Вас к Вам как к человеку.
С каким торжеством, с какой гордостью я прочла строки Вашего письма о том, что в Вашем внутреннем мире я занимаю такое большое место, что в нем — «я владею, я люблю!». Это же гораздо больше, чем плотская любовь, грубо выражаясь. Сочувствую Вашей жене: будь я на ее месте, я бы к таким взаимоотношениям, к такой любви (ибо это все-таки любовь!) ревновала бы несравненно более, чем к какой-либо случайной физической близости. Вы не принадлежите ей целиком, Вы лучшей частью своего существа — мой. А кто из этих Ваших любящих женщин может любить Вас так, как люблю я?!
Кстати, я прошу Вас сказать, меня ли Вы считаете в числе тех трех женщин, которые любят Вас, или нет?
Так вот, грустить не надо, Вы ни в чем не виновны. Радуйтесь — и Вы доставите этим радость мне.
Я надеюсь, что тревога моя пройдет, но... голова безусловно будет кружиться от Ваших поцелуев, даже письменных, и губы будут гореть жаждой ответных поцелуев.
К прежним формам наши взаимоотношения вернуться уже не могут. Разве можно дважды вступить в одну и ту же реку? Это же диалектика жизни.
Я могла бы упрекнуть Вас в том, в чем неоднократно упрекали меня раньше Вы: что наши отношения уходят в мир фантастики и нереальности, в литературщину,— теперь же Вы сознательно прячетесь за эти ширмы. Если бы Вы подшивали к «делу» «входящие» и «исходящие» — угрызения совести мучили бы Вас несравненно больше. Но я не упрекну, потому что очень хорошо понимаю Вас, даже то, чего Вы не договариваете, и еще потому, что в сердце моем живет сейчас радость, ясная и чистая, как умытый росою цветок.
А теперь я попрошу Вас достать романс Чайковского «День ли царит», сыграть его и прочувствовать заново его чудесную поэзию мелодии и музыку стихов. Я посвящаю его Вам, мой родной. (...)
Я посылаю Вам «смеющуюся Людмилу» и даже не одну, а две, потому что мне хочется сделать Вам что-либо приятное. Одно из этих фото (вырезанное) льстило мне даже в те далекие времена, когда оно было сделано. Второе — отражает действительность 36-го года. Свое настоящее фото вышлю сразу же, как только оно у меня появится.
Я чувствую угрызения совести за то, что задержала ответ на целые сутки, в то время как Вы его ждете (я знаю как!). И я радуюсь тому, что еще успею получить к чудесному весеннему празднику Ваше нежное и такое нужное мне письмо.
Не правда ли, Вы доставите мне эту радость?
Ваша Л.
26.IV.49 г. Москва.
Моя дорогая Людмила! (...)
Кумир мой, вылепил тебя таким гончар,
Что пред тобой луна своих стыдится чар!
Омар Хайям
Вы — чудесная! И только Вы могли написать такое письмо! И я это знал, и я в это верил, когда с трепетом раскрывал Ваше письмо.
И я чувствую, что мне не удастся так поэтично ответить Вам, как Вы того заслуживаете. Потому что я не так чист, как Вы. Потому что, пройдя большой путь «атмосферного общения» с Вами, я, право, и сам запутался в вечных и вдохновенных прыжках из нереального в реальное и обратно. И порой мне самому начинало казаться, что губы могут по-настоящему гореть от письменных поцелуев, а мысль где-то греховно вертится вокруг, казалось бы, невинных строчек любви и привязанности. Нет! Не ушат холодной воды я хотел вылить на Вашу голову! Я попытался сам разобраться во всем, во всей необычности наших отношений. Ваша тревога побудила меня к этому, и какой-то внутренний голос заставил меня предостеречь нас обоих. От чего? Ах, я и сам не знаю от чего. Была хорошая, нежная сказка — повесть о дружбе двух людей, жизнь которых не пересекается, не скрещивается в одной точке. И хотелось эту сказку сохранить, уберечь от реальности. Вы красиво и просто сделали это. Мало того, Вы не побоялись двинуть эту дружбу на ступеньку выше, дальше. И столько простой и трогательной человечности во всем этом! И в сущности, не все ли равно, как, где и почему сливается нереальное с реальным?! Не мистифицируем же мы друг друга! В Вашем письме бьется жизнь, и она требует таких форм, какие ей угодны. (...) Я всегда хотел Вашей радости и счастья. Мне хотелось, чтобы Вы его обрели на «нормальных» жизненных путях. И меньше всего я был бы удовлетворен, если бы в Вашем успокоении было что-то от обреченности. Мол, не вышло в жизни, давай помечтаем. Коль губы не горят от реальных поцелуев, пусть будут бумажные. Нет! Я хочу думать и верить, что сила нашей дружеской привязанности будет подлинной силой жизни, исцеляющей, оберегающей, вдохновляющей.
(...) Много лет я люблю Вас какой-то странной, глубоко человеческой и вместе с тем нереальной, но бесконечно нежной любовью. И если в Вашей сказке есть мораль, то она сводится к простому закону инерции. (...)
Не ядом я отравлял Вас и не этим постепенным отравлением создана у Вас атмосфера привычности. Издавна ставшей для меня любимой заповедью в отношении к Вам — была заповедь нежной и любящей ласки. Вы мне изменяли, Вы отходили надолго от меня, я же — никогда. Вы увлекались, любили, страдали, болели — все это Вы прятали от меня не потому, что Вы боялись доставить мне какое-либо беспокойство, а потому что просто я исчезал из Вашей жизни как компонент Вашей души. (...) Я вас разыскал однажды, и я бы разыскал Вас еще столько раз, сколько бы мне потребовалось. И я Вас снова поставил на виду своей жизни. А подумайте, что мне было до Вас? И разве жизнь моя, как она есть, как она течет, не могла бы обойтись без Вас? Ну, была смеющаяся девушка, и не стало ее! Погрустим, может быть, напишем песню о ней и пожелаем счастья этой девушке на ее пути! Но где-то, когда-то (не знаю, где, и не знаю, когда) родилась в моей душе ласка к Вам, и без нее мне стало не хватать в жизни чего-то важного и значительного. Эта ласка рождала дружбу, дружба рождала привычность, а доверие, которое Вы мне почти всегда оказывали, когда появлялись снова на горизонте, порождало желание, чтобы у Вас всегда находилась часть моей души, так нежно любящая вас. Эти слова — наверняка ничто по сравнению с истинным теплом моих чувств к Вам. И Вы совсем недавно писали мне, что не замечали моих глаз на портрете. А теперь... Вы не хотите расставаться, Вы не представляете себе, чтобы Вы лишились этого тепла.
Вот тут и мораль рассказанной Вами сказки. Только содержание ее не в яде, а в животворящей ласке и нежности дружеской любви. Я не прячусь, как Вы пишете, за ширмы «литературщины» и «трансцендентальности» отношений. Я только хочу, чтобы Вам было хорошо. И раз Вам хорошо, то мне больше ничего не надо. Я хочу, чтобы от меня не было Вам больно. Поэтому я писал: «Не смейте меня любить!» Потому что то, что хочет жить, рвется наружу к обыкновенному солнцу — то не может довольствоваться мечтой, как бы она ни была привлекательна. (...)
Мечта, она дополняет жизнь, но не заменяет ее. К Вашей мечте, к Вашей любви, построенной тем глубоким внутренним миром, который мы бережем как зеницу ока, к этой мечте я хотел бы, чтобы Вы добавили себе хоть кусочек хорошего человеческого счастья. Тогда я знал бы, что мы как-то и чем-то сравнялись, хотя подлинного счастья мне как-то не приходилось ни от кого получать. И тогда я мог бы действительно и в реальности при первом случае зажечь Ваши губы поцелуем, прижать Вас к себе нежно и страстно.
Но ... может быть, тогда, когда Вы получили бы кусочек этого кажущегося счастья, Вы снова забыли бы меня. Ибо мечта, право же, всег да уступает самой обыкновенной яви.
Целую Вашу чудесную душу и благодарю за все, за все, моя маленькая.
Ваш И. Д.
Жду Ваших писем, как манны небесной.
P.S. «День ли царит» — сыграл. Я его знаю почти наизусть.
P.S. II. Стендаля «О любви» не читал. Постараюсь прочитать.
P.S. III. Деньги на радиоприемник послал. Волнуюсь, хватит ли. Пожалуйста, если купите, сообщите.
[7 мая 1949 г.]
Милый друг, я в отчаянии, что обстоятельства и люди мешают мне разговаривать в Вами так, как мне хочется, так, как я люблю. Для этого мне необходимы уединение и тишина, а я их лишена в настоящее время. Ночью же меня сваливает с ног физическая усталость — я и так сплю урывками. Но сегодня письмо, начатое на работе, я постараюсь закончить, даже если бы мне для этого не пришлось спать совсем, так как разговор предстоит серьезный. Эта ночь — наша, потому что завтра я уезжаю по рекламации, присланной нам одним из наших заводов-потребителей. Мне предстоит дипломатическая борьба с целой администрацией завода, и хуже всего то, что я не уверена в своей правоте. Это — та пороховая бочка, на которой я сижу со своей работой. Я Вам писала как-то о возможности для Вас потери меня, но Вы меня не так поняли: я имею шанс сесть на скамью подсудимых. Я не могу подробно написать Вам об этом. Все дело в качестве нашей продукции. Как начальник лаборатории, я несу уголовную ответственность за нее. (...) Это дорого обходится для моих душевных и физических сил, нельзя же все время жить нервами. (...)
Правда, есть у меня такая возможность — договориться о моем переводе в Хотьковский научно-исследовательский институт (пригород Москвы). Был у нас научный работник оттуда, обещал мне свою протекцию. Но для этого мне необходимо самой съездить в Москву. В служебную командировку меня туда не пошлют, так как не хотят отпускать отсюда и прекрасно понимают, почему я рвусь в Москву. Значит, придется ждать отпуска — июля месяца. Но... есть еще одно «но», о котором придется говорить с Вами.
Ваши деньги на радиоприемник я получила, благодарю, на эту сумму можно купить очень хороший радиоприемник. И у меня большое искушение — поехать в город и выбрать там что-либо подходящее, я просто наголодалась по музыке. Но... есть ли смысл покупать сейчас радиоприемник, когда я чувствую, что здесь мне не жить? (...) А эта сумма как раз окупила бы мою июльскую поездку в Москву. Как быть? Предоставляю решение этого вопроса Вам, я подчинюсь, каким бы оно ни было. К сожалению, самостоятельно отсюда мне не выбраться. Даже если я пожертвую старым другом пианино — мне некому его продать здесь, к тому же оно имеет непрезентабельный вид. (Меняю перо и тему!)
Перечитала еще раз Ваше пиьмо. Вы несправедливы, когда говорите, что я уходила от Вас, изменяла Вам. Все обстояло несколько иначе. Последнее, что я получила от Вас в Москве (вместе с билетами в Колонный зал на Ваш концерт), была записка такого содержания: «О том, когда и где мы встретимся, я извещу Вас». Принадлежа к натурам довольно мнительным, всег да недовольным собою, я не хотела нашего знакомства, так как боялась, что Вы разочаруетесь во мне — проклятая застенчивость всегда мешала мне так свободно излагать свои мысли, как я это делаю в письмах. И учтите, что мне тогда не было 20-ти лет, и я еще никого не любила! Не дождавшись никакого известия от Вас, я уверилась в правоте предполагаемого. Прошло несколько лет, я полюбила первой пылкой юношеской любовью, была счастлива и... испытала все муки и ужасы своей раздавленной, втоптанной в грязь любви. Когда-нибудь я расскажу Вам об этом подробнее. Тут-то я и написала свое отчаянное письмо Вам, человеку, который мог помочь мне уйти от моего униженья. Вы ответили мне, но... война разъединила нас, мое второе письмо повисло в воздухе. Потом, после войны, опять-таки я разыскиваю Вас. (...) И я в тот момент была такой энергичной, так жаждала жизни. Никто не верил, что у меня двое детей, и мои друзья находили, что я выгляжу лучше, чем до замужества. И вот последние три года моего вторичного замужества и мой третий ребенок взяли и мое здоровье, и остатки моего обаяния (ибо оно все-таки признавалось за мной). (...) И все-таки чем-то еще я привлекаю к себе некоторые сердца —
На закате ходит парень Возле дома моего.
«Парню» лет 50 с гаком, у него жена, взрослая дочь, но он ведет себя как робкий, влюбленный юноша. Он стал здесь уже притчей во языцех, и мне не дают прохода подшучиваниями о нем. Но он вздыхает и молчит, и единственно, что позволяет себе,— зовет меня своей Радостью. Ну вот, я и отвлеклась в сторону! (...)
Странный народ мужчины — Вы пишете, что если бы я могла добиться для себя хоть кусочка хорошего человеческого счастья, то только тогда, при удобном случае, Вы могли бы зажечь мои губы поцелуем и прижать [меня] к себе нежно и страстно. Но если это так, то такого случая никогда не будет, могу сказать об этом заранее. Я никогда не бросалась словом «люблю» и Вам сказала его второй раз в жизни, почти через десять лет после первого раза. О каком же еще счастье может быть речь?
Но если бы даже и случилось это чудо, если бы я полюбила мужчину, принадлежала ему, то никакой другой мужчина не смог бы зажечь ни моих губ, ни крови своими самыми страстными поцелуями. (...)
Хочется мне признаться Вам еще в одной вещи: я не так чиста, как Вам кажется. Когда Вы пишете, что целуете мою душу, я представляю себе, что Вы целуете мое сердце, которое трепещет под прикосновением Ваших губ, как пойманная птичка, и... я зацеловала бы Вас до смерти в такой момент!
В моем саду мерцают розы белые,
Мерцают розы белые и красные.
В моей душе дрожат мечты несмелые,
Стыдливые, но страстные!
Ваша Л.
17. V.1949. Москва.
Ну вот, сумасшедшая Людмила, я пишу Вам, надеясь, что Вы уже вернулись из Вашей дипломатической поездки живой и невредимой, а главное — не посаженной на скамью подсудимых. Бросайте скорее Ваш малоприятный пост и переезжайте в это самое Хотьково, под Москву. Выгоды такого переселения не требуют комментариев. Вспомните, если сможете, Ваше последнее письмо, потому что я буду отвечать Вам по порядку написанного.
Деньги, посланные на приемник, необходимо, конечно, использовать на поездку в Москву. Таким образом, я надеюсь Вас увидеть в Москве и заодно в один из знойных июльских вечеров дать Вам возможность проявить свою «письменную прыть» в реальности и «зацеловать меня до смерти».
Я продолжал и продолжаю считать, что на протяжении нашего знакомства ВЫ исчезали, ВЫ уходили, ВЫ изменяли. Несомненно, что в периоды Вашего личного душевного наполнения Вы не нуждались во мне. Это, может быть, и естественно, но не для нашей дружбы, не для характера наших отношений. И дело вовсе не в том, что Вы меня однажды разыскивали. («Кто ищет, тот найдет!») Дело в том, что даже в последнее время, уже после переселения Вашего на Урал, Вы опять надолго пытались от меня улизнуть. И это я опять притянул Вас за уши, как провинившуюся школьницу.
Я не знаю, красивы ли Вы по внешности. Я вглядывался в Ваши фоточерты и так и не понял, соответствуете ли Вы моему обычному вкусу как женщина. В то время как я виделся с Вами в Москве — передо мной была девочка, и я тогда не задумывался над своими, так сказать, физическими ощущениями. Мы прошли с Вами солидный «переписочный» стаж, и для меня вопросы Вашей красоты стоят в несколько ином разрезе. Я считаю, что Вы очень красивы, и я никогда не расстанусь с привычным для меня Вашим образом, ибо этот образ создан большим и содержательным процессом познавания самого важного и самого глубокого в человеке. Пусть это абстракция, нереальность, но какой бы Вы ни были в самом деле, Вы для меня будете такой, какой Вас никто не увидит, и не видел, и не видит. Потому-то я и пишу Вам «моя». И я совсем не принадлежу к тем странным мужчинам, о которых Вы пишете. И ничего странного в моих рассуждениях и ощущениях нет. По-моему, я Вам уже как-то писал, что, принадлежа другому, любя другого, Вы не должны, не можете убрать меня из того внутреннего, таинственного мира, который принадлежит только Вам и мне. Я никогда не откажусь от реальных чувств и реальных наваждений любой категории, если Вы их во мне зажжете. Но я не буду считать это какой бы то ни было изменой моим житейским нормам и привязанностям. Изменять — это значит отдавать другому то, что ему не принадлежит. Вы никогда не сможете со мной изменить Вашему мужу или возлюбленному. Ибо если Ваша супружеская или любовная преданность покроет Вас всю, с душой, с телом, с внутренним миром без остатка, тогда я вообще исчезну из Вашей жизни и никак не смогу быть объектом для измены. Но как бы ни была горяча Ваша любовь к мужчине, я до тех пор могу зажигать Ваши губы и сердце, Вашу мысль и чувства, пока я царствую в отведенном мне месте Вашего внутреннего мира и пока это место безраздельно принадлежит мне.
Ерунда и преувеличение, когда говорят «вся», «весь»! Это удел пылких, но не очень разбирающихся в себе натур. Никогда человек полностью никому не принадлежит, потому что это «полностью» редко когда подлинно завоевывается любимым человеком. Вот именно, как раз наоборот: преимущество любимого (а в дальнейшем и его беда!) заключается в том, что ему отдают это кажущееся «все», потому что так просто хотеть, чтобы оно казалось, что «все» отдаешь. Но ведь мало отдавать все, надо, чтобы и брали все. А для того, чтобы все захватить, надо иметь не только аппетит, но и возможность переварить это. Тут-то люди и давятся, не будучи в состоянии все пожрать. И выходит, что постепенно, а иногда и скоро любящий человек убеждается, что его партнер уже икает от пресыщения даже половиной того, что ему дали. Вот тогда-то и появляется необходимость все несъеденное, не взятое глубоко спрятать в душе и... ждать волшебного принца. Это и есть тот внутренний мир, куда Вы уже не впустите даже и того, уже налопавшегося Вашего любимого и любящего. Но Вы охотно впустите туда любого человека, который окажется способным затронуть какие-то глубокие струнки этого Вашего мира. И Вы сами не заметите, как Вы из этого будете делать тайну не из боязни измены, а из боязни быть непонятой тем, с которым Вы делите Вашу жизнь, Вашу постель и воспитываете Ваших детей. Такова логика жизни!
В применении к нам я могу сказать, что Вы не измените Вашей любви, если пойдете по пути Ваших ощущений и желаний, диктуемых тем особым положением, которое я занимаю в Вашем существе, как и Вы в моем. Кто знает, может быть, в том маленьком кусочке, который у каждого из нас принадлежит друг другу и который как будто ничему не обязывает в житейском смысле,— может быть, в нем заложена такая эмоциональная энергия, которая и больше и сильней любой супружеской верности. Этот кусочек нашей жизни и нашего существа очень полон, вернее, наполнен чувствами, так ревниво и тщательно сберегаемыми друг для друга. Поэтому я и писал, что мне легче захотелось бы поцеловать Вас, а может быть, и обладать Вами, если бы Вы принадлежали другому. Во-первых, это поставило бы нас в равные условия. Во-вторых, это было бы только простым изъятием того, что мне давно принадлежит. Именно мне, и никому больше! (...) Но Вы безусловно неправы, говоря, что если бы Вы полюбили человека, то мой поцелуй был бы исключен. Это неверно вообще! Но это могло бы быть только в том единственном случае, (...) если бы все наши отношения оказались бы неправдой, вымыслом, блефом, боящимся соприкоснуться с подлинной жизнью.
Теперь по поводу Ваших гневных упреков на мой «железный занавес». Мы с Вами так хорошо всегда беседуем, я засиживаюсь над письмами к Вам так долго, что, право, не остается желания писать о «всем прочем». Да и, насколько помнится, я Вам о своей жизни писал еще в Саки, а по поводу работы частенько сообщаю отрывочные сведения. «Вольный ветер» обязательно пошлю Вам. Конечно, не весь, а отдельные номера. (...)
... Небо уже совершенно светлое, а я все пишу Вам. Как я люблю весну! Если бы Вы знали, как я люблю весну!
Я еще хотел бы о многом Вам написать и, верьте мне, напишу. Не упрекайте меня заранее и не сердитесь. Я все обещаемое выполняю.
Будьте счастливы и здоровы.
Крепко, крепко целую Вас.
Ваш И. Д.
(...) P.P.S. Слушайте, Людмила! Принимайте ухаживания Вашего 50-летнего с «гаком» парня, кружите ему голову, но только не выходите за него замуж. Вообще не выходите замуж! Это ведь не гарантия счастья.
Любите, увлекайтесь, будьте счастливы в чувствах и всегда немножко любите... меня. Я у Вас должен быть чем-то вроде дрожжей для вкусного теста.
И. Д.
[Арамиль, 31 мая 1949 г.]
4/VII—49 г.
Где же ты, мой желанный?
Милый друг, чем прогневила я Вас, что Вы наказываете меня так жестоко? Вы лишаете меня самого дорогого, затаенного, принадлежащего только нам и никому больше — общения с Вами. Мне не хватает Вас, Ваших писем, Вашей животворящей ласки.
Я не знаю, чем объяснить Ваше долгое молчание — идет уже второй месяц, как я отправила Вам письмо, на которое стала с нетерпением ждать ответ уже через несколько дней после его отправления. Вполне вероятно, что Вы очень загружены, что Вас сейчас нет в Москве, что Вы не чувствуете той душевной собранности, которая Вам необходима для писания писем мне. Главное, конечно, чтобы с Вами ничего не случилось, что Вы живы, здоровы и по-прежнему жизнерадостны. Но все это — не оправдание для того, чтобы не писать мне. Я не хочу требовать, но Вы знаете, чем являетесь Вы для меня. Вы — олицетворение всех моих лучших чувств и идеалов. Знайте же, как ни страшна мне мысль о смерти, но разочарование в Вас для меня было бы страшнее.
Ваше молчание имеет некоторые последствия: я не стала настаивать на том, чтобы отпуск мне дали в июле месяце. Теперь он отодвигается, возможно, на август. К чему скрывать? Мне эта поездка в Москву больше всего необходима из-за встречи с Вами. Переезд под Москву, конечно, тоже очень желателен, но трудно осуществим — слишком тяжело сейчас мне подниматься с места.
Ничто в мире не изменится, все останется на своих местах, но я хочу видеть Вас, говорить с Вами, хочу проверить — жизненна ли наша «транспространственная» близость, хочу знать — где истина. Я в жизни всегда искренна, Вам же открываю дверь в свою душу настежь: «Приходи, приходи...»
Ваша Л.
5.VII. 1949 г. Москва.
Если с Вами что-нибудь произошло, если Вы даже тяжко больны, то существуют чужие руки других людей, которых можно попросить написать другу. Мне кажется, что трудно простить такие паузы, как, вероятно, и трудно будет Вам объяснить их.
И. Д.
9.VII. 1949 г. Москва.
Моя дорогая Людмила! Если бы это были не Вы, мой хороший, светлый и чуткий друг, то я подумал бы, что меня сознательно обманывают, чтоб оправдать собственную вину.
Я был ошарашен, получив Ваше письмо, где Вы меня упрекаете за молчание. А некоторое время тому назад я послал Вам коротенькую записочку с тем же упреком.
Ровно два месяца отделяют сегодняшний день от дня получения Вашего последнего письма. Я подумал, что могло случиться [невероятное] такое чудо, что я затерял Ваше письмо, то есть что я мог среди других писем не обратить внимания на такой родной и всегда ожидаемый круглый маленький почерк. Нет! Ваше последнее письмо прибыло ровно два месяца тому назад. (...)
После этого письма, на которое я ответил сразу и подробно, я от Вас не получал ничего до вчерашнего дня.
Значит: или 1) Ваше промежуточное письмо пропало, или 2) мой ответ пропал.
Во всяком случае, я снова пользуюсь поводом сказать Вам, что никогда и ни при каких обстоятельствах я просто не смог бы не писать Вам. Ожидая Вашего ответа, я тем самым ждал и результатов Вашей дипломатической поездки, и уточнения даты июльского приезда, и вопроса о Вашем переводе в Хотьково. Я удивлялся молчанию, огорчался, негодовал, а оказывается, что в это время В ы удивляетесь, огорчаетесь и негодуете. Здорово получилось! Удивительно ведь, что до сих пор ни одно Ваше или мое письмо не пропадало. Значит, судьбе было угодно снова испытать наши души и нашу дружбу. И пусть в этом печальном случае будет то хорошее, что снова и снова подтверждает нашу душевную близость и «трансцендентальную» зависимость. (...)
(...) Я на прошлой неделе в один из своих приездов на дачу занялся разборкой бумаг для частичного уничтожения и для отбора нужных бумаг и писем.
Ваши письма мною были прочитаны все! Боже мой! Смеющаяся Людмила Головина! Чудесная, очаровательная! Вы пишете в последнем письме (от 5 мая), что Ваша душа не так чиста, как я представляю себе. Нет, даже если на нее осело за это время много осадков гари и пыли, ничто не может исказить и очернить ту чистоту души, какою Вы обладаете и с какой Вы пришли в мир, когда постигли уже гордость сознания.
Мне хочется увидеть Вас. Надо, чтобы Вы приехали возможно скорее. В августе это поздно. Начинается увядание солнца и вместе с ним и мое. Я ужасно люблю лето, солнце, свет, короткие волнующие ночи. Приезжайте скорее! Хлопочите об отпуске. Июль я обязательно в Москве.
Вы пишете, что «все останется на местах». Конечно, останется! Но дайте же мне возможность при встрече поблагодарить Вас за все хорошее и теплое, что Вы несете в мой внутренний мир. Я не знаю, какова будет наша встреча, какие формы она примет, какие слова будут сказаны, какие звуки будут сыграны, какие взгляды будут брошены и какие чувства заговорят. Но я знаю, что ничто не пошатнет моей нежности к Вам, живой, наглядной, существующей, к которой можно прикоснуться, которую можно обнять и которую можно поцеловать в то место, где, как говорят, обитает человеческая душа.
Жду письма, скорого, большого.
Ваш И. Д.
[13 июля 1949 г.]
Мой гневный друг!
Ваше лаконичное письмо получила; думаю, что и Вы уже получили мое встречное. Оно должно развеять Ваш несправедливый гнев и подозрения, но не кажется ли Вам странным, что, обвиняя друг друга в одном и том же проступке, мы делаем это по-разному? Неужели бы Вы не простили мне моего долгого молчания, если бы я была повинна в нем? А между тем в моем прощении Вы всегда уверены.
Я не сержусь на Вас, так как Ваш гнев говорит мне о том, что я Вам не безразлична, а это — главное.
Мне нужно быть краткой, так как это письмо я пишу, отрывая время у моей Маленькой Радости, у своего дорогого сынульки, которому я сейчас нужнее всех на свете: он очень болен, поэтому капризничает и успокаивается только у меня на руках. А я — я поражаюсь, как у меня хватает сил на эту жизнь. Не говоря уже о домашних неурядицах, я целый месяц, помимо своей основной работы, руковожу самым крупным у нас на заводе цехом (70 человек женщин) да еще веду занятия с двумя группами мастеров по повышению их квалификации. И еще три недели такой работы! Когда мне приходится наклоняться, у меня кружится голова и темнеет в глазах; говорят, это признак малокровия (а в войну я была донором!).
У моего Сережи-Ёжика в лучшем случае диспепсия и в худшем — дизентерия. И я ропщу на все на свете. На то, что единственный врач наш уже два месяца, как в санатории, а оставшиеся фельдшерицы не внушают доверия. На то, что на свои собственные деньги нельзя купить того, что хочется, что необходимо для спасения сына. Если раньше на «черном рынке» можно было по дорогой цене купить все, что угодно, то сейчас ни за какие деньги здесь не достанешь ни риса, ни сахара. В Свердловске сахар не продают, а «выбрасывают», и нужны время и счастливый случай, чтобы его подкараулить. А в наших магазинах вот уже в течение нескольких месяцев о нем ни слуху ни духу. Да что продукты — у меня сынишка принужден ходить в чулочках или босиком, потому что до сих пор я не могу застать в магазинах обувь на его ногу, это здесь тоже редкость.
Так вот, удалось достать мне немного сахара у моей приятельницы (...), вернувшейся недавно из командировки в Москву. Теперь морю парня голодом, держу его на одном чае и жду. У моей подруги погиб от дизентерии сынишка в три дня. И я прокляну все на свете, если его потеряю.
Вот какое мрачное письмо получилось. Это чтобы Вы не говорили, что я оставляю Вам только сферу небесных летаний. Но не думайте, что Вы мне сможете в чем-либо помочь: когда Вы получите это письмо, судьба Ёжика будет уже решена без Вашего вмешательства.
Теперь о письме, которое Вы не получили. (...) Мне его жаль по многим причинам, не говоря уже о потере времени. Оно было очень объемным. [...] Кроме [того, я вложила в конверт] еще письмо моей подруги и мою последнюю по времени фотокарточку. (...)
На прощанье пожелаю Вам никогда не сомневаться ни в моих словах, ни в поступках. Мне это больно. Не верить мне — значит, не быть искренним самому.
Ваша Л.
Москва, 17.VII.1949 г.
Дорогой мой, славный и хороший друг!
Мне так хочется нежно пожалеть Вас по поводу новой беды, свалившейся Вам на голову. Вы пишете, что, когда я получу Ваше письмо, судьба Вашего сыночка будет решена. Это ужасно, если мое письмо застанет Вас в горе. Я хочу твердо верить, что Сереженька перенесет болезнь. (...)
Я ужасно себя чувствую из-за того, что не могу Вам молниеносно помочь пудом сахара, врачами и деньгами. Я стою сейчас в позе свидетеля, которому ничего не остается делать, как с замиранием сердца ждать Ваших вестей, надеясь, что они будут добрыми.
Я даже ни о чем другом не могу Вам сейчас писать, так как это может получиться неуместным. Я только хочу просить Вас телеграфно сообщить мне исход болезни сына и не стесняться в получении от меня любого размера денежной помощи. (...)
Я заканчиваю письмо выражением моей безграничной нежности и сочувствия к Вам, моя Людмила. Как бы ни было и что бы ни было, помните обо мне, обопритесь на меня. Не отвергайте в тяжелые времена моей большой дружбы. Она не только в цветах и солнечном сиянии. Она не только в красочных умосплетениях рассуждений. Она — ив беде, и в горе. Не бойтесь из-за ложных опасений вводить меня в тесный круг Ваших житейских болей и обид. Я очень ценю Ваше желание не втягивать меня «в жизнь». Но еще больше я буду ценить и Ваши «простые» чувства. Смею Вас заверить, что Вы во мне не разочаруетесь.
Людмила, я ничего не хочу Вам желать. Вы все поймете сами. Мои мысли и мои молитвы с Вами. Мне бы очень хотелось, чтобы они были для Вас большим и нужным звеном в Ваших переживаниях и тревогах.
Ваш И. Д.
Письма от 31 мая я не получил. В этом и все дело, приведшее нас к взаимным упрекам. Но сейчас об этом не надо!
Жду! Как всегда!
P.S. Прочитав написанное, я подумал, что хорошо сделаю, если, не дожидаясь Ваших сообщений, пришлю Вам денег. Я так сейчас и сделаю! Можете сердиться, сколько Вам будет угодно!
И. Д.
22/VII—49 г.
Мой милый, верный друг!
Простите, что не исполнила Ваше желание — не телеграфировала о здоровье сына. Но о чем? Что он здоров — нельзя, что он жив — нехорошо. Он болеет уже десять дней, а положение все то же. Правда, это не дизентерия, болезнь не прогрессирует, но положение почти не изменилось. Я решаюсь сказать Вам это «почти» потому, что все-таки Ёжику, мне кажется, легче. Но он все время голоден, и это такое мученье. (...) Я не могу при нем взять куска в рот. Правда, самое необходимое — сахар, рис, белые сухари — мне удалось достать для него.
На Вашу присылку денег я рассердилась вначале, даже шевельнулось какое-то враждебное чувство по отношению к Вам, какая-то неосознанная мысль. Но пришло письмо и все развеяло. Милый, хороший Вы мой, сколько бодрости вливаете Вы в меня, какое глубокое доверие чувствую я к Вам. Какое большое счастье выпало на мою долю — встреча и дружба с Вами. Как я горжусь этой дружбой, этими отношениями — мне даже и не выразить словами. Это можно только почувствовать, понять и поверить. Вы стали мне еще ближе, еще дороже, Ваша забота, Ваша нежность трогают меня до слез. Я бы сейчас обняла Вас крепко, крепко, прижалась бы к Вашей груди и выплакала всю свою боль и усталость.
Вы постарайтесь все же отыскать мое утерянное заказное письмо, в нем я так много и так подробно говорю о своей жизни — что меня окружает, кто, где, как и чем. Понятно или нет? Столько интимных мелочей, на которые мне хотелось бы получить Ваш отклик.
В отпуск я смогу пойти не раньше 5-го августа. (...) Два-три дня использую на устройство домашних дел, и не позже 10-го августа я — в Москве, при условии, конечно, что Ёжик будет здоров, а Вы никуда не уедете. Я очень хочу этой встречи и по-прежнему боюсь ее.
Уж видно, чем любовь сильнее,
Тем за нее страшнее нам.
(Нравятся ли Вам «Строки любви» Щипачева? Мне — очень.)
Мне хочется рассказать Вам еще одну сказку, читанную в детстве. Все подробности стерлись у меня в памяти, помню только основное. Одна девушка (конечно, необыкновенная красавица) отправляется искать своего верного рыцаря, заточенного в мрачном царстве злыми силами. Многое ей приходится перенести и пережить: для того чтобы перейти пропасть по узенькой доске, кроме решимости, приходится жертвовать русой косой до пят, в другом случае ей приходится отдать румянец щек, нежную кожу, звонкий голос и т. д. В общем, из красавицы она превращается в дряхлую старуху с молодыми, живыми глазами — единственное, что ей разрешено было оставить от былой красоты. Наконец, любовь торжествует, узник освобожден, но, выходя из подземелья рядом со старухой, он не знает, что обязан ей своим освобождением и своей жизнью, не знает, какой ценой они куплены. И, мечтая о своей возлюбленной, он не узнает ее в старушке с удивительными молодыми глазами, пытливо глядящими на него.
Так вот, когда Вы не узнаете своей Людмилы, то вспомните, пожалуйста, эту сказку. Я все та же, но тяжелая многолетняя борьба за жизнь дорогих мне маленьких существ (никому, кроме меня, не нужных) сделала из меня то, чем я стала теперь. Узнайте же свою «маленькую» в большой, постаревшей, неуклюжей от смущения «Людмилище». А было бы замечательно, если бы я чувствовала себя свободно в Вашем обществе.
Я жду Вашего большого и скорого письма и сообщения о том, где Вы будете в августе месяце, будете ли ждать меня.
На прощанье мне хочется поцеловать Вас так, как Вы того заслуживаете. Но, играя струнами моего сердца, умоляю, не порвите их, не разбейте его. Берегите этот мой дар Вам.
Ваша Л.
Благодарю Вас за все!
25.VII.1949 г.
Моя дорогая Людмила! Ничто меня так не радует, как Ваше признание моей дружбы и нежности к Вам. Я должен Вам сказать, что по отношению к Вам я, кажется, собрал в себе всю верность и постоянство, которое я обычно давал людям только по частям. Зародившемуся во мне много лет тому назад чувству светлой дружбы к Вам я не изменил и не изменю. У меня есть жена — любимая женщина, у меня есть большой сын от прежней жены, с которой я формально не разведен, у меня есть маленький сын 4,5 лет от фактической моей жены (весьма сложно — не запутайтесь!), я — человек увлекающийся, жизнелюбивый, может быть, грешный в чувствах своих и стремлениях, но «почему-то» всегда и неизменно радуюсь Вам, радуюсь мысли о Вас, радуюсь Вашему письму, и если нет его долго, то среди всех моих чувств, прихотей, удовольствий, забот и дел находится место для грусти и беспокойства.
Но я не с этого хотел начать свое письмо. Мысль о Вас потянула меня в другую сторону. Я хотел сказать Вам, что радуюсь выздоровлению Вашего Ёжика. Ваша осторожность в оценке его состояния мне понятна, но мне думается, что он на пути к выздоровлению. Я бесконечно благодарен Вам за письмо, которое я ждал с мучительным нетерпением. Ведь я знал, что должен буду простить Вам и долгое молчание, если бы Вы не смогли ответить мне так скоро, как мне хотелось. Но Вы ответили скоро, и я это воспринимаю как акт большой и ласковой чуткости.
Ваши письма я сначала проглатываю, потом откладываю, а потом снова, уже медленно, перечитываю. И перечитав [последнее письмо], я не мог понять, почему в Вас могло шевельнуться враждебное чувство ко мне. И почему, только получив мое письмо, Вы оценили мою дружескую «акцию»? А разве она Вам была не ясна до получения письма?
С некоторых пор я недостаточно ясно понимаю характер Ваших чувств ко мне. Я привык к тому, что в Вас живет дружеская нежность, может быть, даже любовь или, вернее говоря, некоторая разновидность этого чувства, основанная на хорошем доверии, искренности, на вере в мою правдивость и искренность. Я привык к тому, что порою наши «трансцендентальные» отношения вырастали в романтическое представление друг о друге, сливались где-то в нечто большее, чем дружба. Но когда Вы говорите мне о сердце, которое я не должен разбивать, и о его струнах, которые я не должен разрывать, мне начинает казаться, что, сам того не желая, я совершил ошибку, «играя струнами» Вашего сердца, как Вы пишете. И разве в самом деле Вы так воспринимали мою любовь к Вам, мое нежное бережение Вас, как игру на струнах Вашего сердца? Я меньше всего играл на этом инструменте и считал бы такую игру недостойной себя и ненужной для нас обоих. Я хотел, чтобы Вы любили меня так, как я Вас люблю. А я Вас люблю, ценю, уважаю. Люблю Вашу чистоту, ум, волю, борьбу за жизнь, достойную лучших результатов. Люблю мое солнышко, «смеющуюся Людмилу», нежно светившее мне в ту пору, когда мы оба были моложе на одиннадцать лет. Люблю мою привычку любить Вас, хотеть Вашего голоса. Люблю Вашу любовь к моей музыке, хочу, чтобы Вы во мне видели самого большого друга, большего, чем все те, которых Вы любили, любите и будете любить как женщина. Хочу, чтобы через все Ваши чувства и привязанности мой образ светил Вам как нечто особое, стоящее над всем и всеми. Я не знаю, почему это так, но это так. Но... Но в своем захвате Вас, захвате человечески простом, но могущим быть жестоким, я не хочу и никогда не хотел той, другой любви, где сердца и тела сливаются уже в других помыслах, в других влечениях и в другой взаимозависимости.
Это очень сложная сторона чувств, но я думал о том, возможна ли была бы наша физическая близость как некий порыв, выливающийся из длительного душевного общения двух в сущности весьма земных людей, которые остаются таковыми, сколько бы они ни распространялись на тему о «пространственных» чувствах, о «творимых легендах» и «нереальных реальностях»? И я отвечаю на этот вопрос: Да! Возможна! Но только тогда, когда она будет одинаково понята и одинаково прочувствована именно как часть только нам известного, только нами оберегаемого нашего глубокого внутреннего мира, частью которого уже давно стала наша переписка.
Тогда это не будет грехом. Тогда это будет свободное желание, такое же свободное, какими являются все наши отношения.
Когда Вы призываете меня беречь Ваш дар — сердце, то я могу Вам сказать, что Вашу дружбу и человечески свободную любовь, Ваше доверие ко мне я буду свято хранить и беречь и никогда не позволю Вам разочаровываться во мне. Но если под эгим даром я должен понимать родившуюся под влиянием одиночества и неосторожной «игры на струнах сердца» Вашу подлинную и полную любовь ко мне, то я скажу Вам, что где-то я совершил страшную ошибку, в которую вовлек и Вас.
(...) Я буду очень несчастен, если в наши отношения войдут элементы, способные породить страдания. (...)
Я не знаю, то ли я сейчас говорю, так как голова не способна найти формулировки, которые бы объяснили мои мысли и чувства. Это было бы слишком ужасно, если бы я был неверно Вами понят.
Я так ценю все Ваше, что для меня было бы горем потерять хоть крупицу его.
Вы мне снова рассказали чудесную сказку. Но она не совсем подходит ко мне. Я Вас люблю любой. Эстетика моего восприятия Вас не зависит от Вашего реального образа, и этим я подтверждаю все, что я говорил выше о моих чувствах.
А вот существовала когда-то умная, немного «вывихнутая» пьеса Евреинова «Самое главное». Пожалуй, ее содержание ближе к нам. Я Вам о ней расскажу в следующий раз.
Встречи со мной не бойтесь. А стихи Щипачева меня не очень греют. Я вообще считаю, что у нас нет поэзии и поэтов. Поэзия — это творчество тончайших душевных инстинктов. Я знаю лично почти всех «выдающихся» поэтов — моих современников. Сейчас, кроме Исаковского, подлинных поэтов нет! Все остальные — это молотобойцы, которые выбивают стихи, а не пишут на струнах сердца. Кроме того, большинство из них малокультурно и халтурно. Кроме того, они слишком развращены всякими «необходимостями политики», чтобы честно служить своим музам.
10-го августа я буду в Москве. Возможность моего отъезда из Москвы к режиссеру Пырьеву, находящемуся сейчас на Кубани, не исключена, но произойдет [это] не ранее 20-го августа.
Крепко Вас целую, моя Людмила, мой друг любимый.
Ваш И. Д.
P.S. Снова перечитал письмо Ваше. Там есть место, где Вы объясняете мне Ваши чувства. После этих простых слов захотелось уничтожить все, что я Вам наболтал. Но я хочу, чтобы ничто из моих мыслей не было скрыто от Вас. Поэтому я отправляю письмо таким, как оно написано.
Вы — чудесная, Людмила!
Спасибо Вам, что Вы есть.
И. Д.
Уже полное утро!
На конверте адрес «Бобровка». Пишу по нему. Всегда интересовался, почему Ара- миль, а не Бобровка. Штемпель всегда был «Бобровка».
Жалко, очень жалко утерянного письма. Попробую навести справки, хотя, видимо, это безнадежно.
5.VIII.49 г.
Мой милый, дорогой друг!
Вы вызываете меня на разговор о моих чувства к Вам. Ну что же, Ваше желание для меня закон. Я вообще не представляю себе, что я могла в чем-либо Вам отказать. Кстати, может быть, мой самоанализ поможет и мне лучше разобраться в «обстановке». Дело в том, что я сама не могу достаточно ясно разобраться в своих ощущениях и чувствах. Полная это или неполная любовь — не знаю, но что она подлинная — в этом я уверена. Будь я поэтом, я сказала бы, что чувство это нежно и свежо, как легкое дуновение воздуха в знойный летний день, чисто — как душа ребенка, ярко — как солнце, прекрасно — как жизнь, сильно — как смерть! Да, это так! Но кое в чем Вы ошибаетесь. (...)
Знакомо ли Вам выражение «экзотермическая реакция»? Эта реакция не может начаться самопроизвольно. Для нее необходим приток тепла извне. (...) Остановить такую реакцию уже невозможно, она идет самопроизвольно.
Не подумайте, пожалуйста, что я такой вулкан страстных чувств и стремлюсь в Москву для того, чтобы испепелить Вас и сделать несчастным при виде моих страданий.
И напрасно Вы пытаетесь застраховаться на случай моего приезда перечислением своего семейного благополучия, подчеркивая, что обладаете любимой женщиной, а мой удел — только дружеская любовь, которая лишь в нереальности может иногда казаться тем, что Вы называете полной любовью. Подумайте, ведь Вы в этом письме даже ни одного раза не позвали меня, не выразили желания встретиться со мной! После этого я даже не знаю — нужна ли моя поездка, стоит ли мне ехать в Москву.
Да, Ваша правда (я перечитываю Ваше письмо), наша физическая близость возможна, и именно как порыв (это не по Вашей подсказке, а мое убеждение). Но этот порыв я всегда могу подавить в себе. И я смогла бы уйти совсем с Вашей дороги, если бы это потребовалось, если бы Вы этого захотели. (Каюсь, я не могу представить себе, чтобы Вы этого захотели.) Вы предоставляете мне лазейку для объяснения моих чувств. Я не хочу пользоваться ею. Я всегда была откровенна с Вами, и меня больно ранило бы Ваше недоверие. Я чувствую к Вам такое глубокое доверие, что если бы Вы обманули его, если бы я разочаровалась в Вас — жизнь потеряла бы для меня всякую привлекательность. Вот почему я говорила «берегите мое сердце» — оно может сильно и тонко чувствовать, а в Вас оно видит то совершенное, что могли создать Природа и Человек. Впервые в моей жизни в одном человеке сливаются все мои лучшие чувства. Я безгранично уважала, беспредельно верила, самоотверженно любила, но эти чувства делили между собой два человека, один из которых погиб в войну, а другой умер только для меня. Теперь на моем горизонте одно огромное светило, заслоняющее собой все остальные, светило, которое всегда ласково светит мне, нежно согревает душу и растапливает и вызывает к жизни все мои лучшие чувства. (...) Я встаю и засыпаю с мыслью о Вас. Мерилом моих поступков являетесь Вы. (...) Даже если я нравлюсь мужчине, я горда этим за Вас. Но ни одному из них я не могу отдаться, так как считаю их недостойными не столько меня, сколько Вас. Вот какая получается штука! Живя со вторым мужем, я могла допустить флирт с другим мужчиной, даже измену ему, в то время как, не имея на Вас никаких прав, не обольщая себя никакими надеждами (учтите), поступая даже наперекор Вашему желанию, я храню верность Вам. Пока мои чувства и наше общение являются для меня постоянным источником светлой радости. Я не знаю, во что это выльется в будущем, но нет у меня ближе и дороже друга, чем Вы, и не было никогда. А я ведь стала умнее и к людям отношусь скептичнее.
С недавних пор я живу надеждой встречи с Вами, меня уже не удовлетворяют наши письменные разговоры. Я хочу видеть Вас, слышать Ваш голос, прикасаться к Вашим рукам, целовать Ваши глаза, вообще осязать Вас всеми органами чувств. Хочу сказать Вам, чем являетесь Вы для меня. Это тем более странно, что в жизни я не многоречива и не красноречива, скорее наоборот, и никогда не распиналась в своих чувствах. Это — до некоторой степени желание физической близости, но не той, о которой пишете Вы. Вызвано же оно не одиночеством, а продолжающейся самопроизвольно экзотермической реакцией развития моих чувств. Это доказывается хотя бы тем, что я даже мысленно не ревную Вас ни к одной из Ваших женщин, а наоборот, горда теми чувствами, которые в Вас вызываю и которые (так мне кажется) Вы ощущаете впервые, как и я.
Не знаю, что ждет меня в будущем, но если бы Вы даже и стали источником моих страданий, я никогда не упрекнула бы Вас в этом. И если бы суждено мне было начать свою жизнь сначала, я бы молила судьбу о нашей встрече и нашей дружбе, правда, лет на десять раньше.
Вот какое сумбурное письмо получилось. (...) Отпуск мой несколько задерживается, я получу его не раньше 8-го августа, и если Вы отправите ответ авиапочтой — успею получить его вовремя. Я не хочу идти против Ваших желаний и не приеду, если Вы этого не хотите. Но будьте правдивы!
Я не написала Вам о том, что мой Ёжик совсем почти здоров и весел по-прежнему. Я не могу не сознаться, что Ваша «акция» была очень кстати, но как смогу я в будущем посвящать Вас в свои беды, если у Вас при этом в руках появляется открытый кошелек?
До скорого, возможно, свидания!
Ваша Л.
Москва, 8 августа 1949 г.
Дорогая моя Людмила! Я очень хорошо понял, что такое «экзотермическая реакция», и очень хорошо понял, что где-то и когда-то приток тепла от меня возбудил в Вас эту «самопроизвольную» энергию чувств, о которой Вы мне, наконец, написали.
Большое и яркое чувство живет в Вас, мой дорогой друг! И я, вызвавший в Вас это чувство, стою сейчас смущенный перед ним, не в силах справиться со своими мыслями и непосредственными впечатлениями. Только тот человек, кто знает цену дружбы, бескорыстной и бесхитростной, может понять сейчас мою гордость. Только тот человек, кто умеет хорошо разбираться в тончайших извилинах и капризах человеческой мысли, может понять мое смущение.
Откуда и почему оно возникает? Попробую Вам объяснить.
Вы прежде всего неправы, подозревая меня в трусости, в боязни встречи, в перестраховке и т. д. Вы даже не заметили, что этими подозрениями Вы сами становитесь на путь моей дискредитации и снижения. Это неверно и противоречиво! Дело — в ином!
И опять начну издалека. Вам было бы, вероятно, очень интересно почитать Ваши первые письма ко мне. Эти письма, за небольшим исключением, сохранились у меня. Это — документ, свидетельствующий о том, что приток тепла, необходимый для реакции, шел от Вас. Вы меня заразили и наполнили чудесным светом юности и радости. И тут начинается очень сложная и мало объяснимая история, которая вкратце сводится к тому, что я стал тянуться к Вашему свету. Я, уже взрослый, видный человек, не искал в Вас объекта для кружения головы, не искал никаких романтических приключений. Но это была все-таки подлинная романтика. Человек, какой бы он ни был, никогда не идет по жизни самостоятельно и обособленно, а всегда в сопровождении других, смежных жизней, воль, разумов. (...) В какой-то определенный момент блеснула на моем пути Ваша звездочка или, лучше сказать, Ваше солнышко. Оно вошло в мою жизнь и больше никогда не потухало. Таков я!
Я не гашу радостей, освещавших мою душу. И, может быть, в этом и состоит мое резкое отличие от других, схожих по судьбе со мной людей, что в моем сердце живут те люди, которые вместе со мной взбирались, сами того не зная, к вершинам творческих процессов, которые делали мою биографию, сами о том не подозревая. Разве я могу растерять хоть крупицу того счастья, гордости и радости, которые мне дарили люди? (...)
Судьбе было угодно, чтобы Вы, Людмила, среди этих друзей (...) заняли большое и особенное место. Я Вас видел мельком, подробные черты нашей встречи остались в далеком тумане, которые память не в силах ясно воспроизвести. Но Вы остались живой для меня на все эти годы, годы суровых мучений, личных больших переживаний, творческих неудач, многого, многого, что вошло в мою жизнь за это время. И Ваше солнце, Ваш образ остался жить, перекликаясь с новыми явлениями, вошедшими в Вашу жизнь, с Вашими мытарствами, горем, разочарованиями и т. д.
Я Вас всегда любил, Людмила, люблю до сих пор, не снижая ни на йоту ни чистоты, ни особых, непередаваемых свойств моего отношения к Вам. Вот Вы хорошо и просто смогли описать Ваши чувства. О них я скажу позже. А я вот не могу Вам описать своих чувств. Я Вас называл и называю другом. Но это, мне кажется, звучит немного официально, сухо. Нет! Я люблю и любил Вас нежнее, теплее, ближе, чем друга. Может быть, скорее я видел в Вас часть себя, кровное, родное. Мне хотелось вторгаться в Вашу жизнь, влиять на нее, потому что Вы этим как бы поворачивали не только свои жизненные рычаги, но и мои.
Что это за чувства? Почему мне так дорога Ваша жизнь и все, что ее касается?
Извините меня, моя Людмила, но Вы не поймете. Во всяком случае, Вы знаете, что я много раз пытался объяснить Вам хоть сущность этих чувств. Ваши ответные действия свидетельствовали о неполном понимании их. Для Вас ничего не значило подолгу от меня ускальзывать, изымать меня из Вашей жизни, не делать меня участником ее «вульгарных» проявлений, оставлять мне только «цветы жизни». Повторяю, что это свидетельствовало о непонимании моих чувств и отношений. Но я не намерен упрекать Вас в чем-либо. Ваша жизнь всегда была для меня радостью. Я принимал от вас столько, сколько Вы мне давали, никогда не требуя того, что Вы не хотели сами.
Я не искал в Вас «любовницы» даже в письмах и никогда не хотел кружить Вам голову. Часто в моих ночных беседах с Вами мои фантазии поднимались до «телесных» осязаний, до иной любви. Но это были моменты влюбленности, шедшей от большой теплоты и нежности. А нежность с женщиной часто кончается свирепостью желания.
Трудно, ох, как трудно все это формулировать! Теперь передо мной Ваше письмо.
Неужели Вы думаете убедить меня в том, что в мире может существовать чувство, которое не потребует стать полностью разделенным?
Вы все подчеркиваете: близость, но не та! Поцелуи, но не те! Порыв, но не тот! Тот, тот, та, та, черт побери! Именно то самое! Дело ведь не в том, чтобы давить в себе все это! Дело в том, что это или должно не существовать, или должно не давиться в себе! И этого Вы не понимаете или не хотите об этом думать.
Почему я обратил внимание на фразу «берегите мое сердце»? Не потому, что я испугался, а потому, что я смогу оказаться здесь невольным виновником того, что Вы сами не сумеете сберечь своего сердца. Я лично не боюсь никакого «греха» для себя. Я не боюсь никаких приятий чувств! Но я боюсь за Вас, за Вашу душу и сердце. Вы никогда не разочаруетесь во мне, потому что все, что я говорю, чувствую, ощущаю — все это искренно и просто. За это Вы не бойтесь! Я не разобью Вашего сердца пошлостью, потому что я до нее не унижусь. Но мои «гарантии» имеют силу только в пределах моих чувств, таких, какими я их понимаю и ощущаю. Я знаю, что никогда Вы не перестанете меня уважать как нежного и любящего, внимательного и чуткого товарища и друга, которому Вы дали право «вторжения» в Вашу жизнь. Это право Вы никогда не отберете, потому что нет в мире ласки более радостной, чем ласка друга. Но...
Но за пределами моих чувств существуют силы, вне меня стоящие. Я могу призвать все мое самообладание, всю мою осторожность, чтоб удержаться от влияния этих сил. Но если они появятся, возымеют действие? Если целовать глаза, как Вы пишете, окажется далеко не столь безопасным занятием, с точки зрения целостности и цельности двух друзей? Ведь бумага — это одно, а жизнь — другое! Что тогда? (...) Сможем ли мы уберечь Ваше сердце?
Но не пугайтесь моих вопросов, Людмила! Я готов к Вашему приезду, к нашей встрече. Что-то глубоко подсознательное подсказывает мне, что «вопросов» не будет, что наша встреча будет радостной и хорошей, что мы останемся друг для друга такими, какими были все время. И еще добавлю, что, посмотрев друг другу в глаза, мы многое поймем из того, в чем сами сейчас беспомощно барахтаемся.
Я очень хочу Вас видеть, и мне незачем это доказывать. Только, пожалуйста, не тяните. Я ведь очень связанный сейчас человек, а Пырьев со своей картиной, как коршун, может на меня налететь в любой момент.
Крепко целую Вас.
Ваш И. Д.
P.S. У нас могут быть в этом году две встречи: одна в Москве, другая в Свердловске, куда меня очень зовет Филармония для концертов. Захочется ли нам после первой иметь вторую? «Безусловно!» — ответил он. А она?
P.P.S. II. Бесконечно рад выздоровлению Вашего сына. Пусть всегда Ваша жизнь будет радостной, и пусть никогда ее не смущают тревоги и несчастья!
16/VIII. Москва.
Милый друг!
Вчера получила, наконец, долгожданный отпуск и вчера уже была в Москве, тщетно стучась к Вам во все двери, что Вы мне дали.
Я не могу Вас отыскать, а время идет, и меня охватывает тревога, что Вы уедете на Кубань, и наша встреча опять [...]
[Бобровка], 17/IX—1949 г.
Милый друг!
Снова пишу Вам — и кажется, что не разговаривала с Вами целую вечность. Вы мне простите, если я своим молчанием доставила Вам тревогу (а может быть, Вы и не заметили его?).
Ну вот я и в Бобровке. Как сон, пролетел мой отпуск, и вот опять серые будни с их каждодневными заботами и нуждой. Ну что же, все прекрасное на свете мимолетно и быстротечно, но оставляет после себя след, воспоминания, которыми можно жить годы. Я прекрасно понимаю и сознаю правоту философии Омара Хайяма, но органически не могу быть его последовательницей и ловить мгновенья, даруемые судьбой, хоть и конец нашего жизненного пути внушает мне ничем не победимый ужас, и я все чаще задумываюсь о нем.
Ну а сейчас — философию в сторону, так как мне хочется рассказать Вам о своих житейских делах и попытаться немного оправдаться в Ваших глазах, так как мое молчание угнетало меня, пожалуй, больше, чем Вас. Но обстоятельства сложились так, что я не имела возможности писать Вам так, как я люблю. А ведь мне нужно сказать Вам, какой сияющей радостью переполнено мое сердце (выражение неправильное, зато очень точное). Как я рада нашей встрече, нашему общению и как огорчена тем, что они происходили так неравномерно, такими урывками и поэтому так много слов, тем, чувств остались невысказанными, незатронутыми. И кто знает, когда судьбе будет угодно опять столкнуть наши жизненные пути. Я же себя нисколько не обольщаю надеждой на то, что мне удастся устроиться под Москвой, это слишком сложно. Но сейчас, после встречи, пользуюсь случаем сказать Вам, что я буду счастлива, если когда-нибудь в чем-либо понадоблюсь Вам. Что бы с Вами ни случилось, каким бы Вы ни были — вспомните меня в тяжелую минуту и знайте, что я всегда и с радостью встречу Вас как родного, как нежно любимого брата. Это почти как у Нины Заречной: «Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее». [У меня] не так романтично, зато глубоко и реально.
А теперь Вы должны откровенно высказать свое впечатление о нашей встрече. У меня осталось впечатление, что в Вашей «трансценденталыцине» было больше фантазии, чем реальных чувств.
Ну а теперь о том, с чего надо было начинать письмо.
Долетела я благополучно, хотя и не без приключений. (...)
Дома меня восторженно встретили мои милые родственнички, но... Ёжик отвык от меня и первое время не хотел даже подойти. Зато потом опять стал «маминым хвостиком». После первых приветствий и вопросов чемодан был поставлен на стул и вокруг него выстроились мои сорванцы, с нетерпением, написанным на их милых рожицах, в ожидании подарков из Москвы. И даже «ейная матушка», хлопоча в стороне и не выдержав ожидания, бросала деланно равнодушные взгляды на процедуру открытия чемодана, которую я умышленно затягивала.
Люблю я делать подарки, даже, пожалуй, больше, чем получать их! Это у меня отцовская черта. (...)
Не успела я дома оглядеться как следует, как на меня посыпались разные неприятности.
(...) На заводе меня уже с нетерпением ожидали, накопилось много неотложных дел. Да и свои домашние дела требовали немедленного вмешательства: как только я прихожу с работы, так спешу на огород копать картофель. А огород у меня большой, примерно 0,12 га. Выкопаю овощи — нужно будет их убрать на зиму и подготовить жилье к зиме: вставить рамы, обмазать окна и пр., пр. Вам, живущему в столице и на всем готовом, не понять, сколько тяжелой, мужской работы приходится мне повседневно выполнять. А еще говорят о равноправии женщин! Да я любого мужчину за пояс заткну!
Исаак Осипович, я жду с Вашим письмом хоть часть из обещанных мне нот. Вы пошлете мне их, да? И еще попрошу, если это Вас не затруднит, посылайте мне хоть изредка литературные новинки, то, что Вас заинтересует или обратит Ваше внимание. Бедные «лесные женщины» будут очень признательны Вам за такое просвещение.
Мне хотелось бы больше знать о Вашей работе и о Вас. Что представляет собой Ваша новая оперетта «Летающий клоун»? Ее фабула? Какие еще крупные работы намечены Вами в этом году? Помнится, Вы упоминали о каком-то балете. Удалось ли Вам отбрыкаться от поездки на Кубань?
Как это ни странно — я до сих пор не знаю, какое образование Вы получили. Я не сомневаюсь, что музыкальное, но я слышала от кого-то, что Вы окончили консерваторию по классу скрипки, правда ли это?
Вот сколько вопросов Вам на первый раз, хватит на большущее письмо, правда? И я жду его, мой дорогой друг, как всегда, с большим нетерпением.
Будьте счастливы!
Ваша Л.
Омара Хайяма тоже жду.
22/Х—49 г.
Милый друг!
Что могло случиться, что я до сих пор не имею от Вас никаких известий? Даже мое письмо, посланное свыше месяца тому назад, тоже осталось без ответа. А я-то, глупая, могла думать, что мое молчание обеспокоит Вас!
Если я неправа, Вы должны простить меня и успокоить мою мнительность, но я не могу быть уверенной в Вас в том периоде, который последовал за нашим вторичным знакомством. Почему Вы молчите? Поймите, что это жестоко — так томить меня ожиданием. (...) Не забывайте, что любая правда лучше неизвестности. (...) Ваше равнодушие будет мне приговором.
Я прошу Вас ответить мне на это письмо немедленно, хоть два слова. Во имя того, что Вам дорого!
Л.
28/Х.49 г.
Моя Людмила, мой славный друг!
Против всяких моих, даже самых оптимистических, выкладок и планов мне удалось пропаразитировать на берегу Черного моря (Хоста) целых 5 недель. 12 сентября я уехал, два дня пробыл у Пырьева, и 16 сент[ября] я уже был у благословенного рокота прибоя. Я только 24-го вернулся — загорелым, хорошо отдохнувшим и... зверски простуженным в дороге. Ваше чудесное письмо немедленно «выпростал» из кучи корреспонденции и первым прочел. Вы поймете, что я его особенно ждал, как Вы ждете моего письма. Я безумно рад, что наша встреча оставила в Вас хорошее наполнение и хороший, светлый след. Мне казалось, что моментами Вы вот-вот станете дурно и неверно воспринимать эти урывки свиданий, короткие телефонные разговоры — все атрибуты моей суетной жизни. Меня это очень угнетало даже тогда, когда мы с Вами виделись, ибо мне хотелось для Вас большего.
Вы хотите знать мои впечатления?
Мне не хотелось бы рассказывать Вам то особое, что мне сразу бросилось в глаза или, вернее, в душу мою, так тепло к Вам всегда обращенную. Условимся, мой друг, что мы еще не один раз будем возвращаться к этому вопросу, поэтому позвольте мне быть кратким, чтобы не затягивать письма и не откладывать его отправки.
Я увидел человека родного и уже знакомого мне, пусть немного офантазированного, но тем не менее реального человека, о котором я знал, что ему трудно жить, знал, как он мучительно карабкается, обремененный многими заботами и обязанностями. Но я не ожидал увидеть человека, на котором и во всем поведении которого, во всем облике которого эта тяжелая жизнь была бы так ярко отражена. Это было самое страшное, что не покидало моих ощущений в продолжение всего Вашего пребывания. Я уже и раньше в письмах своих знал, чувствовал, что Вы, Ваша вся внутренняя организация созданы для другой жизни. Но мне казалось, что «смеющаяся Людмила» живет наперекор стихиям. Я не увидел «смеющейся Людмилы»! Я увидел тихо говорящего, почти покорного жизни человека. Это заслонило для меня в Вас и женщину, и Ваш внешний облик, и я, право, даже не могу сказать толком, какие у Вас губы, зубы, рот, глаза. Я не думал об этом, потому что я ловил себя на многих других мыслях и ощущениях. При всей близости нашей, созданной письмами, при всей, казалось бы, простоте, на которую мы оба имели право по стажу нашей дружбы, я чувствовал себя чужим со своим благополучием, довольством, квартирой, машиной рядом с Вами, такой тихой, почти покорной, но так хорошо, ценой огромных усилий справляющейся с тяжестью жизни. Мне стало обидно, больно за Вас, за жизнь, которая, право же, не должна быть такой немилосердной в отношении к таким чудесным людям, как Вы. И все мои желания счастья для Вас, которые я так искренно посылал Вам в письмах, показались мне жалкими перед лицом моей беспомощности.
Я играл Вам, будил в Вашей чуткой душе какие-то мечты, думы и переживания. Возможно, что это были хорошие часы, но что же следует после них? Я читаю Ваше письмо и снова вижу ту же мучительную борьбу одинокого человека, работающего на всех, ухаживающего за больными детьми, копающего картошку в огороде... Не слишком ли строго наказывает Вас жизнь за некогда совершенные неосторожности?
Моя дорогая Людмила! Чувством большой нежности наполнена моя душа к Вам. Нежности и большого уважения. Наша переписка будет жить, как будет жить и наша большая дружба. Берите от нее все, что нужно Вам, Вашей душе, Вашей жизни.
Вот что я прежде всего хотел Вам ответить на Ваш вопрос о встрече.
Обо всем многом другом в следующий раз. После длительного отсутствия накопилась масса дел, и я влезаю в них постепенно — и скоро, кажется, зароюсь головой.
Людмила! Я пошлю Вам все, что Вы просите, но не торопите меня.
Я отвечу на все Ваши вопросы, но не сразу.
Будьте здоровы. Крепко и нежно целую Вас, мой хороший человек, и желаю самого хорошего и светлого.
Пишите мне почаще.
Ваш И. Д.
27/XI—1949 г.
Мой дорогой друг!
Вы, наверное, бог знает что думаете о моем молчании, но я, право же, не виновата. Очень много событий произошло за этот сравнительно короткий срок.
Во-первых, мне Ваше письмо причинило боль, которую могло притупить только время. Вы не совсем правы в Ваших выводах, но первое впечатление всегда бывает особенно ярким, и мне было больно сознавать, что в какой-то степени я не оправдала Ваших ожиданий и Вы разочарованы во мне. Я, конечно, не ожидала, что Вы мной «очаруетесь», но Вы не разглядели, что таилось под оболочкой «тихости и покорности» и какого напряжения стоило мне подавлять свое волнение. Еще во время своего пребывания в Москве я задумывалась над Вашим замечанием о бесцветности, мертвенности моего голоса. Ведь на самом деле это не так. Но я не могла себя заставить разговаривать с Вами иначе, и если голос мой повышался, то я боялась, что он зазвенит и оборвется, как туго натянутая струна, какими были у меня в то время нервы. И даже когда я разговаривала с Вами по телефону, сердце мое билось с удвоенной скоростью. Это не преувеличение, и я не обольщаюсь никакими надеждами, но это было состояние моего духа в то время. Моя покорность происходила из того же источника. Если бы Вы в то время взяли меня под руку и повели за собой, я пошла бы за Вами, не расспрашивая ни о чем.
И в то же время я не заблуждалась относительно результатов нашей встречи. Я знала, что в Вашем воображении я чересчур опоэтизирована и офантазирована. Когда я собиралась в Москву, то все Ваши письма сложила и упаковала в бумагу; я с грустью прощалась с ними, зная, что следующее письмо будет принадлежать новому периоду в наших взаимоотношениях. Это был конец сказки. Но, предвидя все это, я тем не менее страстно хотела этой встречи. (...) Я знала, что ничто не отразится на моих чувствах к Вам, потому что они вызваны большой человеческой любовью, гораздо большей, чем те чувства, которые вызываются простой физической близостью и которые Вы называете любовью к женщине. Мне не хотелось говорить об этом, но я не хочу скрывать от Вас даже своих мыслей: мне больно читать сейчас о Ваших поцелуях. В действительности Вашей дружеской привязанности не хватило на то, чтобы по-дружески, без всяких задних мыслей, поцеловать меня при встрече или при прощании. В Вас даже не возникло этого желания, такого естественного для родственных или дружески настроенных людей; Вы в это время ловили себя на других мыслях. А мне, если бы я увидела своего друга «униженным и оскорбленным», тем более захотелось бы его приласкать и утешить. Вы даже в последний вечер не захотели меня проводить до вокзала, хотя я прекрасно поняла, куда Вы спешили и почему отпустили машину назад.
Вот что я должна была сказать Вам в первую очередь!
Кроме того, письмо это не было написано в срок еще по следующим причинам: скоро уже будет месяц, как мы сидим дома почти в полной темноте. Высоковольтную линию, от которой мы освещались, отключили, а от завода напряжение в сети так падает, что у нас только тускло светят волоски лампочек. Затем у меня произошло несчастье: сломался передний зуб, и это было мне неприятно по многим причинам. И потому, что портило мою далеко не блестящую внешность, и потому, что вызвало много совершенно непредвиденных, выбивших меня из колеи, расходов и поездок к протезисту в Свердловск.
В это же время произошли еще очень важные, особенно для меня, события. К нам на завод приехали одна за другой две комиссии по вопросам работы нашего завода и качества выпускаемой продукции. Первый раз приехала инженер-исследователь [...] (...) Пришлось очень много времени провести вместе. Приехала она настроенная против меня, а уезжая, сказала: «Я увожу о вас самое хорошее впечатление». Таким образом, я завоевала себе нового друга, видного работника в министерстве, где она, как я узнала позже, высказала это свое хорошее мнение обо мне и как о работнике, и как о человеке. (...)
После праздников приехал новый ревизор — крупный научный работник в области слюдяной изоляции — [...] Когда я впервые его увидела, меня поразили его глаза — столько в них было ума и проницательности. (...) Позже я убедилась в его громадной силе воли, железной логике ума, общей образованности и культурности. Мы стали с ним друзьями через 2—3 дня знакомства. (...) Он сказал, что в его силах и влиянии устроить мой перевод в Хотьково прямо сейчас, но он бы мне советовал уйти не слабой, а сильной. Тогда меня будут больше ценить как специалиста. (...) И он делом подтвердил свою дружбу и готовность помочь мне: заставил немедленно сделать необходимый ремонт в квартире, обеспечил за мной, как за преподавателем, группу начальников цехов и ИТР, взялся помочь получить подъемные, на которые я уже махнула рукой, и многое другое. В его присутствии я чувствовала себя так же свободно, как если бы разговаривала сама с собой. Поэтому я не могла не рассказать ему о Вас. А при прощании (...) он не постеснялся расцеловать меня, я, конечно, немножко увлеклась им, как Вы изволили справедливо заметить.
Прошло два дня, как он уехал, и я полна энергией и желанием работать по-новому.
Благословите меня, друг мой, на эту борьбу и помогите мне своими советами и участием. (...) И когда Вы говорите о «тихости и покорности», то Вы ошибаетесь. Я мятежна и не боюсь борьбы, но, конечно, у меня достаточно ума, чтобы осознать, что систему не изменить и не переделать.
Пишите мне, мой хороший, свои нужные мне письма. Будьте счастливы и пожелайте мне того же. Сегодня я уже богаче, чем была вчера.
Ваша Л.
5.XII.1949 г.
Дорогая Людмила! Ваше письмо очень долго брело ко мне. (...)
Если Вы хорошенько подумаете, то придете к убеждению, что никакие разочарования не могли иметь место в нашей встрече. Я давно был готов увидеть и принять Вас такой, какая Вы предстанете реально предо мной. Я давно был готов к тому, что той Людмилы, за которой я романтически ездил куда-то далеко в Москве — ее уже давно нет. Я это видел по письмам. И я н юноша, чтобы упрямо утверждать в своем представлении те или иные выдуманные образы. Я готов скорее признать, что Вы разочарованы и мною, и моим приемом. Но то, что Вы увидели, это и есть моя «нормальная» жизнь, лишающая меня часто возможности быть таким, каким мне хочется. К моему большому сожалению, к моей боли, я не мог этого изменить даже ради Вашего приезда. А я ведь прекрасно знаю, чем он был для Вас. Вы говорите о проводах, поцелуях, о внешних выражениях человеческого отношения. Но... я играл Вам свою музыку, я переворачивал свои страницы души для Вас, и не кажется ли Вам, что это крепче и глубже поцелуев, которые просто не шли на ум. Я не думал о поцелуе, потому что при встречах с Вами я думал о Вас, прислушивался к тому тихому голосу, который меня поразил и который отозвался в моей душе странной смесью глубокого сострадания и дружеской нежности. Нет! Я понял, что письма так мало, в сущности, дают представления о реальном человеке. Вы — очень хорошая и очень несчастная! Таково было мое впечатление, которое я поверил Вам в своем письме.
В нашей переписке наши души представали друг перед другом обнаженными. Это их сближало, роднило. Отсутствие всяких реальных обстоятельств позволяло легко и свободно парить этим душам. Когда же мы увидели друг друга, когда все стало таким простым и обыкновенным, что приходилось стесняться что-то сказать или что-то сделать, тогда я понял, как далеки наши подлинные жизни со всеми их частностями, интересами, взглядами, наклонностями и т. д. Это все очень естественно, и вместе с тем это глубоко угнетало меня в продолжении всего Вашего пребывания.
Я прочитал Ваше письмо. Оно меня порадовало тем, что новая приобретенная дружба и внимание, которое Вам было оказано, окрылили Вас, наполнили новыми силами и энергией к совершению новых и важных дел. Пожалуй, такие чувства рождает только любовь. И если она снова пришла в Вашу душу, то можно только радоваться. Я не понимаю многого, о чем Вы пишете. От меня далека жизнь Вашего завода с ее спецификой. Я не понимаю, почему только с приездом этих людей Вы могли занять на заводе подобающее Вам место, улучшить Вашу материальную обстановку. Я не понимаю, кто мешал Вам развернуть в полную силу свои дарования и свою работу. Я не понял, почему только с приездом NN Вы произвели ремонт в квартире и обзавелись группой учащихся из начальников цехов и т. д. Все это для меня неясно. Но мне ясно одно: в былые годы Вы ставили меня перед фактом своих страшных разочарований в людях, которые вызывали Вашу любовь и которым Вы отдавали свое сердце и тело. Вы описывали мне уже закончившиеся, свершенные и невозвратимые события. Сейчас Вы изменили такому методу информации. Сейчас Вы посвящаете меня в процесс зарождения новых чувств, новой дружбы, а может быть, и новой любви. Это хорошо, и поскольку это так, мне хочется пожелать Вам только одного: строже и внимательнее присматриваться к людям, способным задеть Ваши струны сердца. Страшны не те люди, мимо которых мы равнодушно проходим. Страшны те, в ком мы потенциально чувствуем силы и способность перевернуть наши души, сделать сегодняшний день непохожим на вчерашний. Страшны они потому, что эти силы их могут быть благословенны и могут в конце концов быть проклятыми за тот огромный вред, которые они нам в состоянии причинить. Разобраться в этом, понять вовремя ход этих чарующих сил и должно быть Вашей задачей, если Вы действительно стали сегодня богаче, чем вчера.
Вы много неприятного и несправедливого написали мне по поводу нашей встречи. Но я спокоен. Я не смог бы взять Вас за руку и повести за собой, как Вы пишете. Вся история моих отношений к Вам есть история бескорыстных и простых человеческих чувств. Вы это раньше сами подчеркивали. Все осталось по-прежнему, как осталось прежним и мое страстное желание, чтобы Вы были счастливой. И если я Вам мог дать счастье, то это счастье было выражено только в нежной дружеской преданности. Я не мог дать Вам ни счастья любви, ни счастья трепетного поцелуя. Это счастье Вы должны получить от других, от другого. И прочтя Ваше письмо, я почему-то подумал с улыбкой, что не Вам, а мне надо сложить с грустью Ваши чудесные письма, свидетели тяжелых лет борьбы, разочарований, скитаний, душевных смятений и мук, которые я так искренне всегда стремился облегчить своими слабыми и немощными писаниями. Не забудете ли Вы меня в эти дни новых приобретений, нового обогащения? Я слишком хорошо знаю людей, плохих и хороших... Наверное, надо уже привыкнуть к тому, чтобы не ждать писем из арамильской Бобровки — и без того очень редких.
Дружба? Но ведь она тем и примечательна, что не позволяет оправдывать молчание любыми важными и выдающимися событиями. Наоборот, эти события должны быть поводом для больших и неотложных разговоров с другом.
Будьте счастливы, Людмила, и пишите мне хоть в перерывах между большими событиями. Я всегда с радостью принимаю Ваши письма.
Ваш И. Д.
11/XII—49 г.
Мой милый, дорогой друг, родной мой!
Случайно произошло так, что я получила Ваше письмо, из которого повеяло на меня такой грустью, отдавшейся болью в моем сердце. Если бы я не получила этого письма, все равно сегодня написала бы Вам свое. Потому что это не только мое желание, это необходимость для меня. Потому что нет на свете у меня никого ближе Вас, потому что только Вам я могу и хочу об этом писать.
Новое страшное испытание приготовила мне Судьба. И это в то время, когда я почувствовала в себе силы вступить в борьбу с нею! Мой старший сын — девятилетний Юрка — упал (его толкнули) в школе с лестницы второго этажа на голову. Он съезжал вниз по перилам на животе, когда его толкнули — он не удержался, перевесился, и... в учительскую его внесли уже в бессознательном состоянии. Тяжкую весть мне передали по телефону, и я прокляла эту Бобровку окончательно. Целый час я потеряла в поисках лошади и врача, причем врача в этот вечер так и не удалось найти.
Страшную ночь провела я у постели своего сына. Наружных повреждений, кроме синяков и ссадин, у него не оказалось, но были сильные головные боли и рвота. Всю ночь он кричал и плакал, и его рвало. На следующий день с утра ему было легче, он даже немного читал, а потом к головной боли прибавилась глазная боль. Его стали раздражать всякий шум и свет, пришлось затемнять комнату. И при этом полное отсутствие аппетита и не прекращающаяся рвота. Сегодня я отвезла его в нашу больницу, там ему будет спокойнее, но будущее мрачно: выживет ли он и, если останется жить, будет ли нормальным ребенком? (...) И ужаснее всего было то, что как раз накануне я его наказала, и он мне с недетской горечью заявил: «Чем такая жизнь, уж лучше умереть». (...) Если бы он был сынком какого-либо высокопоставленного папаши, то, наверное, предприняли бы все для его спасения, а медицина сейчас богаче, чем прежде. Почему же он должен погибнуть, если родился у такой матери, как я? За что? За то, что я неудачник в жизни, что до сих пор не могу жить, руководствуясь только расчетами, насиловать свои чувства? (...)
Никому, кроме Вас, не могу и не хочу я писать об этом. (...)
За что? Лучше не имела бы я того, что цените во мне Вы: ни чуткой души, ни честности во взглядах и поступках. Насколько бы тогда жизнь была проще и спокойнее, не было бы ни лишних волнений, ни переживаний, да и материально жизнь устроилась бы иначе: вышла бы я замуж за NN, чего ему, кажется, очень хочется, и... обманывала бы его с его же товарищами — просто так, от нечего делать. И жила бы не так, как приходится жить сейчас!
Но почему же то хорошее, гуманное, что ценим мы в человеке, обращается против него же? Я не могу торговать ни собой, ни своими чувствами. И не дай бог, чтобы мои дети, если они у меня уцелеют, получили мою душу и мою судьбу!
Ваше выступление по радио слушала, несмотря на то, что сильно заболела в тот день (грипп и ангина). Больная, я дома не прилегла ни на минуту, чтобы не свалиться совсем, и прошла-километр для того, чтобы не пропустить это выступление (я слушала передачу у директора завода, имеющего приемник). Знайте и цените!
Пишите мне немедленно, что делать с сыном. Его госпитализировали на 40 дней (если он их проживет), и я совсем потеряла голову. Не будьте ко мне несправедливы и знайте, что мои чувства к Вам умрут вместе со мною.
Ваша Л.
Телеграмма
18. XII.1949 г.
Очень огорчен новым несчастьем, новыми испытаниями Вашей воли. Будем надеяться благополучный исход. Прошу сообщить немедленно, чем могу помочь, нужны ли Вам деньги. Всей душой сочувствую, желаю благополучия.
Дунаевский.
19/ХII-49 г.
Дорогой друг!
Сегодня исполняется десять дней со дня несчастья с моим сыном. (...) Сейчас уже третий день он чувствует себя гораздо лучше. (...) Доктора говорят: «Отлежится, но нужно выдержать в больнице». Дома у меня тоже не все благополучно — вот уж, истинно, испытание моей воли: Танюшка простудилась и лежит больная, а маленький Сережка опрокинул кастрюлю с горячей водой и обварил себе руку. Ручка вся в пузырьках, а местами кожа слезла. И главное: такой крошка! (...) Мама тоже очень плохо чувствует себя, и я решила принять все меры к тому, чтобы в следующем году уехать отсюда. Чтобы только не зимовать здесь третью зиму. Ее нам не выдержать. (...)
Совершенно неожиданно достала Вашу «Песню о далеком друге» (не дождавшись ее от Вас), мне она очень нравится, и мы с дочкой часто ее поем. (...)
Чем заняты Вы, мой друг, сейчас? По-прежнему ли собираетесь приехать в Свердловск или нет? Как прошел смотр произведений советских композиторов? Оценили ли Вашу музыку к фильму «Веселая ярмарка»? Как поживает Ваш «Летающий клоун»? А мой Омар Хайям?
Ну, кончаю, чтобы завтра же отправить это письмо, да и мысли у меня все такие невеселые. В общем — не удалась мне жизнь, но есть в ней светлое пятно, светлый луч, который согревает ее с самой ранней юности: это необычная дружба с Вами, мой дорогой. Без Вашей дружеской поддержки и участия мне было бы очень тяжело. И это, пожалуй, самое большое счастье, выпавшее мне в жизни. (...)
Мне бы очень хотелось, (...) чтобы в наступающем 1950-м году, в году Вашего пятидесятилетия, все Ваши желания сбылись, а планы увенчались успехом. И чтобы Вы не загордились (!) и не забыли о маленьком человечке — Вашей бывшей «смеющейся Людмиле»!
Живите, творите и будьте счастливы!
Ваша Л.
7.II. 1950 г.
Дорогая Людмила! Как же могло случиться, что моя новогодняя телеграмма Вам осталась даже без вежливого ответа? Как могло случиться, что единственным человеком, не поздравившим меня с моим 50-летием, оказались Вы?
Я долго накапливал в себе это большое недоумение и обиду, которая стала перерастать в серьезную тревогу.
Пожалуйста, напишите мне немедленно. (...)
Мне хотелось бы, чтобы Вы меня забыли (если уж тому суждено) только от нового большого Вашего личного счастья. Хотя это и больно, и обидно, и жестоко забывать старых друзей, но... мне всегда так хотелось, чтобы Вы были счастливы, что я готов смириться с Вашим молчанием. Правда, и в этом случае меня не покинет надежда, что, попривыкнув к счастью, Вам все-таки захочется поговорить со старым другом из Москвы.
Не забудьте же моего адреса, Людмила, и оставьте для памяти хоть один конверт.
Это письмо я посылаю с уведомлением о вручении, так как очень беспокоюсь о Вас. А ведь если с Вами что-нибудь случится, никто не даст мне знать.
Но я молюсь за Вас всем моим богам и уповаю на Вашу скорую весточку.
Ваш И. Д.
15/II - 50 г.
Милый, милый друг!
Самым большим, самым радостным для меня подарком ко дню моего рождения явилось Ваше письмо, мой хороший! И в этот же день — вторая радость: по радио слушала передачу о Вашем юбилее и чествование Вас. Как замечательно тепло приветствовали Вас, какие хорошие были выступления. (...) Я так горжусь Вами, так рада за Вас! Но мне глубокую боль причинил Ваш справедливый упрек в том, что только я, и именно я, не приветствовала Вас в этот большой и хороший день Вашей славной, светлой жизни. Я, которая с радостью приняла бы на себя от Судьбы все то, что причиняло Вам неприятность или боль,— только чтобы Вам было хорошо и радостно и Вы творили бы свою замечательную музыку, такую же чудесную, как весь Ваш внутренний облик.
Мой дорогой друг! Мне очень грустно. (...) Мне приходится со стыдом признаться, что я не знала и сейчас не знаю точно даты Вашего рождения — кроме того, что Ваше 50-летие будет в 50-м году. Поэтому я предусмотрительно, поздравляя Вас с Новым годом, поздравила и с наступающим юбилеем. (...)
(...) Ничего особенного у меня не произошло, да и не могло произойти, кроме плохого. Но об этом сейчас говорить не время.
Мой новый друг пишет мне хорошие, но осторожные письма, и я не пойму, чем это вызвано — недоверием или чем-либо другим. Хотелось бы мне вас познакомить, Вы помогли бы мне лучше разобраться во всем. Возможно, удастся приехать в марте в Москву. (...)
Исаак Осипович! Желаю Вам долгих, долгих лет хорошей и радостной жизни. Творите по-прежнему свою чудесную музыку. Спасибо Вам за все, чем являлись Вы для меня, маленького человечка, который любит Вас такой большой любовью.
Ваша Л.
21.ІІ.1950 г.
Людмила, дорогой друг! Я получил, наконец, Ваше письмо. (...)Вы мало о себе пишете, но и этого достаточно, чтобы поругать Вас за то, как мало нужно Вам, чтобы разочароваться в дружбе. Почему и на каком основании Вы решили, что я могу хотеть «освобождения» от Вас? Чем Вы так угнетаете мою жизнь, мешаете ей, что я могу хотеть избавиться от Вас? Поистине, надо обладать большой мнительностью или юмором, чтоб так думать.
Я выслушал Ваши нежные упреки в письмах после Вашего возвращения из Москвы. Я эти упреки внешне заслужил, но внутренне я остался для Вас тем, кем и был все эти годы. Ничто не изменилось в том Вашем образе, который я привык беречь в своей душе. А то, о чем я Вам осенью писал, и то, что немного разошлось с представлениями о Вас, имеет такое в сущности маленькое значение, что давно стерлось и ушло. Реальность, столкнувшаяся с мечтой, не убила и не могла убить нашей старой, хорошей дружбы. Я не нашел в себе «мужского» отношения к Вам. Я пытливо изучал свои ощущения, считая, что эти «мужские» нотки были бы законны и... желательны, как некая добавочная эстетическая надстройка. Возможно, что если бы она была, вспыхнула при встрече, то украсила бы наши отношения. Возможно, что она представила бы большую опасность для них. А поскольку существует такое «возможно», я недолго предавался этим мыслям, считая, что самое главное существует. И это самое главное в том, что я по-прежнему хотел и хочу Ваших писем, Ваших бесед, Вашего тихого голоса, Вашей нежной и теплой дружбы. (...)
Ваш И. Д.
17.IV. 1950 г.
Дорогой мой друг! Сегодня я уже должен трепетать перед Вами, вымаливая прощение за мою неаккуратность. Мне больше хотелось бы писать о Вас, но придется давать объяснения и писать о себе. Постараюсь короче.
Жизнь моя в Москве стала до того трудной и отрицательно влияющей на творческую работу, что мне уже дважды пришлось бежать из Москвы для спасения моего «Клоуна». (...) Беспрерывные заботы и дела, связанные то с одним, то с другим делом, умопомрачающее количество телефонных звонков, заседаний, совещаний — все это мучит, терзает, угнетает. Я всегда любил свой рояль, свой кабинет, свой стол и скептически относился к так называемым «домам творчества». Однако на этот раз поддался советам друзей и отправился в Дом творчества нашего Союза [композиторов] в Старую Рузу — в 100 км от Москвы. Я не ожидал, что увижу: 1) превосходную природу, на фоне которой находится этот Дом; 2) превосходные условия для работы. (...) В моем распоряжении была трехкомнатная дача — типа коттеджа со всеми удобствами культурного быта, хорошим роялем и т. д. (...) Сейчас, благодаря этому, «Клоун» так подвинулся, что театр приступает в ближайшее время к постановке, намеченной первой премьерой летнего сезона. Какова же моя работа, какова ее оценка со стороны театра и тех, кто ее уже слушал? Отзывы очень хорошие, и я думаю, что новая оперетта не будет хуже «Вольного».
И все-таки я хочу поскорее закончить о себе и перейти к Вам. Милая Людмила! Я уже привык к тому, что, получая Ваши письма, я жду какой-нибудь очередной пакости, приготовленной Вам милейшей фортуной. Это стало, к сожалению, лейтмотивом Вашей жизни, и я все жду и надеюсь, когда же Судьба пошлет Вам хоть немного счастья и благополучия. Что-то промелькнуло радостное в Ваших зимних письмах, а потом и Вы уже сами ничего об этом не пишете. Мираж? Случайный проблеск? А потом это ужасное несчастье с Вашим сыном. Я так переживаю все это, потому что сам по-отцовски понимаю, какое это несчастье. (...)
Вполне понятно, что все это угнетает Вас. Но почему Вы вдруг заговорили о смерти, о каких-то предчувствиях? Людмила! Я не узнаю Вас, и мне странно читать Ваши строчки. Я даже не хочу ссориться с Вами по этому поводу, а тем паче говорить банальности. Но если бы Вы знали, как мне хочется Вас утешить и как мне хочется, чтобы Вам было хорошо. Вы мне представляетесь человеком, которого опутали сетью, из которой он никак не может выкарабкаться. На меня страшно влияет Ваше состояние. (...) Но не вздумайте скрывать от меня Ваши переживания сочинением «многокрасочных» писем. Это не нужно мне. Мне нужна Ваша настоящая радость, чтоб я мог порадоваться вместе с Вами. Чем же я могу Вам помочь, мой друг? Подумайте и напишите, не стесняйтесь. (...)
Я очень тронут Вашим возмущением по поводу недооценки моей личности, но... сие дело от нас не зависит. Что же касается Сталинской премии, то фильм «Кубанские казаки» будет обсуждаться за 1950 год, так как он вышел уже после окончания сессии Сталинского комитета. Думаю, что фильм этот будет премирован. Если судить по громадному резонансу и распространению, какие сейчас получила моя музыка, то надо надеяться, что и я не буду обижен. Но... все может быть. Так сейчас все зыбко, так много посторонних соображений влияет на оценку людей и их работы, что трудно что-либо предугадывать. Вы правы, когда пишете, что по сравнению с любовью народа все остальное — ничто. Я всегда смотрел так, а теперь тем паче. И я работал раньше и теперь работаю не для наград и премий. А так называемая официальная оценка? Она так подмочена людьми, вертящимися вокруг нас, она изобилует вследствие этого таким количеством нелепостей, что скоро потеряет свою ценность и значение. Поэтому — работать, только работать, пока твое дарование способно производить ценности и пока твоя музыка способна радовать сердца. Что может быть выше личного удовлетворения, личной убежденности в правоте и нужности твоей деятельности?
Позвольте мне крепко поцеловать Вас и пожелать Вам радости и счастья. Жду писем.
Ваш И. Д.
25/IV—50 г.
Мой дорогой друг!
Для меня было очень приятным сюрпризом получение от Вас нот и письма накануне весеннего праздника. Хитрец! Вы знаете, чем замолить свою вину! (...)
Вчера слушала по радио музыкальный очерк о Вас — и до сих пор под обаянием Вашей музыки и Вашего образа. Да, я могу отдать должное своему вкусу, когда в чудесное время светлой и трепетной юности полюбила Вашу музыку. Вы заслужили себе бессмертие, и Ваши песни долгое, долгое время будут петь и любить простые люди всех стран. Такое сочетание — чудесный музыкант и прекрасный человек! Я горжусь Вами и немножечко собой — за то, что имею право называть Вас своим другом. (...)
Мне еще очень много хорошего хотелось бы Вам сказать, но боюсь, что Вы будете меня обвинять в пристрастии или «сочинении». Да и поздно уже, а завтра у меня трудный день. А Вы еще ждете чего-то нового и хорошего в моей жизни. Но, милый друг, у меня без перемен, ничего ни хорошего, ни плохого. Зимняя радость — не мираж, а скорее случайный проблеск. В одном из своих новых друзей я уже жестоко разочаровалась, но в другого — верю до сих пор. Здешняя жизнь меня засасывает до отчаяния, я скоро начну пускать пузыри. Если бы Вы могли спасти меня от нее, вырвать отсюда! Боже! Какой несбыточной мечтой кажется мне жизнь в Москве или под Москвой! И подумайте, что мечта всей жизни может иногда не осуществиться из-за какого-либо пустяка. Мне, например, при возможности найти работу в десятках мест никогда не жить в Москве из-за невозможности получить квартиру. К сожалению, в нашей жизни доминирует материальная основа. Да кто знает? Может быть, в других условиях и моя жизнь сложилась бы совсем иначе. А сейчас? Ну чем можете Вы мне помочь? Изменить мое материальное положение Вы не можете, да я и не хочу, чтобы наши отношения вылились бы в такую форму. Достаточно того, что Вы уже сделали для меня. Но подумайте: мама моя одевалась очень хорошо, а я в своей жизни помню только одно хорошее платье — то, которое подарил мне отец на заре моей юности. А после его гибели я уже не имела возможности иметь то, что мне хотелось, или то, что мне нравилось. И так во всем. (...) Сейчас жизнь становится труднее из-за того, что дети растут, заботы о них — тоже. А Юрий! Многих лет жизни стоит он мне! Да что и говорить! Вам многого не понять потому, что это нужно испытать на собственной шкуре.
Больше об этом я писать не хочу и не буду. Но я не хочу ни Вашей жалости, ни помощи — слышите, мой друг?
У нас стоит чудесная погода, и все мы с нетерпением ждем майских праздников. Пользуюсь случаем поздравить Вас с ними и пожелать подольше Весны в Вашей жизни и творчестве.
А в Москву я все же надеюсь вскоре попасть. Хорошо бы к премьере Вашего «Летающего клоуна»! Надеюсь, что Вы сможете уделить и моей особе хоть частичку своего времени.
Мой дорогой друг. Сейчас по радио передают Вашу музыку. (...) Как будто лично Вы говорите мне слова привета и ободрения.
Но возвращаюсь к своему письму. Вначале у меня было желание не писать ничего, что могло бы Вас огорчить. Но, прочитав Ваше письмо до конца, мне стало стыдно за свое желание. Возможно, что настроение мое усугубилось тем, что И. 3., человек, которого я называла другом, оказался просто мелким жуликом, удравшим вместе с моими подъемными (и не только с моими), которые он выманил у меня под предлогом приобретения у своих необыкновенных знакомых материала и меха на мое зимнее пальто. Причем мне не так жалко денег, которые не были для меня лишними, как того, что я потеряла человека. Видно, жизнь меня так и не научит трезвости и расчетливости. Ну, об этом хватит.
Мне гораздо приятнее сказать Вам, что песенки из «Кубанских казаков» здесь все распевают. Особенно «Каким ты был». (...)
Не думайте, пожалуйста, что я всегда грущу и хнычу. Я не утратила еще способности радоваться Вашим успехам, улыбке моих детей, солнечному дню и многому другому. Но разве Вы не верите предчувствиям? Мне кажется, что я стала больше ценить жизнь потому, что мне скоро придется с ней расстаться.
Надеюсь в этой жизни еще с Вами встретиться! Ваша Л.
20/XI/50.
Дорогой друг!
С трепетом берусь за перо, но надеюсь, что Вы, прежде чем казнить меня, прочтете это письмо, а прочтя,— простите меня. Эта ночь посвящена не сну, а беседе с Вами.
Вы знаете, как мне было не по себе перед отъездом из Москвы. Боже, как я благодарна Вам за то, что Вы дали мне возможность выехать из Москвы. Что было бы, если бы я еще на несколько дней задержалась в Москве!
Приехала я 12-го утром, отправилась с вещами на свой заводской автобус, а там знакомые женщины сообщили мне ужасную новость: Сережа заболел скарлатиной и отправлен в арамильскую больницу в понедельник, в день моего отъезда. Я, бросив в автобус вещи, мчусь в Арамиль. Там разыскала заразное отделение, но не могу найти Сережу. У меня уже от отчаяния и ужаса мысли стали путаться. Потом одна добрая душа надоумила обратиться в терапевтическое отделение, где я, наконец, отыскала своего Ёжика с мамой. К счастью, его не допустили в скарлатинное отделение. Потом оказалось, что он болен в сильной форме ангиной, но в тот день мне огромного труда и сил стоило вырвать его на поруки из больницы. Если бы он пробыл там еще несколько дней и без бабушки — мне бы его не видать: холод, трехразовое питание без молока — и больной крошка 2,5 лет. А он, как увидел меня, так и прилип.
А в это время двое других моих детей остались одни в доме [...]. Работники больницы сделали дезинфекцию, испортили мне массу вещей и ушли, прибив к воротам объявление: в доме скарлатина, кто войдет — штраф 50 рублей. И бедные отверженные и голодные дети оставались в страшном и холодном доме трое суток (хорошо, что не больше). К ним украдкой по очереди приходили ночевать еще двое детей, посылаемых одной моей сердобольной знакомой. Спали при свете. Питались картошкой и хлебом.
Теперь это все позади, но даже вспомнить страшно. Неделю я приводила все в порядок, а потом вышла на работу и окунулась в массу накопившихся старых и новых дел. Домой прихожу поздно. Все свободное время оккупировал Ёжик, который после болезни особенно привязался ко мне. Он сейчас особенно забавен и объясняется в своих чувствах следующим образом: «Любу кепко маму, мама дагаля маля». Моей же дочери я обязана сохранением своего имущества.
Надеюсь, я заслужила Ваше прощение? Если бы Вы знали, как часто порывалась я писать Вам (и не имела физической возможности выполнить это), как мысленно я разговаривала с Вами — Вы бы не сердились на меня. А Ваше письмо, которое Вы посчитали устарелым, я перечитываю много раз и не устаю восхищаться Вашей проницательностью и знанием жизни. Вы тысячу раз правы, а Ваш «аристократизм души» мне очень понравился. На себя я сейчас взглянула Вашими глазами, как-то со стороны. Действительно, сложность и противоречивость моей душевной конструкции обрекли меня почти на одиночество, а простые человеческие желания и незнание жизни — на страшные разочарования.
Но Вас я «кепко любу» и верю, что это испытанное временем и жизнью чувство никогда не принесет мне разочарования. Если бы моя жизнь была немного легче и я имела бы свободное время, то написала бы историю дружбы с Вами, и это было бы песнью ликующей радости, что Вы существуете и озаряете (мою жизнь).
(...) А сейчас Вы, наверное, концертируете, и я целую вечность буду ждать ответа. Желаю Вам заслуженного успеха и счастья. Вы — чудесный человек и самая крупная удача в моей жизни.
Пишите мне скорее.
Ваша Л.
26/XII—50 г.
Дорогой мой друг!
Что-то давненько от Вас ничего нет. Реже стали Вы баловать меня своими чудесными письмами. И я не так сержусь на это, как раньше.
Сегодня вспомнилось мне то далекое время, когда я была девчонкой, веселой и задорной. Вспомнилось незабываемое наше знакомство. И стало как-то грустно и хорошо.
Мне хочется поздравить Вас с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего: благополучия, успеха, радости, счастья, здоровья — Вам и Вашим близким. Хотелось бы мне хоть один раз встретить этот праздник с Вами. (...)
На днях слушали по радио литературно-музыкальную передачу «Дорогие мои москвичи». Наконец-то я своими ушами услышала Ваше новое звание: НАРОДНЫЙ артист республики — Дунаевский. Я очень-очень рада за Вас и от души поздравляю с заслуженной наградой. Меня вообще очень удивляют и восхищают Ваши неиссякаемая энергичность и работоспособность. (...)
Исаак Осипович, пришлите, пожалуйста, обещанный юбилейный сборник Ваших песен. И — если у Вас есть — песню «Голос Москвы»: мне хочется обучить здешний хор. С нею связаны у меня некоторые воспоминания — правда, грустные.
У меня дома без особых перемен. Все здоровы — и слава богу. Зима в этом году (пока) очень мягкая, и я просто наслаждаюсь ею. Ребята научились кататься на коньках и все свободное время пропадают на пруду. Меня подмывает присоединиться к ним — придется приобретать ботинки с коньками. Ежику приходится ограничиваться санками. Дня через 3—4 устрою им елку. Они полны нетерпения: только и разговаривают о ней.
Когда Вы будете в наших краях? И как поживает Ваш «Летающий клоун»? Начали ли работу над новым фильмом? Хочется быть в курсе Ваших дел и жизни. Раньше Вы находили возможным присылать мне еще неизданные вещи, а сейчас забываете прислать даже увидевшие свет. А? Милый друг, нехорошо.
Не сердитесь на меня, я шучу. Я же на горьком опыте убедилась, как Вас рвут на части, и Вы даже не можете располагать своим временем. (...)
Еще раз — всего хорошего.
Желаю хорошо встретить Новый год и так же прожить его. (...)
Ваша Л.
Москва, 19 февраля 1951 г.
Вот уж перед кем я виноват, так это перед Вами, моя дорогая Людмила! (...)
Передо мной два Ваших письма. Одно с описанием приезда и всех треволнений, связанных с болезнью Вашего Ежика. Когда я читаю Ваши беды, неисчислимо щедро сыплющиеся на Вашу голову, меня всего трясет от возбуждения и ярости. Пора уже злодейке Судьбе оставить Вас своим неусыпным «вниманием» и обратить его на кого-нибудь другого. (...) По этому поводу у меня приходят на мысль довольно неожиданные ассоциации. Как-то в вагонной беседе с одним симпатичным и, представьте себе, интеллигентным генералом я нашел подтверждение своим старым мыслям, что героизм на войне в подавляющем большинстве случаев возникает из простого желания сохранить себе жизнь и что только в очень количественно ничтожных случаях он является результатом обдуманных, высоких моральных побуждений. Я думаю, что это полностью относится и к быту. Я давно с восхищением слежу за Вами, за Вашей утомительной борьбой с несчастьями и бедами, преследующими Вас. И я думаю, что Вы не проходили специальных курсов сопротивления и что Ваша воля к сопротивлению, Ваши геройские победы возникли в результате борьбы за жизнь, как бы она порой ни казалась Вам ненужной и враждебной. Я вспоминаю некоторые мрачные Ваши строки, полные отчаяния и безнадежности, и... все-таки, ощущая непринужденный и даже почти равнодушный тон Вашего описания приезда из Москвы в «родные Пенаты», я начинаю убеждаться, что Ваш героизм становится уже чем-то вроде постоянного занятия. Так что к Вашему званию инженера-химика я бы прибавил ученый титул профессора по борьбе с Судьбой. Не удивительно, что в том же письме Вы посвящаете чудесные мысли и строчки нашей дружбе, нашим отношениям. Я понимаю, как дорого самое пустяковое внимание к человеку, вечно барахтающемуся в тисках бытовых и личных неудач. Наши отношения чисты с самого начала и до конца. Наша дружба крепка и содержательна. Но не могу скрыть от Вас, что мое внимание к Вам глубоко огорчает меня ничтожностью его проявлений. И, прося у Вас прощения за мое долгое молчание, я прежде всего проклинаю себя за то, что посмел так долго не отвечать на Ваше замечательное письмо, на радость и светлость Вашего внутреннего состояния, рожденного мыслями о нашей дружбе. Проклинаю себя за то, что, имея возможность гораздо чаще и активнее влиять на Ваше состояние и положение, я это делаю робко и вяло, оставляя Вас часто наедине со страшными лишениями, оставляя Вас часто не только без материальной поддержки, но даже без дружеского сочувствия. В моей жизни, в моей душе имеется одна страшная рана, одна страшная проблема, заключающаяся в двойственности моей жизни, моего бытового существования. Я отгоняю, вследствие своей неспособности решать подобные задачи, тот день, когда эта проблема, нагло представ передо мной и подбоченясь, крикнет мне: «Настал час!» Я живу длинный ряд лет с этой болячкой, разъедающей мои нервы и сознание, и никак не могу ее вылечить. Но в остальном... передо мной жизнь, полная внешнего благополучия, успехов, материального довольства, а иногда даже веселья. Я много помогаю людям, а люди много делают того, чтобы уничтожить во мне мое прекрасное отношение к человеку, к человеческой жизни. Обманывают меня в моих лучших побуждениях. Но Вы? Почему я должен помогать каким-то чужим людям, когда у меня есть дивный человек, далекий друг, помощь которому будет для него не только внешним облегчением, но и громадным внутренним стимулом для веры в жизнь, в людей?
И я сегодня с болью в душе должен сознаться, что Вы обогнали меня в Вашей светлой дружбе, что Вы лучше, тоньше меня. Когда-то я тянул Вас «на цугундер» дружбы, тянул за волосы, чувствуя иногда Ваше сопротивление, Ваше недоумение перед этим активным вторжением в Вашу жизнь. Теперь я знаю, как жаждете Вы этого вторжения, как дороги Вам знаки внимания и как они Вам нужны. А я забываю Вам послать даже обещанные ноты.
Пару лет тому назад, во время нашей московской встречи, я думал о том, что Вы не затронули моих мужских чувств и что этот факт может стать принципиальной причиной охлаждения моих отношений. Я опирался в своих рассуждениях на тот закон (кем он издан?), что между м(ужчиной) и ж(енщиной) даже в дружбе должны быть элементы физического взаимодействия, пусть даже внешне и не реализуемого. Я очень ошибся. И все дальнейшее свидетельствует о том, что очень хорошо, что в нашей встрече не было этих элементов и что наша дружба уже давно, после некоторой заминки, пришла к еще большему укреплению.
Из всего того, что я пишу, надлежит сделать выводы не только мне, но и Вам. Вам нужно проще подходить ко мне. Вам нужно знать, что я Ваш друг не только в письмах, но и в обыкновенной жизни. Пусть «надзвездные» дали не заслоняют потребностей этой жизни и пусть иногда рыцарство чувств не мешает «опускаться» до самых насущных необходимостей, которые можно очень скоро и очень просто урегулировать, чтобы они, как говорится, не болтались под ногами.
Вот и все, мой друг! Знаю, что Вас всегда огорчает моя крайняя неразговорчивость о себе и своих делах, но ничего с собой поделать не могу. О себе всегда приходится писал ь скупо, так как об этом можно писать и очень много, и очень мало. Я предпочитаю второе.
«Клоун», который в оконч(ательном) варианте называется «Сын клоуна», идет в Москве с большим успехом и готовится во многих театрах на периферии. Скоро начну работать над новым фильмом Пырьева «Одна семья». А пока занимаюсь концертами и ничего не пишу.
Вот и все! Очень жду Вашего письма. (...)
Ваш И. Д. (...)
29/III—51 г.
Мой дорогой друг!
Пишу, даже не надеясь на то, что письмо это застанет Вас в Москве. Вы, наверное, уже в отлете и только через длительное время узнаете, какими угрызениями совести я мучаюсь из-за своих запоздалых поздравлений Вас с высокой оценкой музыки фильма «Кубанские казаки» и с первыми успехами «Сына клоуна» (случайно прочла рецензию в «Огоньке»). (...)
(...) Я даже не упрекнула Вас в том, что Вы опять не ответили мне на письмо, правда, скучное и нудное, но в то время написать иное я не могла. Писать же сейчас мне гораздо приятнее: дома относительное благополучие, в природе весна и масса солнца, в музыкальном мире тоже ярко блистает мое солнце — хорошо!
29.III.1951 г.
Дорогой мой и славный друг! Не отвечал Вам долго потому, что был поглощен свалившимся на мою голову общественным ударом. 6-го марта в газ(ете) «Сов(етское) искусство» был помещен пасквильный фельетон, героем которого оказался я. Мне незачем говорить Вам, сколь отвратительна становится ненависть ко мне некоторых людей, для которых сам факт моего существования является нетерпимым. Фельетон рассчитан был на публичное ошельмование меня, на дискредитацию в глазах общества. Все обстоятельства моего выступления перед студентами Горьковской консерватории были до безобразия искажены. Для меня будет горьким уроком этот факт. Я забыл, иногда забываю, сколькими опасностями я окружен, с какими каменюками «люди» подстерегают меня на каждом шагу. Воспользовавшись некоторыми слабостями моего выступления, слабостями, на которые можно было и не обратить внимания в свете общего, о чем я беседовал со студентами, некоторые людишки при посредстве «почтенной» газеты «Сов. искусство» раздули целое дело. Фельетон был приурочен к периоду присуждения Сталинских премий и преследовал явную цель помешать мне ее получить. Но фокус не удался. Наверху расценили дело иначе. 17-го марта той же газетенке пришлось напечатать мою фамилию в списке новых лауреатов. Удался ли им план дискредитации? Не думаю, хотя удар был нанесен сильный. Люди просто не поверили. На весь этот «сенсационный» фельетон пришло в редакцию до 24 марта всего... три отклика, из которых два очень содержательных, значение которых сводится к следующему: «Дунаевский — наш!» Что касается москвичей и вообще околохудожественной публики, то они великолепно все поняли. Но если бы Вы знали, как сердечно приветствовали меня многочисленные телеграммы! В присуждении премии все почувствовали, какую пилюлю проглотили мои враги.
Вот видите, Людмила, и мне приходится Вам жаловаться. Мы, наверное, еще вернемся к этой теме, а пока мне хочется поговорить о Вашем письме.
Я надеюсь, что Ваш Ёжик выздоровел. Что это он у Вас так часто болеет? Но Вы не отчаивайтесь: видимо, ему суждено стать крепким парнем, пройдя опасности детства. Жаль только, что это Вас вечно мучит и беспокоит. (...)
И все-таки Вы мне не написали об одном очень важном месте моего письма.
Я хочу, чтобы Вы пользовались моей дружбой во всех трудных случаях Вашей жизни. Я хочу, чтобы Вы были избавлены от тягот там, где их очень легко избежать. Поняли? И прошу Вас поверить, что я это буду делать с легкостью, которую мне позволяет мое чудесное отношение к Вам.
Я Вас крепко целую и, как всегда, желаю Вам счастья.
Ваш И. Д.
10/IV—51 г.
Дорогой Исаак Осипович!
Продолжаю письмо после большого перерыва, который объясню Вам позже.
Как странно, что последнее письмо от Вас написано в тот же день, когда начинала свое письмо и я!
Не могу Вам передать, как я возмущена поступками тех людишек, которые стремятся причинить Вам зло. Но они мне очень напоминают ту крыловскую моську, которая лаяла на слона. И, главное, с тем же успехом. (...)
Мне не пришлось прочесть этой грязной статейки, так как наш завод не выписывает этой газеты. А жаль: я написала бы в газету, что я думаю о таких людях и о тех, кто пропускает подобные статьи. А Вам не надо так переживать это происшествие — новое присуждение Вам Сталинской премии (в который раз?) говорит достаточно убедительно. А главное — та популярность и любовь, которыми Вы пользуетесь у громадной массы простого народа. Ваши песни поют каждый день во всех уголках нашей страны и за рубежом. Кто еще может этим похвастать? Никто. Если сейчас известно много новых советских композиторов с неплохими песнями, то эти песни в громадном большинстве случаев являются «калифами на час» и потом предаются забвению. А кто из этих композиторов обладает таким богатством мелодических гармоний, как Вы, такими неповторимыми, одному Вам присущими нюансами музыкальной мысли, таким разнообразием жанров творчества? Никто, и еще раз — никто! Вот поэтому Вам и завидуют некоторые мелкие людишки и пытаются очернить Вас в глазах других людей. Но эти жалкие потуги могут привести только к обратному результату. Вы очень скромны, но Вы должны чувствовать отношение к Вам простых людей, ничего от Вас не ждущих, кроме новых чудесных песен. А радио? Разве прошел хоть один день, чтобы не транслировали Вашу музыку? Какие сейчас бывают чудесные передачи о Вас! А в «Вольный ветер» я влюбляюсь все больше и больше. (...)
Не подумайте, что это пристрастное мнение, нет, я просто считаю, что у меня неплохой вкус. Я радуюсь Вашим успехам и горжусь ими, Вами и нашей необычной дружбой. Эта дружба делает меня лучше, так как я не могу обмануть Ваше доверие. Я даже не могу решить, кто прекраснее: Дунаевский-музыкант или Дунаевский-человек. Вернее — оба. Не улыбайтесь, это не ослепление, которое помешало бы мне увидеть некоторые Ваши слабости. Но мне до сих пор удивительно то, что Судьба свела наши дороги вместе и что Вы стали так близки и дороги мне. Понимаете ли Вы это, чувствуете ли всю глубину этого? Мне не хочется бросаться словами, но мне кажется, что я могла бы пожертвовать для Вас жизнью. И если бы больше существовало на земле таких отношений — мир во многом бы выиграл.
Знаете, я писала Вам об этом и раньше — об очень странном и хорошем ощущении: каждый раз, когда я слышу Вашу песню, музыку или хотя бы музыкальную фразу, я воспринимаю это как Вашу улыбку, дружеское приветствие, адресованное мне. И такое приветствие Вы шлете мне каждый день! (...)
Вы продолжаете настойчиво спрашивать, почему я не ответила на то место Вашего письма, где Вы предлагаете мне свою материальную помощь. Так ведь? Но что я могу сказать? Только в самые отчаянные моменты повернется мой язык с просьбой о помощи, да и то с трудом и со стыдом. Всякие трудности ведь относительны. Во время войны картофелина в супе и кусок деревенского ржаного хлеба казались нам лакомствами. Сейчас тоже приходится соразмеряться со своими возможностями. Трудности в том, что дети растут, растут и их потребности. А знаете, почему я раньше избегала встречи с Вами? Мне было стыдно своего костюма. Из войны мы вышли совершенно раздетыми и разутыми. Правда, и сейчас еще многого нет, но как же иначе прожить на 1000, вернее, 800 рублей в месяц, платя из них еще за квартиру и дрова? А мы выжили только потому, что я никогда ни на кого не надеялась, кроме себя самой. Еще в студенческие годы, когда у нас в семье случилось несчастье и тетка предложила мне свою помощь, я отказалась и прожила на одну стипендию, несмотря на детство, полное довольства. Разве спрашивают голодного — будет ли он обедать? Я ценю Вашу щепетильность и благодарна Вам за нее, но давайте больше не поднимать этого вопроса. Просить я Вас могу только в действительно отчаянную минуту, но я разрешаю Вам (царская милость!) иногда помогать мне без просьбы с моей стороны. Но чтобы это было не часто и являлось бы для меня приятной неожиданностью, а не системой, могущей принести только вред, так как привыкнуть к хорошему гораздо легче, чем наоборот.
Ну, кажется, я благодарна расстоянию, разделяющему нас, и ночной темноте, скрывающей мои горящие уши от Вашего взгляда. Но письмо это я все-таки отправлю!
Моя надежда попасть в этом году в Москву совсем пропала. Жаль московского паспорта! (...)
Очень хочу получить хоть что-либо из «Сына клоуна». Я совершенно не имею представления о нем.
На этом письмо кончаю, так как сейчас очень поздно, а завтра рабочий день. Да мне сразу и не уснуть, так как письмо меня взволновало. Я и хочу отправить его, и не хочу. Но, наверное, отправлю.
Желаю Вам новых успехов и побед. А на мосек не обращайте внимания, они неизбежны.
Ваша Л.
P. S. Ваше последнее письмо было сороковым по счету. Славная дата, вернее — юбилей!
22.VI.1951 г.
Дорогая Людмила! (...) Я давно получил Ваше письмо. Некоторое время меня действительно не было в Москве. А некоторое время на меня напало какое-то тупое нежелание что-либо делать, даже писать кому-либо. Не хотелось разглашать мыслей, которые были не оформлены, но которые были не добры и не спокойны. Признаюсь, что причиной этому послужили дела на нашем музыкальном фронте в связи со статьей в «Правде» насчет оперы «От всего сердца». Она на меня произвела очень сильное впечатление. Вы — это тот человек, которому я не мог написать письма, не коснувшись своих переживаний. (...) И мне не хотелось их высказывать даже Вам, пока они либо не покинут меня, либо не сделаются спокойными и привычными. Я подчеркиваю — даже ВAM,— потому что я полностью разделяю те прекрасные строки Вашего последнего письма, где Вы пишете о нашей дружбе и наших отношениях. Спасибо Вам за эти строчки, глубоко меня взволновавшие. Должен Вам рассказать, как недавно я снова погрузился в воспоминания ушедших лет.
Дело в том, что множество писем моей личной переписки лежало у меня в ящиках моего бюро без особого порядка, способствуя ощущению чего-то грузного, пыльного, мешающего. Воспользовавшись тем, что с 1-го у меня была путевка в Старую Рузу (где я и сейчас нахожусь), я забрал с собой все пачки с письмами и решил навести в них порядок. (...) И вот я стал беспощадно откладывать для печки целые ворохи писем, оставляя только важные, интересные — памятники знакомства, дружбы, легкой романтической взволнованности. Мои пачки стали худеть, что меня приводило в радостноудовлетворенное состояние, как хозяйку, которая избавляется в хозяйстве от занимавшего место ненужного хлама.
Но... Ваши письма я подобрал по датам, бережно сложил и спрятал в специальный регистратор, который приобрел для этой цели. Проколол по-канцелярски две дырочки в каждом письме, нанизал на металлические дужки и надписал на корешке регистратора: «Л. С. Р.». Это — неприкосновенно. У Вас нет письма, которым я не дорожил бы, да и мне казалось невозможным уничтожить что-либо из наших разговоров и мыслей, обращенных друг к другу. Можете посмеяться над моей «канцелярией», но усмотрите в этом также и нежное желание сберечь навсегда в полном порядке наши отношения.
Но возвращаюсь к начатому.
Все труднее и труднее становится работа на творческом поприще. И не потому плохо, что трудно. Не потому плохо, что вырастают все новые и новые задачи, требующие своего осуществления и творческого выражения. Нет!
Плохо и мучительно невыносимо то, что никто не знает, какая дорога правильна, что все запутались, боятся, перестраховываются, подличают, провоцируют, подсиживают, меняют каждый день свои убеждения, колотят себя в грудь, сознаваясь в совершенных и несовершенных ошибках.
Страшно и невыносимо то, что творческая неудача рассматривается как некоторое преступление. Разве это критика, по поводу которой нас учат, что к ней надо относиться спокойно и умно? Можно ли относиться спокойно к такой критике, когда тебя прибивают к позорному столбу за творческую неудачу, отнимают Сталинскую премию? Ведь Жуковский, автор оперы «От всего сердца», не воровал премии, ему ее дали 70 человек комитета, в котором сидят уважаемые люди всех родов искусства! Значит, они, эти уважаемые люди, должны были сказать: «Это мы виноваты! Мы не доглядели!» А они преспокойно собрались, вытерли презрительный плевок и решили обратиться в Правительство с просьбой отнять у Жуковского премию!! Ни и у кого не поднялся язык, чтобы быть честным, чтобы избавить от позора композитора, который виноват только в том, что написал оперу, не понравившуюся в высших сферах. Что же это такое? Как можно жить и творить? Уже аналогичный этому факт стоил жизни историку Гусейнову, который получил Сталинскую премию за исторический труд по Кавказу. Оказалось, что он ошибочно описал значение Шамиля, представив его в положительном свете, в то время как надо было его представить в отрицательном. Хорошо! Это крупная ошибка! Но ведь кто-то, многие, целый Комитет по науке читал эту работу, оценивал ее как выдающуюся. Правительство подписало и выдало автору премию. И вдруг... Это «вдруг» привело к тому, что человек повесился, отвергнутый всеми, на дереве в собственном саду.
В прежние времена люди гибли за идеи, за свою борьбу против мракобесия и несправедливости. Но то была борьба с чем-то! И это «что-то» защищалось, в свою очередь било, разило, наказывало. Но сейчас? Разве советский художник, композитор, литератор, драматург хочет зла государству, строю? Разве Жуковский, написав оперу, думал провести антисоветский акт? За что же его опозорили? За бессонные творческие ночи? За желание быть творчески полезным народу?
Выходит, что творец лишается своего важнейшего права, без которого нет творчества: права на пусть неудачный, но опыт, права на неудачу!
И это страшно! Страшно именно в наших условиях. Потому что прозвучавшее слово отрицательной критики является уже непререкаемым законом, открывающим столько гадкого и мутного словоговорения и пакости людской, против которой нет никакой защиты, кроме собственной совести.
Ну, я разболтался. Не подумайте, что я весь состою из одной печеночной горечи. Я просто тревожусь и за общие наши творческие пути и за свой. Ужасно трудно работать в такой обстановке...
Тем не менее...
Тем не менее я работаю сейчас, и работаю немало! В конце июля еду в Берлин на Международный фестиваль молодежи. (...) Я буду писать музыку к фильму Пырьева об этом фестивале.
Людмила, дорогая! Нельзя допускать, чтобы Ваша московская поездка сорвалась и пропал паспорт.
Я первого июля вернусь в Москву из Старой Рузы и прошу Вас мне немедленно сообщить, когда Вы собираетесь в Москву и сколько Вам нужно денег. Ведь это тоже случай исключительный. Крепко Вас и нежно целую.
Неизменно Ваш
И. Дун.
9/VII—51 г.
Дорогой друг!
Я не смогла сразу ответить на Ваше письмо потому, что оно глубоко потрясло меня и мне потребовалось некоторое время для того, чтобы «переварить» его. Я очень хорошо понимаю Ваше настроение. (...)
Завидую Вашей поездке в Берлин. Молодежный фестиваль — это очень интересная штука и, безусловно, вдохновит Вас на такую же интересную и яркую музыку. [...]
Над Вашей «канцелярией» смеяться не буду, так как она меня очень тронула. Но я в ужасе: я не знала, что пишу для истории, и не приняла должной позы. Что-то скажет княгиня Марья Алексеевна! Серьезно, всякие посторонние имена и фамилии Вы должны из моих писем вычеркнуть, дабы они тоже не попали в какую-либо «историю».
Насчет поездки в Москву я все никак не могу решить. Очень хотелось бы иметь московский паспорт, но боюсь, что ничего не получится. И потом, еще не получив отпуск (получу с 16/VII), я истратила уже почти все отпускные деньги: старших детей отправила в пионерский лагерь, младшего — в детсад «на оздоровительную кампанию», мама собирается ехать в Тюмень. Вы же не дойная корова, чтобы из Вас все время выкачивать деньги.
Нынешний год должен быть очень тяжелым, так как в ряде районов Свердловской области в ночь с 26-го на 27-е июля были заморозки и все посевы картофеля, огурцов и помидоров погибли. Мне очень жаль своих трудов, тем более что помидоры у нас в этом году были очень хорошие и уже с плодами, а картофель цвел, но самое страшное — это то, что затронут целый ряд районов. А картофель — основная пища всех здешних жителей.
Сейчас даже не хочется возиться в огороде с другими посевами — стоит картошка с желтыми и засохшими стеблями, как огромное кладбище. Унылая, осенняя картина.
Вот я и опять разохалась. (...)
Ну — вынуждена кончать письмо, так как темно, а мы уже неделю сидим без света.
Желаю Вам интересной и радостной поездки и вдохновенной музыки к новому фильму.
Посылаю Вам фото своего Ёжика — он очень смешной и живой на нем.
Жду письма с нетерпением.
Ваша Л.
2 января 1952 г.
Здравствуйте, мой дорогой друг! Получил Ваше письмо и дивлюсь на этот раз Вашей попытке атаковать меня, не имея к тому никаких сил и оснований. (...) Странно, что Вы можете мне написать такое: «Мне не хотелось Вам писать». Как же так? Жизнь сурова и трудна, а Вы, оказывается, не только не хотите делиться со мной своими переживаниями, но и считаете, что этого нельзя (!) делать. Вот что меня озадачивает, ибо именно это является свидетельством отчужденности. И если Вы мне испортили настроение, то только этим. Конечно, я никогда от Вас не отвернусь и всегда буду принимать все, что Вы захотите мне принести своего, и тогда, когда Вы захотите это сделать. (...)
О себе скажу кратко. В декабре (22-го) закончил большую и трудную работу по муз(ыкальному) оформлению фильма о Берлинском фестивале («Мы за мир!»). К сожалению, мерное и мирное течение моей жизни было нарушено 7-го ноября нелепым несчастьем, случившимся в компании моего сына. Сам-то он не был виноват, но его исключили из Института по обвинению в организации попойки, закончившейся автомобильной катастрофой. В результате этой катастрофы погибла студентка 3-го курса института. Машина была моего сына, вечеринка происходила в праздник на нашей даче. Сын попал в эту историю как искупительная жертва общественного возбуждения в институте. И хоть все это нелепо и несправедливо, но до сих пор мне не удалось его восстановить. Это ужасно портит жизнь и настроение. Надеюсь все-таки, что удастся восстановить. Очень жалко парня, который уже около двух месяцев слоняется подавленный и растерянный происшедшим.
Позвольте попрощаться с Вами, мой друг, и пожелать Вам всего светлого и радостного.
Искренне Ваш И. Д.
4/III—52 г.
Мой милый, дорогой друг!
Я очень давно не писала Вам, даже не поздравила с днем рождения, просгите меня за это. Но это не потому, что мне нечего и я не хочу Вам писать. (...)
Я не писала все это время потому, что не хотела Вас зря тревожить непроверенными фактами, а писать только для того, чтобы написать, я не хотела и не могла. (...)
Сейчас (наконец) все выяснено, я отупела от горя и уже не так остро чувствую всю боль и ужас моего положения, я уже не могу молчать и жду и надеюсь на Вашу помощь — советом, делом, чем угодно,— мне не на кого больше надеяться, кроме Вас, я же совсем растерялась и не знаю, что делать.
Дело в том, что мой старший сын Юрий болен туберкулезом бронхиальных желез. (...) Правда, процесс захвачен в начальной стадии, но я совершенно растерялась — что с ним делать? У моей знакомой сын 5 лет проболел тем же и выздоровел, а у других — мальчика через 1,5 года не стало.
Я знаю, что для поддержки его организма нужно очень хорошее питание и свежие фрукты. Если бы он был единственным ребенком, это было бы проще. Сейчас же я не могу питать его особо от остальных детей, да и не исключена возможность, что и с ними может случиться то же, а значительно улучшить питание всех трех ребят я не имею возможности. По самым скромным подсчетам, мне не хватает для этого 400—500 рублей в месяц, даже если я весь свой заработок буду без остатка вкладывать в это питание. Поэтому, отбросив стыд, я прошу Вашей регулярной материальной помощи, пока не исчезнет опасность. Я ничем не могу отплатить Вам за это, при всем моем желании.
Перечитала Ваше последнее письмо. Два с лишним месяца тому назад оно было написано — тогда еще я была спокойна.
Как дело с Вашим сыном? Восстановили ли его в институте? Мне очень жаль и Вас, и его, тем более если он невинно пострадал. Моему сыну никогда не придется попасть в подобную историю, уж не говоря о том, что он никогда не сможет иметь, будучи студентом, собственной легковой машины,— доживет ли он до этой поры? Ему только 11 лет, организм растет, и такая болезнь особенно опасна. Всю его короткую жизнь судьба старается вырвать его из моих рук: коклюш, дизентерия, дифтерия, малярия, флегмона, а теперь туберкулез (уж не говоря о бесчисленных простудных и желудочных заболеваниях) — вот краткий перечень врагов, пытавшихся отнять у меня Юрку. (...)
Простите меня, больше писать я не могу. Жду Ваших нужных писем, не забывайте надолго обо мне, нету у меня друга ближе Вас.
Пишите о себе, о работе, посылайте хоть изредка свои ноты — так приятно получать их от Вас!
Дети хорошо знают Вас по фотокарточке и любят Вашу замечательную музыку, и даже маленький Ёжик. Он узнает Ваши песни, передаваемые по радио, и приходит в восторг от этого.
Пишите. Ваша Л.
Старая Руза, 18.3.1952 г.
Дорогой друг! Ваше письмо я прочитал в Москве в субботу, когда вернулся на два дня из Рузы. До 24-го у меня здесь большая работа, а в Москву я приехал, чтобы отдать дань общественным делам. Тотчас по прочтении Вашего письма я Вам телеграфировал и послал деньги.
Что же с Вами судьба проделывает? Бросает из одного переживания в другое. Но я на Вас очень обижен. Вы еще можете упрекать меня в том, что я позволил Вам долго молчать, не почувствовав, что это молчание имеет свои тяжелые причины. Я готов принять Ваш упрек на будущее, но не за прошлое, так как у Вас были периоды «молчанки» другого порядка. Что касается моей обиды, то она состоит в том, что, находясь в тяжелом положении, Вы меня вспомнили лишь тогда, когда я Вам напомнил о себе. Мне кажется, что мой упрек значительно солиднее Вашего. Об этом Вам очень нужно подумать, если Вы не хотите поселить в моей душе сомнение в прочности Вашей дружбы ко мне. Можно очень сомневаться в дружбе человека, который имеет привычку надолго скрываться от своего друга и отделять стеной молчания свою жизнь от жизни друга. Если я возьму несколько Ваших редких писем последнего года, то они все начинаются с извинения. Это — плохой признак для дружбы. (...)
С большим огорчением я узнал о постигшем Вас новом треволнении. Будем надеяться, что Вам удастся восстановить здоровье Юрика. Плохо, отвратительно плохо идет Ваша жизнь, полная забот и волнений. Судьба до сих пор не хочет Вам улыбаться. Я вспоминаю, правда, очень смутно давнишнее мое письмо к Вам. Я писал о том, что Вы неверно шагаете по жизни, испытываете ее ненужными, поверхностно эгоистическими увлечениями, шальными убеждениями в крепости мимолетного счастья. Увы, я, кажется, оказался пророком. Самый серьезный и самый страшный вопрос заключается в том, можно ли теперь исправить все ошибки — свои и чужие? Можно ли заделать душевные прорехи? На эти вопросы Вы, конечно, лучше сможете ответить, чем я. И я хочу, чтобы Вы мне ответили просто и объективно.
Я перечитываю Ваше письмо. Оно посвящено Вашему горю и волнению. Но, понимая Вас и Ваше настроение, я не могу обойти молчанием один абзац Вашего письма, который Вам напомню:
«Я не писала Вам все это время потому, что не хотела Вас зря тревожить непроверенными фактами, а писать только для того, чтобы писать, я не хотела и не могла. Вы знаете, какое значение я придаю нашегпереписке» (подчеркнуто м н о ю).
И еще одно место:
«Но это не потому, что мне нечего и я не хочу Вам писать» (подчеркнуто Вами).
Что же это такое, Людмила?
«Я очень давно не писала Вам, даже не поздравила вас с днем рождения, простите меня за это. Но это не потому...» и т. д. (см. цитату выше).
Значит, поздравить с днем рождения зависело от «непроверенных фактов»? Или поздравить с днем рождения — это значит «писать только для того, чтоб писать»? Вы, очевидно, придаете большое значение вопросу поздравления, если пишете «даже». Так вот, если у Вас не нашлось что писать по случаю «даже» моего дня рождения, то к чему же Ваши противоречивые объяснения? Второе: почему переписка со мной связывается у Вас только с желанием проверить факты, касающиеся здоровья Вашего сына? А без «проверенных фактов» вы не могли писать мне о себе, о жизни, о думах, о мыслях,— наконец, о том же волнении за мальчика, у которого предполагают туберкулез? Странно, Людмила, странно. Я придирчив? Да! Я придирчив к некоторым друзьям, голоса которых мне хочется слушать полно и ясно, без подозрительных заиканий. Я знаю и понимаю, что дружба не измеряется количеством писем, хотя это количество свидетельствует все же об интенсивном общении, желании этого общения. Но если Вы сами твердо верите в свою дружбу ко мне, то лучше обходитесь без заиканий в стремлении объяснить мне свое все равно необъяснимое молчание. «Молчала, ну и ладно! Верь в мою дружбу!» Это проще и лучше!
Благодарю Вас за внимание к истории с моим сыном. Восстановить его не удалось. (...)
Кончаю письмо и желаю Вам прежде всего не терять надежды на благополучный исход беды с Юрием. Эта болезнь лечится, и все будет хорошо.
Желаю Вам самого лучшего.
Ваш И. Д.
26/1—1953 г.
Мой нехороший друг!
Вы совсем забыли обо мне и не пишете почти целый год. Что случилось, в чем я провинилась, или это — «естественная смерть» нашей дружбы? Даже с Новым годом на этот раз Вы меня не поздравили, а я уже привыкла начинать его с Вашими добрыми напутствиями! Правда, я также повинна в подобном грехе. Но я не написала Вам новогоднего письма потому, чтобы не омрачать Вам этого светлого праздника своими болячками. Встречала же Новый год я на этот раз только вдвоем с Вами, хоть Вы и не знаете об этом.
Моя жизнь мрачна. Мама медленно и мучительно умирает. Дети часто хворают. У меня, кроме основной работы, прибавилась еще домашняя работа и уход за мамой и больными. Несмотря на это, вернее, именно потому — время проходит для меня очень быстро, и я не успеваю сделать всего намеченного и необходимого. Вот и год промелькнул незаметно, особенно вторая половина его. Еще шаг в небытие...
Я не писала Вам не только потому, что вы не ответили на два моих письма и что времени у меня не стало хватать. Нет, у меня было какое-то темное, нехорошее чувство от Вашего молчания. Я его все время старалась отогнать от себя, чтобы не осознавать,— и это мне довольно легко удавалось из-за моей теперешней занятости. Но чувство было очень нехорошим, точно я была в чем-то виноватой перед Вами. (...)
Я Вам пишу это, чтобы сказать, что я не сержусь на Вас за молчание, хотя Вы и подзабыли обо мне в очень тяжелый для меня период. Все это естественно и закономерно.
Я перехожу к основной цели моего письма: поздравляю своего милого и дорогого друга, не желающего даже откликнуться, с днем рождения и желаю Вам еще долгих, долгих лет счастливой жизни, благополучия и, главного,— здоровья. Желаю Вам плодотворно трудиться и радовать своих почитателей (к которым с давних времен принадлежит и автор письма) новой чудесной, жизнеутверждающей музыкой, так свойственной Вам! Пусть ничто и никто не омрачает Вашу жизнь.
Всегда издали слежу за Вами и люблю Вас и Вашу музыку.
Ваша Л.
P. S. Если я действительно в чем-либо виновата перед Вами, то простите ради бога.
Еще P. S. Чувствую и понимаю, что настроение у Вас последнее время неважное из-за некоторых несправедливостей *. К сожалению, это неизбежно.
Но Ваши друзья всегда с Вами и за Вас!
Л.
(На этом письме переписка обрывается.)
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

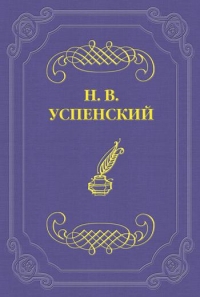


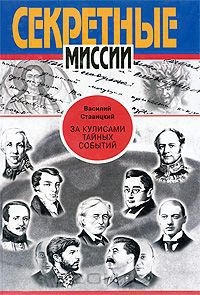
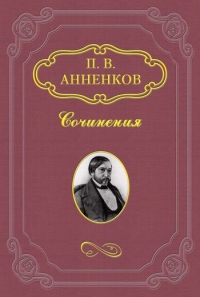
Комментарии к книге «"Может быть, я Вас не понял..."», Исаак Дунаевский
Всего 0 комментариев