Исаак Троцкий Третье отделение при Николае I. Сыщики и провокаторы
Третье отделение при Николае I. Сыщики и провокаторы
От автора
История русской политической полиции еще не изучена. До сих пор исследователи подходили к архивам III Отделения и Департамента полиции только как к материалу по истории революционного движения. Между тем выяснение социальной природы и функций полицейской организации является чрезвычайно существенным для понимания позиции царского правительства в классовой борьбе и его политики. Задача эта поставлена на очередь, но еще не разрешена. Тем труднее дать популярный очерк по истории хотя бы ограниченного промежутка времени жизни политической полиции. Автор настоящего очерка и не претендовал дать исчерпывающую характеристику III Отделения времен Николая I. Задача книжки — в отдельных очерках сделать беглую сводку известного уже о III Отделении материала, по возможности представить общие очертания этого учреждения. Состояние вопроса в нашей исторической литературе пока допускает только такую постановку темы. В некоторых случаях я привлекал, впрочем, и неизданный материал — там, где под рукой оказывались архивные выписки, сделанные мною в связи с мои ми специальными работами.
Структура и организация III отделения
III Отделение строилось в сравнительно спокойное время: в течение всего николаевского царствования в России не было ни одного крупного революционного выступления. Такое положение позволяло не торопиться с организацией учреждения, и при всей своей суетливости и кажущейся загруженности важнейшими делами III Отделение довольно долго не могло собраться привести в единообразие свои разнородные части.
При образовании III Отделения в него вошли три составных элемента: особенная канцелярия Министерства внутренних дел, возглавлявшаяся фон Фоком, находившаяся в ведении того же Фока тайная агентура и жандармерия. Последняя и сама по себе была явлением сложным.
«Отдельный корпус жандармов, — читаем мы в официальном обзоре Министерства внутренних дел, — сложился из двух элементов: из жандармского полка, несшего военно-полицейскую службу при войсках, и из жандармских частей корпуса внутренней стражи. Жандармы при войсках впервые появляются 10 июня 1815 года, когда главнокомандующий Барклай-де-Толли предписал избрать в каждом кавалерийском полку по одному благонадежному офицеру и по 5 рядовых, на коих возложить наблюдение за порядком на марше, на бивуаках и кантонир-квартирах, отвод раненых во время сражения на перевязочные пункты, поимку мародеров и т. п. Чины эти наименованы жандармами и отданы в распоряжение корпусных командиров».
Очевидно, набор жандармов внутри полков препятствовал их изолированию от прочей солдатской массы. «27 августа того же года отдельные жандармские команды уничтожены, а взамен того Борисоглебский драгунский полк переименован в жандармский, и на него возложена полицейская служба при войсках; три эскадрона этого полка распределены небольшими отрядами по всем кавалерийским и пехотным корпусам, другие три эскадрона прикомандированы к главным квартирам армий, а седьмой эскадрон назначен для пополнения убыли. При этом приказано на укомплектование жандармского полка обращать исключительно нижних чинов, расторопных, отличного поведения и вообще способных исполнять военно-полицейскую службу, требующую особых качеств».
Этот жандармский полк нес, таким образом, полицейские функции исключительно в армии. Наряду с ним уже с 1810 года существовал корпус внутренней стражи, обслуживающий гражданские власти «при поимке воров и разбойников, в случае неповиновения власти, при взыскании податей и недоимок». В 1817 году в составе этого корпуса были учреждены жандармские дивизионы. Но управление ими было чрезвычайно пестро: в то время как одни жандармские части подчинялись обер-полицмейстерам, другие ведались гарнизонными командирами.
Учреждение должности шефа жандармов не положило конца этой организационной неурядице. Одними жандармскими частями Бенкендорф ведал целиком, другими лишь «в инспекторском отношении». Так дело продолжалось до 1836 года, когда был сформирован Отдельный корпус жандармов. Самое единство III Отделения и жандармерии держалось только на личной унии шефа жандармов и начальника III Отделения. Только в 1839 году должность начальника штаба корпуса жандармов была соединена с должностью управляющего III Отделением, и лишь в 1842 году окончательно слились все жандармские части.
Вся эта работа была проведена под непосредственным воздействием Л. В. Дубельта, которого и можно считать творцом жандармской системы в том виде, в каком она существовала при нем и впоследствии. Но на характеристике этого крупнейшего николаевского жандарма мы остановимся позднее.
Само по себе III Отделение являлось учреждением с сравнительно небольшим аппаратом. Первоначально личный состав был определен в 16 человек, которые должны были обслуживать все четыре экспедиции. Функции между этими экспедициями распределялись следующим образом.
I экспедиция ведала всеми политическими делами — «предметами высшей полиции и сведениями о лицах, состоящих под полицейским надзором».
II экспедиция — раскольниками, сектантами, фальшивомонетчиками, уголовными убийствами, местами заключения и… крестьянским вопросом.
III экспедиция занималась специально иностранцами.
IV экспедиция вела переписку о «всех вообще происшествиях», ведала личным составом, пожалованиями и т. п.
Постепенно работа III Отделения усложнялась. В 1828 году к кругу его деятельности была причислена и театральная цензура, в 1842 году выделенная в специальную V экспедицию. Увеличивалось и число служащих: к концу николаевского царствования штат состоял из 40 человек. Тем не менее строгого размежевания дел между экспедициями не было, в течение долгого времени не было и установленной формы переписки. Наиболее же секретные дела, в том числе и работа тайной агентуры, были подчинены непосредственно управляющему III Отделением — сначала М. Я. фон Фоку, потом А. Н. Мордвинову и Л. В. Дубельту. Управляющий отделением вместе с двумя-тремя наиболее ответственными сотрудниками собственно и являлся центральным двигателем всей системы. Он непосредственно сносился с тайными агентами, на его имя поступали многочисленные доносы и жалобы, от него зависело дать делу тот или иной оборот, так или иначе средактировать всеподданнейший доклад и т. п.
Такова была структура «центральной шпионской конторы», как называл III Отделение Герцен. На местах делами политической полиции ведали местные жандармские управления. Вся страна была разделена на несколько (сначала пять, потом восемь) жандармских округов, во главе которых стояли высшие жандармские чины. Округа, в свою очередь, распадались на отделения. На отделение приходилось обычно 2–3 губернии; начальниками назначались жандармские штаб-офицеры.
Так пущена была в ход жандармская машина. В дальнейшем мы познакомимся с отдельными видами ее деятельности. К сожалению, бедная литература по истории тайной полиции особенно бедна по части сведений о «приватной» агентуре III Отделения. Поэтому в настоящий момент мы не в состоянии дать сколько-нибудь точную картину полицейского наблюдения того времени. Но уже по результатам его можно судить, что поставлено оно было довольно примитивно. Исследователи революционного движения 60-х годов, знакомясь со сводками агентурных донесений о революционных деятелях — Лаврове, Чернышевском, — отмечают чрезвычайную скудость шпионских данных. Наблюдение за Чернышевским, по словам А. А. Шилова[1], показывает «низкий уровень агентов… Их донесения не выходили из пределов данных наружного наблюдения или сообщений о „толках и слухах“. Никакой „внутренней агентуры“, дававшей впоследствии столько ценных для охранки сведений, не существовало. Не существовало и настоящих „секретных сотрудников“[2]. Данные „наружного наблюдения“, „толки и слухи“, перлюстрация писем, материалы, получаемые при обысках, и „откровенные показания“ раскаивавшегося или доведенного каким-нибудь способом до „раскаяния“ допрашиваемого, — вот чем располагало III Отделение в начале 60-х гг.».
Если так обстояло дело в 60-х годах, когда жандармерия мобилизовала свои силы для борьбы с поднимающейся революционной волной, то в предшествующую эпоху, гораздо более спокойную, наблюдение было поставлено еще хуже. Постоянные агенты, слонявшиеся по рынкам и трактирам и редко-редко проникавшие в дома так называемого «приличного общества», могли поставлять только материалы «слухов и толков». На помощь им приходили шпионы-добровольцы, но сведения их на 90 % оказывались ложными; чаще всего доносы эти появлялись в результате сведения мелких личных счетов. Впрочем, III Отделение, памятуя, что в хорошем хозяйстве «и веревочка пригодится», никогда не отказывалось от их услуг, хотя наперед знало, что, скорее всего, дело кончится разочарованием. Не приносила значительных материалов и перлюстрация писем: это видно по тем совершенно безобидным письмам, которыми все же интересовались жандармские чины в чаянии хоть какой-нибудь поживы. Что касается постоянного наблюдения, то оно, по-видимому, производилось сравнительно редко и чаще всего работало вхолостую.
Так, например, в мае 1849 года в районе Зимнего дворца стал ежедневно гулять какой-то подозрительный незнакомец. Время было смутное, а место для прогулок было выбрано такое, что переполошилось не только III Отделение, но и все высшие власти. За неизвестным было установлено «наблюдение». 4 мая он на прогулку вовсе не вышел, чем очень смутил Дубельта: уж не скрылся ли? 5 мая он уже был задержан и оказался совершенно безвинным отставным драгунским поручиком. В оправдание своей ретивости Дубельт сообщал: «Кажется, что он несколько расстроен в уме». Но, вероятно, это пустая отговорка: жандармы любили, когда у них не было никакого материала для обвинения, уличать своих жертв в сумасшествии…
Сравнительно слабо по сравнению с последующим периодом организован был и внутренний справочный материал Отделения. В позднее опубликованном отчете за 1828 год Бенкендорф писал: «За все три года своего существования надзор отмечал на своих карточках всех лиц, в том или ином отношении выдвигавшихся из толпы. Так называемые либералы, приверженцы, а также и апостолы русской конституции в большинстве случаев занесены в списки надзора. За их действиями, суждениями и связями установлено тщательное наблюдение». Карточки эти до нас не дошли, но трудно предполагать, чтобы они были составлены сколько-нибудь организованно. Во всяком случае, в сохранившемся до нашего времени большом личном алфавите III Отделения помещены были только те фамилии, которые стояли в заголовках дел. Обычно при столкновении с III Отделением какого-нибудь лица управляющий требовал архивную «справку» о данном обвиняемом или просителе. И если на него специального дела заведено не было, архив отвечал, что сведений нет. Только в 70-х годах был налажен справочный аппарат, использовавший не только обложки, но и содержание делопроизводства.
Систему политического сыска организовать, таким образом, не удалось. Местные представители жандармской власти должны были полагаться на свою наблюдательность, на случайные открытия агентов и, главное, на всемерно поощряемое добровольное доносительство. Этим и объясняется мелочной контроль, установленный жандармами над самыми безобидными проявлениями общественной жизни. Дворянские балы, дружеские пирушки, собрания любителей карточной игры — все это, вплоть до семейной жизни обывателей, бралось под надзор. Поэтому-то жандармская опека и казалась такой трудной русским интеллигентам, а сами жандармы — «всеведущими». Знали-то они действительно многое, но сведения их ограничивались «слухами и толками» и подглядыванием в замочную скважину. И неслучайно произошло, что самое крупное политическое дело николаевского царствования — кружок петрашевцев — было раскрыто не жандармской агентурой, а конкурировавшей организацией — Министерством внутренних дел, в ведении которого оставалась обычная полиция.
Эта конкуренция, сильно затруднявшая действия III Отделения, началась с самого его зарождения. Уже 20 июля 1826 года Фок жаловался Бенкендорфу: «Уверяют, что городская полиция, заметив, что существует деятельный надзор, собирается развернуть все находящиеся в ее распоряжении средства, дабы первой узнавать все, что делается, и будто бы на расходы полиции собственно на этот предмет прибавлено по 300 р. в месяц; говорят даже, что Фогель получит прибавку в 3000 рублей, чтобы иметь возможность следить за всем с большею деятельностью и с большим успехом».
10 августа Фок жалуется снова, на этот раз уже на слежку, установленную городской полицией за его собственной агентурой: «Полиция отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские чиновники, переодетые во фраки, бродят около маленького домика, занимаемого мною, и наблюдают за теми, кто ко мне приходит… Ко всему этому следует прибавить, что Фогель и его сподвижники составляют и ежедневно представляют военному губернатору рапортички о том, что делают и говорят некоторые из моих агентов».
На местах губернские власти соперничали с жандармскими, и обе старательно втыкали друг другу палки в колеса. По положению и обычаю высшим лицом в губернии являлся губернатор. Рядом с ним становился жандарм, действовавший совершенно самостоятельно и при всяком удобном случае многозначительно кивавший на «вверенную ему высочайше утвержденную секретную инструкцию». Оба они, независимо друг от друга, доносили каждый своему начальству обо всем происходящем в губернии. Конечно, виной различных нарушений и непорядков оказывалась противная сторона, и легко себе представить, что от таких столкновений правительство мало выигрывало.
Блестящую и ядовитую характеристику этой конкуренции двух полицейских аппаратов дал Герцен в своем изложении дела петрашевцев.
Честь раскрытия этого общества принадлежала чиновнику Министерства внутренних дел, специализировавшемуся по части политического сыска, действительному статскому советнику И. П. Липранди. Слежка была начата в феврале 1848 года.
Дальнейшие события передаем словами Герцена.
В 1848 году «министр внутренних дел получил уведомление о поведении Петрашевского. Он поселил одного шпиона, в качестве торговца табаком, в доме Петрашевского, чтобы войти в доверие его прислуги, а другого, по фамилии Антонелли, официально причисленного к Министерству иностранных дел, обязали сообщать министерству о заседаниях общества. Счастливый своим открытием, Перовский докладывает о нем государю, но, может быть, вы думаете, что он шепнул об этом и своему коллеге по тайной полиции, графу Орлову? Боже сохрани! Он потерял бы тогда отличный случай доказать царю, что тайная полиция состоит из ничтожеств. Перовский хочет оставить себе одному честь спасения отечества. Поэтому граф Орлов в течение шести месяцев не знает об этом большом деле; Перовский потирает себе руки и ухмыляется. К сожалению, он не может велеть государю хранить тайну: в минуту гнева государь, прежде чем его птицелов успел протянуть все силки, сказал графу Орлову, что у его ищеек нет нюха, что это — сопливые собаки. Оскорбленный в своем самолюбии, граф Орлов собирает сведения и докладывает царю, что министр внутренних дел, чтобы возвысить себя, наговорил его величеству всякого вздора, что дело это совсем не так значительно, как его описывают, что не надо разукрашивать его особенно в глазах иностранцев, и, приняв некоторые патриархальные меры против главных вождей, можно прекратить дело без шума и скандала. Тогда Перовский, боясь, как бы столкновение мнений не выяснило правду, как бы не нашли только зародыш заговора, далеко не достигшего приписываемых ему размеров, и опасаясь, что вследствие этого ему не будет дан в вознаграждение графский титул, упрашивает царя отсрочить арест виновных… Но у государя хватило терпения только на восемь месяцев; статья в „Za Semaine“, которая, обсуждая венгерские дела, говорила, что скоро у царя будет много своих хлопот, была каплей, переполнившей чашу. Царь не внимал убеждениям Перовского и назначил набег в ночь на 23 апреля (5 мая) 1849 года. Взаимное недоверие между начальниками двух полиций было так сильно, что каждый послал своего помощника. Со стороны графа Орлова был генерал Дубельт, а со стороны Перовского — Липранди…
Как только первые подсудимые, в числе 48, были приведены утром в канцелярию графа Орлова, он имел удовольствие убедиться собственными глазами в том, что доклады Перовского были не вполне точны, по крайней мере в смысле личной значительности заговорщиков. Среди обвиняемых, на которых падали самые тяжелые подозрения, был мальчик 14–15 лет, жандармы разбудили его рано утром, и он мирно доканчивал свой сон в зале канцелярии, пока его не разбудил внезапно громкий голос графа Орлова: „Что заставило вас устроить заговор, а?.. Вас слишком хорошо кормили, сукины сыны, вы с жиру беситесь!“ Этот взрыв гнева не был притворством знатного графа; он был искренен, потому что видел перед собой молодых людей, при помощи которых министр внутренних дел чуть было не подставил ему знатную подножку»[3].
В лице Антонелли, действовавшего в кружке петрашевцев, мы сталкиваемся с типичным провокатором. Не гнушалось провокации и III Отделение, но ему редко удавалось применить ее с пользой. Чтобы застращать Николая, жандармы частенько выдумывали «заговоры», но при ближайшем рассмотрении все эти «государственные преступления» оказывались блефом. Появились даже кустари провокации, на собственный риск и страх выдумывавшие «тайные общества». В этом смысле весьма поучительны истории Медокса и Шервуда, которых мы коснемся в следующей главе.
Наш очерк структуры III Отделения был бы неполон, если бы мы умолчали о заграничной агентуре. Дипломатический шпионаж существовал издавна. Агенты его комплектовались преимущественно из иностранцев и давали сведения не только по вопросам международной политики, но освещали и внутреннюю жизнь, и революционное движение европейских государств. Дело это, однако, было распылено по различным ведомствам и только с 30-х годов начинает объединяться в руках III Отделения.
Непосредственным толчком явилось польское восстание 1830–1831 годов и появление польской эмиграции. По словам официального отчета, «с 1832 года начинается ряд командировок чинов III Отделения за границу как для изучения на месте положения дел, так и для приискания надежных агентов и организации правильного наблюдения в важнейших пунктах. Следя за деятельностью польских выходцев, поселившихся в Западной Европе, III Отделение вместе с тем получало точные сведения о внутреннем политическом положении европейских государств, о деятельности и направлении различных политических партий, о силе и настроении правительств и об отношении их к России».
В 40-х годах к польской эмиграции присоединилась эмиграция русская. «Еще в 1843 году III Отделение обратило внимание на деятельность первых русских выходцев: князя Петра Долгорукого и Ивана Головина во Франции и Бакунина в Швейцарии… В 1848 году к числу русских выходцев присоединился и Герцен». Слежка за эмиграцией была поставлена, впрочем, тоже довольно кустарно. В Париже действовал Яков Толстой, разоблаченный уже в 1848 году. В Австрии и Прус сии приходилось больше рассчитывать на содействие местных полицейских учреждений, чем на собственные силы. Возложение же сыщических обязанностей на русских дипломатов не всегда приводило к желанным результатам. Как писал в 1858 году Герцен, «все дельные русские дипломаты ясно понимают, что ничего нет общего между сношениями России с другими державами и вертепом III Отделения. Делать жандармов из послов — изобретение Николая. Поццо ди Борго, Пален и др. старались ему объяснить, что не всякий способен быть Дубельтом. Покойник (т. е. Николай) этого не понимал и с тем изволил отбыть в Петропавловскую крепость».
Жандармы на страже самодержавия
Основной задачей III Отделения была борьба с крамолой: в николаевскую эпоху борьба эта была чрезвычайно облегчена, и III Отделение, при всех дефектах своей организаций, относительно справлялось с работой. Во всяком случае, в это время у жандармов не было крупных политических провалов, и даже в грозный для всей Европы 1848 год Дубельт в письме к находившемуся за границей В. А. Жуковскому мог с удовлетворением констатировать: «У нас все тихо, благополучно, и мы должны благодарить Господа Бога, что он вручил нас такой благодетельной державной деснице».
Этот общественный застой имел вполне ясные для нас общественные причины. Характеризуя выше социальную политику николаевского правительства и самого Николая, поскольку он был немалой спицей в государственной повозке, мы отмечали свойственную этому времени двойственность. Двойственность эта, конечно, вытекала не из каких-нибудь личных качеств императора, а из двойственности, противоречивости основных линий развития николаевской России. Совмещение охранительства и демагогии обусловливалось переходным характером эпохи: «Промышленный капитализм уже был налицо и боролся за власть с торговым, но последний пока был настолько силен, что не шел ни на одну явную уступку, стараясь закупить своего соперника тайными поблажками»[4]. Эта борьба промышленного и торгового капиталов и взаимное их друг к другу приспособление и определяют расстановку классовых сил эпохи.
Если в предшествующий период русское сельское хозяйство интенсивно работало на внешний рынок и помещичье хозяйство начинало поддаваться новым промышленно-капиталистическим формам, то начиная с 20-х годов картина резко меняется. Мировой хлебный рынок очень сильно снизил хлебные цены, и это обстоятельство, вплоть до 50-х годов XIX в., держало русское помещичье хозяйство в плену крепостных отношений. Отсутствие денег в корне пресекало всякие размышления о замене крепостного труда вольным; таким образом, низкие хлебные цены были лучшим оплотом крепостного права, нежели всяческие «крепостнические вожделения» людей, власть имеющих[5]. И дворянство во всей своей массе остается верным престолу, охраняющему устои крепостного права. Если иногда помещику приходится потесниться для промышленника, а иногда поделиться доходом с чиновником, то эти мелкие неприятности могли подвигнуть только на две-три недовольные фразы, конечно, шепотом. Никакой оппозиции правительству, даже пассивной, дворянство не показывает, тем более что находится от него и в прямой материальной зависимости. Когда в 1839 году французский путешественник маркиз де Кюстин, наблюдая нравы российского дворянства, удивился всеобщему раболепию перед престолом, ему объяснили, что большая часть дворянских имений заложена в государственном банке и Николай является не только первым дворянином своего государства, но и первым кредитором своего дворянства. Это — не случайное объяснение, придуманное для любопытствующего иностранца, а официальная точка зрения. III Отделение всерьез полагало, что толчком, побудившим декабристов на террор против царской фамилии, было желание освободиться от своего кредитора. «Самые тщательные наблюдения за всеми либералами, — читаем мы в официальном докладе шефа жандармов, — за тем, что они говорят и пишут, привели надзор к убеждению, что одной из главных побудительных причин, породивших отвратительные планы людей „14-го“, были ложные утверждения, что занимавшее деньги дворянство является должником не государства, а царствующей фамилии. Дьявольское рассуждение, что, отделавшись от кредитора, отделываются от долгов, заполняло главных заговорщиков, и мысль эта их пережила…»
Если отступавшее крепостное хозяйство должно было держаться за свою главную опору — самодержавие, то развивавшаяся промышленность находила в том же правительстве довольно надежного агента. Внешняя политика, таможенные тарифы — все это было направлено на поддержание отечественной индустрии. Русская буржуазия, не бывшая особенно революционной в предшествующую эпоху, тем не менее склонна была выступать против правительства в период своего бурного роста. Капиталисты, конечно, не возражали бы против некоторых буржуазных реформ, но вовсе не склонны были отстаивать их с оружием в руках и удовлетворялись теми компромиссами, которые предлагало им правительство.
Оставались угнетенные классы: крестьяне и рабочие. И на них III Отделение обратило пристальное внимание.
«Исследуя все стороны народной жизни, отделение обращало особенное внимание на те вопросы, которые имели преобладающее значение… Между этими вопросами в течение многих лет первенствующее место занимало положение крепостного населения. Третье отделение обстоятельно изучало его бытовые условия, внимательно следило за всеми ненормальными проявлениями крепостных отношений и пришло к убеждению в необходимости, даже неизбежности отмены крепостного состояния».
Читатель не должен удивляться этому странному на первый взгляд положению: в качестве защитников крестьянского освобождения выступают не вольнодумцы, не декабристы или петрашевцы, а николаевские жандармы, и врагов крепостничества не разжалуют в рядовые, не ссылают в Сибирь, а награждают чинами, орденами и властью. Не ошибка ли? Не приписали ли себе жандармы задним числом (цитированный выше юбилейный обзор относится к 1876 году) участие в реформе, за одни помыслы о которой в начале николаевского царствования ссылали и гоняли сквозь строй?
Нет, все верно. Жандармы действительно пришли к выводу о необходимости реформы, но пришли своим собственным путем. Характеризуя состояние крепостного крестьянства, III Отделение писало уже в самом начале своей деятельности:
«Среди этого класса встречается гораздо больше рассуждающих голосов, чем это можно было предположить с первого взгляда. Приходя в соприкосновение с казенными крестьянами и живя с согласия своих господ в городах, крепостные невольно учатся ценить те преимущества, коими пользуются свободные сословия». По словам шефа жандармов, крестьяне ждут не дождутся воли и готовы к новому бунту. В народных толках поминают имя одного из малоизвестных продолжателей Пугачева, атамана Метелкина, и готовятся к его «возвращению»: «Пугачев попугал господ, а Метелкин пометет их». Предполагать поэтому снижения волны крестьянских волнений не приходится, а «так как из этого сословия мы вербуем своих солдат, оно, пожалуй, заслуживает особого внимания со стороны правительства».
И в дальнейших своих трудах III Отделение не забывало упомянуть, что в массу недовольных входит «все крепостное сословие, которое считает себя угнетенным и жаждет изменения своего положения». А в «нравственно-политическом отчете» за 1839 год Отделение напоминало, что «весь дух народа направлен к одной цели — к освобождению», что «крепостное состояние есть пороховой погреб под государством».
Картина становится ясной. К выводу о необходимости освобождения приводили интересы полицейской безопасности государства, сыгравшие немалую роль и в самой реформе 1861 года. Жандармы слишком часто сталкивались с крестьянскими восстаниями в роли усмирителей, чтобы не понять всей опасности новой пугачевщины. Но вместе с тем крестьянское движение того времени — факт, отмеченный исследователями, — при всей частоте волнений, при всевозрастающем числе убитых помещиков и сожженных усадеб, оставалось распыленным, неорганизованным. Перейти в крестьянскую революцию оно так и не смогло, ни в это время, ни позднее, когда вся русская революционная демократия ожидала массового крестьянского восстания. Этот предел размаха движения ощущался и жандармами, и они никогда не предлагали немедленного раскрепощения, а отмечали только «настоятельность мер переходных, подготовительных». В практической же своей деятельности III Отделение занималось, главным образом, подавлением крестьянских восстаний — в этом деле неизменную роль играли жандармские команды. Правда, в исключительных случаях помещичьей жестокости доставалось и помещикам. В отчете III Отделения со значительным преувеличением говорится: «О всех случаях неповиновения и буйства крестьян, убийства помещиков и управителей или посягательства на убийство, а также жестокого обращения со стороны помещиков немедленно было представляемо государю». На самом деле не только большинство помещиков безнаказанно издевалось над своими рабами, но и значительная доля волнений ликвидировалась местными средствами, не доходя до сведения III Отделения. Равномерность же преследования «буйных» крестьян и жестоких помещиков заключалась в том, что восставших мужиков пороли, ссылали в каторгу и отдавали в солдаты, а доведшего их до исступления барина лишали только права лично распоряжаться своим имением, отдавали в «опеку».
С немалым вниманием относилось Отделение и к впервые появляющемуся в это время на сцене русской истории рабочему вопросу. В этом отношении жандармы оказывались достаточно чуткими и сумели просигнализировать опасность, когда она только еще зарождалась, тем более что рабочие волнения, в общем аналогичные крестьянским бунтам, подчас приобретали своеобразный организационный характер… Так, по данным III Отделения, в 1837 году «на горных заводах Лазаревых в Пермской губернии некоторые мастеровые заводские… составили тайное общество, имевшее целью уничтожение помещичьей власти и водворение вольности между крепостными крестьянами». Вольнодумные мастеровые выпустили даже прокламацию довольно яркого содержания:
«Во всех известных странах не видно таких законов, чтобы граждане государства даны были в неотъемлемое владение таковым же, как и они, людям. Но у нас, в России, напротив, издревле дворянам и гражданам, имеющим капиталы, предоставлено российскими государями полное право иметь своих крепостных людей… с неограниченной властью, не только от самих господ, но и от равных крепостных людей».
Далее рисуется тяжелое положение низших классов, изнывающих под игом обязательного труда в пользу господ, доказывается неосновательность санкционирования этого порядка авторитетом Священного Писания, ибо Бог, создавая людей, хотел, чтобы между ними было равенство; и, наконец, делается ссылка на пример «граждан образованных стран, которые единодушно восстали и сбросили с себя поносное иго невольничества, сделавшись свободными гражданами… Иго рабства в России от времени становится несноснее, и должно полагать, что на будущее время оно будет еще несноснейшим. Из опытов видно, что причина величия государств есть свобода граждан, но в России иго рабства в большой силе: следственно, она никогда не взойдет на степень величия. Почему для блага России и потомства ничего больше не остается делать, как собрать благомыслящих граждан в одно общество, которое бы всячески старалось о ниспровержении власти, присвоивших ее несправедливо, и о ускорении свободы. Для сего-то, благородные сограждане, ниспровергнем соединенными силами невольничество, восстановим свободу и через то заслужим благодарность потомства».
Рабочее тайное общество являлось уже чем-то совершенно новым, и тем суровее, конечно, была жандармская расправа. Но, преследуя рабочих бунтовщиков и тщательно регистрируя все случаи рабочих волнений, жандармы не забывали и необходимости некоторой «социальной профилактики». Недаром в 1835 году был издан первый фабричный закон. Обозревая свою деятельность за период 50 лет, III Отделение с особым удовлетворением отмечало проявленное им внимание к «нуждам рабочего класса».
«В 1841 году, — читаем мы в юбилейном отчете, — была учреждена под председательством генерал-майора Корпуса жандармов графа Буксгевдена особая комиссия для исследования быта рабочих людей и ремесленников в С.-Петербурге. Представленные ею сведения были сообщены подлежащим министрам и вызвали некоторые административные меры, содействовавшие улучшению положения столичного рабочего населения. Между прочим, на основании предположений комиссии, по инициативе III Отделения, была устроена в С.-Петербурге постоянная больница для чернорабочих, послужившая образцом подобному же учреждению в Москве».
Но ни рабочее, ни крестьянское движение не могло занять сколько-нибудь видного места в работе жандармского аппарата. Первое еще только зачиналось, а второе, по самым своим формам, не могло оправдать существования III Отделения. Стихийно возникавшие крестьянские бунты не могли быть предотвращены никаким полицейским надзором, никакой тайной агентурой. В борьбе с массовым движением жандармы выступали либо в качестве усмирителей, либо с мудрыми предложениями мер предосторожности. Центральной же их задачей была борьба с крамолой «образованных классов», как тогда говорили. Но, как мы видели выше, ни дворянство, ни буржуазия в массе своей революционностью не блистали. Рассматривая настроения отдельных групп, жандармы отдавали себе отчет в этом обстоятельстве.
Уже в «обзоре общественного мнения» за 1827 год мы находим картину отношений к правительству различных социальных групп. Помимо непосредственного интереса очерк этот любопытен еще и тем, что дает социальную иерархию жандармского общественного деления.
На первом месте обзор ставит «двор», то есть «круг лиц, из коих собственно и составляется придворное общество». Здесь жандармский надзор отмечает две группы: телом и душой преданных императору и партию «вдовствующей» императрицы. Впрочем, настроение придворных, по справедливому мнению III Отделения, несущественно: «Мнение двора не представляет значения для правительства, так как оно (то есть мнение) не играет никакой роли в обществе».
На втором месте стоит «высшее общество», то есть столичная аристократия и бюрократическая верхушка. Здесь обзор устанавливает довольно грубое деление на две группы: «довольных» и «недовольных». Недовольные — это либо опальные вельможи прежнего царствования, либо же сторонники аристократической конституции на английский манер, члены «английского клуба». Последние кажутся опаснее, но ни те ни другие не представляют сколько-нибудь значительной угрозы в смысле перехода к какому-нибудь действию.
Далее идет «средний класс: помещики, живущие в столицах и других городах, неслужащие дворяне, купцы первой гильдии, образованные люди и литераторы. Этот многочисленный класс, разнородные элементы коего спаяны в одно целое, составляет, так сказать, душу империи». Здесь все обстоит благополучно: «Улучшение настроения и общественного мнения этого класса прогрессирует с поразительной быстротой». Правда, все эти группы имеют свои мелкие жалобы. Помещики и купцы страдают от налоговой политики и денежных затруднений, литераторы недовольны бездеятельностью Министерства народного просвещения. Но основной факт непреложен: «средний класс» является надежнейшей опорой правительства.
Следующей социальной группой, выделяемой «обзором», является чиновничество. Последнее не внушает сколько-нибудь серьезных опасений, но «морально наиболее развращено» и требует попечения с этой стороны. «Хищения, подлоги, превратное толкование законов — вот их ремесло. К несчастью, они-то и правят, и не только отдельные, наиболее крупные из них, но, в сущности, все, так как им всем известны все тонкости бюрократической системы».
В своей борьбе с бюрократизмом III Отделение на словах шло довольно далеко. В «картине общественного мнения за 1829 год» дан разбор всех министерств и министров. В своей критике жандармы, «невзирая на лица», были довольно резки. Так, о министре финансов Канкрине сказано, что он «человек знающий, просвещенный, деятельный и трудолюбивый, но упрямый; он не слушает никого, кроме нескольких любимцев, которые его обманывают». Министр внутренних дел Закревский «деятелен и враг хищений, но он совершенный невежа». Министр народного просвещения — обскурант. Военный министр граф Чернышев «пользуется печальной репутацией: это предмет ненависти публики, всех классов без исключения». Морской министр прямо обвинен в воровстве и т. п. Наряду с характеристикой высших бюрократов жестокой критике подвергается и вся государственная система.
Но, как мы отмечали выше, борьба III Отделения с чиновничеством была исторически обречена на неудачу. Несколькими «показательными» процессами и наказаниями нельзя было остановить все усиливавшийся бюрократизм аппарата. И, сознавая свое бессилие, III Отделение на практике очень мало боролось с чиновничеством, особенно средним и низшим, не приходившим в личные столкновения с центральной жандармской конторой.
Возвращаясь к «обзору общественного мнения», мы находим в нем еще три отдельные группы: армию, крепостное крестьянство и духовенство. В армии сравнительно все хорошо: нельзя, может быть, определенно утверждать, что армия в целом довольна, но надо сознаться, что она «вполне спокойна и прекрасно настроена». Неблагополучно обстоит с крестьянством, жаждущим освобождения, и массой духовенства. Последнее живет почти в одинаковых условиях с крестьянством и заражается его настроениями.
Вся эта картина рисует сравнительно спокойное состояние общества, да так оно и было на самом деле. И единственное черное пятно на безоблачном жандармском небе составляет интеллигентная дворянская молодежь. В ее характеристике автор обзора доходит до пафоса:
«Молодежь, то есть дворянчики от 17 до 25 лет, составляет в массе самую гангренозную часть империи. Среди этих сумасбродов мы видим зародыши якобинства, революционный и реформаторский дух, выливающиеся в разные формы и чаще всего прикрывающиеся маскою русского патриотизма. Тенденции, незаметно внедряемые в них старшинами, иногда даже их собственными отцами, превращают этих молодых людей в настоящих карбонариев. Все это несчастие происходит от дурного воспитания. Экзальтированная молодежь, не имеющая никакого представления ни о положении России, ни об общем ее состоянии, мечтает о возможности русской конституции, уничтожении рангов, достигнуть коих у них не хватает терпения, и о свободе, которой они совершенно не понимают, но которую полагают в отсутствии подчинения. В этом развращенном слое общества мы снова находим идеи Рылеева, и только страх быть обнаруженными удерживает их от образования тайных обществ».
Таким образом, центром оперативной деятельности III Отделения стала слежка за молодежью, которая представлялась наиболее благоприятной почвой для возникновения «тайных обществ». Однако «наблюдение вскоре убедило, что преступные замыслы (имеются в виду декабристы) не оставили в обществе почти никакого следа. Оренбургское дело и ничтожная попытка образования тайного общества в Москве[6] были единственными, можно сказать, исключительными случаями, обратившими на себя внимание Отделения в первые пять лет его существования». С тем большей энергией взялось III Отделение за дело с 1831 года, после польского восстания.
В приведенной выше характеристике «общественного мнения» помимо разреза социального не был забыт и разрез национальный. Правда, вовсе не все народности, населявшие империю, были признаны достойными жандармского изучения. В обзоре упомянуты только прибалтийские провинции, Финляндия и Польша. Хуже всего обстояло с последней, но как раз в Польше III Отделение не имело силы. Там действовала, хотя в значительной степени лишь на бумаге, своя конституция, а наместник, великий князь Константин, относился к жандармам довольно скептически, в польские губернии их не допускал и управлял по собственному разумению. Восстание 1830–1831 годов сразу изменило обстановку. Уже в самом его начале Бенкендорф почувствовал, какую обильную пищу для работы своего учреждения он получает. «У нас эта война будет войной национальной, — писал он великому князю Константину 29 декабря 1830 года, — тем не менее она большое для нас несчастие. Она послужит поощрением для негодяев всяких национальностей и бросит на весы, и без того уже наклоняющиеся в другую сторону, большую тяжесть в пользу мятежа против законной власти».
После подавления восстания польская конституция была уничтожена, и III Отделение распространилось на Польшу. Здесь оно развило энергичную деятельность, перешедшую через границу и приведшую к созданию заграничной агентуры. Списки дел III Отделения пестрят именами поляков, отправляемых на каторгу, в ссылку, бегущих оттуда и вновь попадающих в силки и т. п. Каково было отношение жандармов к польским делам, хорошо иллюстрирует рассказ жандарма Ломачевского, относящийся к его деятельности в виленской следственной комиссии 1841 года. Когда председатель комиссии, изумившись рвению одного из ее членов, полковника Н., спросил его:
— Скажите, полковник, что, по вашему мнению, лучше для государя: не раскрыть вполне преступления или, напутав небылиц, обвинить невинного?
Тот отвечал ничтоже сумняшеся:
— Лучше обвинить невинного, потому что они здесь все виноваты, ракальи.
«Между тем как польские провинции вызывали усиленную деятельность III Отделения в политическом отношении, внутренние, чисто русские области империи оставались по-прежнему спокойными и не возбуждали ни малейших опасений». Действительно, за весь период от декабристов до петрашевцев жандармам не довелось раскрыть ни одного сколько-нибудь крупного революционного дела. Оренбургское дело Колесникова, дело братьев Критских, дело Ситникова, кружки, связанные с именами Сунгурова, Герцена и Огарева, Кирилло-Мефодиевское общество — и все. Ни одна из этих организаций не успела начать революционные действия, а некоторые вовсе не собирались к таковым приступать. Кроме того, не все эти общества были раскрыты непосредственно III Отделением.
С одной стороны, это положение было для жандармов чрезвычайно отрадным. Спокойствие общества позволяло работать без излишней спешки и волнений и приобретать чины и ордена без особого риска и невзгод. Но, с другой стороны, нужно было проявлять деятельность, а наиболее важного поприща — политического движения — как раз и не хватало. Поэтому то немногое, что находилось, раздувалось донельзя. Жестокие наказания постигали невинных студентов, за чаркой вина спевших оппозиционную или просто непристойную песню. Все, что чуть-чуть выходило за рамки дозволенного, превращалось в страшное преступление, но не только потому, что «у страха глаза велики», но и потому, что других преступлений вовсе не было, а обходиться без «государственных преступников» III Отделению было неприлично. Правда, изрядную работу доставляли разбросанные по различным тюрьмам декабристы и, позднее, поляки. На каждого было заведено особое дело, каждый рассматривался как бациллоноситель. Но вся эта слежка, хотя и требовала времени и усилий, уже не могла принести сколько-нибудь значительные результаты. И жандармы хватаются за каждое сообщение, каждый слух о тайном обществе или заговоре, а ловкие авантюристы-провокаторы используют и жандармское рвение, и страх императора перед революцией. Николай не оставлял без внимания ни одного политического доноса, особенно связанного с декабристами или поляками, как бы ни был нелеп такой донос.
Так, в 1835 году некий Луковский, приехавший из Англии, сообщил, что в Англии существует два тайных общества: одно — русское, образовавшееся после 14 декабря, а другое — польское, возникшее после восстания 1831 года. Он, Луковский, состоит членом этих обществ. Оба они действуют в контакте и предполагают начать в России широкую пропаганду. Для этого печатается соответствующая литература, полная ненависти к России и русскому престолу, и литературу эту будут переправлять в Россию по маршруту Индия — Персия — Грузия — Астрахань. При всем том Луковский ни одной фамилии не называл и, как полагалось во всех таких случаях, просил дать ему денег для раскрытия злого умысла.
Нелепость доноса была очевидна: после 14 декабря неоткуда было взяться в Англии тайному обществу, а невозможный в ту пору и придуманный лишь для вящего эффекта маршрут сразу обнаруживал мнимость предприятия. Николай, как он ни боялся призрака революции, догадался, что его обманывают, и на докладе по доносу Луковского положил резолюцию: «Все это очень неясно, нет ни одного положительного указания; во всем этом правда только ненависть к нам англичан». Однако тут же смутился — не проворонит ли он таким манером заговора — и приписал: «Впрочем, в наш век нельзя ничего оставлять без внимания».
Пользуясь мнительностью императора, III Отделение давало ход таким делам и провокациям, фальшивость которых наиболее умные жандармы, как Фок или Дубельт, должны были понимать. Недаром про Дубельта говорили, что он «выдумывает заговоры, чтобы пугать постоянно правительство и этим доказывать свою необходимость». Если Дубельт сам заговоров и не выдумывал, то он не препятствовал другим измышлять их. Дела III Отделения полны доносов о «государственных тайнах» и «злоумышлениях против императора», которые после расследования оканчивались впустую. Эти доносы наконец утомили самих жандармов, и они стали наказывать неудачливых доносчиков. Тем не менее провокаторы не унимались, и в нашем очерке николаевской жандармерии мы должны найти место и для них. Для примера приведем истории двух провокаторов: Медокса и Шервуда. Это фигуры, очень характерные для своего времени, крупные по размаху и к тому же сравнительно хорошо освещенные в нашей литературе.
Роман Медокс, сын содержателя театра, начал свои подвиги еще в александровскую эпоху. В 1812 году, имея от роду всего 17 лет, он воспылал неумеренной любовью к отечеству и, прельстясь мыслью явиться «подражателем Пожарскому, Палицыну и Минину», решил на собственный риск и страх и, конечно, на казенный счет составить самостоятельное ополчение горских народов Кавказа. Для этого подвига он сфабриковал себе документы на имя адъютанта министра полиции, поручика конной гвардии, флигель-адъютанта Соковнина, выдал себе неограниченные полномочия от военного министра, а также соответствующие предписания министра финансов на предмет финансирования его предприятий и, вооружившись всем этим, явился в начале 1813 года на Кавказ, где развил сразу же самую энергичную деятельность. Получив по предъявленному им подложному предписанию 10 000 рублей, он принялся за объезд кавказской военной линии, обозревал укрепления, устраивал смотры, словом, «ревизовал»; узнав же, что местные власти в служебном рвении поспешили донести своим начальникам об успешном выполнении полученных через него распоряжений, он не только не смутился, но даже послал министру полиции самостоятельный рапорт о своих действиях с присовокуплением приватного письма, в котором он настойчиво просил подтвердить все его поступки и полномочия.
Вязьмитинов не обладал, по-видимому, ни чувством юмора, ни умением ценить птицу по полету. Он не внял настояниям Медокса, и последний поплатился за свои проделки тринадцатилетним знакомством сначала с Петропавловской, а потом с Шлиссельбургской крепостью. Впрочем, выпущенный на свободу, Медокс очень скоро заручился доверием III Отделения и, присоединив к своим старым приемам еще и провокацию, показал большой размах и инициативу.
В 1829 году Медокс, в чине рядового, очутился в Иркутске, где тогда служил городничим А. Н. Муравьев, осужденный по делу декабристов и затем помилованный, но оставшийся под сильным подозрением и окруженный шпионами. К последним присоединился и Медокс, втершийся в дом к Муравьеву, прикинувшись влюбленным в сестру его жены.
Наблюдая за Муравьевым и его домашними, Медокс заметил, что они поддерживают нелегальные сношения с Петровским заводом, где находились осужденные декабристы. Донеся об этом в III Отделение, Медокс решил продолжить деятельность такого рода и в 1832 году соорудил провокацию большого масштаба.
По его словам, среди нелегальной переписки декабристов, шедшей через дом Муравьева, ему удалось случайно найти шифрованные письма. Разобрав шифр, он узнал, что в обеих столицах существует обширное тайное общество «Союз великого дела», поставившее своей задачей продолжить дело декабристов и находящееся в постоянных сношениях с Петровским заводом. Для большей важности Медокс, следуя своему старому рецепту, сфабриковал по выдуманному им шифру письмо от имени декабриста Юшневского. В письме этом Юшневский рассуждал о делах нового общества, и важность находки, таким образом, становилась несомненной.
Запуганное призраком революции, правительство попалось на удочку и после различных прений и совещаний отправило к Медоксу специального посланца, ротмистра Вохина. Тот устроил Медоксу поездку в Петровский завод, где, пользуясь знакомством с женой Юшневского, Медокс должен был вступить в сношения с заговорщиками. Медокс перезнакомился с петровскими декабристами, а по возвращении представил Вохину подробный дневник своего путешествия, конечно подтверждавший существование заговора. В качестве же вещественного доказательства он сфабриковал специальный «купон», который должен был ему, как члену «Союза великого дела», открыть доступ к столичным кругам тайного общества.
Затем Медокс отправился в Петербург, где дал личные показания Бенкендорфу, а оттуда в Москву, где он должен был явиться со своим «купоном» к матери декабристов Е. Ф. Муравьевой. III Отделение начало уже расследование по его доносам, а он тем временем жуировал в Москве и на напоминания приставленного к нему жандармского генерала отвечал сначала различными неопределенными обещаниями, а потом самыми бессмысленными доносами на совершенно лояльных людей. Однако и эти доносы принимались во внимание. Между тем Медокс успел выгодно жениться и, захватив женино приданое, внезапно исчез из Москвы, где упомянутый генерал начал докучать ему своими требованиями разоблачений и явно уже подозревал его в обмане.
Похлестаковствовав некоторое время в провинции и истратив все деньги, Медокс вернулся в Москву, где и был выдан семьею жены. Тут уже не помогли никакие новые доносы и «разоблачения». Ему пришлось сознаться в подлогах и вторично надолго осесть в Шлиссельбургской крепости.
В том же духе, хотя и с иными деталями, история Шервуда. Отличившись в деле декабристов, где он, ничтожный унтер-офицер, сумел организовать самостоятельную провокаторскую интригу, Шервуд с самого начала царствования Николая I был осыпан почестями и милостями. Он был произведен в офицеры, пожалован дворянством, получил приставку к фамилии — «Верный» и, наконец, привлечен к трудам III Отделения. В 1827 году он получил ответственную командировку на юг с тайной миссией обследования умов и толков южных губерний. Чувствуя себя героем дня, Шервуд держал себя на юге так вызывающе и настолько превысил свои «ревизорские» полномочия, что должен был прекратить командировку и отправиться «к водам» на Кавказ. Тем не менее осенью 1829 года он оказался в Киеве, и здесь его деятельность приняла явно провокационный характер. Он завел собственную полицию, распространив ее на ряд соседних губерний, разослав каких-то подозрительных агентов, и готовил новое «тайное общество». Зная слабую сторону правительства, он хотел создать это общество из остатков декабристов и масонских организаций. Для этого он окутывал шпионской сетью и родственников декабристов, живших в тех краях, и таких вельможных дам, как сестра князя Голицына или графиня Браницкая. Держал он себя с подобающей важной особе таинственностью и только намеками давал понять о серьезности порученных ему дел. Все бы могло сойти хорошо, если бы жандармский подполковник Рутковский не почувствовал, что интриги Шервуда могут отозваться на его собственной карьере, и не настрочил в Петербург доноса, в котором он приводит и некоторые неосторожные фразы Шервуда по адресу шефа жандармов. Бенкендорф лишил Шервуда своего покровительства, и на этом его жандармская служба остановилась.
Тогда Шервуд стал на путь уголовных афер, но и в этом деле наткнулся на сопротивление III Отделения. Все его доносы, все попытки провокаций оставались безрезультатны. Наконец, он даже был выслан из столицы. И тогда он поставил последнюю ставку. Он отправил великому князю Михаилу Павловичу обширный донос на недостатки государственного аппарата и на продолжающуюся деятельность декабристов и польских революционеров.
«Кто же, — взывает охваченный гражданской скорбью Шервуд, — допустил все это зло, все эти беспорядки, все эти адские замыслы, все то лихоимство? Ведь в начале царствования был учрежден Корпус жандармов, который должен был сосредоточить все моральные силы империи, лучших людей государства, соединявших высокие нравственные качества с беспредельной преданностью царю и отечеству. В том-то и оказывается корень зла, что в III Отделение проникли ненадежные люди, а главенство в нем захватил обольстивший Бенкендорфа Дубельт; этот человек, всегда бывший против правительства, едва ли не во всех обществах, из III Отделения сделал место, которому дали название — факторская контора. Надо томы написать, чтобы исчислить все мелочные дела, разобранные III Отделением, и смело можно сказать: много Высочайших повелений вышло без воли Государя. Весь Петербург можно спросить, ибо все знали, что если нужно было, по какому бы то ни было делу, исходатайствовать Высочайшее повеление, то стоило только адресоваться к полковнице Газенкампф, которая, будучи довольно снисходительна в цене, всегда была верна в своем слове; генерал-майор Дубельт проживал всегда в год более 100 т[ысяч] рублей, сверх того прикупал имение». И покуда такие люди, как Дубельт, сидят у самых истоков власти, а без лести преданные Шервуды находятся в изгнании, до тех пор не воцарится на Руси порядка и она все более и более будет погружаться в бездну гибели.
Старый провокатор вступил в бой с самим III Отделением, но бой оказался неравный. Любопытна судьба доноса. Великий князь Михаил переслал его… Дубельту. И тот, запрятав Шервуда в Шлиссельбург, вместе с тем произвел расследование о названных в доносе лицах и представил Николаю обширное оправдание как в своих собственных делах, так и в отношении работы III Отделения. Отрывок из этого оправдания мы приводим как образчик того, в какой мере были искренни жандармы в своей борьбе с бюрократическим аппаратом.
«Столь преувеличенное описание злоупотреблений само собой обнаруживает неосновательность доноса. Зло существует в частности, но везде преследуется при обнаружении оного. Покровительства или даже послабления злу решительно нет и быть не может. Если министры и другие власти не искореняют вовсе беспорядок и не доводят вверенных им частей до полного совершенствования, то или потому, что для сего не созрели обстоятельства, или потому, что иные злоупотребления, по общему порядку вещей, всегда будут существовать и существуют у всех народов. При благоразумном взгляде и при справедливой уверенности в суждении, можно сказать, что в России по судебной и административной частям нет общих вопиющих притеснений и злоупотреблений; благонамеренные люди более довольны настоящим положением вещей и спокойно ожидают улучшений в будущем времени; а всем недовольны одни те, которые, по своему беспокойному характеру или неблагоразумию, будут недовольны при всяком положении дел».
Мы познакомили читателя с похождениями Медокса и Шервуда, чтобы показать, как легко было в николаевское время устраивать провокации, подводить людей под суд и следствие, получать деньги, ревизовать, имея вместо положительных данных только достаточную долю фантазии. Причины этих явлений обрисованы выше: общественное движение первых десятилетий николаевского царствования было чрезвычайно слабо.
Единственным местом его проявления была литература, и с нею жандармы на первых порах бороться умели. Но когда в 50-х годах поднялась новая революционная волна, волна демократической революции, жандармы оказались бессильны против нее, и прошло много времени, прежде чем они научились распознавать ее отличительные особенности.
Жандармы и литература
Вступая в управление Российской империей, жандармы твердо рассчитывали на «превосходное настроение» русских литераторов. Тем не менее на этом пути уже скоро начинаются разочарования. Писатели оказываются склонными к либерализму, а литература, даже в руках благонамереннейших журналистов, состоящих на службе в самом III Отделении, может развращать умы и способствовать развитию революционных идей. И с самого своего возникновения жандармское ведомство не перестает следить за литературой в самых разнообразных ее проявлениях.
Еще в период следствия над декабристами правительство попыталось установить своих возможных идейных врагов. Каждому члену тайного общества неизменно предъявлялся вопрос: «С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей, то есть от общества ли, или от внушений других, или от чтения книг и сочинений в рукописях, и каких именно?» Обычно декабристы в ответ на этот вопрос ссылались на иностранных философов, экономистов и публицистов, на личное знакомство с западными конституциями и т. п. Припоминая же подпольную революционную литературу, называли стихи Пушкина, ходившие по рукам и воспламенявшие молодых романтиков вольности.
Отсюда сделан был вывод: нужно усилить цензуру иностранных книг, запретить поездки за границу и печатание в русской прессе сведений об общественной борьбе на Западе, а также покрепче присматривать за А. С. Пушкиным.
«У членов следственной над декабристами комиссии, — пишет исследователь „полицейской“ стороны биографии Пушкина, — уже под влиянием одних этих ответов должно было сложиться определенное впечатление о Пушкине как об опасном и вредном для общества вольнодумце, рассеивавшем яд свободомыслия в обольстительной поэтической форме. С такою же определенной репутацией человека политически неблагонадежного и зловредного должен был войти поэт и в сознание одного из деятельнейших членов упомянутой комиссии — известного генерал-адъютанта Бенкендорфа; такое же представление сложилось о нем и у самого императора Николая I, — как известно, ближайшим и внимательнейшим образом наблюдавшего за ходом следствия и показаниями привлеченных к нему и входившего во все подробности дела. Поэтому нет ничего удивительного в том, что когда вскоре за тем, 25 июня и 8 июля 1826 года, были учреждены Корпус жандармов и III Отделение собственной его величества канцелярии, заменившее особую (полицейскую) канцелярию Министерства внутренних дел, то Пушкин естественным образом и как бы по наследству сразу вошел в круг клиентов новых учреждений „высшей полиции“. Внесенный, конечно, и ранее в списки лиц, бывших под надзором особой канцелярии и ее агентов, как человек, заслуживающий нарочитого внимания, Пушкин сразу сделался предметом особенных попечений»[7].
За Пушкиным следили все — от мелких тайных агентов вроде поэта С. И. Висковатова, сообщавшего, что Пушкин, живя в Псковской губернии, «проповедует безбожие и неповиновение властям», до самого «коренного жандарма» Николая I, милостиво взявшего на себя труд быть «цензором» поэта. С 1826 года все литературные и жизненные нужды поэта разрешались в канцелярии III Отделения. Туда представлял он свои стихи, смиренно повинуясь требованиям исправлять их согласно политической и эстетической указке Николая и Бенкендорфа; в III Отделении испрашивал он разрешения на путешествия, на женитьбу… Все последние годы своей жизни должен был он отбиваться от доносов различных литературных шпионов, стремившихся уличить его в революционных происках. Недаром любивший «шипенье пенистых бокалов» поэт сравнивал жженку с Бенкендорфом, «потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок».
Непосредственный надзор за Пушкиным был, однако, явлением исключительным, как исключительно было и значение самого поэта. В основном III Отделение занималось не столько писателями, сколько литературой, и в этом направлении развило большую деятельность.
В предыдущей главе мы указали причины слабости общественного движения в николаевскую эпоху. Эти же причины отразились и на характере литературной жизни. Журналы, впоследствии игравшие такую видную роль в деле идейного вооружения революционной интеллигенции, в 20–30-х годах представляют картину полной общественной пассивности. Ставка на провинциального помещика, на городского обывателя, полемика с целью отбить подписчиков, материал для легкого чтения, беззастенчивая погоня за коммерческой выгодой, безудержная самореклама — вот черты, характерные для журналистики 30-х годов. На этом фоне идейные моменты стушевывались, даже если они, как то было в «Московском телеграфе» Полевого, и присутствовали. Никакой общественной борьбы, никакого сознательного протеста в печатной литературе того времени мы не найдем. Перед нами либо беспринципность, либо открытое угодничество перед властью, славословие царя и пресловутых основ русской государственности — «самодержавия, православия и народности».
Но вместе с тем литература могла явиться и, как мы знаем, в 40-х и 50-х годах и явилась поприщем, на котором концентрировались силы новой социальной группы — мелкобуржуазной демократической интеллигенции. И жандармы, лучше многих современников отдававшие себе отчет в направлении общественного развития, прекрасно учитывали потенциальную силу литературы. Надлежало эту силу обуздать; для этого применены были в основном два метода: цензура и литературный шпионаж.
В предшествующее время цензура существовала на основании сравнительно либерального устава, благодаря чему в печать проникали относительно вольнодумные произведения. В первый же визит министра народного просвещения А. С. Шишкова к новому государю Николай распорядился составить новый цензурный устав. Окончательно цензурный устав был утвержден в 1828 году. Цензура, формально оставаясь в ведении Министерства просвещения, фактически была поставлена под контроль III Отделения. Цензоры не только должны были преследовать все, почему-либо показавшееся им подозрительным, но становились прямыми агентами жандармерии. В особых наказах цензорам было установлено, что «когда бы представлены были кем-либо на рассмотрение цензуры книга или художественное произведение, клонящиеся к распространению безбожия или обнаруживающие в сочинителе или художнике нарушителя обязанностей верноподданного, то о сем немедленно извещать высшее начальство для учреждения за виновным надзора или же и предания его суду по законам». Высшее начальство — это, разумеется, III Отделение.
Отдельными распоряжениями из ведения обычной цензуры изымались то те, то другие литературные отрасли, передававшиеся в исключительное подчинение III Отделения. Между Министерством народного просвещения и шефом жандармов завязалась даже некоторая борьба, с неравными, впрочем, силами. III Отделение с удовольствием регистрировало все промахи и ошибки цензуры и доводило о них до высочайшего сведения. Отсюда уже летели выговоры министру, аресты и отставки цензорам и т. д. Помимо соображений общеполитических принимались во внимание и личные обиды высокопоставленных особ. Цензура должна была следить за всеми злободневными намеками, чтобы в них не содержалось какой-нибудь «личности». Запуганные и погоняемые жандармским кнутом, цензоры закусили удила; стали придумываться самые диковинные и неожиданные возражения против представлявшихся книг и статей. В самых невинных произведениях искали скрытый противоправительственный смысл.
Образцом бессмысленной придирчивости может служить сентенция Николая I о статье известного впоследствии славянофила И. В. Киреевского «Девятнадцатый век». 7 февраля 1832 года Бенкендорф сообщил по этому поводу министру народного просвещения князю Ливену: «Государь Император, прочитав в № 1-м издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием „Европеец“ статью „Девятнадцатый век“, изволил обратить на оную особое свое внимание. Его Величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе. Но стоит обратить только некоторое внимание, чтобы видеть, что сочинитель, рассуждая будто бы о литературе, разумеет совсем иное; что под словом „просвещение“ он понимает свободу, что „деятельность разума“ означает у него революцию, а „искусно отысканная середина“ не что иное, как конституция. Посему Его Величество изволит находить, что статья сия не долженствовала быть дозволена в журнале литературном, в каковом воспрещено помещать что-либо о политике, и как, сверх того, оная статья, невзирая на ее наивность, писана в духе самом неблагонамеренном, то и не следовало цензуре оной пропускать».
Журнал «Европеец» был закрыт. Через шесть дней было отдано общее распоряжение, чтобы при разрешении новых журналов представлялись «обстоятельные сведения о способностях издателя и его благонадежности», то есть, иначе говоря, жандармские справки; сам же Киреевский был отдан под полицейский надзор.
Не нужно было быть Николаем, чтобы прочесть в «деятельности разума» революцию, а в «искусно отысканной середине» конституцию. В подобном чтении упражнялись, с таким же успехом, рядовые цензоры. В исторической литературе собраны десятки курьезов, свидетельствующих о поразительном тупоумии и невежестве николаевских цензоров-жандармов и просто цензоров. Мы не будем утомлять читателя пересказом всех этих курьезов и приведем лишь один, ставший классическим.
Рядовой стихотворец 30-х годов Олин написал лирические «Стансы к Элизе», попавшие на просмотр к цензору Красовскому, который не только запретил стихотворение, но обосновал еще это запрещение критическим рассуждением. Автор, стремясь к своей возлюбленной, мечтает о том, чтобы быть при ней постоянно и «улыбку уст ее небесную ловить». По этому поводу цензор сделал примечание: «Слишком сильно сказано! Женщина недостойна того, чтобы улыбку ее называть небесною». Лирические строки:
Что в мненьи мне людей? Один твой нежный взгляд Дороже для меня вниманья всей вселенной —отмечены следующим соображением: «Сильно сказано; к тому же во вселенной есть и цари, и законные власти, вниманием которых дорожить должно»; а желание автора уединиться с милой в пустыню было расценено цензором как отлынивание от государственной службы. «Сверх сего, — писал Красовский, — к блаженству можно приучаться только близ Евангелия, а не женщины».
Правда, Красовский выделялся даже в рядах николаевской цензуры. «Человек с дикими понятиями, фанатик и вместе лицемер, всю жизнь гасивший просвещение», — так характеризует Красовского другой, более либеральный цензор, Никитенко, автор известного «Дневника». Но Красовский был только наиболее ярким выражением системы. Как еще мог вести себя цензор, когда, по сообщению того же Никитенко, цензоры получали выговоры за то, что в журнальной статье «святая» была названа «представительницей слабого пола».
Если в таком положении была беллетристика, то легко себе представить, в каком виде доходили до русского читателя статьи публицистического порядка и политическая хроника. Газет, кроме официальных и официозных, не было. В журналах политические статьи пропускались лишь при условии абсолютной благонамеренности. Когда в 1830 году произошла июльская революция во Франции, о ней напечатаны были две заметки, изобразившие революцию как добровольный отъезд короля; а когда в 1837 году в «С.-Петербургских ведомостях» была напечатана статья о покушении на жизнь французского короля Луи Филиппа, Бенкендорф немедленно уведомил министра народного просвещения, что считает «неприличным помещение подобных известий в ведомостях, особенно правительством издаваемых, которые расходятся в столь большом количестве между средним классом людей». Цензура избегала вообще всяких печатных упоминаний о царях, запрещала выражения вроде «король скончался», не позволяла упоминать о революциях, республиках и т. п. По словам Никитенко, он однажды не выдержал и предложил во время обсуждения в цензурном комитете статьи о 18-м брюмера следующий вопрос: «Должны ли мы французскую революцию считать революцией, и позволено ли в России печатать, что Рим был республикой, а во Франции и Англии конституционное правление, или не лучше ли принять за правило думать и писать, что ничего подобного на свете не было и нет?»
Остальные цензоры с ученым видом согласились, что «историю и статистику нельзя изменять», и статью пропустили, исключив только выражение «добрые французы» на том основании, что «во Франции тогда не могло быть ни одного доброго человека».
При всем том охранители считали, что цензура еще недостаточно деятельна. Собственно защитников свободы печати мы среди деятелей 30-х годов не найдем. Даже Пушкин, так жестоко страдавший от цензуры и не менее жестоко ее высмеивавший, писал в своем втором послании к цензору:
Будь строг, но будь умен. Не просят у тебя, Чтоб, все законные преграды истребя, Все мыслить, говорить, печатать безопасно Ты нашим господам позволил самовластно.Тот самый Никитенко, который возмущался тупоумием цензуры, искренно считал, что нельзя печатать на русском языке записки Флетчера о Москве XVI века, потому что читатель сможет провести аналогию между управлением Ивана Грозного и Николая I. Нечего и говорить, что консерваторы-крепостники не только не протестовали против цензуры, но обвиняли ее в попустительстве. Видный представитель николаевской бюрократии, сенатор Н. Г. Дивов, подводя в своем дневнике итог истекшему 1832 году, записал: «Министерство народного просвещения не обладало достаточной энергией, чтобы обуздать периодические издания, содержания самого антимонархического и противного самодержавию. Тайная полиция с ее явными и тайными цензорами, с своей стороны, действовала в сем важном случае весьма вяло. Сам граф Бенкендорф как будто находился под обаянием этих писак; можно опасаться последствий этой небрежности».
Таким образом, ни «высшее общество», ни «средний класс», ни сами писатели, по существу, не протестовали против полицейской организации цензуры. Наоборот, некоторые литераторы даже предпочитали переходить под непосредственный контроль III Отделения, рассчитывая на большую независимость и меньшую осведомленность жандармов по сравнению с обычными цензорами. И, как правильно замечает М. К. Лемке, «самое нахождение массы писателей николаевского времени в рядах цензоров (Сенковский, Аксаков, Вяземский, Глинка, Тютчев, Никитенко, Очкин и др.) служит разительным доказательством» отсутствия разногласий между литературной средой и жандармским начальством.
Эту в общем охранительную позицию литературы жандармы отлично понимали. Поэтому при сравнительно большом числе запрещений отдельных произведений мы находим в практике III Отделения не так много преследований самих литераторов. Жандармы полагались на добросовестность писателей и знали, что если сегодня Кукольнику сделать выговор за рассказ, в котором он «выказывает добродетель податного состояния и пороки высшего класса», то завтра тот же Кукольник постарается и состряпает что-нибудь настолько патриотическое, что удостоится высочайшего поощрения и бриллиантового перстня. Поэтому выговоры делались всем, вплоть до Булгарина, а к наказаниям прибегали только в исключительных случаях. Эта уверенность жандармов в «общем благополучии» впоследствии помогла вышедшей в 40-х годах фаланге демократической литературы пережить николаевское время. Усматривая в статьях Белинского призывы к «социализму и коммунизму», III Отделение не считало, однако, возможным обвинить его в сочувствии этим идеям. «Нет сомнения, что Белинский и Краевский и их последователи пишут таким образом единственно для того, чтобы придать больший интерес статьям своим, и нисколько не имеют в виду ни политики, ни коммунизма; но в молодом поколении они могут поселить мысли о политических вопросах Запада и коммунизме».
Без учета этой точки зрения III Отделения на литераторов и литературу нельзя понять и особенностей организации литературного шпионажа. III Отделение очень охотно принимало в число своих агентов писателей. При этом имелось в виду, что сотрудники такого типа стоят значительно выше обычных шпионов и по квалификации, и по общественному положению. Агенты эти выполняли не только литературные функции, но должны были и сигнализировать общественные настроения различных кругов. Что же касается литературы, то в этом отношении литераторы помогали и как осведомители, и как добровольные цензоры. Во главе литературной агентуры стояли известные журналисты Греч и Булгарин. Они были наиболее осведомленными и вместе с тем самыми усердными сотрудниками, буквально заваливавшими III Отделение доносами, рассуждениями, предложениями и т. п. Знакомясь с этого рода деятельностью «братьев-разбойников», как называли Греча и Булгарина в литературной среде, мы, однако, с удивлением замечаем, как мало внимания уделяли жандармы их писаниям. Если бы все их доносы, тайные и явные, посланные в жандармерию и напечатанные на страницах их изданий, принимались во внимание, то в России не осталось бы, пожалуй, ни одного сколько-нибудь видного писателя. Очевидно, жандармы понимали, что Булгарин и Греч руководятся не только верноподданническими чувствами, но под шумок сводят счеты со своими конкурентами и литературными противниками… Знало III Отделение также, что шпионская деятельность друзей-журналистов общеизвестна и что никто не станет доверять им политических тайн. Но пользовались услугами, так как люди они были старательные и осведомленные и в борьбе жандармов с возможным литературным злом могли пригодиться. Иногда же выговоры получали и они сами; это было даже целесообразно с точки зрения общественной популярности. Так, Герцен 5 апреля 1843 года с удовольствием занес в свой дневник: «Греч подавал донос на „Отечественные записки“, и III Отдел[ение] собств[енной] канцелярии, отвергнув его с презрением, написало ему полный ответ. Литератор, уничтоженный, замятый в грязь Дубельтом!»
Литераторы в жандармской службе нужны были также и в целях воздействия на общественное мнение. III Отделение очень часто заказывало патриотические статьи и книги, диктовало освещение политических событий в периодической печати. Когда в 1846 году, по недосмотру Булгарина, в «Северной пчеле» была помещена баллада графини Ростопчиной «Насильный брак», изображавшая отношения между Россией и Польшей, Нестор Кукольник, по заказу III Отделения, изготовил стихотворный же ответ. В этом смысле III Отделение действовало довольно тонко, и читатели только могли изумляться, почему либеральные «Отечественные записки» вдруг разражаются урапатриотической статьей: на самом деле такие статьи писались «по рекомендации» III Отделения.
Немалый интерес проявляли жандармы и к европейской печати. Об оценке русских событий на Западе начали думать сразу после декабрьского восстания. В соответствующем духе информировались западные газеты, а сразу после казни декабристов была изготовлена брошюра на немецком языке, излагавшая историю восстания с официальной точки зрения. С начала 30-х годов в Германию, Австрию и Францию направляются специальные чиновники «с целью опровергать посредством дельных и умных статей грубые нелепости, печатаемые за границею о России и ее монархе, и вообще стараться противодействовать революционному духу, обладавшему журналистикой». На этой почве отчасти и зародилась заграничная агентура, о которой мы говорили выше. Первый заграничный шпион III Отделения, Яков Толстой, и начал свою службу литературной защитой русского престола. Впоследствии этот способ обработки западного общественного мнения, вместе с подкупом иностранных изданий, вырос в целую систему.
Как мы сказали, политических гонений против литераторов непосредственно III Отделение воздвигало немного. Обычно ограничивались запрещением неудачливому автору писать, да и эти запрещения было сравнительно нетрудно ликвидировать. Просматривая хронику взаимоотношений николаевских жандармов и литературы, мы находим только три громких политических дела. Из них самым значительным нужно признать эпизод с напечатанием Надеждиным в 15-й книжке «Телескопа» за 1836 год знаменитого «Философического письма» П. Я. Чаадаева. Надеждин, редактор издания, не заметил социальной направленности «письма», автор которого, жестоко обличая русское прошлое, тем самым делал выводы и для настоящего. По мнению Чаадаева, Россия не имеет истории, потому что ее не коснулась цивилизация. В России нет ни долга, ни закона, ни правды, ни порядка. «Отшельники в мире, мы ничего ему не дали, ничего не взяли у него; не приобщили ни одной идеи к массе идей человечества; ничем не содействовали совершенствованию человеческого разума и исказили все, что сообщило нам это совершенствование. Во все продолжение нашего общественного существования мы ничего не сделали для общего блага людей: ни одной полезной мысли не возросло на бесплодной нашей почве».
Чаадаев, конечно, далеко недооценивал пройденного Россией исторического пути. Но дело не в этом. Нельзя было резче разойтись с официальной точкой зрения, считавшей, что «прошлое России изумительно, настоящее более чем превосходно, а будущее не поддается описанию». Письмо Чаадаева, по словам Герцена, было «выстрелом, раздавшимся в темную ночь», и, конечно, разбудило ночных стражей. Поднялась, как выражается Никитенко, «ужасная суматоха». «Телескоп» был запрещен, цензор Болдырев отставлен от службы, а редактор Надеждин сослан в Усть-Сысольск. Что касается Чаадаева, то к нему была применена резолюция Николая: «Прочитав статью, нахожу, что содержание оной — смесь дерзостной бессмыслицы, достойной умалишенного…» Жандармы не могли примириться с тем, чтобы российский дворянин и отставной гвардии ротмистр мог в здравом уме и твердой памяти признать все прошлое и настоящее России никуда не годным. Решено было… считать Чаадаева сумасшедшим! В этом смысле и было составлено отношение Бенкендорфа к московскому военному генерал-губернатору князю Голицыну. Отношение это мы приводим целиком как непревзойденный образчик жандармского лицемерия: «В последневышедшем № 15-м журнала „Телескоп“ помещена статья под названием „Философические письма“, коей сочинитель есть живущий в Москве г. Чеодаев. Статья сия, конечно, уже Вашему сиятельству известная, возбудила в жителях московских всеобщее удивление. В ней говорится о России, о народе русском, его понятиях, вере и истории с таким презрением, что непонятно даже, каким образом русский мог унизить себя до такой степени, чтоб нечто подобное написать. Но жители древней нашей столицы, всегда отличающиеся чистым, здравым смыслом и будучи преисполнены чувством достоинства русского народа, тотчас постигли, что подобная статья не могла быть писана соотечественником их, сохранившим полный свой рассудок, и потому, как дошли сюда слухи, не только не обратили своего негодования против г. Чеодаева, но, напротив, изъявляют искреннее сожаление свое о постигшем его расстройстве ума, которое одно могло быть причиною написания подобных нелепостей. Здесь получены сведения, что чувство сострадания о несчастном положении г. Чеодаева единодушно разделяется всею московской публикой. Вследствие сего Государю Императору угодно, чтобы Ваше сиятельство, по долгу звания Вашего, приняли надлежащие меры к оказанию г. Чеодаеву всевозможных попечений и медицинских пособий. Его Величество повелевает, дабы Вы поручили лечение его искусному медику, вменив сему последнему в обязанность непременно каждое утро посещать г. Чеодаева, и чтоб сделано было распоряжение, дабы г. Чеодаев не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха; одним словом, чтобы были употреблены все средства к восстановлению его здоровья, — Государю Императору угодно, чтобы Ваше сиятельство о положении Чеодаева каждомесячно доносили Его Величеству».
С меньшим шумом прошла расправа над Лермонтовым за стихи 1837 года на смерть Пушкина. Поэт был переведен на Кавказ, откуда, благодаря заботам влиятельных родственников, вскоре вернулся обратно. Знакомство с жандармами, по-видимому, произвело на Лермонтова должное впечатление, и, отправляясь на Кавказ вторично, после дуэли с Барантом, он рассчитался со своими преследователями знаменитыми строками:
Прощай, немытая Россия, Страна рабов, страна господ. И вы, мундиры голубые, И ты, им преданный народ. Быть может, за стеной Кавказа Укроюсь от твоих пашей, От их всевидящего глаза, От их всеслышащих ушей.Третье литературно-политическое дело замечательно тем, что пострадал по нему не писатель, а управляющий III Отделением. В 1839 году был выпущен первый том сборника «Сто русских литераторов». В числе прочих произведений были напечатаны три вещи незадолго перед тем погибшего на Кавказе декабриста А. А. Бестужева. К ужасу властей, автор был назван не обычным своим псевдонимом Марлинский, а полным именем, отчеством и фамилией, и к изданию был приложен портрет Бестужева. Поднялся страшный переполох. Цензура получила экстренный запрос: «Кто осмелился пропустить портрет Бестужева?» На поверку оказалось, что виновником является не кто иной, как сам старший инквизитор А. Н. Мордвинов, по небрежности пропустивший портрет в печать. Под Мордвинова уже давно подкапывался его соперник, начальник штаба корпуса жандармов Дубельт, и Мордвинов был отрешен от должности.
В таких формах протекала борьба с литературной крамолой до 1848 года. С конца 40-х годов оживляется общественная борьба, оживляется и литературная жизнь. В русскую публицистику вступает поколение мелкобуржуазной демократии с ее утопически-социалистическими теориями и политическим радикализмом. Жандармы почувствовали струю свежего воздуха, но не сумели определить, из какой щели она идет. И здесь III Отделение пошло по стопам своих предшественников. Вся беда в растленном Западе, где происходят революции и низвергаются законные власти; оттуда приходят и коммунистические теории. Нужно было плотно забить «окно в Европу».
Уже цитированный нами отчет о деятельности III Отделения за пятьдесят лет следующим образом изображает положение дел к этому времени:
«Собственно в России не было никакого повода опасаться волнений или беспорядков. Общее настроение русского общества отличалось не только полным спокойствием, но даже некоторою вялостью. Еще в 1843 году наблюдение указывало, что „высшее общество, которое в прежнее время дозволяло себе рассуждать о действиях правительства, гласно хваля и порицая принимаемые им меры, уклоняется ныне от подобных суждений и ко всему хранит какое-то равнодушие; то же самое замечается и в других слоях общества: все как будто поражены какою-то апатиею“. Но и в этом апатическом обществе молодежь не могла оставаться ко всему безучастною, и в среде ее начинали мало-помалу распространяться учения, увлекавшие юные умы новизною…
В видах охранения нашего отечества от наглых разрушительных теорий, волновавших Западную Европу, высочайше повелено было принять решительные и энергические меры, большая часть коих была возложена на III Отделение: последовало распоряжение о строжайшем наблюдении за всеми иностранцами, в особенности же за французами, проживающими в пределах империи; запрещен был въезд в Россию первоначально французам, а вскоре и прочим европейцам, за весьма незначительными исключениями; русским подданным выезд за границу разрешался не иначе как по особо важным, исключительным причинам, тем же, которые находились уже за границей, сделано было приглашение возвратиться в отечество; ввоз иностранных книг был подвергнут новым правилам, лишавшим книгопродавцев возможности с прежней легкостью распространять запрещенные сочинения; произведены были обыски во многих книжных магазинах С.-Петербурга, Москвы, Риги и Дерпта, причем найденные в значительном числе недозволенные цензурою книги были конфискованы, а виновные книгопродавцы преданы суду; усилено наблюдение за ходом воспитания в России, за литературою и особенно за журналистикою; учреждены особые комитеты — один для рассмотрения всех русских журналов последних лет и другой для наблюдения за всеми журналами и книгами, выходящими в России; повелено дополнить цензурный устав, а цензорам подтверждено обращать бдительное внимание на журнальные статьи».
Учреждение специального цензурного комитета (названного по имени его председателя Бутурлинским) открыло собой «эпоху цензурного террора», продолжавшуюся до 1855 года. В этот период арестовывается и ссылается целый ряд писателей (Салтыков, Самарин, Тургенев), придирчивость цензуры доходит до своего апогея, в «коммунизме» обвиняются самые благонамеренные авторы. Запрещалось не только следовать социалистическим идеям, но даже опровергать их, потому что в процессе полемики приходится излагать и «самые правила этих систем, ложные для ума зрелого и благонамеренного, но всегда вредные в чтении людей легкомысленных».
Но от этих дел III Отделение стояло уже несколько в стороне. Оно оставило за собою верховный надзор за литературой, но основную работу передало цензурному комитету. Теперь жандармы интересуются уже не столько литературой, сколько литераторами. На деле петрашевцев с идиллией пришлось расстаться. В 1848 году Дубельт еще не мог предположить, чтобы Белинский был сознательным проповедником социалистических взглядов. В 1849 году он искренно огорчался, что Белинский умер и нельзя его вместе с петрашевцами сослать на каторгу. Но, поняв происшедшую перемену, жандармы предпочли сдать в другие руки хлопотливое дело литературной цензуры, оставив за собой надзор и возможность уличать чиновников цензурного комитета в оплошностях. Это было тем более своевременно, что следить за литературой становилось все труднее: русские публицисты того времени превосходно изучили тонкости так называемого «эзоповского» языка и искусно действовали по рецепту, впоследствии сформулированному Некрасовым:
Переносится действие в Пизу, И спасен многотомный роман.Будни III отделения
Мы остановились на той стороне деятельности III Отделения, которая имела непосредственный политический характер. Но политические дела, настоящие или мнимые, бывали не так часты в жандармской практике. Это были праздники, сулившие повышения и награды, дававшие возможность разворачивать работу, сыпать всеподданнейшими докладами, отправлять фельдъегерей во все концы страны, — словом, суетиться и производить патриотический шум. Праздники эти по возможности затягивались, в случае долгого отсутствия изобретались, но все-таки бывали не каждый день. А между тем люди, служившие в «здании у Цепного моста», без работы никогда не сидели. Наоборот, учреждение это было чрезвычайно деловое.
Просматривая описи архива III Отделения, поражаешься той бездне совершенно незначительных и никакого государственного значения не имевших дел, которыми занимались жандармы. В своем стремлении охватить всю жизнь населения они вмешивались решительно во всякое дело, куда представлялась возможность вмешаться. Семейная жизнь, торговые сделки, личные ссоры, проекты изобретений, побеги послушников из монастырей — все интересовало тайную полицию. В то же время III Отделение получало огромное количество прошений, жалоб, доносов, и по каждому шло расследование, на каждое заводилось особое дело.
Мы не будем особенно долго задерживать читателя на характеристике жандармских будней. Хотя количественно дела такого рода и занимали основное место в работе надзора, но для нас они не представляют интереса. Все же нужно сказать несколько слов и о них — для полноты картины.
Занимавшиеся этими мелкими делами жандармы не считали своей работы малозначительной. Наоборот, в отчете о пятидесятилетии III Отделения с удовлетворением констатируется, что «эта часть делопроизводства Отделения отличалась особенною обширностью, так как в сороковых годах ежегодно поступало от двух до пяти с половиной тысяч просьб, кроме всеподданнейших прошений, подаваемых во время высочайших путешествий, число коих колебалось между четырьмя и десятью тысячами. От лиц всех сословий без изъятия как русских подданных, так и иностранцев, проживающих и в России и за границею, поступали просьбы и жалобы по частным делам самого разнообразного содержания».
Далее отчет дает сжатую классификацию этих просьб и жалоб. Хотя классификация эта и не является исчерпывающей, но все же она дает представление о широте и разнообразности жандармских интересов.
«Предметами просьб были в особенности:
а) содействие к получению удовлетворения по документам, не облеченным в законную форму;
б) освобождение от взысканий по безденежным заемным письмам и тому подобным актам;
в) пересмотр в высших судебных местах дел, решенных в низших инстанциях, остановление исполнения судебных постановлений, отмена распоряжений правительственных мест и лиц;
г) восстановление права апелляции на решения судебных мест;
д) домогательство о разборе тяжебных дел вне порядка и правил, установленных законами;
е) помещение детей на казенный счет в учебные заведения;
ж) причисление незаконных детей к законным вследствие вступления родителей их в брак между собою;
з) назначение денежных пособий, пенсий, аренд и наград;
и) рассрочка и сложение казенных взысканий;
i) возвращение прав состояния, облегчение участи состоящих под наказанием, освобождение содержащихся под стражею;
к) с представлением проектов по разным предприятиям и изобретениям.
Жалобы были двух родов:
1) на поступки частных лиц и 2) на действия присутственных мест и должностных лиц.
Жалобы первого рода преимущественно подавались:
а) на личные оскорбления;
б) на нарушение супружеских обязанностей с просьбами жен о снабжении их видами для отдельного проживания и обеспечения их существования на счет мужей;
в) на обольщение девиц;
г) на неповиновение детей родителям и на злоупотребление родительскою властью;
д) на неблаговидные поступки родственников по делам о наследстве;
е) на злоупотребление опекунов;
ж) по делам о подлоге и несоблюдении форм в составлении духовных завещаний и
з) помещиков на крестьян и обратно.
Жалобы второго рода преимущественно обращены были:
а) на бездействие или медлительность по денежным взысканиям;
б) на пристрастие, медленность и упущения при производстве следствий при рассмотрении дел гражданских и уголовных, при исполнении судебных решений и приговоров и
в) на оставление просьб и жалоб без разрешения со стороны начальствующих лиц.
В некоторых просьбах и жалобах заключались, кроме того, указания на злоупотребления частных лиц по взносам казенных пошлин, по порубке, по поджогу казенных лесов, по питейным откупам, по подрядам и поставкам и т. п.».
Далеко не всегда III Отделение ожидало, пока жалобщик или проситель обратится к нему как к высшей государственной инстанции. Местные полицейские власти аккуратно доносили о «всех вообще происшествиях», и часто внимание начальства останавливали самые пустяковые подробности. Где-нибудь крестьяне сообщили местным властям, что им известно подземелье, в котором хранится клад. Дело не может обойтись без участия жандармского офицера. На прикомандирование такого офицера испрашивается разрешение центра. Шеф жандармов пишет доклад императору. Николай решает: «Объявить доносителям, что если вздор показывают, то с ними поступлено будет, как с сумасшедшими (читатель уже успел заметить, что сумасшедшие в те времена определялись высочайшими резолюциями. — И. Т.); хотят ли на сие решиться, и если настаивать будут, то послать».
К крестьянам прикомандировывается жандармский подполковник, и все вместе отправляются на поиски клада, которого, конечно, не находят. Напуганные заварившейся вокруг этого дела кутерьмой крестьяне каются, что судили по преданию и приметам, что «сами в погребе не были, а поверили другим и что, впрочем, подземельных сокровищ без разрыв-травы открыть нельзя». Дело опять движется по инстанциям и снова доходит до верховного жандарма. Царское слово не может быть нарушено, и новая высочайшая резолюция гласит: «Так как было им обещано, что с ними поступлено будет, как с лишенными ума, то послать их на год в ближний смирительный дом».
Дел такого масштаба, прошедших через III Отделение и представленных на высочайшее разрешение, тысячи. Но особенно опекали жандармы нравственность и семейный мир населения. Николай, постоянно изменявший своей жене и обративший дворцовых фрейлин в султанских одалисок, страшно беспокоился о моральных устоях своих подданных. В этом отношении очень показательна рассказанная П. Е. Щеголевым история о «любви в равелине».
В мае 1851 года, когда Николай Павлович по важным государственным делам находился в Варшаве, в столице произошло событие, никакого политического значения не имевшее. Отставной гвардейский офицер князь Трубецкой увез в неизвестном направлении жену сына коммерции советника Жадимировского. О деле узнали в III Отделении, и Дубельт сообщил в очередной эстафете шефу жандармов Орлову. Обычным порядком было доложено императору, который распорядился во что бы то ни стало поймать беглецов. И III Отделение пришло в движение. По разным направлениям помчались жандармские офицеры, зашевелились местные власти, в столицу отправились экстренные курьеры. Николай все время следил за ходом дела. Наконец в одном из кавказских портов злополучная чета, собиравшаяся переправиться за границу, была найдена и доставлена оттуда в Петербург. Жадимировскую вернули мужу, а Трубецкого засадили в Алексеевский равелин, откуда он вышел уже разжалованным рядовым; и только шесть лет спустя, в 1857 году, Трубецкой смог соединиться с любимой женщиной.
Мы обращаем внимание читателя не на роман, трогательно описанный П. Е. Щеголевым, а на отношение к этому роману жандармских властей. Из-за частного бытового дела приводится в движение вся машина высшей полиции, тратится несколько тысяч казенных денег, отвлекается от дела местная администрация. Зато закон и религия торжествуют и официальный порок наказан.
В этой шумной суете по маленьким делам и проходили труды и дни III Отделения. Среди семейных дрязг, судебных жалоб и ложных доносов (говорят, по субботам жандармы устраивали сожжения доносов за неделю) некогда было пожаловаться на безделье. Наоборот, штат приходилось все время увеличивать. И Николай Павлович мог быть доволен: жандармы работают на пользу отечества не покладая рук, «шпионская контора» пишет…
Люди и нравы III отделения
Мы характеризовали круг действий III Отделения и тот «блестяще организованный беспорядок», к которому фактически сводилась его государственная работа. Напоследок остановимся на некоторых бытовых штрихах жандармской жизни и на ее руководителях.
С основания III Отделения и до своей смерти шефом жандармов был граф А. X. Бенкендорф. В 1844 году его сменил граф (впоследствии князь) А. Ф. Орлов.
Александр Христофорович Бенкендорф выдвинулся в качестве храброго боевого генерала еще при Александре I и в 1819 году получил звание царского генерал-адъютанта. Уже в это время он обнаружил вкус к делу тайной полиции, но поощрения не получил. 14 декабря 1825 года он командовал частью правительственных войск, затем был назначен членом следственной комиссии по делу декабристов. На этом посту он сблизился с молодым царем, только начинавшим испытывать свои полицейско-следовательские дарования. Мы уже знаем записку, представленную Бенкендорфом об организации Министерства полиции. За все эти заслуги на него, как из рога изобилия, посыпались царские милости. Он не только стал ближайшим другом императора и начальником самого значительного государственного учреждения, но получил ряд менее почетных, но не менее существенных подношений в виде десятков тысяч десятин земли, крепостных душ и проч.
17 лет стоял Бенкендорф во главе III Отделения и, как это ни странно, не сумел приобрести не то что любви, а даже ненависти со стороны угнетавшихся III Отделением. Объяснялось это тем, что очень скоро для всех стало ясно, что Бенкендорф фактически играет очень незначительную роль в жандармских делах. Это был человек дряблой воли, лишенный каких бы то ни было государственных дарований, кроме безграничной преданности царю и умения снискать его дружбу. О его рассеянности ходили анекдоты самого невероятного свойства — вплоть до того, что он забывал свою фамилию и никак не мог вспомнить ее без помощи визитной карточки. В делах Бенкендорф был большим путаником, да к тому же плохо понимал их сущность. Его отношение к государственным вопросам прекрасно иллюстрируется следующим рассказом в записках барона М. А. Корфа:
«Однажды в Государственном совете министр юстиции, граф Панин, произносил очень длинную речь. Когда она продолжалась уже с полчаса, Бенкендорф обернулся к соседу своему, графу Орлову, с восклицанием:
— Sacré Dieu, voilà се que jáppelle parler![8]
— Помилуй, братец, да разве ты не слышишь, что он полчаса говорит против тебя?
— В самом деле? — отвечал Бенкендорф, который тут только понял, что речь Панина есть ответ и возражение на его представление.
Через пять минут, посмотрев на часы, он сказал: „А pré sent adieu, il est temps que j’aille chez l’empereur“[9], — и оставил другим членам распутывать спор его с Паниным по их усмотрению».
Так характеризуют Бенкендорфа вполне благожелательные к нему мемуаристы. Даже верный лакей III Отделения Греч именует его «бестолковым царедворцем», «добрым, но пустым». В том же собственно направлении мы можем найти отзывы и из противоположного лагеря. Так, Герцен сделал следующую зарисовку наружности и внутренних качеств шефа жандармов:
«Наружность шефа жандармов не имела в себе ничего дурного; вид его был довольно общий остзейским дворянам и вообще немецкой аристократии. Лицо его было измято, устало, он имел обманчиво добрый взгляд, который часто принадлежит людям уклончивым и апатическим. Может, Бенкендорф и не сделал всего зла, которое мог сделать, будучи начальником этой страшной полиции, стоящей вне закона и над законом, имевшей право мешаться во все, — я готов этому верить, особенно вспоминая пресное выражение его лица, — но и добра он не сделал, на это у него не доставало энергии, воли, сердца».
Немудрено, что, обладая такими свойствами, Бенкендорф ограничивался представительством своего учреждения, не вмешиваясь детально в его дела. Подчиненные быстро сообразили, что угодить шефу можно быстрыми и твердыми ответами, хотя бы взятыми с потолка, и все шло хорошо. Сам же Бенкендорф пребывал в неизменном сознании блестящей налаженности подчиненного ему аппарата и собственной незаменимости.
Преемник Бенкендорфа, Алексей Федорович Орлов, ничем не превосходил его в смысле государственных способностей, а по уму и опыту даже уступал. Единственной его заслугой была дружба с царем. В практической же деятельности он отличался полной ленью и никакого, собственно, отпечатка на физиономию III Отделения не наложил… Заведенная при Бенкендорфе система осталась в полной сохранности, и только докладывал вместо умершего шефа новый.
Современники сразу поняли, почему во главе тайной канцелярии стоят полнейшие ничтожества. Вспоминая о смерти начальника александровской полиции Милорадовича, который, умирая, заботился о своем старом враче, Герцен писал:
«Прозаическому, осеннему царствованию Николая не нужно было таких людей, которые, раненные насмерть, помнят о старом лекаре и, умирая, не знают, что завещать, кроме просьбы о сыне приятеля. Эти люди вообще неловки, громко говорят, шумят, иногда возражают, судят вкривь и вкось; они, правда, готовы всегда лить свою кровь на поле сражения и служить до конца дней своих верой и правдой; но войны внешней тогда не предвиделось, а для внутренней они неспособны. Говорят, что граф Бенкендорф, входя к государю, — а ходил он к нему раз пять в день, — всякий раз бледнел: вот какие люди нужны были новому государю. Ему нужны были агенты, а не помощники, исполнители, а не советники, вестовые, а не воины. Он никогда не мог придумать, что сделать из умнейшего из всех русских генералов, Ермолова, и оставил его в праздности доживать век в Москве».
Николай не потерпел бы около себя даже тупой, но упорной воли Аракчеева, не говоря уже о талантах, подобных Сперанскому. Он хотел править единодержавно в полном смысле этого слова, хотел лично разрешать все без исключения государственные дела. Для этого он и учредил «собственную канцелярию», во главе которой ставил людей, единственным качеством которых была их преданность царю. Все почти дела III Отделения разрешались императором, и жандармы далеко не всегда могли заранее учесть, как обернется то или другое дело. Поэтому, говоря о людях III Отделения, мы не должны забывать и старшего жандарма — императора Николая Павловича. Чтобы познакомить читателя с этим родом его деятельности, приведем несколько типичных резолюций по различным делам III Отделения (выше уже продемонстрированы два-три образчика царского творчества).
Николай очень любил тешить в себе иллюзию, что массы любят его. Поэтому он очень опасливо относился ко всяким подававшимся на его имя просьбам и не любил, когда эти просьбы читались другими. В январе 1828 года шеф жандармов доложил, что «воронежский преосвященный Антоний объявил полковнику к. ж. Волкову, что в домашней его церкви найден запечатанный конверт со вложением пакета, также запечатанного, на высочайшее имя. Для скорейшего разыскания и открытия сочинителя сих бумаг они решились распечатать пакет на высочайшее имя и нашли в нем одни необдуманные предложения насчет преобразования некоторых частей управления».
Дело было довольно обычное: записок с жалобами на административные и судебные инстанции в те времена подавалось бесконечное множество. Николая возмутило не бесправие населения, вынужденного прибегать к таким способам жалоб, а поведение местного начальства, осмелившегося распечатать письмо на высочайшее имя. Резолюция гласила: «Поступлено неправильно, ибо всякая бумага на мое имя должна доходить до меня в целости. Сделать строжайший выговор подполк[овнику] Волкову и преосв[ященству] Антонию за то, что смели распечатать бумагу, писанную на мое имя».
Очень часто приходилось Николаю выслушивать просьбы о смягчении участи декабристов и польских повстанцев, но обычные резолюции лаконически гласили: «рано», «не заслужил», «подождать». С неменьшей нетерпимостью относился он и к более скромным вопросам, нарушавшим казарменный строй жизни империи. В этом смысле очень показательны его резолюции по делам о выезде за границу. Так, в 1832 году отставной поручик Шемиот просил разрешения ехать лечиться в Мариенбад. В прошлом у поручика был криминал (дуэль), и Николай решил, что Шемиоту достаточно съездить к Кавказским Водам. Не любил он также, когда его подданные предпринимали заграничные путешествия с образовательной целью: этим косвенно порицалась русская школа. В 1834 году генерал-губернатор барон Пален, по просьбе рижского купца фон Бульмеринга, ходатайствовал о «дозволении отдать в Любскую торговую академию, для усовершенствования в торговых науках, на один год шестнадцатилетнего сына его Александра, который приготовляется им в торговое звание». На докладе по этому делу мы читаем не резолюцию, а окрик: «Нет; а барону Палену заметить, чтобы впредь не смел входить с подобными представлениями, противными закону».
За многообразными занятиями своими Николай не забывал и литературы. Он сам был «цензором» Пушкина, считал себя просвещенным любителем искусства и, при случае, контролировал обычную цензуру. Прочитав сборник «Русских сказок» Даля, он нашел в нем «дурное направление мысли» и предписал шефу жандармов: «Не мешает удостовериться, что за занятия автора и с кем оный знаком; уведомить меня об этом, а завтра вечером можно будет взять его с бумагами».
Позер и лицемер, Николай любил приобретать популярность мелким великодушием. Вскоре после казни декабристов ему донесли, что крестьянин Владимирской губернии Василий Гаврилов предан уголовному суду за слова: «У нас нет государя». Суд приговорил Гаврилова к 50 ударам плети. На докладе по этому делу красуется одно слово: «Простить».
Из Житомирской крепости бежал государственный преступник граф Олизар. Старый майор, комендант крепости, был предан военному суду и разжалован в солдаты. Сыновья майора обратились с просьбой разрешить им принять на себя отцовское наказание. Последовала резолюция: «Во уважение благородного подвига сыновей отца простить, но с тем, чтобы никуда не определять».
Если эти и подобные им резолюции и вытекали из демагогического расчета, то вот образец интимного лицемерия, лицемерия наедине с самим собой. В Иркутской губернии находился в ссылке старик-декабрист барон В. И. Штейнгель. Глубоко религиозный человек, он ожидал смерти и хотел «простить врагам своим» и получить от них такое же прощение. По просьбе Штейнгеля Бенкендорф вошел с ходатайствованием о «прощении ему в сердце государя». И Николай, до конца жизни не устававший преследовать декабристов, великодушно ответил: «Давно в душе простил его и всех».
Приведенные примеры, конечно, не исчерпывают всего разнообразия жандармских интересов императора, но они дают представление, до каких деталей доходило его внимание. А так как ведомств было много и по каждому Николай имел свое мнение, то фактически он ни одного не имел возможности направить. И движущей пружиной III Отделения на практике являлся очередной помощник шефа жандармов, сначала носивший звание директора канцелярии, а потом управляющего III Отделением. Таких помощников в николаевское время сменилось три: М. Я. фон Фок, А. Н. Мордвинов и Л. В. Дубельт.
Организатором III Отделения был Фок. То был старый полицейский волк, начавший службу еще при Балашове и под непосредственным руководством де Санглена. Воспитавшись в школе последнего, он сменил его и оставался на посту директора канцелярии сначала Министерства полиции, а потом внутренних дел и со всем своим аппаратом перешел в III Отделение. «Я был знаком с директором особенной канцелярии министра внутренних дел (что ныне III Отделение канцелярии государя) Максимом Яковлевичем фон Фоком, — писал Н. И. Греч, имевший, правда, особые причины симпатизировать столпам жандармского корпуса, — с 1812 года и пользовался его дружбою и благосклонностью. Он был человек умный, благородный, нежный душой, образованный, в службе честный и справедливый… Бенкендорф был одолжен ему своею репутацией ума и знания дела…» Оставляя в стороне панегирик Фоку (хотя не только Греч, но и почти все мемуаристы того времени отзываются о нем довольно сочувственно[10]), мы не можем пройти мимо последнего замечания Греча, человека достаточно сведущего во внутренних взаимоотношениях III Отделения.
Фок явился в III Отделение во всеоружии полицейских методов александровского периода. Но времена настали иные. Возвысив полицию до роли высшего государственного органа страны, Николай стремился придать ей некоторое благообразие. Недаром сохранился анекдот о платке для утирания слез обездоленных, который был им вручен Бенкендорфу в качестве инструкции.
Старые полицейские методы вызывали недовольство дворянства, и, перестраивая полицейский аппарат, правительство стремилось вовлечь побольше офицеров и дворян, привлечь интерес благородного сословия к жандармской службе. «Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды», — писал Бенкендорф в цитированной выше записке 1826 года. Деятели старой школы недоумевали и не могли воспринять нового направления. В 1829 году великий князь Константин писал Бенкендорфу: «Вам угодно было написать мне о жандармской службе в бывших польских провинциях и сообщить также о выгодах, кои последовали бы для этой службы в Вильне, если бы штабс-капитан Клемчинский мог быть назначен туда в качестве адъютанта при начальнике отдела; тем более, что, будучи уроженцем края, он мог бы иметь удобнейшие отношения в нем, при своих связях, интересах и родстве, а также благодаря хорошей репутации, которою он там пользуется».
По мнению великого князя, именно эти причины свидетельствовали о непригодности этого офицера. Но искавшее популярности у дворянства правительство шло своим путем. Недаром Герцен заставляет председателя уголовной палаты говорить о Бельтове: «Мне, сказать откровенно, этот господин подозрителен: он или промотался, или в связи с полицией, или сам под надзором полиции. Помилуйте, тащиться 900 верст на выборы, имея 3000 душ!» Богатый и образованный помещик был, конечно, желанным рекрутом для жандармских вербовщиков[11].
Фок быстро почуял новую моду и начал к ней приспособляться. В своих письмах Бенкендорфу летом 1826 года он рекомендует шефу новых сотрудников, набираемых из рядов столичного и провинциального дворянства… При Фоке начался процесс создания благородного и чувствительного полицейского в голубом мундире, но окончить создание этого типа Фок не мог: слишком крепка была в нем привязанность к старым методам работы, к агентам, набираемым из подонков общества, покупаемым деньгами и угрозами.
В 1831 году Фок умер и был заменен Мордвиновым. К сожалению, мы не располагаем данными о роли Мордвинова в III Отделении. Характеристику его, мимоходом, дал Герцен, считавший, что Мордвинов был единственным в жандармской среде «инквизитором по убеждению». Но уже в период владычества Мордвинова фигура его стала отходить на задний план по сравнению с им же рекомендованным Дубельтом. Кончилось тем, что Дубельт заменил Мордвинова и надолго олицетворил в себе одном все III Отделение.
Леонтий Васильевич Дубельт был фигура незаурядная. Вряд ли кто-нибудь из его коллег удостоился бы характеристики, подобной той, которую он получил от Герцена: «Дубельт — лицо оригинальное, он наверное умнее всего Третьего и всех трех отделений собственной канцелярии. Исхудалое лицо его, оттененное длинными светлыми усами, усталый взгляд, особенно рытвины на щеках и на лбу ясно свидетельствовали, что много страстей боролось в этой груди, прежде чем голубой мундир победил или, лучше, накрыл все, что там было. Черты его имели что-то волчье и даже лисье, т. е. выражали тонкую смышленность хищных зверей, вместе уклончивость и заносчивость».
В 20-х годах Дубельт был свободомыслящим: он состоял членом двух масонских лож и даже был привлечен по делу декабристов. Может быть, и не без труда сменил Дубельт свой армейский мундир на жандармскую лазурь, но имеющиеся в нашем распоряжении материалы свидетельствуют скорее о высокой степени лицемерия пред самим собой, чем о борьбе страстей в этот знаменательный момент его жизни. Жене своей, боявшейся, что он замарает свое имя и честь жандармской службой, он писал: «„Не будь жандарм“, — говоришь ты! Но понимаешь ли ты, понимает ли Александр Николаевич (Мордвинов. — И. Т.) существо дела? Ежели я, вступя в Корпус жандармов, сделаюсь доносчиком, наушником, тогда доброе мое имя, конечно, будет запятнано. Но ежели, напротив, я, не мешаясь в дела, относящиеся до внутренней полиции, буду опорою бедных, защитою несчастных, ежели я, действуя открыто, буду заставлять отдавать справедливость угнетенным, буду наблюдать, чтобы в местах судебных давали тяжебным делам прямое и справедливое направление, — тогда чем назовешь ты меня?»
Мы знаем, как мало вмешивался Дубельт в «дела, относящиеся до внутренней полиции». И только особому, свойственному ему сентиментальному лицемерию можно приписать и эти чувствительные строки, и многое в его позднейших поступках. Правда, ему нельзя отказать в некоторых положительных чертах, но общая его характеристика верно дана Герценом, проницательно обнаружившим под маской учтивости и благосклонности подлинный волчий облик Дубельта. Они поняли друг друга: недаром Дубельт с такой нетерпимостью относился к одному только упоминанию имени Герцена[12].
В 1913 году были опубликованы «Записки» Дубельта, давшие некоторым историкам основание заподозрить его в «убожестве мысли». Действительно, эти записки, вернее, афоризмы чрезвычайно плоски и никак не поднимаются над уровнем официальной идеологии николаевской России. Мы, однако, полагаем, что записки эти писались Дубельтом для чужого употребления, а не для себя. Поэтому он и прикидывался глупее, чем был на самом деле. Иначе нельзя объяснить то впечатление, которое он производил на современников, притом достаточно ему враждебных. Если Герцен раскусил лицемерие Дубельта, притворявшегося добряком и любившего, чтобы к нему обращались с ссылками на «всем известную его доброту», то на других Дубельт умел производить чарующее впечатление. Известный польский революционер Сераковский, познакомившись с Дубельтом непосредственно перед заключением в крепость, писал ему: «Генерал! Счастливы юноши, что Вы стражем порядка. Вы старик, но с верующею, неугасающею душою. Я уже решился! Выслушайте меня сами, зайдите ко мне сами, генерал. Богу помолюсь за Вас!»
Своей учтиво-сентиментальной манерой Дубельт умел привлекать к себе допрашиваемых: Ф. М. Достоевский, привлеченный по делу петрашевцев, называл его «преприятным человеком». Отзывов такого рода немало. Внешнее лицемерие, образцы которого жандармам преподавал Николай I, стало официальным тоном III Отделения.
И именно Дубельт, окончательно сформировав аппарат жандармерии, завершил и создание типа «благородного жандарма».
Назначенный жандармским офицером в Симбирск, Э. И. Стогов следующим образом рисует разницу между жандармами «старой школы» и им как представителем нового поколения: «Доверие и уважение к жандармскому мундиру в Симбирске было разрушено. Передо мной был полковник Маслов, тип старинных полицейских. Он хотел быть сыщиком, ему казалось славою рыться в грязных мелочах и хвастать знанием семейных тайн. Он искал случая ко всякому прицепиться, все стращал, делал истории, хотел властвовать страхом и всем опротивел… Таким образом я явился к обществу, предубежденному к жандармскому мундиру, олицетворявшему идею доносчика и несносного придиралы даже в частной жизни». Конечно, Стогов не пошел по пути своего предшественника и, как уверяет он в своих мемуарах, снискал к себе общее расположение, примиряя враждующих, уличая неправедных, словом, доставляя жандармскому мундиру то уважение, которого он заслуживал…
Даже рядовые жандармы, по словам Герцена, на собственном опыте изведавшего прелести знакомства с ними, были «цветом учтивости»: «Если бы не священная обязанность, не долг службы, они никогда бы не только не делали доносов, но и не дрались бы с форейторами и кучерами при разъездах».
Что же касается жандармов обер- и штаб-офицерских чинов, то они олицетворяли, конечно, при сношении с людьми «благородного» звания, самую изысканную любезность. Если опасного вольнодумца нужно было признать «повредившимся в уме», то, как мы видели в случае с Чаадаевым, издевательство это вызывалось только «чувством сострадания о несчастном его положении»; если подобного человека считали нелишним держать под домашним арестом или сослать куда-нибудь, то делалось это для того, чтобы он «не подвергал себя вредному влиянию нынешнего сырого и холодного воздуха»; если его мучили и впрямь сводили с ума обязательными медицинскими осмотрами, то это являлось результатом распоряжения «употреблять все средства к восстановлению его здоровья». Литературный критик, голос которого был слишком внятен подраставшему молодому поколению и поэтому, хотя уже и перехваченный железными тисками чахотки, все еще беспокоил начальство, получал успокаивавшие, а фактически приближавшие его к смерти записки: «Вы как литератор пользуетесь известностью, об Вас часто говорят: очень естественно, что управляющий III Отделением и член цензурного комитета желает Вас узнать лично и даже сблизиться с Вами… Поверьте, что Вы встретите самый ласковый и радушный прием»[13]. Официальное лицемерие, прикрывавшее внутреннюю жестокость личной светской любезностью и благорасположением, пронизало все операции III Отделения. Создался специальный ритуал при арестах, допросах и пр. Так, по отношению к арестованным проявлялась особая заботливость в смысле снабжения их курительными принадлежностями согласно их вкусам и привычкам[14]. При допросах, особенно если обвиняемый молод, считалось уместным вызвать перед ним образ его родителей, которые будут сокрушены, когда узнают меру виновности сына, проявить участие, дать надежду на оправдание при надлежащих ответах…
А. К. Толстой в своей сатире «Сон Попова» следующим образом рисует допрос в III Отделении:
Но дверь отверзлась, и явился в ней С лицом почтенным, грустию покрытым, Лазоревый полковник. Из очей Катились слезы по его ланитам. Обильно их струящийся ручей Он утирал платком, узором шитым, И про себя шептал: «Так! Это он! Таким он был едва лишь из пелен. О юноша, — он продолжал, вздыхая (Попову было с лишком сорок лет), — Моя душа для вашей не чужая! Я в те года, когда мы ездим в свет, Знал вашу мать. Она была святая! Таких — увы! — теперь уж боле нет! Когда б она досель была к вам близко, Вы б не упали нравственно так низко! Но, юный друг, для набожных сердец К отверженным не может быть презренья, И я хочу вам быть второй отец, Хочу вам дать для жизни наставленье. Заблудших так приводим мы овец Со дна трущоб на чистый путь спасенья. Откройтесь мне равно как на духу: Что привело вас к этому греху?»Описываемый им допрос советника Попова как две капли воды похож на допрос петрашевца Ахшарумова: «„Ахшарумов! — сказал мне справа сидевший за столом генерал (это был Ростовцев, как я узнал впоследствии), — мне жаль вас. Я знал вашего отца, он был заслуженный генерал, преданный государю, а вы, сын его, сделались участником такого дела!“ Обращаясь ко мне с этими словами, он смотрел на меня пристально, как бы с участием, и в глазах его показались слезы. Меня удивило это участие незнакомого мне лица, и оно показалось мне искренним».
Подобный стиль наружных отношений III Отделения требовал и соответственного подбора служащих. Даже квартальные надзиратели того времени, чуя моду, старались блеснуть округлостью движений, мягкостью и благородством манер. В самом же полицейском святилище эти качества требовались в особой степени. Дубельт охотно приглашал к себе на службу армейских или морских офицеров, если только они обладали должным образом мыслей и подавали надежды на перевоспитание их в жандармском духе. Если они ехали в провинцию, им рекомендовалось «утирать слезы несчастных и отвращать злоупотребления власти, а обществу содействовать, быть в согласии». Они должны были стараться снискать любовь окружающих, не злоупотреблять картами и пр. По отношению к начальству они должны были вести себя как послушные дети, подобно тому жандармскому майору, который однажды донес, что, «поставив себе непременным правилом быть вполне откровенным перед начальством», он священным долгом считает довести до его сведения, что «с настоящего числа он надел парик».
Всеми этими мероприятиями Дубельт действительно поднял жандармский корпус на известную высоту, и отношение общества к жандармам оказывалось довольно терпимым. Тот же Герцен, которого никак нельзя обвинить в излишней любви к этому сословию, пишет о них: «Большая часть между ними были довольно добрые люди, вовсе не шпионы, а люди, случайно занесенные в жандармский дивизион. Молодые дворяне, мало или ничему не учившиеся, без состояния, не зная, куда приклонить главы, они были жандармами, потому что не нашли другого дела». Несколько далее он же замечает: «Нельзя быть шпионом, торгашом чужого разврата и честным человеком, но можно быть жандармским офицером, не утратив всего человеческого достоинства»[15].
В связи со всем этим в III Отделении стали не то что косо, но презрительно смотреть на доброхотных доносителей, разведчиков-партизан. Конечно, от услуг их не отказывались, но, с одной стороны, слишком велик был процент ложных доносов, и доверие к ним несколько уменьшалось, с другой — уж больно они не подходили к новым приемам и манерам этого учреждения. Полуграмотные агенты из кантонистов тоже не могли, конечно, равняться с образованными и разыгрывавшими листовские концерты (а подчас и сочинявшими, и не всегда плохо) лазоревыми офицерами. П. П. Каратыгин рассказывает о Бенкендорфе и Дубельте, что они «презирали доносчиков-любителей, зная очень хорошо, что в руках подлецов донос весьма часто бывает орудием мести… Л. В. Дубельт при выдаче денежных наград — десятками или сотнями рублей — придерживался цифры трех… „В память тридцати сребреников“, — пояснял он…»
Если от этого рассказа и отдает немного анекдотом, то тенденция его все же верна, — подтверждение ее мы найдем и у Герцена.
Задача была выполнена: «высшее общество» и «средний класс», то есть дворянство и буржуазия, смотрели на жандармов с ужасом, но без презрения. Даже известная всем склонность «благородных жандармов» к наживе не смущала общество: в те времена крали и брали все. Сентиментальный Дубельт, наизусть цитировавший Священное Писание, состоял пайщиком в крупном игорном притоне Политковского, где проигрывались сотни тысяч казенных денег. На вырученные таким образом доходы Дубельт покупал имения и записывал их на имя жены. Бенкендорф принимал участие в ряде промышленных акционерных предприятий и помогал им устраивать свои дела. Меньшие полицейские просто брали взятки. Один из частных приставов Петербурга, объехавши все пять частей света, с клятвой уверял, что вторая адмиралтейская часть — лучший уголок в мире…
Но все это были кулисы полицейской жизни. Наружу жандармы являлись в голубом, как небо, мундире и белоснежных перчатках. Так же безоблачна и чиста должна была быть жандармская совесть. А за стенами здания у Цепного моста, когда нужно было, перчатки снимались и в руки брался кнут, умевший оставлять кровавые следы.
Жизнь Шервуда-Верного
Книга о Шервуде написана в 1927 году и явилась одним из первых результатов моей работы над декабристами и их эпохой. Уходя в детальный материал архивных источников, я получал возможность не только изучать основные движущие силы классовой борьбы в России первой половины XIX века, но и восстанавливать перед собой конкретный быт различных социальных групп, познакомиться с целым рядом общественных типов. Из этих занятий выросло желание дать ряд связанных единством темы и главного героя социально-бытовых очерков и совместить в них научную точность фактического материала с интерпретацией его в плане занимательного повествования.
Задача довольно трудная, но и актуальная, поскольку материал такого рода, приближающийся по своему характеру к мемуарному, но отличающийся исследовательской проверкой фактов, должен служить педагогически важным дополнением при ознакомлении с общим ходом исторического процесса. Необходимость создания такой литературы сформулирована М. Н. Покровским в предисловии к книге Г. Серебряковой «Женщины эпохи французской революции». Действительно, исторический роман, получающий у нас сейчас довольно широкое распространение, не может целиком заполнить этот пробел; сюда должна направиться и работа специалиста-историка.
Чрезвычайно важный вопрос при разрешении проблемы популярно-занимательной книги — это распределение общего фона и конкретного материала. Нужно ли вводить в изложение подробные характеристики экономики и социальной жизни эпохи? Здесь, вероятно, не может быть одинакового ответа для всех эпох и тем. В данном случае мне казалось, что социально-экономическая история первой половины XIX века достаточно освещена существующей исторической литературой; широко вводить этот материал, следовательно, было бы нецелесообразно, так как его пришлось бы ставить либо в плоскости методологических споров, что перевело бы самую работу в другой план, либо в популярной трактовке, а это для подготовленного читателя — а на него-то и рассчитана книга — излишне.
Таким образом, моменты общеисторического порядка привлекались лишь постольку, поскольку без них было бы затруднительно понимание отдельных, незнакомых читателю и мало освещенных в марксистской литературе, явлений.
В какой мере это разрешение вопроса удачно и насколько вообще книга отвечает задачам научно-исторической живописи, автору судить довольно трудно, особенно при новизне у нас этого жанра.
В кропотливой работе собирания отдельных фактов и справок мне пришлось обращаться к помощи ряда лиц и научных учреждений. Впоследствии, благодаря некоторой задержке в печатании книги, мне удалось познакомить с нею в рукописи нескольких специалистов и получить их оценку и указания. Пользуюсь случаем выразить мою благодарность Н. Н. Ванагу, С. Я. Гессену, Б. П. Козьмину, Н. О. Лернеру, Ю. Г. Оксману, Ф. Ф. Раскольникову, Б. Е. Сыроечковскому, А. А. Шилову и сотрудникам Ленинградской государственной публичной библиотеки. Двоих доброжелательных критиков рукописи книга уже не застает в живых: А. В. Владимирова и А. Е. Преснякова.
Некоторые отрывки из книги были напечатаны мною в статье «Первый провокатор-профессионал» (Новый мир, 1929, II) и в брошюре «Третье отделение в Николаевскую эпоху» (М., Изд-во политкаторжан, 1930).
И. Т.
I. Общество «Frères-cochons»
Кажется, будто жизнь людей обыкновенных однообразна — это только кажется: ничего на свете нет оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей…
А. И. Герцен. «Кто виноват?»История жизни и приключений Ивана Васильевича Шервуда-Верного удивительным образом распадается на отдельные эпизоды, эпизоды любопытные и своеобразные. Жанр остается выдержанным в течение всего повествования — это авантюрный роман, но роман, написанный самой жизнью на плотной цветной бумаге канцелярских отношений, представляет особый интерес для историка. Каждая новелла этого романа сталкивает нас с живыми людьми. Имена одних вошли в обиход всякого исторически образованного человека, других — возвратились в небытие; но не прав ли был Герцен: что может быть оригинальнее и разнообразнее биографий неизвестных людей?
Знакомство с авантюристом почти всегда занимательно; подчас оно бывает поучительным. Шервуд для нас — не просто искатель приключений. Его именем начинается список профессионалов-провокаторов в России. Он вошел действующим лицом в историю такого значительного движения, как восстание декабристов. И немудрено, что, знакомясь с отдельными эпизодами его биографии, мы находим в них типическое отражение общественного быта эпохи. Пусть из отдельных осколков жизни одного человека мы не соберем целостного здания, но, если в них откристаллизовались явления, характерные для всего социального уклада времени, стоит, думается, извлечь документ из плена архивных стеллажей и к цепи событий, на первый взгляд случайных и не связанных, поискать недостающих звеньев. Элемент анекдота останется, но в том смысле, как его понимали в начале прошлого века: любопытное, но истинное происшествие.
Судьба архивного исследователя часто играет с ним жестокие шутки. Порой она вселяет в него надежду найти ответ на жгущий его в данную минуту вопрос, а в результате ставит перед рядом новых неожиданных проблем, разрешению которых поставлены неодолимые преграды: недоступность материала, неопределенность его местонахождения или заведомая его гибель. С такой проблемой сразу же сталкивает нас состояние архивных данных о Шервуде. Это история тайного общества «братьев-свиней», существовавшего в Петербурге в 1824 году.
В одном из старых томов «Русской старины», в отделе «Записная книжка», среди различных архивных мелочей имеется заметка под заглавием «Общество „свиней“ в 1824 г.»[16].
Под этим заголовком приведено было официальное, но никем не подписанное донесение об окончании следствия по делу общества «свиней». Безымянный автор записки, согласно канцелярскому этикету того времени, «имел счастие представить при сем заметки тех, кои в оном находились, и что о каждом оказалось».
Комментируя эту записку, редакция «Русской старины» отметила, что «действия и цели общества остаются для нас совершенно неизвестны». Хотя в руках ее и находилось дело о высылке членов общества «свиней» за границу[17], но и оно не проливало света на эту загадочную историю. В том же году в «Русской старине»[18] была помещена заметка, излагавшая содержание этого дела, но, кроме некоторых деталей, из нее нельзя было почерпнуть какие-нибудь дополнительные данные.
Так и остался эпизод этот забытым. На страницах наших старых журналов погребено, впрочем, немало сведений о событиях и более значительных, и более интересных. Случайная находка знакомит нас с новым фактом; но на очереди стоят иные вопросы, и общее течение исторической мысли оставляет этот факт в стороне, не осветив его и не поставив рядом с другими обстоятельствами, без которых он не может быть ни понят, ни оценен.
Поэтому нет ничего странного, если об обществе «свиней», или, как их, может быть, вернее будет назвать, «братьев-свиней», мы больше не находим печатных упоминаний. Еще одно указание мы можем прочесть на страницах «Исторического вестника», в статье официального историка трех царствований Н. К. Шильдера[19]. В руках автора были неопубликованные данные об обществе «свиней»; но его остановили соображения «этического» порядка: «крайние грубость и цинизм целей и порядков этого общества не дают нам возможности говорить о нем печатно».
В современном состоянии вопроса о развитии революционных течений в России первой четверти XIX века чувствуется значительный пробел: очень мало изученной оказывается обстановка, в которой зарождались первые русские политические общества. А между тем этот процесс не был изолированным. Привычной формой организации для всякого идеологического искания того времени, религиозного или политического, философского или революционного, было тайное общество. Эта форма сама по себе олицетворяла протест против общественного строя, и в самых по виду невинных, литературных или эпикурейских, тайных кружках уже пробивались ростки будущего революционного прорыва. В легитимнейшем «Арзамасе» вслед за шуточной символикой и литературными памфлетами Жуковского и Вяземского зазвучали серьезные речи М. Ф. Орлова и Н. И. Тургенева. И если в декабрьском движении оказалось так много случайных, идейно не столько чуждых, сколько безразличных ему людей, то не потому ли, что их, как ветреного гуляку, но по существу доброго малого, Репетилова, привлекла внешность:
…У нас есть общество и тайные собранья По четвергам… Секретнейший союз…Александровская эпоха была особенно богата тайными обществами. И если о масонстве, о декабристах, об «Арзамасе» и «Зеленой лампе» нам уже известно многое, то мы почти ничего не знаем о судьбе тех многочисленных групп, которые, несомненно, возникали и в столицах, и в провинции. От некоторых из них сохранились неясные следы, глухие намеки, но и они еще не разъяснены и не проверены. А между тем изучение отдельных обществ может оказать существенное значение для понимания социальной обстановки. Не будем поэтому слишком ригористичны и не станем, подобно Шильдеру, отказываться от материала, если он иллюстрирован соблазнительными рисунками.
Уже тот список членов общества «свиней», который был помещен в упомянутом донесении, вводит нас в определенную социальную сферу, знакомит с составом членов этого братства. Десять имен названо в этом списке — десяти участников, подвергшихся преследованиям и каре. Мы не знаем, привлекался ли еще кто-нибудь по этому делу. Дальше нам придется столкнуться с теми туманными, скудными данными, какие у нас по этому вопросу имеются, и попытаться в них разобраться. Но основной список непреложен, и он сразу же являет нам довольно любопытную картину.
Огюст Булан-Бернар — художник; Пьер Ростэн, уроженец департамента Соммы, гувернер и педагог; аббат Иосиф Жюсти, тосканец, но приехавший из Швеции; Цани — итальянец, одновременно секретарь и профессор музыки; Лебрен, commis[20] из Женевы, в России гувернер; Плантен, доктор медицины; Алексис Жоффрей (Жоффре), с должным чинопочитанием отмеченный как «губернский секретарь и поэт», а фактически преподаватель литературы; Констанс Марсиль, родом из департамента Соммы, доктор медицины и зять упомянутого Ростэна; Жан-Батист Май, о котором список сообщает только, что он был председателем братства, но который подписал обязательство о неприезде в Россию как «homme de lettres, natif de Besancon»[21], и, наконец, единственная русская фамилия в списке, ремарку к которой приведем целиком: «Сидоров, С.-петербургский мещанин. Молодой человек дурного поведения, говорит по-французски и занимается хождением по делам и т. п. Он был в обществе „свиней“, которые пользовались его услугами для приискания денег и для иных спекуляций. Оказался самым упорным в запирательстве. Бумаги его свидетельствуют, что он занимается самыми подозрительными делами»[22].
Первое, что бросается нам в глаза при чтении этого перечня, — иностранный состав общества. Иностранцы в России — тема в высшей степени любопытная. Начиная с конца XVI века широкий поток чужеземных искателей славы и наживы вливался в пределы Московского государства, устремляясь преимущественно в центры — в Москву и позднее в Петербург. Постепенно изменялась физиономия иностранного элемента в России. Скопидомная Москва неохотно пускала пришельцев и принимала только тех, в которых испытывала подлинную нужду. Итальянский техник, купец из «немцев цесарские земли», английский и голландский коммерческие агенты, странствующий ландскнехт, вступавший в царскую службу, — вот типы иностранцев того времени. С начала XVIII века перед ними открываются совершенно иные перспективы. Реформированные по европейским образцам система государственного управления и организация войска, двор, стремительно преобразовывавшийся на чужеземный лад («Хочу иметь у себя огород не хуже Версаля», — говаривал Петр), дворянское общество, жадно покрывавшее себя лаком новой культуры, — все это создавало благоприятнейшую почву для возвышения людей с Запада. Развитие, первоначально пусть еще слабое, русской мануфактурной промышленности, рост сношений русской торговли с европейскими рынками укрепили связь России с Западом и окончательно ввели ее в круг европейских держав. Собственно XVIII век и явился апогеем в смысле возможностей, которые Россия предоставляла иностранным авантюристам. Ответственнейшие государственные посты без труда занимались безвестными проходимцами, умело вступавшими в круг дворцовых интриг и преторианских переворотов. Высшие военные чины беспрепятственно раздавались офицерам сомнительных итальянских и немецких армий. И немудрено, что величайшие авантюристы XVIII века в своих странствиях не минули России. Сен-Жермен, Калиостро, Казанова, кавалер д’Эон — все они побывали в столице Севера. И многие из тех, кому на родине терять было нечего, кого гнали оттуда нужда и безвестность, подчас и уголовные законы, охотно отправлялись в русское Эльдорадо и достигали там богатств и почестей.
Выплеснутые решительным толчком революционного народа, «из недр Франции целые потоки невежественного дворянства полились на соседние страны, Англию, Германию, Италию»[23]; оттуда они стали просачиваться в Россию, а победоносные войны Наполеона оттеснили на восток новые массы эмигрантов.
В конце XVIII века Россия переживала период хозяйственного подъема. Упорно рос вывоз русского хлеба и сырья; в толщу сельского хозяйства начинали уверенно проникать капиталистические отношения. Пробивались первые ростки промышленного капитализма. Уже Вольное экономическое общество предложило, по высочайшей инициативе, задачу: «в чем состоит собственность земледельца» — и наградило премией ответ Беарде-Делябея, полагавшего, что «собственность не может быть без вольности».
В то же время раздвигались внешние границы империи. Могущество ее казалось незыблемым. После подавления Пугачевского бунта, побед над Турцией и раздела Польши русскому колоссу еще не было надобности проверять, из какого материала сделаны его ноги. Двор «Семирамиды Севера» считался самым блестящим в Европе, и подобно тому, как после падения Византии ритуал империи оказался перенесенным в Кремлевские палаты, точно так же в конце XVIII века лужайки загородных петербургских садов озарились последними лучами заходившего версальского солнца. Принцип легитимизма нигде не находил такой безусловной поддержки, как в России, и нигде эмигранты не встречали лучшего приема. Им не только открылись доступы к дворцовым залам и светским гостиным[24], но и к чинам, почестям и землям. В колонизаторском увлечении русское правительство щедрой рукой раздавало новоприобретенные земли Новороссии и Таврии. Девственные степи Черноморья и виноградники изгоняемых татарских бедняков огласились изысканной французской речью. Даже знаменитая де ла Мотт, героиня «ожерелья королевы», правда несколько позднее, оказалась крымской помещицей, в каковом звании она и закончила свои дни. Впрочем, неразборчивость русского гостеприимства доходила до таких пределов, что почти что состоялось было соглашение о заселении Крыма английскими уголовными преступниками.
Мемуары и документы того времени пестрят упоминаниями об удивительных карьерах иностранцев. Заезжий булочник, не найдя себе применения по специальности, делается гатчинским офицером и успешно продвигается по служебной лестнице. Французский парикмахер, нажившись торговлей духами, переходит от пудры к крупчатке и, наконец, становится одним из крупнейших новороссийских помещиков. Можно было бы привести много подобных примеров из различных сфер общественной жизни.
Понятно, что при таких условиях наплыв иностранцев не прекращался. Со временем, однако, мода на них начала проходить, и все труднее и труднее становилось им добиваться успеха. При развивавшейся бюрократической системе становилась седым воспоминанием щедрость былых фаворитов. В первой половине XIX века уже казались анекдотами капризы Потемкина, давшего гувернантке своей возлюбленной чин и оклад полковника в виде пенсии. Культурное дворянское общество протестовало против увлечения «французиками из Бордо», и даже служилая среда начинала давать отпор чужеземцам, отпор, особенно ревностно поддержанный, по-видимому, балтийскими немцами, считавшими себя коренными русскими. Ярким примером такого «истинно русского» балтийца может служить Ф. Ф. Вигель, в воспоминаниях которого мы найдем немало гневных строк по адресу иноземцев. «Нет числа бесполезным иностранцам, — писал он, — которые приезжают к нам покормиться и поумничать» и пр.[25]. С ростом числа приезжих мельчал их калибр; в атмосфере, уже насыщенной иностранным элементом, нельзя было рассчитывать на быстрое возвышение и приходилось довольствоваться более скромными ролями. Вигель был не совсем прав, утверждая, что «не было у нас для французов середины: ils devenaient outchitels on grands seigneurs»[26]. Для его эпохи французский гувернер был уже значительно типичнее, чем вельможа из французских эмигрантов. Итальянские аббаты и музыканты, французские «hommes de lettres», недоучившиеся немецкие студенты и английские шкиперы, попадая в Россию, становились в лучшем случае секретарями и библиотекарями в аристократических домах, обычно же гувернерами и преподавателями.
Не нужно думать, что единственным типом иностранца-учителя был безграмотный проходимец вроде фонвизинского Вральмана. Литература сохранила нам иные образы — достаточно привести хотя бы мсье Жозефа, воспитателя Бельтова. Сам Герцен любовно вспоминал одного из своих учителей, старика Бушо, давшего 14-летнему мальчику вместе с деклинациями субжонктивов первые уроки революционной нетерпимости[27]. Правда, в большинстве французы-гувернеры оказывались сомнительными педагогами. Но это обычно и не входило в их обязанности. «Немец при детях» был чем-то вроде дядьки. Французу, кроме необходимости «в Летний сад дитя водить», зачастую, особенно в провинции, доводилось исполнять обязанности собеседника и собутыльника своего хозяина, а подчас и утешителя хозяйки.
Таким образом, создавалась особая среда иностранной интеллигентной богемы. Здесь оказывались и люди твердых и продуманных убеждений, и культурные проходимцы, оставившие отечество в поисках лучшей будущности, и явные шарлатаны, картежные шулера и проч. Но при всей их разности моментом, объединяющим их, была их зависимость, их паразитическое существование за счет новых интересов русского дворянского общества и старинного барского хлебосольства.
«В больших городах, — пишет современник, свидетельство которого для нас тем более любопытно, что сам он является представителем только что обрисованной среды, — если семья состоит из шести человек, на стол ставят девять или десять приборов, предназначенных для случайных посетителей; как я уже говорил, их принимают, потому что это почти ничего не стоит и, вдобавок, потому, что эти профессиональные паразиты делают все возможное, чтобы быть приятными своим хозяевам. Они обучают французскому языку, которого не знают, хотя и выдают себя за литераторов; танцевальные учителя, изображающие свое ремесло высшим из искусств; маляры, именующие себя художниками; музыканты, профессора фехтовального дела — все это усаживается за самыми роскошными столами, ест, пьет, спорит и старается увеселять или по крайней мере занимать своего амфитриона. После десерта таланты расплачиваются: поэт читает свои стихи, в которых обычно нет ни чувства, ни размера; танцор показывает хореографическую диссертацию; певец пускает рулады; знаток рапиры демонстрирует особенный удар; художник заявляет, что madame — воплощенный идеал красоты, и набрасывает отвратительный эскиз ее портрета; виртуоз берется за свою флейту и играет арии, которых не слушают, но провозглашают восхитительными. Эти комедии продолжаются, пока хозяева не почувствуют тяги ко сну и не удалятся в свои покои, чтобы переварить философствования, растянувшись на канапе в ожидании ужина или спектакля»[28].
К этой-то среде, сравнительно интеллигентной по культурному облику и паразитической по ее положению в обществе, и принадлежали члены общества «свиней», по крайней мере те из них, чьи имена значатся в проскрипционном списке, напечатанном в «Русской старине».
Одной из побудительных причин, толкавших представителей высших кругов на организацию эзотерических обществ, была пустота общественной жизни. «Кроме мистического значения, масонство составляло едва ли не единственную стихию движения в прозябательной жизни того времени; едва ли не единственный центр сближения между личностями, даже одинакового общественного положения. Вне этого круга общительность… не существовала; все как-то чуждались друг друга»[29]. Эти слова относятся к 1822 году. Несколько позже, уже после официального закрытия тайных обществ, А. И. Михайловский-Данилевский в тех же тонах рисует оскудение общественных интересов: «Карточная игра распространилась в Петербурге до невероятной степени; конечно, из ста домов в девяноста домах играют… я не видал, чтобы где-нибудь занимались чем-либо другим, кроме карт. Если приглашали на вечер, то это значило играть, и едва я успевал поклониться хозяйке, то карты находились уже в моей руке». Причину этой скудости культурных запросов он полагал происходившей «частию от недостатка в образовании, приметного вообще в России, и частию же от того, что из разговора изгнаны были все политические предметы; правительство было подозрительно, и в редком обществе не было шпионов…»[30]
Мы знаем, что отдушинами в этой затхлой атмосфере были тайные кружки и общества. Но туда шли немногие, те, кого почтенные кавалерственные старички презрительно именовали «идеологами». Для всей же массы столичного дворянства, не говоря уже о провинциальных усадьбах, оставалось: для молодежи — гвардейские проказы, бретерство, вино и карты, для особ высших классов и возрастов — карты, сплетни и интриги.
Попадая в этот круг и кормясь за его счет, свободная иностранная богема должна была резко чувствовать и социальную грань, отделявшую ее от титулованных и сановных меценатов, и свое умственное превосходство над этой средой. В большинстве своем молодежь, они были хотя и деклассированными, но все же детьми новой, революционной Франции. Многие из них пришли в Россию победоносными маршрутами великой армии и, оставшись то ли в качестве военнопленных, то ли не желая возвращаться под сень бурбонских лилий, смотрели на порядки приютившей их страны критическим и подчас отрицательным оком. Низкопоклонничая и угождая русским Тримальхионам, они не теряли своих вкусов свободных плебеев, своей темпераментной жизнерадостности и воспоминаний о «douce France», о милой Франции. Это объединяло их, сплачивало и возбуждало потребность постоянного общения.
В условиях императорской России последнее оказывалось не так легко. Здесь не был известен тип литературной кофейни или политического клуба. Когда в 1801 году, еще при Павле, некий общительный немец возымел желание в легальном порядке учредить клуб для немецких ремесленников и торговцев в Петербурге, то за свою дерзость поплатился высылкой из пределов империи. О свободных диспутах Пале-Рояля в петербургских садах и на московских бульварах даже мечтать нельзя было. Гвардейские ветрогоны, которым в 1814 году на короткое время разрешено было носить статское платье, свободно фланировали по Невскому, приставая с разговорами и оскорбительными предложениями к женщинам и заводя ссоры и драки с их мужьями. На это власти смотрели сквозь пальцы, но устраивать собрания вне улицы и «разговаривать» было запрещено: мало ли к чему могли повести такие разговоры? И цитированный выше иностранный мемуарист с сокрушением замечал по этому поводу: «В Петербурге имеется только одно кафе, напоминающее парижские; оно содержится французом». Сюда-то и устремлялись интеллигентные иностранцы. «Здесь по утрам собираются, — продолжает наш автор, — профессора языков, иностранцы, чтобы узнать новости и прочесть газеты». Но и здесь приходится быть сдержанным. «Нужно особенно остерегаться политических дискуссий, порицающих существующий здесь строй, потому что вы окружены достаточным количеством внимательных шпионов, и вас схватят и выдадут страшному начальнику полиции. Самое надежное это говорить только о пустяках или совершенно молчать»[31].
Открытое общение иностранцев в таких условиях поневоле становилось исключительно деловым. Тот же автор, к свидетельствам которого мы должны отнестись с особым вниманием, потому что он сам является ярким образчиком интересующей нас среды и потому что имя его — Жан-Батист Май — внесено в список занимающего нас общества «свиней» в качестве председателя, говорит: «Как в Петербурге, так и в Москве устроившиеся там французы составляют особую общину. Между ними царит полное единение и согласие; ни один из их менее счастливых соотечественников не уйдет от них без помощи. Для того чтобы те, кого злая судьба заставила покинуть родину, могли скорее достигнуть успеха, создана специальная биржа»[32]. В другом месте Май описывает Московскую биржу иностранных учителей, учрежденную французом — содержателем отеля. К нему стекаются безработные соотечественники, и у него ищут провинциальные помещики менторов для своих детей. Май не без иронии описывает процесс найма и торга, начинающихся вопросом: «Есть ли у вас хороший учитель?» — и ответом: «Kakgè, Batiouchka, iest».
Таким образом, мы видим, что единение интеллигентных иностранцев в России поддерживалось не только общностью их положения, но и наличием некоторой организации. В открытой форме эта организация носила характер посреднический, но уже завязавшиеся узы должны были как-то переноситься и в область культурных потребностей. Оставался тот же путь, что и для коренных жителей России: дружеские собрания, тайные кружки и общества.
Читатель вправе предположить, что общество «братьев-свиней», судя по его составу, и являлось одной из таких организаций. Но материал заставляет подойти к вопросу с несколько иной стороны.
Приведенный выше список членов общества «свиней» не ограничивается сухим перечнем имен, фамилий и профессий. О каждом из преступников он сообщает краткое резюме его вины и дает характеристику, преимущественно в области нравственной.
Ни словом не обмолвившись о целях и задачах этой организации, список тем не менее трактует ее как вредную и вполне безнравственную. Так, о председателе ее, уже знакомом нам «homme de lettres» Мае, говорится: «Май сам признается письменно во всех мерзостях, которые он делал во время этих оргий…» О других обычно указывается: «распутного поведения», «самого дурного поведения», без прямой связи с их деятельностью в роли членов братства «свиней».
Список не дает нам, таким образом, ничего определенного о самом обществе. Эпикурейские содружества сохранились и после указа 1822 года о закрытии тайных обществ и не вызывали особых преследований со стороны правительства. Так, в воспоминаниях Э. Стогова имеется рассказ о существовании в Петербурге общества «кавалеров пробки», устроенного известным вивером и хлебосолом Буниным. «Все члены в своем собрании имели в петлице сюртука пробку… За обед садились между дам мужчины, пели хором песню, кажется, сочиненную Буниным[33]: „Поклонись сосед соседу, сосед любит пить вино. Обними сосед соседа, сосед любит пить вино. Поцелуй сосед соседа, сосед любит пить вино“. После каждого пения исполнялось точно по уставу. Бунин был гроссмейстер»[34]. Конечно, boni mores страдали от устава этого пробкового ордена, но тем не менее рыцари его не находили в своих поступках ничего противузаконного. По крайней мере, Стогов прибавляет: «Думаю, что такое тайное общество запрещено правительством не было».
Нельзя было не заметить, что уже самое название общества «свиней» является визитной карточкой, не внушающей доверия к ее подателю. Конечно, в ту эпоху многочисленных тайных кружков мы зачастую встречаемся со странными названиями, но почти всегда они прямо или символически связаны с занятиями людей, объединившихся под подобной эгидой. Только что приведенный пример являет нам аллегорию очень ясную. И «братья-свиньи», по-видимому, при всей игривости этого названия, должны были отличаться нечистоплотностью, моральной или физической.
В каком направлении развивались их «свинства», мы узнаем из источника, довольно странного по самому своему происхождению. Это документ, хранящийся в Шильдеровском собрании бумаг Государственной публичной библиотеки в Ленинграде и озаглавленный: «И. В. Шервуд-Верный и общество „frères-cochons“». Рассказ этот, подписанный М. Марксом и датированный 11 октября 1888 года в городе Енисейске, и позволил Шильдеру бросить в цитированной статье намек о связи Шервуда с братством «свиней». О причинах, заставивших Шильдера отказаться от изложения подробностей, мы уже говорили выше.
М. Маркс, по специальности учитель географии, в 50-х годах преподавал в Смоленской гимназии. Впоследствии он принял активное участие в революционном движении и по каракозовскому делу был сослан в Енисейскую губернию. Но революционная его деятельность относится уже к 60-м годам, хотя возможно, что уже в описываемое время он поддерживал связь с польскими революционерами. Вращаясь в светских кругах Смоленска, молодой географ свел случайное знакомство с видным отставным кавалерийским полковником; на следующий же день последний явился к нему с визитом и, не застав дома, оставил визитную карточку, на которой под баронской короной значилось: «John Shervoud-Verny Colonel et chevalier» — с припискою: «Hôtel de la Stolarikka».
«Вежливость заставила меня, — рассказывает далее М. Маркс, — на следующий день отправиться в „Hôtel de la Stolarikka“, то есть запросто в грязный постоялый двор, содержимый чертовски безобразною бабою, известною тогда всему городу под именем ведьмы-столярихи… Colonel[35] занимал в отеле два нумера, то есть две тесные комнатки, и, кажется, ожидал моего ревизита. И он, и супруга его приняли меня с утонченною вежливостью и радушием».
Автор, как видим, относится к Шервуду не без презрительной иронии; в других местах он говорит о нем с прямой антипатией. Но экзотический интерес к редкому в провинции типу оказался сильнее отвращения к предателю — и Маркс покорился навязчивой дружбе Шервуда. Последний стал бывать у него запросто, вознаграждая хозяина за выпитый ром мемориями из своей бурной жизни. В их числе он поведал Марксу и три своих главных «фокуса»: историю общества «братьев-свиней», предательства в деле декабристов и третий, о котором автор глухо говорит, что он был направлен против самого Николая Павловича[36]. Особенно интересным показался нашему мемуаристу эпизод с «братьями-свиньями», «характеризующий состояние тогдашнего общества со всею его нравственною пустотою, шаткостью убеждений и безотчетным незнанием, к чему пристать и чего держаться».
Заканчивая вступление к своему рассказу, Маркс говорит: «Я записывал все слышанное в тот же вечер, сейчас по уходе от меня Шервуда, и теперь восстановляю записанное со всевозможной правдивостью, не ручаясь, впрочем, за правдивость рассказчика»[37].
Дело заключалось в следующем:
«В одном петербургском семействе, причисляемом к bean monde[38], случилась загадочная нечаянность. Семейство это состояло из отца, служившего в каком-то департаменте и занимавшего там довольно крупную должность; из супруги его, дамы de la grande volée[39], но больной и не выезжавшей из дому в продолжение последних двух лет; и из молодой дочери, редко отлучавшейся от матери, и то не иначе как с дамами, хорошо знакомыми с мамашей и принадлежащими к одному с ней общественному кругу. А нечаянность была та, что дочь ни с того ни с сего оказалась в уважительном состоянии. После долгих родительских увещеваний уяснилось, что первым соблазнителем ее был приехавший недавно из-за границы француз, доктор философии, преподаватель французской литературы, — m-r Plantain, введший ее при помощи одной из знакомых дам в общество, в котором совершаются оргии вроде афинских вечеров, и бросивший ее потом, так что она не может теперь знать, кто именно виновник беременности. Ничего не говоря даме, завлекшей ее в такое милое общество, и удерживая дочь, как больную, в совершенном разобщении, отец решился лично под секретом сообщить о существовании общества Милорадовичу…»
Генерал-губернаторы того времени рассматривали семейную жизнь своих сограждан — фактически подданных — как вопрос, полностью входивший в пределы их компетенции. Отцы города, вроде графа Закревского в Москве, сильные своими боевыми заслугами, знатностью или положением при дворе, не стеснялись по собственному почину ввязываться в такие семейные дела жителей подвластных им городов, которые обычно разрешаются только самими заинтересованными лицами. Так же поступал и Милорадович, по своей пылкой натуре особенно интересовавшийся делами с эротической подкладкой. Приняв жалобу оскорбленного отца, он немедленно призвал Шервуда, состоявшего при нем в качестве тайного агента.
— Нарядись франтом, comme il faut; усы долой; понимаешь? Отправишься в гостиницу Демута; там в таком-то нумере живет француз — доктор философии. Займи соседственный с ним нумер, сойдись с ним как можно подружественнее, присмотри и разузнай, кто его посещает. Доложи мне потом, да денег не жалей, — сказал Милорадович Шервуду в одно утро.
Согласно полученным инструкциям Шервуд поселился в славном тогда отеле Демута, выходившем на Мойку и Конюшенную улицу, и свел знакомство с заподозренным философом. Сам иностранец, свободно владевший несколькими языками, он без труда вошел в доверие француза и перезнакомился с его друзьями, тоже иностранцами. Исподволь нащупывая почву, Шервуд начал свои разведки с разговоров о масонстве, но получил ответ, что «масонство не удовлетворяет цели совершенствования человечества именно потому, что в него входит только одна половина, один мужской элемент». За такими рассуждениями Шервуд легко узнал о существовании тайного общества, где и второй элемент был в должном количестве представлен, причем входят туда представители высших кругов. Называлось оно «Frères-cochons», причем о происхождении этого странного имени Шервуд сообщил Милорадовичу следующее: «Когда одну даму уговаривали вступить в общество, в котором брачуются на один вечер и не по выбору, a par hasard, как случится, то она с отвращением сказала: „Mais c’est une cochonerie“[40]. Что ж, что cochonerie, ответили ей, ведь и свиньи точно как и люди — дети природы. Ну, мы будем „frères-cochons“, а вы — „soeurs-cochons“[41]. Дама убедилась, и название frères-cochons осталось за обществом».
Все эти сведения еще пуще заинтересовали Милорадовича, и он приказал Шервуду продолжать розыски, вступив в самое общество, и снабдил его нужной для этого суммой в 200 рублей.
Сделавшись членом братства и получив соответствующий билет на пергаменте с оттиснутыми литерами «Ф. Ц.» и допиской «Fr. № 48», Шервуд стал ожидать введения в собрания. Предварительно брат, принявший его, аббат-итальянец, в котором мы легко узнаем Жюсти, вручил ему печатный листок с гимном, который неофиту требовалось выучить наизусть к назначенному для посещения дню. Гимн начинался словами:
La Nature, notre mére bienfaisante, Nous, les enfants, te saluons…[42]Далее Маркс переходит к описанию собраний братства, в которых побывал Шервуд. Мы не будем останавливаться на всех подробностях ритуала «свиней», детали которого наш мемуарист смакует с не совсем здоровым удовольствием. Из его рассказа мы узнаем, что принятие нового брата не обставлялось никакой обрядностью; по-видимому, для членов общества не было обязательным близко знать друг друга: ответственность несли руководители. В каждом собрании бывало не больше девяти пар, причем этот обычай символизировался в гимне стихами:
De la lumiére jusqu’ on ténebres — Arc-en-ciel a sept conleurs[43].Соответственно этому, пары были окрашены в семь цветов радуги, белый и черный. Время проходило в различных удовольствиях. Между собравшимися царило полное согласие и дружелюбие. Каждый мужчина для всех прочих без различия пола был cher frére, а каждая женщина — chére soeur[44]. Пары же называли друг друга mon diedonné и mа diedonné[45].
Оргии продолжались около двух часов и закрывались под пение гимна; гимном же они и начинались.
Шервуд дважды побывал в собраниях братства и об обоих посещениях довел до сведения Милорадовича. Некоторых из cheres soeurs он знал в лицо и мог назвать их своему патрону. Здесь были и титулованные дамы, и богомольные посетительницы дворцовой церкви, и богатые купчихи. Судя по рассказу, именно последнее обстоятельство — наличие в братстве представительниц высших кругов — особенно прогневало вельможу, до того относившегося к деятельности «свиней» с некоторого рода снисходительностью и любопытством.
О результатах шервудовской провокации Маркс сообщает следующее:
«Третий раз в собрание Шервуду не пришлось съездить. Все до одного братья были уже заарестованы. Иностранцев отправили через Кронштадт и Штеттин за границу, со строгим запрещением въезда в Россию, под угрозою ссылки в каторжные работы. Только педагог Plantain должен был обвенчаться с соблазненной им девицей. Она поехала в Кронштадт с фамилией отца, а возвратилась в Петербург как m-me Plantain… Своих отпустили, давши им предварительно порядочное физическое наставление в нравственности; за исключением Сидорова, которого, как основателя, упрятали куда-то посевернее. Государь и Милорадович, оба как истые chevaliérs-galants[46], сестриц-дам не побеспокоили ни словом даже… Дело по окончании не поступило в архив; оно было брошено в горящий камин рукой самого государя».
Так изображает историю открытия общества «Frères-cochons» документ, скрытый Шильдером, о существовании которого он позволил себе упомянуть только мимоходом, бросив туманный намек в цитированной нами выше статье. В какой же мере можем мы довериться этому источнику?
Сам автор воспоминаний не внушает в этом смысле особенных опасений. Революционер и географ-краевед, он неоднократно фигурировал на страницах «Русской старины», помещая в ней небольшие заметки мемуарного характера. Автор этих заметок нигде не претендует на достоинства исторического романиста, а выдумать всю приведенную выше историю со всеми ее многочисленными, нами опущенными, деталями мог только человек с пылкой и не совсем трезвой фантазией. К тому же в момент написания рассказа ему было уже за 70 лет. Единственное, в чем можно заподозрить М. Маркса, это в подновлении своих старых записей на основании печатных материалов. Он и сам не скрывает своего знакомства с названным нами списком членов общества и напечатанной в той же «Русской старине» заметкой о высылке их за границу. По-видимому, указание, что frére aine[47] числился в братстве Ж.-Б. Май, сделано на основании данных списка; авторство гимна, приписанное им Жоффре, могло быть установлено по соображению, что «Жоффре прославился весьма вольной поэмой о Петербурге» и означен был как «поэт». Фигура итальянского аббата напоминает нам pére[48] Жюсти. При некоторой мнительности можно предположить, что и эпизод с Плантеном и соблазненной им девицей придуман на основании опубликованного официального разрешения ему жениться на Глоховской. Но, вообще, за исключением некоторых мелких данных, Маркс ничем не мог воспользоваться из печатных источников; наоборот, он иногда даже противоречит им: так, Плантена он именует доктором философии и гувернером, между тем как по списку и в действительности он был доктором медицины. Не забудем притом, что Маркс писал спустя семь лет после появления статей в «Русской старине», — срок достаточный, чтобы охладить разгоряченную таинственными документами фантазию.
Гораздо больше сомнений вызывает у нас первоисточник Маркса. Каким образом мог Шервуд в 1824 году открыть общество, да еще, как он хвастался Марксу, получить за этот подвиг чин унтер-офицера и изрядную сумму денег, когда по всем официальным источникам он в это время пребывал довольно далеко от веселой гостиницы Демута, находясь на службе в 3-м Украинском полку, в южных военных поселениях? Правда, как мы в своем месте убедимся, биография его в эти годы оказывается довольно темной, а формулярам того времени можно доверять только с большой осторожностью, особенно если они повествуют о служебном пути лиц, имевших отношение к полиции. Так, барон М. А. Корф в своих записках приводит свой разговор с великим князем Константином Николаевичем по поводу назначения графа Левашова председателем Государственного совета: «Во-первых, Ваше Высочество, он давно уже председателем de fait[49], а во-вторых, нисколько еще не доказано, чтобы он служил когда-нибудь в полиции; это одна молва, одно предание, а в формуляре значится только, что он начал службу в штате военного генерал-губернатора»[50]. Можно было бы, таким образом, и не принимать во внимание формуляр Шервуда, если бы различные свидетельства, связанные с провокацией его в деле декабристов, не заставляли нас сильно усомниться в возможности его присутствия в 1824 году в Петербурге и связи с Милорадовичем.
Есть все основания думать — отсутствие подлинного следственного дела не дает возможности что-нибудь утверждать, — что участие Шервуда в раскрытии общества «свиней» является исключительно продуктом его воображения. Но рассказывать о нем он, конечно, мог не без знания дела. Как-никак велось оно по поручению Милорадовича полицейскими органами; арестованные «свиньи» сидели в полицейских участках, каждый по месту своего жительства. В дело были посвящены довольно широкие круги. Подобные преступники случались, вероятно, не так часто и должны были, конечно, запомниться в испытанной памяти полицейских агентов. А Шервуд уже с 1826 года становится членом полицейской семьи и своим человеком в ее мутном окружении. По своему положению он мог узнать эту историю и у самых осведомленных лиц.
Но прежде чем оценить по существу переданную выше версию, обратимся к другому источнику, на этот раз уже не вызывающему никаких подозрений в смысле его аутентичности. Это неоднократно цитированные нами для характеристики социальной среды, породившей общество «свиней», воспоминания Жана-Батиста Мая, того самого, кого Маркс называет frére aine этого достойного союза.
В этой книге имеется специальная глава, посвященная «Обвинению группы иностранцев в заговоре», излагающая как раз историю братства. По словам Мая, оно возникло по почину художника Булана[51], светского молодого француза, охотно принятого в лучших домах столицы и широко жившего, преимущественно на чужой счет. Как рассказывает Май, это был особенный мастер занимать без отдачи и, в сущности, un charlatan parfait[52]. Пользуясь кредитом у различных гастрономических торговцев, он организовал у себя своеобразный клуб чревоугодников, куда пригласил нескольких соотечественников; «здесь можно было петь во весь голос, пить вдоволь и без церемоний; казалось, здесь была Франция». Несмотря на то что беседы, сопровождавшие эти пирушки, носили самый невинный характер, правительство заподозрило заговор, хотя «никогда ни одно слово о политике не нарушало веселья».
В результате этого были произведены аресты — Май перечисляет всех тех, чьи имена фигурируют в приведенном списке. Но при всем желании найти что-нибудь подозрительное в делах арестованных иностранцев их враги, среди которых Май с особенным недружелюбием поминает Милорадовича, Гладкова и их главного помощника Фогеля, ничего не могли открыть. Криминал удалось установить только в отношении гостеприимного Булана: выяснилось, что у него есть другая фамилия — Бернар; у него были найдены масонский диплом и заряженные пистолеты; он давал очень сбивчивые и туманные ответы на допросах и вообще показал себя с самой дурной стороны. Все же прочие упорно настаивали на своей невинности, и против них не оказалось никаких улик. «…Им приписали другие вины. В их собрания никогда не допускались женщины, и презренные, с такой злобой добивавшиеся их погибели, умудрились изобразить их чудовищами-педерастами, от которых необходимо очистить Россию». Тщетны были попытки жен двух из заключенных — Марсиля и Ростэна — заручиться помощью Ла-Феронне. Королевский посол не пожелал принять участия в соотечественниках, и после конфирмации Александра друзья были высланы через Кронштадт за границу, без права возвращения в Россию; первоначальный же проект предполагал их отправку в Сибирь. Больше всех пострадал Сидоров, случайный человек в их компании, как русский подданный, расплатившийся розгами и пожизненным заключением[53].
Итак, перед нами совершенно новая версия, диаметрально противоположная первой. Но, при всей авторитетности ее автора, она вызывает некоторые возражения.
Прежде всего, Май, конечно, является заинтересованным лицом, и это уже пробуждает известную мнительность по отношению к истинности его рассказов. По его словам, полиция заподозрила в дружеских сборищах у Булана политическую неблагонадежность и только позднее перешла к обвинению в проступках нравственного порядка. Но, как мы знаем, отнюдь не в нравах александровской полиции было содержать политических преступников под наблюдением квартальных надзирателей. Май очень верно отмечает в других местах своей книги неусыпную бдительность полиции относительно иностранцев. Отчасти это вызывалось необходимостью борьбы с проникавшим с Запада в Россию уголовным элементом; в архивах того времени мы встречаем немало дел «об иностранных бродягах», подчас даже с баронскими коронами, или дел вроде «О французе Жане, Делаво и двух женщинах скопической секты и помещике Кайсарове». Наипаче же обращалось внимание на ограждение русских владений от проникновения тлетворного западного духа. Сам фактический руководитель секретной полиции при Милорадовиче, столь нелюбезный Маю Фогель объяснял свою оплошность в деле декабристов следующим образом: «Если бы мне было предоставлено право действовать самому, то я могу поручиться, что вовремя напал бы на след заговора. Но начальство ожидало и более всего опасалось вторжения из-за границы в столицы карбонаризма и крайних революционных стремлений, развившихся в Германии. Мне было приказано неусыпно следить за всеми иностранцами и за поляками и каждый день отдавать отчет в моих наблюдениях… Результат этого наблюдения ничтожен; из того, чего опасалось правительство, не открыто ничего, все ограничилось высылкой за границу нескольких иностранцев-шалопаев, почему-нибудь подозрительных»[54].
Нам приходилось пересматривать основанные на данных Фогеля всеподданнейшие донесения Милорадовича о состоящих под надзором иностранцах, в том числе и за интересующий нас 1824 год. Достаточно было самого пустячного происшествия с иностранцем, чтобы полиция брала его под опеку; но кто казался зараженным бациллой карбонаризма, тот не избегал казематов Петропавловки. Из членов общества «свиней» в списках Милорадовича присутствуют только двое — Марсиль и Ростэн, и то по совершенно особому поводу. Следствие, очевидно, возникло внезапно и производилось отдельно. Несомненно также, что только один из «братьев» внушил правительству опасения по своим политическим убеждениям — именно аббат Жюсти, единственный заключенный по этому делу в Петропавловскую крепость, о чем и было заведено особое производство.
Таким образом, рассказ Мая в этом пункте кажется нам сомнительным. Точно так же непонятно, почему, ежели все дело «свиней» было результатом произвола, понадобилось ему отрицать свое участие в собраниях общества, прикрывшись прозрачной выдумкой, что в них находился его однофамилец, от которого он якобы все знает[55].
Вряд ли он мог кого-нибудь этим обмануть. Вообще его роль значительно и, конечно, сознательно преуменьшена. На первом плане Булан-Бернар. Но наш список отводит последнему второе место, выдвигая на первое председателя общества, Мая. Мы ничего не знаем о масонстве Бернара; но среди бумаг Мая был действительно найден масонский диплом. Странно также утверждение его, что к моменту ареста в Петербурге оказалось только три члена общества: Булан, Цани и Жоффре. При таком положении не могло возникнуть и следствия, потому что предварительного наблюдения за «свиньями», как мы знаем, не было.
Точно так же официальные данные обвиняют «братьев-свиней» в распутстве, в оргиях и пр., ни слова не говоря о каких бы то ни было их противоестественных наклонностях. Можно предположить, что Май сам изобрел это обвинение, чтобы продемонстрировать придирчивость полиции, нарочито подчеркнув при этом, что никогда женщина не переступала порога их собраний.
Наконец, он нигде не упомянул об имени братства и его значении.
Таким образом, рассказ Мая ни в общей своей концепции, ни в отдельных деталях не внушает доверия. У нас остаются только скудные официальные данные и согласная с ними версия Шервуда — Маркса. Не сомневаясь в том, что Маркс всю эту историю действительно слышал от Шервуда, — иначе зачем ему было приплетать его и расписываться в мало рекомендующем знакомстве, — мы отдаем этой версии предпочтение, тем более что Шервуд имел полную возможность узнать обстоятельства этого дела, скорее всего уже post factum.
Конечно, и этот источник в достаточной степени подозрителен. В своем месте мы еще убедимся, что Шервуд принадлежал к типу людей, у которых в некоторых случаях появляется «легкость в мыслях необыкновенная». Легкомысленное бахвальство Хлестакова не являлось обязательным свойством лиц, именовавшихся в те времена «вралями записными». Антон Антоныч Загорецкий был «лгунишка, мошенник, вор», но в то же время светский человек, необходимый член своего круга, согретый благосклонностью влиятельных старух. Сочетание лжеца, хвастуна и афериста находило тогда различные воплощения. В дальнейшем мы познакомимся с тем, в каком порядке эти качества разместились в биографии Шервуда.
Сейчас можем сказать заранее, что во многих своих деталях, каких — мы, к сожалению, не в состоянии установить, рассказ Шервуда является плодом его воображения. Диалоги с Милорадовичем, который держится с Шервудом чуть что не запанибрата, родились, конечно, в результате того же творческого пути, на котором Хлестаков встречал тысячи курьеров и радостно приветствовал: «Здорово, брат Пушкин!»[56]
Разгоряченная выпитым ромом, к которому Маркс, по собственному признанию, добавлял «для крепости» гофмановских капель, фантазия Шервуда могла явиться первоисточником различных эротических положений или картин вроде Александра, бросающего в камин делопроизводство о «свиньях»[57]. В основе же рассказ Шервуда, полагаем, соответствует действительности.
Трудно сказать, были ли в обществе «свиней» члены, кроме поименованных. Май не дает ни одного дополнения в этом смысле, но в деле о высылке их имеется справка о нерозыске француза де Паня, профессора литературы, и это дает право думать, что оба наши источника называют только тех, кто фактически пострадал по делу о тайном обществе «Frères-cochons».
Этот эпизод, в какой бы версии мы его ни приняли, довольно любопытен с точки зрения общественных нравов. Но мы не оценили бы его по достоинству, если бы ограничились той характеристикой социального окружения общества «свиней», которой начинается эта глава. Попробуем осветить фигуры отдельных братьев — в них мы найдем небезынтересные черточки.
К сожалению, биографический материал, за исключением лапидарных строк официальных текстов, почти отсутствует. Май останавливается в своем рассказе исключительно на характеристике Булана-Бернара. Из жизни Марсиля мы узнаем только случай, закрепленный в «Деле по отношениям С.-петербургского военного генерал-губернатора, с приложением списков, об иностранцах, состоящих под секретным полицейским надзором». Согласно рапорту полковника Чихаева, полицеймейстера I Отделения, 1 апреля 1824 года во дворе коммерческого банка, в помойной яме, был усмотрен труп недоношенного ребенка. Наряженное по этому поводу следствие обнаружило, что выкидыш произошел у жены французского подданного Констанса Марсиля, домового врача тайного советника Рибопьера. Марсиль, сам наблюдавший за течением родов, приказал вынести тело, а прислуга, не разобрав, в чем дело, отнесла его в помойную яму. Данные следствия как будто не оставляли сомнения в пустячности случая, но тем не менее на ноги был поставлен городской физикат, который, «обще с городовым акушером, статским советником Громовым и повивальной бабкой Мейер», установили факт разрешения от беременности Сизарины Марсиль. На этом дело могло бы и закончиться, но предусмотрительная полиция все же взяла неудачливого отца на заметку.
Подобные факты ничего не дают нам для идеологической характеристики «свиней». В этом направлении мы имеем некоторые сведения только о троих из них: Жоффре, Жюсти и Мае.
Жоффре был единственным из «свиней», состоявшим на государственной службе (губернский секретарь!). Сын директора училища глухонемых, он был преподавателем французского языка в Смольном институте. Строгая обстановка этого учреждения не мешала ему, впрочем, жить на одной квартире с пресловутым Буланом и отличаться «дурным поведением». Но у него были и серьезные интересы; так, ему принадлежит первый перевод на французский язык «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина, предпринятый им по собственной инициативе и санкционированный самим автором, бывшим довольно высокого мнения о литературных талантах своего переводчика.
Несомненно, одной из наиболее интересных фигур в деле «свиней» был аббат Жюсти. Как мы знаем, он оказался среди них единственным «политическим», за что и поплатился семинедельным знакомством с обстановкой каземата № 3 Никольской куртины. «Его бумаги свидетельствуют об его чрезвычайно опасных политических убеждениях». Изыскания в этих бумагах делал титулярный советник Чиколлини, тоже, по-видимому, характерный для своего времени субъект; иностранец невысокого происхождения, он был выходцем из той же среды, что и «свиньи», но выбился на служебную дорожку, вошел в литературные круги, подружился с такими разными по миросозерцанию людьми, как Карамзин и Никита Муравьев, что не мешало ему при случае добропорядочно выполнять полицейские поручения[58]. Этому-то либералу и было поручено ознакомление с бумагами патера, и он установил, что они «ne tont quérre honneeur au caractére ni a la conduite de l’abbé Giusti»[59].
He говоря уж о его легкомысленном обращении с девицами из хороших семейств, что еще не вызывало особенного удивления, падший пастырь оказывался атеистом и кощунственником, да к тому же приверженцем зловредного сочинения Ивана-Якова Руссо «Общественный договор». Интересы аббата были довольно разнообразны. Среди его бумаг было найдено 77 тетрадей рассуждений об истории, литературе и политике, 48 — художественной литературы, 28 — посвященных теологии и догматике, 11 — специально о Швеции, где жил одно время отец Джузеппе, кощунственный «Essai sur le Suicide»[60] и некоторые другие сочинения.
Вот такое соединение учения Руссо с кощунственными службами Бахусу и Венере и кажется нам характерным для физиономии членов общества — вспомним их пантеистический гимн. И сам Май, достойный старшина братства, в своей книге является убежденным идеологом третьего сословия, кровным сыном революционной Франции. «Деспотизм, — говорит он, — в какой форме ни выражайся он, невыносим уже по одному тому, что это деспотизм. Все люди рождены равными…»[61] и пр., столь знакомые нам по их происхождению истины. Он неоднократно обнаруживает свои симпатии людям «честного труда», негоциантам и промышленникам; в них видит он основу общественной жизни. «Разве можно не замечать, — спрашивает он, — что коммерция вносит жизнь и здоровье в социальный организм, что без нее все подвержено опасности и гибели»[62]. Поэтому он сурово осуждает государственную систему России, считая ее расслабляюще действующей на состояние общества. «Через тридцать лет, — говорит он, — Россия не сможет ничего сделать собственными силами»[63].
В связи с этим Май очень сочувственно отзывается о декабристах: «Возмущенные тем состоянием нищеты и унижения, в которое повержены столько несчастных, чья самая смиренная жалоба воздвигает им новые и новые темницы, несколько человек, больше самонадеянных, чем счастливых в своих планах, пытались, путем создания широкого общества, найти средства для изменения положения вещей и уничтожения феодализма. Это дело… повело зачинщиков на эшафот и в изгнание… Но то, что одни наказывают как самое омерзительное преступление, другие будут почитать как высший героизм»[64].
И тут мы оказываемся свидетелями внезапного стыка «свиней» с декабристами. Конечно, цели и намерения участников политических тайных обществ не имели ничего общего с деятельностью людей, подобных «fréres-cochons». Но последние были живыми проводниками революционных настроений Запада, в общении с ними могли складываться политические идеологии декабристов. Именно по отношению к иностранцам стиралась черта, отделявшая дворянские круги от плебса. Вигель рассказывает, что при образовании Института путей сообщения «самые первые ученики… были все молодые графы да князья, также и сыновья французских, немецких и английских ремесленников, садовников, машинистов, портных и тому подобных…»[65]. Общий разговорный язык и светскость иностранцев создавали достаточную почву для сближения. И характерно, что в то время, когда в члены тайных обществ вербовались почти исключительно военные, а из штатских (за исключением Общества соединенных славян) только лица значительного общественного положения или связанные с заговорщиками узами личной дружбы, все же мы находим в «Алфавите декабристов» ряд иностранных разночинцев, принимавших участие в заговоре: иностранные учителя, революционизировавшие своих питомцев, — Жильи и Столь; врачи Вольф и Плессель; британские подданные Буль и Тайнам, о которых нам неизвестно ничего, кроме их участия в деле 14 декабря и высылки за границу, — все это возвращает нас к кругам, где вращались Жоффре и Май.
Май, между прочим, называет одного из своих знакомых, учителя Журдана, пострадавшего, по его словам, в связи с делом декабристов. «Алфавит» не содержит такого имени. Но в переписке цесаревича Константина с Бенкендорфом в 1827 году мы находим упоминание об аресте проходимца и самозванца Жордана, который действительно указывается в какой-то связи с Михаилом Орловым[66]. Француз Столь, гувернер молодых Скарятиных, вращавшийся в светских кругах и имевший связи даже с воспитателями будущего императора Александра II, был привлечен по делу декабристов за излишнюю откровенность в письмах, перехваченных киевской почтовой конторой. В письме к одному из своих друзей, проживавшему в Гааге, некоему Бернару (уж не нашему ли знакомцу?), Столь оценивал положение дел в России еще резче, чем Май. «Выстрел блеснул, но произвел только пламя и глухой удар. Русские также хотели испытать конституционную революцию; затруднение объяснить солдатам слово „конституция“ заставило поддержать его, как говорят, провозглашением: да здравствует Константин! Но были ли представители народа? Из дворян? — Они не что иное, как палачи. — Из членов среднего сословия? — Оно только в Петербурге и Москве. — Из мужиков? — Увы! До сих пор они представляют только количество земли, владеемой их жестокими господами. Страх делает их ко всему холодными. Впрочем, здесь мало душ; ибо души крестьян — в недрах бога, в ожидании воскресения; а души господ — у дьявола»[67].
Иностранцы, представители третьего сословия и литературной богемы, не только встречались с декабристами, не только одобряли их дело, но и критиковали их слова, а в грозный час декабрьского мятежа оказывались на площади. Почти всех их постигла та же участь, что и «братьев-свиней»: высылка за границу. И кто знает — не случись казуса со «свиньями», мы, может быть, читали бы в «Алфавите членам бывших злоумышленных тайных обществ…» рядом с Бестужевыми и Муравьевыми и фамилии Жюсти и Мая…
II. Шервуд и декабристы
Послушайте, молодой человек! Если вы хотите сделать что-нибудь путем тайного общества, то это глупости, потому что, если вас двенадцать, двенадцатый непременно окажется предателем…
Слова, якобы сказанные убийцей Павла I графом Паленом П. И. ПестелюХарактеризуя в предыдущей главе быт иностранцев в России в первой четверти XIX века и говоря преимущественно о тех дурных зернах, которые давали такие пышные цветения на русском черноземе, мы прошли мимо другой, может быть, не столь заметной, но весьма плодоносной отрасли западного влияния на Россию. Наряду с беглыми каторжниками и проворовавшимися приказчиками, бивший с Запада поток осаждал на русскую землю и людей дела и знания, профессоров и инженеров, техников и агрономов, купцов и ремесленников. Со второй половины XVIII века и к началу XIX в особенности в русском хозяйстве начинают чувствоваться новые веяния. Старые, дедами завещанные формы перестают удовлетворять требованиям молодых поколений. Появляются новые типы хозяйственных организаций в промышленности. Рост хлебного вывоза заставляет наиболее передовых хозяев задумываться о поднятии прибыльности своих земель, о рационализации способов их обработки, причем взоры их с упованием обращались к туманным берегам Альбиона, хозяйство которого в ту эпоху было главенствующим и наиболее совершенным. Отправляя в Англию сырье, Россия вывозила оттуда, вместе с добротным аглицким сукном, и машины, и сельскохозяйственный инвентарь, как мертвый, так и одушевленный. «Фермер мой английский со всем причетом и инструментом на сих днях должен приехать», — писал другу граф Ф. В. Ростопчин, описывая свои мелиоративные мероприятия[68]. Правда, большинство помещиков еще говорили вместе с одним из героев «Повестей Белкина»: «Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты», — но вместе с тем признавали передовые взгляды и оборотливость англоманов и женили своих сыновей на их наследницах.
В числе прочих иностранных специалистов, вызванных из-за границы в целях хозяйственного благоустройства, был и кентский механик Шервуд, выписанный к 1800 году по повелению императора Павла и поступивший на службу на незадолго перед тем основанную Александровскую мануфактуру. В числе его детей находился и двухлетний мальчик Джон, которому суждено было впоследствии стяжать довольно громкую и скандальную славу в летописях русской общественной жизни.
Биография Шервуда вплоть до самых декабрьских событий представляется нам чрезвычайно темной. Дальнейшая его судьба несколько выясняется в свете официальных источников, но и здесь мы находим пробелы, относящиеся к тем периодам, когда Шервуд переставал интересовать III Отделение. Все же остальные источники могут скорее исказить, чем создать его подлинный облик.
Имена людей, вызывающих у современников резкое чувство, безразлично — восторга или отвращения, неизменно облекаются многочисленными слухами и легендами, чему подчас сознательно способствуют и сами носители этих имен. В подобном положении оказался и Шервуд. Кроме различных разноречивых сведений, которые можно найти в случайных мемуарных упоминаниях, мы располагаем двумя источниками, относящимися к его участию в деле декабристов. Первый заключается в небольшой книжке, изданной в Берлине в 1860 году рвением некоего Фердинанда Шнейдера, любезно предлагающего на обложке издания «гг. любителям русской литературы, владеющим интересными манускриптами и редкими печатными произведениями… доверить нижеподписавшемуся печатание оных»… и напечатанной в знаменитой в истории русской вольной печати типографии Петца в Наумбурге. Книжка эта, лаконически озаглавленная «Шервуд», является отрывком из записок неизвестного генерал-майора, скрывавшего свое имя под инициалами Б.-П. и, по-видимому, служившего в том же самом полку, где находился или, по крайней мере, значился унтер-офицер Шервуд.
В те годы, благодаря росту русской эмиграции, на Западе стало довольно широко распространяться русское книгопечатание. Особенно охотно выпускались заграничными издателями мемуары и документы противоправительственного или просто запретного характера; им был обеспечен верный сбыт не столько среди безденежной эмигрантской богемы, сколько среди путешествующих русских бар, приобретавших их в качестве курьезов и в немалом количестве провозивших «потаенную печать», без дозволения «цензурного комитета», в пределы империи. Но далеко не всегда книги эти могли похвалиться содержанием. Не говоря уже о писаниях графоманского порядка, вроде сочинений полунормального Головина, даже такие серьезные издатели, как владелец «вольной русской типографии в Лондоне», подчас пускали в свет материал, недостаточно проверенный и не слишком достоверный. Таким образом, многие заграничные издания того времени носят характер анекдотический, а иногда и апокрифический.
Правда, автор книжки о Шервуде черпает свои данные из личных бесед с последним. Знакомство их не вызывает сомнений: слишком много знает генерал-майор Б.-П. фактов, до того времени сокрытых даже от очень осведомленных лиц. Не забудем, что книжка его вышла в 1860 году, когда архивные материалы о декабристах не были еще доступны и когда в русской печати о декабристах можно было говорить только эзоповским языком. Таким образом, эта брошюра явилась одним из первых печатных источников истории декабризма и легла затем в основу того, что, выражаясь высоким штилем, можно было бы назвать «Шервудовской легендой». Так, из нее исходил М. И. Богданович в своей «Истории Александра I», а исторические романисты использовали ее богатую авантюрную канву, законно разукрасив ее цветами собственного воображения.
Книжка Б-П. появилась еще при жизни Шервуда, и возможно, что в виде ответа на нее последний и написал свою «Исповедь», являющуюся вторым из названных нами источников его биографии. Эта «Исповедь» хранилась затем в семейном архиве и только в 1896 году была опубликована Н. К. Шильдером[69], получившим ее от дочери Шервуда[70]. Не говоря сейчас о деталях, нужно отметить, что в основном повествование Шервуда подтверждается официальными документами. К сожалению, он, имея, вероятно, на то свои причины, начинает с сообщения: «Я поступил в 1819 году, 1 сентября, в военную службу, в 3-й Украинский уланский полк, рядовым из вольноопределяющихся…» Таким образом, мы ничего не узнаем о его жизни до поступления на службу, ни о причинах, заставивших его избрать сомнительную в смысле выгодности карьеру рядового.
Несколько подробнее касается этого периода жизни Шервуда Б.-П. Но к его словам, как отмечено выше, необходимо отнестись критически. Он, несомненно, был знаком с Шервудом, но основная часть его записок является передачей рассказов последнего, а, как мы уже имели случай убедиться, красноречие Шервуда подчас увлекало его довольно далеко от границ исторической истины. К тому же рассказ Б.-П. даже не приводит гарантий, имевшихся у нас в случае с Марксом. Это воспоминания давно прошедшего, где фантазия первого рассказчика значительно осложнилась измышлениями второго. Приходится поэтому с особой осторожностью относиться к сообщаемым им фактам.
По словам Б.-П., в 182… (так в подлиннике) году он был переведен из гвардии в Новомиргородский уланский полк, расположенный в харьковском военном поселении. Чем был вызван этот перевод и в каком чине находился автор, мы из его записок не узнаем, хотя по тому времени перевод из гвардии в армию обещал мало хорошего для человека, желавшего выдвинуться на служебном поприще. Бывали, правда, случаи переводов по собственной просьбе, вызванные по преимуществу материальным недостатком просивших, но мало кто обменял бы относительную свободу гвардейской жизни на суровую дисциплину военных поселений. Вопрос несколько разъясняется замечанием Б.-П., что Шервуд «во всех возлагаемых мною на него поручениях обнаруживал большие способности, особенно в делах по части тайной полиции, что было, по роду моей службы, неоцененным качеством в моих глазах». В дальнейшем мы попытаемся точнее установить этот «род службы».
«В лейб-эскадроне этого полка, — пишет Б.-П., — я заметил одного унтер-офицера, который резко отличался во фронте от нижних чинов нежностью лица и благородным видом. Я спросил об нем эскадронного командира и узнал, что квартермистр Шервуд, из иностранцев, служит в полку вольноопределяющимся, на двадцатилетних правах»[71].
Во время дальнейшего своего пребывания в полку Б.-П. стал замечать за Шервудом, сделавшимся к тому времени одним из писарей канцелярии полкового комитета, различные перемены в худшую сторону. «Он сидел тут заспанный, нечесанный, с протертыми локтями и в дырявых сапогах, из которых высовывались голые пальцы»[72]. В довершение всего он смертельно запил и однажды «пришел в канцелярию с лицом бледным и распухшим от продолжительного кутежа и вообще в таком отвратительном виде, что мною овладело чувство сострадания к этому существу, близкому к совершенной погибели…»
Сердобольный Б.-П. тут же принялся врачевать страждущую душу своего подчиненного и настолько успел в этом деле, что довел Шервуда до слез и покаяний. Он открыл начальнику полкового комитета свою скорбь и даже признался в желании дезертировать за границу, где собирался сражаться за свободу Греции. Оказалось, что он вступил в военную службу с единственной целью — добиться офицерских эполет, и тут-то он и поведал Б.-П. свою биографию.
Вызванный в Россию при императоре Павле, отец Шервуда так удачно повел свои дела, что вскоре составил себе изрядное состояние, нажил в Москве несколько домов и дал своим детям блестящее воспитание. В дальнейшем ему, однако, судьба перестала улыбаться: у него начались конфликты с начальством, фабрика стала худо работать, и он был признан виновником этого и поплатился конфискацией всего своего имущества. Старшие братья Шервуда, сами опытные механики, должны были пойти на службу по фабрикам, а молодой Джон решил вступить в военную службу, но, не имея протекции, оставался без дела и кормился у своих соотечественников, пользуясь той круговой порукой среди иностранцев, о которой мы говорили в предыдущей главе.
Благодаря рекомендации старого знакомого англичанина, седельного мастера, Шервуд попал к богатому помещику Ушакову в качестве преподавателя английского языка. Доверчивый отец поручил педагогическим способностям Шервуда своих двух дочерей, и отсюда-то и начинается тропинка бедствий нашего героя.
«Я сделался неразлучным собеседником моих милых учениц, — говорил Шервуд Б.-П. — Они лишились матери и состояли под надзором наемной компаньонки, просиживавшей почти безвыходно в своей комнате. Отец, занятый делами, виделся с ними только в положенные часы дня и не обращал на них никакого внимания. Мудрено ли, что при полной свободе встречаться во всякое время и говорить на языке, для других непонятном, мы быстро сближались между собою? Обе сестры были прекрасны, мне особенно нравилась меньшая — резвый живой ребенок с пылким характером. Мы страстно полюбили друг друга, увлеклись и… забылись! Что было делать? Открыться отцу и просить его согласия на брак — значило расстаться навеки, потому что этот гордый и холодный барин скорее бы убил свою дочь, нежели позволил бы ей сделаться женой какого-нибудь Шервуда. Между тем наша тайна приближалась к открытию, нельзя было медлить более, мы обвенчались тихонько. Но оставаться в таком тяжелом положении было невозможно; следовало подумать о будущности нашей и нашего невинного ребенка, готового явиться на свет. После долгих колебаний мы решили, что я вступлю в военную службу и выслужу офицерский чин, представлявшийся нам единственным путем к умилостивлению отца»[73].
Шервуд отправился в Москву и стал добиваться протекции для поступления в армию. Благодаря той же помощи соотечественников ему удалось получить место учителя в доме генерала Стааля, который впоследствии и отрекомендовал его командиру 3-го Украинского уланского полка Гревсу. Так попал Шервуд в военные поселения.
Бедный, но благородный сердцем молодой человек, поступающий в знатный дом в качестве воспитателя и увлекающий свою ученицу, — довольно распространенный сюжет сентиментальных романов того времени, в которых, после долгих мытарств и бедствий, горемычные герои наконец получали заслуженную награду и к общему удовольствию сочетались законным браком. И рассказ Б.-П. мы склонны считать литературным приемом, придуманным, быть может, не им лично, а самим Шервудом. Дело в том, что какое-то отношение к дому Ушаковых он, по-видимому, имел, ибо в 1826 году, когда он был в зените своей славы и возможностей, он действительно женился на дочери смоленского помещика Ушакова. Но вся рассказанная им история совершенно невероятна. Если бы он в самом деле женился на Ушаковой, хотя бы и тайным браком, то в 1826 году не было бы никакой надобности его повторять, да к тому же он к этому времени был бы отцом восьмилетнего ребенка, о котором мы между тем ничего не знаем. Затем самая идея добиваться путем многолетней выслуги низшего офицерского чина только для того, чтобы смягчить сердце непреклонного родителя, кажется совершенно бессмысленной и неправдоподобной. Гордый барин, каким его рисует Шервуд, с одинаковым презрением отнесся бы к ничтожному армейскому поручику, как и к бедному педагогу-англичанину, и, может быть, в последнем случае был бы снисходительнее, принимая во внимание необходимость покрыть уже совершенный грех[74]. Самый же мотив многолетней горестной разлуки впредь до счастливого соединения любящих был бы вполне уместен на страницах многотомного английского романа, но едва ли соответствовал внутреннему укладу энергичного и оборотистого Шервуда. Таким образом, весь этот рассказ, за исключением момента знакомства Шервуда с Ушаковыми, приходится считать вымышленным, тем более что и многочисленные его детали, на которых мы не сочли возможным задерживать внимание читателя, тоже противоречивы и маловероятны.
Причина поступления Шервуда в военные поселения остается невыясненной. Между тем по своим способностям и знаниям он мог бы, подобно братьям, составить себе мирное и обеспеченное положение на техническом поприще — у него были к тому же и художественные способности. По некоторым рассказам, он был одно время студентом Медико-хирургической академии, но не отличился ни успехами, ни поведением и, бросив ее до окончания курса, поступил в военную службу[75], но рассказы эти малодостоверны, хотя и ссылаются на тот же первоисточник — самого Шервуда. Авантюризм, очевидно, был у него в крови, и какое-нибудь скромное поле деятельности вряд ли могло удовлетворить этого человека. Мы не можем раскрыть побуждений, заставивших его искать славы в военных поселениях, но, пожалуй, приблизимся к ним, если обратим внимание на характер его служебных занятий.
«Вскоре после поступления на службу, — рассказывает Шервуд, — я был произведен в унтер-офицеры, и так как получил хорошее воспитание и знал несколько языков, то был принят радушно в общество офицеров; полковой командир и корпус офицеров меня очень любили. Гревс давал мне разные поручения и оставался всегда исполнением оных доволен; часто посылал меня в Крым, в Одессу, в Киевскую, Волынскую, Подольскую губернии, в Москву, что дало мне средство познакомиться со многими дворянами разных губерний…»
Свобода, которой пользовался Шервуд во время исполнения этих поручений, должна быть признана для нижнего чина истинно необыкновенной. Так, по его словам, посланный с одним поручением, он по просьбе полкового командира соседнего полка принялся за исполнение совершенно иной миссии, в дальнейшем приведшей его к сенсационным разоблачениям. Здесь поразительно то обстоятельство, что за такие проявления самовольства Шервуду не угрожали никакие скорпионы. Он был, несмотря на свое незначительное положение, видимо, человек нужный и полезный и в известном смысле предоставленный собственной инициативе.
Невольно встает вопрос: каковы же были эти поручения, в исполнении которых он показал такую исправность и благодаря которым сумел, как мы в дальнейшем убедимся, составить довольно широкий круг знакомства среди людей немаловажных? Сам он оказывается на подробности довольно скупым, и можно подумать, что деятельность его имела хозяйственное направление. К тому же Б.-П. называет его квартирмейстером. Обычно в полку бывало несколько лиц, чье положение требовало постоянных разъездов: квартирмейстер, ремонтер, казначей. Но все эти должности, связанные со значительной денежной ответственностью, занимались офицерами. Должности эти приносили занимавшим их лицам вместе с упомянутой ответственностью и немалый барыш, причем между хозяйственниками отдельных полков существовало даже нечто вроде круговой поруки. Так, каждый ремонтер во время какой-нибудь ежегодной ярмарки мог без всякого страха ссудить кого-нибудь из своих коллег, зная, что на ближайшем ремонтерском сборе сполна получит следуемое. Во время таких сборов командированные офицеры, интендантские чиновники и подрядчики представляли дружную семью, в результате совместных усилий изрядно обогащавшуюся. Петербургские старожилы, рассказывая о «Северной гостинице» на Офицерской улице, вспоминали, что «здесь, поблизости домов интендантства и комиссариатской комиссии с огромными складами вещей, собирались чиновники, подрядчики и казначеи, командированные за получением вещей и денег. Здесь совершались завтраки, угощения и обеды в знак дружбы или благодарности»[76].
Вряд ли Шервуд мог занимать одну из таких должностей. Если же он просто состоял при квартирмейстерской части, то подобное положение не могло быть связано с самостоятельными поручениями и дальними командировками. К тому же Б.-П. отмечает, что впоследствии Шервуд числился писарем при полковом комитете и в этом звании тоже разъезжал по различным надобностям, имевшим отношение к делам тайной полиции, входившим в «род службы» Б.-П.
Мы лишены, к сожалению, возможности наметить подлинный круг деятельности нашего мемуариста. До сих пор его подпись не была дешифрована, и Шильдер говорит о нем как о «неизвестном». Между тем разгадать эти инициалы не представляется особенно трудным, если принять во внимание, что в списках 3-го Украинского уланского полка с 1820 года числится майор И. П. Барк-Петровский, фамилия которого вполне отвечает нашим требованиям. По чину своему он мог заведовать полковым комитетом, и, следя за его служебной деятельностью, мы удостоверяемся, что он точно был переведен из гвардии, именно из конно-егерского полка, где он значится до 24/1 1820 года, проходя постепенно путь от поручика до капитана. Правда, в биографии его имеется деталь, опущенная им в собственном рассказе: в военные поселения он был переведен из гвардии только формально, потому что уже года за два до этого обстоятельства перестал находиться в полку, состоя адъютантом при генерал-лейтенанте Сабанееве, командире 6-го корпуса 2-й армии. Кроме своей военной, по преимуществу штабной, деятельности Сабанеев известен и как успешный партизан в деле борьбы с врагом внутренним. Так, ему принадлежала инициатива в деле М. Ф. Орлова и «первого декабриста», майора В. Ф. Раевского; он же принимал участие в закрытии масонских обществ во 2-й армии, и, наконец, в смутные дни декабря 1825 года, в тяжелые минуты для следственной комиссии, заседавшей в Тульчине, взоры ее невольно обратились за помощью к Сабанееву, признанному, очевидно, авторитету в этой области[77]. Нам не известно, чем был вызван перевод Барка-Петровского в уланы; во всяком случае, в школе Сабанеева он мог получить основательную закалку по части внутреннего наблюдения в армии, и возможно, судя по его словам, что подобные задачи и были ему поручены в Новомиргороде. Как раз в те годы на это дело было обращено сугубое внимание, особенно на юге, где опасность казалась правительству более серьезной. Сравнительно недавно вошедшие в состав империи, пестрые по своему национальному и социальному составу области вызывали серьезнейшие попечения со стороны мнительного правительства, чувствовавшего опасность и не умевшего распознать ее симптомы. Особенно подозрительной казалась Одесса, быстро выраставший, почти интернациональный город со значительной прослойкой крупной буржуазии. «Я имею сведения, — писал император Александр графу М. С. Воронцову, — что в Одессу стекаются из разных мест, и в особенности из польских губерний и даже из военнослужащих, без позволения своего начальства, многие такие лица, кои, с намерением или по своему легкомыслию, занимаются лишь одними неосновательными и противными толками, могущими иметь на слабые умы вредное влияние»[78]. Но не только Одесса, а и весь польско-украинский юг вообще внушал правительству недоверие, и миссия тайного надзора за состоянием умов края была поручена графу И. О. Витту, начальнику южных военных поселений, тех самых, где находились Барк-Петровский и Шервуд.
Витт был одним из тех возвысившихся в России иностранных авантюристов, о которых мы говорили в предыдущей главе. Человек не совсем ясного происхождения и сомнительных нравственных качеств, он начал свою деятельность в русской армии, после чего каким-то образом очутился в войсках Наполеона, откуда ему удалось совершить обратный вояж в русскую службу. В дальнейшем он выдвинулся и, несмотря на нелюбовь к нему начальника его Аракчеева, не только устоял, но даже удостоился, как мы видели, особого доверия императора. Деятельность его мало изучена, и судить о нем мы можем больше по отзывам современников, очень различно относившихся к этому незаурядному человеку. «Сколько я его знаю, он лжец и самый неосновательный человек… двуличка»[79], — писал князь Багратион Барклаю-де-Толли в октябре 1811 года, в связи со шпионскими предложениями Витта. Цесаревич Константин Павлович, по свойственной ему резкости, да к тому же имевший свои причины быть недовольным Виттом, заявлял: «По-моему, граф Витт есть такого рода человек, который не только чего другого, но недостоин даже, чтобы быть терпимому на службе…»[80]
Другие свидетели характеризуют его совсем в другом тоне: «Он был человек большого природного ума, необыкновенно быстрого проницания, но без глубины, образования многостороннего, но поверхностного, большого такта и умения распознавать людей во внешнем их проявлении»[81]. В этом же духе и оценка одного из столпов николаевского правительства, графа И. И. Дибича, сделанная им по случаю недоразумений между Виттом и близким к императору Клейнмихелем: «Я полагаю, что его не следует отпускать, ибо при некоторых недостатках, которые ему свойственны, он неутомим, исполнен усердия и деятельности и обладает умом весьма светлым, хотя и несколько легкомыслен»[82]. Понаторевший в полицейской службе Наполеону, тайным агентом которого он в 1811 году состоял в герцогстве Варшавском, Витт был на русской почве представителем французских навыков и вкусов в деле политического сыска. Даже чисто внешнее описание его поступков и обращения кажется выписанным из характеристики вельможного интригана со страниц какого-нибудь романа Дюма-отца. «Граф Витт владел полным знанием света и людей. Всегда уклончивый (начиная с Аустерлицкого сражения), вежливый и любезный со всеми, этот властолюбец старался все одесское общество привлечь к себе, в чем, при содействии временной „дамы своего сердца“, Теклы Собаньской, урожденной графини Ржевусской, вполне успел»[83].
Император Александр сделал, как мы видим, неплохой выбор, поручив Витту кроме его непосредственных военных обязанностей еще и другие, требовавшие гораздо большего ума, хитрости и тонкости. При наличном состоянии вопроса истории политической полиции в России мы не в состоянии сказать, в чем на практике выразилась деятельность Витта в этом направлении, да и о самом характере его поручения узнаем только из его собственных слов. «Того ж 1819 года, — писал он в записке „о поручениях, в которых был употреблен императором Александром“, — по дошедшим до покойного блаженной памяти государя императора известиям, повелено мне было иметь наблюдение за губерниями: Киевскою, Волынского, Подольскою, Херсонскою, Екатеринославскою и Таврическою, и в особенности за городами Киевом и Одессою, причем его величество изволил поручить мне употреблять агентов, которые никому не были бы известны, кроме меня; обо всем же относящемся до сей части никому, как самому императорскому величеству, доносить было не позволено, и все на необходимые случаи разрешения обязан я был принимать от самого в бозе почивающего государя императора»[84].
Любопытно сопоставление дат, из которых мы, однако, остережемся делать выводы: в 1819 году Витт получает секретное поручение, связанное с необходимостью набора тайных агентов; тогда же поступает в южные поселения, под его начальство, адъютант Сабанеева Барк-Петровский; в том же году в Новомиргородский уланский полк определяется и через два месяца получает звание унтер-офицера великобританский подданный Шервуд.
Но и независимо от этого сопоставления единственно вероятным объяснением того положения и той свободы, которыми пользовался Шервуд в полку, нам кажется догадка, что он был одним из тайных агентов, прикрепленных Виттом к воинским частям, что было весьма небесполезно по настроениям солдатской массы, дававшей на юге значительный процент дезертирства, и особенно в военных поселениях, где легче всего было ожидать вспышки: как раз накануне того, как Шервуд начал выслуживать офицерский чин в военных поселениях, в августе 1819 года состоялась свирепая экзекуция над чугуевскими бунтовщиками. Весьма понятно, что в сентябре могли пополниться штаты поселенческой полиции. В пользу нашего предположения говорит и цитированное замечание Барка-Петровского. Характерно, что современники определенно связывали донос Шервуда на декабристов с деятельностью Витта. Если цесаревич Константин Павлович, весьма нелестно отзываясь о Майбороде и Шервуде, мог только предположительно сказать, что ему «кажется, что главная всему этому есть пружина генерал-лейтенант граф Витт»[85], то Н. Н. Мурзакевич, вращавшийся в высших кругах Одессы, постоянной резиденции Витта, без всякого сомнения связывает имена Шервуда и Бошняка, подлинного виттовского агента; наконец, декабрист С. Г. Волконский, полемизируя в своих записках с Барк-Петровским, категорически утверждает, и как будто на основании личных сведений: «Шервуд был также агент Витта»[86].
И наконец, свидетельством в нашу пользу кажется и рассказ Шервуда об открытии им общества «Frèrescochons»[87]. Очевидно, Шервуд без труда мог представить себе, что и до 1825 года ему приходилось подвизаться в качестве тайного агента[88].
Но если Шервуд и был тайным агентом Витта, то в деле декабристов он, рассудив, что незачем уступать другим триумф и лавры спасителя отечества, решился действовать на собственный риск и страх.
Испытанный заговорщик, граф Пален, по преданию, предупреждал Пестеля, что в самой организации тайного общества имеется основной порок: возможность и вероятность измены.
Однако, как это ни странно, с 1821 года, когда подан был донос на «Союз благоденствия» Грибовским, и до 1825 года правительство находилось почти в полном неведении относительно развивавшейся в тайных обществах работы. Глухие отголоски этой подпольной возни, может быть, и проникали наверх, но по каким-то нам не очень понятным причинам к ним не прислушивались. И только к концу 25-го года, к моменту, когда общество готово уже было перейти от слов к делу, расцветает пышный букет доносительства в триумвирате Шервуд — Бошняк — Майборода[89].
Если в лице последнего мы имеем дело с прямым предателем, то двое первых являют характеристичные образы agents-provocateurs. Бошняк, ученый ботаник, идет в полицейскую службу чуть ли не по личной склонности к исследованиям этого рода. Шервуд, человек без роду и племени и лишенный каких бы то ни было предрассудков этического порядка, избирает этот путь, чтобы выбиться в люди. Бошняк, после своего расследования в деле декабристов, остается на этой работе до самой смерти, но исполняет поручения высокого порядка. Шервуд пускается в разнообразнейшие авантюры, постоянно обращаясь к своим излюбленным средствам: обману, провокации и доносу. Но о дальнейшей его судьбе, впрочем, позже.
История раскрытия Шервудом декабристских организаций не представляется достаточно ясной. С легкой руки Барка-Петровского исторические романисты, начиная с Данилевского, создали легендарный образ «Шервуда в Каменке». На этом варианте мы и остановимся.
По словам Б.-П., знакомый ему помещик, А. Л. Давыдов (брат декабриста Василия Львовича), нуждался в механике для починки и приведения в порядок своей мельницы. Зная, что Шервуд перенял от отца по наследству довольно богатый запас технических знаний, Б.-П. отрекомендовал Давыдову своего подчиненного. Живя в Каменке, Шервуд сделал ряд наблюдений, о которых впоследствии сообщил своему патрону следующее:
«Житье мое тут было раздольное, и я не очень спешил исправлением мельницы. Так прошло несколько недель. Привыкнув и приглядевшись к образу жизни в Каменке, я был поражен одним очень странным обстоятельством. Каждую субботу в семь часов вечера съезжались к Давыдовым гости, но главное то, что эти гости были все одни и те же лица: полковник Пестель, Муравьев, Янтальцев, штаб-доктор 2-й армии Яфимович, генерального штаба поручик Лихарев, помещик Поджио и еще некоторые другие.
В семейном кругу Давыдовых они появлялись лишь за обедом и ужином и были не очень любезны с дамами, все остальное время проводили в пристройке дома, на половине Василия Львовича. Погостив, таким образом, сутки, все они, в определенный час, разъезжались».
В одну из таких суббот Шервуд, снедаемый любопытством, решился подслушать, какие речи ведутся на этих таинственных собраниях. Осторожно пробравшись наверх и благополучно не встретив никого из прислуги, по-видимому умышленно отосланной, Шервуд в замочную скважину подглядел следующую картину:
«Вокруг большого стола сидели все постоянные посетители Каменки и с ними Василий Львович Давыдов. По столу было разбросано много бумаг; Лихарев держал в руке перо, ожидая приказания писать.
При этом зрелище кровь ударила мне в голову, а сердце готово было выскочить из груди. Я затаил дыхание и прильнул ухом к замочной скважине. Из первых же слов, произнесенных Пестелем диктаторским тоном, я мог положительно заключить, что дело идет о тайном заговоре против правительства. Долго спорили между собою; разговор их то воспламенялся, то упадал, а Лихарев между тем записывал принятые единогласно решения».
Дослушав до конца речи заговорщиков, Шервуд понял, что случай навел его на открытие необычайной важности, и решился на этом основать свое будущее счастье. Продолжая свои наблюдения, он дошел до того, что «ознакомился совершенно с основными идеями общества, узнал имена не только главных членов заговора, но и многочисленных их сообщников, рассеянных по всей империи, с которыми они вели деятельную переписку, и составил список всех означенных лиц». С этими сведениями он возвратился в Миргород. Продолжая розыски, он случайно свел знакомство с юным заговорщиком Ф. Ф. Вадковским, который и принял его в общество; после этого Шервуд счел уже возможным поделиться с императором полученными им сведениями.
Эта версия сама по себе кажется маловероятной. С какой стати понадобилось бы Шервуду, так удачно открывшему самый центр заговора и державшему в руках все нити, связывавшие Южное общество в лице директоров его трех управ, Пестеля, Муравьева и Давыдова, — вместо того чтобы немедленно сообщить о своем открытии верховной власти — продолжать вслепую вести поиски, предоставляя тем самым заговору благополучно развиваться?[90]
Этого не могло быть, да и не было на самом деле, ибо официальные документы удостоверяют нас, что впервые Шервуд узнал о существовании тайного общества, только познакомившись с Вадковским. И сам герой наш в своей «Исповеди» вполне подтверждает документальные сведения, почерпнутые из следственного дела. Правда, он указывает, что некоторые подозрения зародились у него раньше:
«В конце 1823 года случилось мне быть на большом званом обеде у генерала Высоцкого; имение его Златополь было на самой границе Киевской губернии и прилегало к городу Миргороду; на обеде, между другими офицерами нашего полка, был поручик Новиков и из Тульчина адъютант фельдмаршала Витгенштейна, князь Барятинский; после обеда Новиков спросил пить; слуга, в суетах вероятно, забыл и не подал; Новиков рассердился и сказал: „Эти проклятые хамы всегда так делают“; князь Барятинский вступился и спросил, почему он назвал его хамом, разве он не такой же человек, как и он, — и ссора дошла у них почти до дуэли; но в горячем разговоре князь сделал несколько выражений, которые не ускользнули от моего внимания и дали мне повод думать, что какие-то затеи есть».
Подобные разговоры не представляли, однако, по тому времени чего-нибудь исключительного. Либеральная военная молодежь не стеснялась открыто порицать правительство, доходя, особенно в застольных разговорах, за круговой чашей, до довольно рискованных заявлений. Шервуд вспоминает, что на подозрения наводили его и речи, слышанные им в доме одесского таможенного начальника Плахова, где часто собирались приезжие офицеры и иностранцы и где почему-то останавливался Шервуд во время своих наездов в Одессу[91]. В доме Давыдовых Шервуд действительно бывал, но, по словам «Исповеди», заметить мог только то, что «после обеда все почти, за исключением Александра Давыдова, князя Голицына и меня, запирались в кабинете и сидели там по несколько часов, так что Голицын меня спрашивал: „Кой черт они там делают?“»[92]
Все эти неясные подозрения и отдельные случаи оказались объединенными в общую картину только после знакомства с Вадковским, и в своем доносе Шервуд исходил только из данных, полученных этим путем. Все остальные версии — результат вымысла, в котором немалое участие принимал сам Шервуд. Мы уже имели случай убедиться, как его пылкая фантазия рождала сложные картины и положения и небывалые диалоги. Характерно, что все три источника, пространно повествующие об отдельных эпизодах из его жизни — рассказы Маркса, Барка-Петровского и самого Шервуда — написаны в одной и той же диалогической манере, свойственной, по-видимому, Шервуду и как писателю, и как собеседнику[93].
Посланный с частным поручением от брата своего полкового командира к действительному статскому советнику Якову Булгари, Шервуд приехал в город Ахтырку, где стоял Нежинский конно-егерский полк и проживал служивший в этом полку прапорщик Вадковский. Как впоследствии показывал он следственному комитету, «поводом к начальному подозрению в отношении семейства Булгари было то, что я, приехав в город Ахтырку к Якову Булгари по одному частному делу в декабре 1824 года и подошед близко к двери той комнаты, где он, по словам людей, спал, внезапно услышал разговор двух лиц, из коих по голосу узнал Якова Булгари, рассуждавших о какой-то конституции, а после, вошед туда, увидел прапорщика Вадковского, который тотчас ушел от него в другую комнату. Я остался у Булгари на целый день и вечер, в продолжении коих он рекомендовал меня Вадковскому, и весьма свободно разговаривал с ним при мне о правительстве и о разных его распоряжениях. Это возбудило во мне сомнение, и, чтобы удостовериться в оном, я притворно вмешивался в их суждения и поддерживал оные. Во время сей бытности моей у Булгари Вадковский, оставшись наедине (когда граф Булгари ушел к Чернышевой), предложил мне войти в тайное общество, которого он член, требуя от меня предварительной клятвы не открывать о существовании общества, ни о имени принявшего меня, и объясняя, что целью сего общества есть истребить всю царскую фамилию и ввести в России временное правление, сообразное с духом народа, причем Вадковский говорил, что обществу будет содействовать большая часть 2-й армии. Я согласился быть членом. На вопрос мой, не принадлежит ли к обществу Яков Булгари, Вадковский отвечал, что нет. Справедливость сего впоследствии подтвердилась жалобой Вадковского на него Булгари, что он, свободными разговорами стараясь выведать его тайну, обратился к генералам Бороздину и Залу с донесением на него, как на человека дерзкого в суждениях, коего надобно никуда не пускать, и что он, Вадковский, считает его презрения достойным»[94].
Прапорщик Нежинского конно-егерского полка Ф. Ф. Вадковский был незадолго только перед этим, в июле 1824 года, переведен в армию из кавалергардов за «неприличное поведение» во время маневров под Красным Селом. К этому времени он уже был членом не только Северного, но и Южного тайных обществ и ревностным прозелитом последнего. П. И. Пестель во время своего приезда в 1824 году для свидания с вождями северян организовал в Петербурге отделение Южного общества, приняв Вадковского в чине «бояра». Попав в армию, в серую среду провинциального офицерства, Вадковский почувствовал себя в пустыне и к тому же лишенным того живого дела, которому он только что собрался посвятить свои силы. Исполненный неослабным, неподдельным рвением, он живет только сознанием той высокой миссии общественного служения, которую ему придется, может быть, рано или поздно выполнить. «…Память о моих клятвах наполняет все мое сердце; я живу и дышу только той священной целью, которая нас объединяет», — писал он впоследствии Пестелю. Человек кипучей энергии и инициативы (уже выйдя на поселение, он увлекся различными негоциациями, не приносившими ему никакой выгоды, но дававшими возможность развернуть бурную деятельность), он, даже попав в глушь, стремится не сидеть без дела. Он старается поддерживать связь и с северными товарищами, и с южной директорией, и с случайными сочленами по соседству[95]. Голова его полна идей, и ему хотелось бы осуществить их и вообще выдвинуться, показать, на что он способен, какую пользу может он принести, и получить одобрение человека, «que jectime et je respect le plus dans le monde»[96], Пестеля. И вот счастливый случай сводит его с Шервудом.
«В конце первого полугодия, проведенного мною в Ахтырке, — рассказывал он Пестелю 3/XII 1825 года в письме, посланном через того же Шервуда[97], — я встретился у третьего лица с человеком, которого я вам посылаю. Я познакомился с ним, и спустя три часа мы подали друг другу руки. Я принял его, и хотя это принятие немного поспешно, но оно самое лучшее и удачное из всех, когда-либо мною сделанных».
Профессионалы-предатели тогда еще только появлялись, и в эту службу вербовались люди, внешний облик которых никак не мог свидетельствовать об их внутреннем складе. По-видимому, Шервуд умел внушить к себе доверие, как и его собрат Роман Медокс[98], не без успеха расставлявший свои сети декабристам, заключенным в Петропавловском заводе. Сложные чувства возникают при чтении характеристики, которую дает Шервуду его жертва, уже совершенно запутавшийся в тенетах провокации Вадковский:
«Вот как я понимаю этого человека теперь, когда я уже знаю его. По характеру он англичанин. Непоколебимой воли, олицетворенная честь, он тверд в своих словах и в своих намерениях. Холодный при первой встрече, в интимном знакомстве он обнаруживает чувство редкой сердечности и самопожертвования. Нет жертв, которых он не согласился бы принести для достижения своих целей, нет опасностей, которым он не решился бы подвергнуться для того, чтобы успеть в исполнении намеченного… Все это я говорю вам на основании опыта, путем которого я убедился в его способностях и нравственной силе… Я знаю его уже целый год, и это дает мне право сказать вам, что вы можете быть с ним так же откровенны, как были бы со мной. Малейшее сомнение, которое появилось бы у вас относительно него, нанесет ему чувствительное оскорбление. Я говорю: появилось бы, потому что у него есть достаточно такта, чтобы заметить это, как бы вы тщательно ни скрывали…»
Мы не знаем, каким образом Шервуду удалось убедить Вадковского в своей популярности среди военных поселений. Молодому заговорщику хотелось верить, и он поверил. Ему казалось, что благодаря ему к группе, находившейся в 1-й и 2-й армиях, присоединится новая и решающая сила, а о военных поселениях и желательности их восстания говорилось и в центральной директории. Правда, он все же на первых порах соблюдал известную осторожность. Рассказав Шервуду о существовании общества и немало приукрасив его мощь и значение, он, по-видимому, воздержался от сообщения персонального состава общества, лишив Шервуда, таким образом, главных козырей в его игре.
«Приняв его через три часа после первого знакомства, — пишет он далее Пестелю, — я считал нужным испытать его в дальнейшем, несмотря на уверенность в благородстве его чувств и в полной его преданности нашему делу… Он оставался в Ахтырке всего два дня, которые я употребил, чтобы открыть ему то, что нужно было, и насколько мог. Я наметил ему круг действия, и мы условились о способах переписки и относительно того, что он говорил мне о намерении поселений восстать без какой-нибудь другой цели, кроме как улучшение их положения; я начертил прямой план завлечения их, предписав ему придать общему недовольству направление, которое было бы целиком в пользу нашего дела. Полнейший его успех свидетельствует об его уме и способах. Спустя месяц я получаю от него письмо, в котором он загадочно сообщает (и в манере, непонятной для непосвященных), что его дела идут своим путем и что полнейший успех не преминет их увенчать. Я ему не отвечаю. Это оскорбительное молчание, хотя и вызванное осторожностью и разумом, не ослабило его прекрасного рвения. Он продолжает с тем же жаром и, уверившись в настроении войск, прилетает ко мне и сообщает о своих успехах…»
В то время как в представлении Вадковского Шервуд все усилия прилагал для успеха «notre famille»[99], как называл Вадковский общество, на самом деле он употребил свои досуги совершенно иным образом.
Вадковский не открыл ему самого главного — имен заговорщиков, а без этого его донос мог не иметь успеха. Шервуд поэтому не спешит с разоблачениями, стараясь построить свою работу на солидном основании и, как «бояр», — а именно в этом звании он и был принят, — начинает действовать на пользу общества. Вероятно, он не прочь был бы и сам принять новых членов, по крайней мере так можно понять его разговоры с графом Андреем Булгари, на допросе показавшим: «В конце 1824 или в начале 1825 года в Харькове узнал я от г-на Шервуда, что есть тайное общество, желающее освобождения народа. Я его видел здесь в первый раз. Подробностей он мне насчет общества никаких не дал, и я признаюсь, что даже оных не требовал, ибо полагал его шпионом». Барк-Петровский ставил в связь с деятельностью Шервуда и последующие аресты двух братьев Комаров, из которых один служил в том же 3-м Украинском уланском полку и которым было предъявлено обвинение в участии в каком-то мифическом «Обществе большого котла», а также трех братьев Красносельских, поручиков того же полка. Правда, как мы узнаем из «Алфавита», взяты они были на основании показаний Спиридона Булгари, но последний мог говорить со слов того же Шервуда, и, поскольку дело шло о сослуживцах последнего, это предположение кажется вполне вероятным.
Конспиративная эпистола Вадковскому, как мы знаем, осталась без ответа. Новых открытий не предвиделось, а терять время нельзя было. Шервуд решился сыграть ва-банк и отправил донос. Понимая, что, обходя свое прямое начальство — графа Витта, он рискует навлечь гнев могущественного вельможи и что, с другой стороны, только таким путем он сможет воспользоваться трудом рук своих, он адресовал свой донос, где он сообщал, впрочем, только, что имеет открыть важную тайну, относящуюся до особы государя, лейб-медику баронету Виллие, с просьбой передать по назначению. Расчет был верен: Виллие был одним из немногих среди ближайшего окружения императора, чьей личной карьере донос Шервуда не мог способствовать. К тому же он был соотечественником. И действительно, 25 июня граф Аракчеев отправил фельдъегеря за Шервудом, и 13 июля последний предстал перед светлыми очами грузинского отшельника.
В «Исповеди» Шервуд в своей излюбленной диалогической манере передает разговор свой с Аракчеевым, пытавшимся у него выпытать сущность его тайны. Зная цену диалогам Шервуда, мы не будем останавливаться на этой беседе, хотя основное содержание ее правдоподобно; по крайней мере, в тот же день Аракчеев всеподданнейше донес, «что посыланный фельдъегерский офицер Ланг привез сего числа от графа Витта 3-го Украинского уланского полка унтер-офицера Шервуда, который объявил мне, что он имеет донести Вашему Величеству касающееся до армии, а не до поселенных войск, состоящее будто в каком-то заговоре, которое он не намерен никому более открывать, как Вашему Величеству. Я его более не спрашивал, потому что он не желает оного мне открыть, да и дело не касается военного поселения, а потому и отправил его в С.-Петербург к начальнику Штаба, генерал-майору Клейнмихелю, с тем чтоб он его содержал у себя в доме и никуда не выпускал, пока Ваше Величество изволите приказать, куда его представить. Приказал я Лангу на заставе унтер-офицера Шервуда не записывать»[100].
17 июля Шервуд имел аудиенцию у Александра. Подробности ее изложены в той же «Исповеди» и столь же достоверны. Рассказав о своих подозрениях и открытиях и назвав Вадковского, Шервуд получил монаршее благословение на дальнейшие розыски и должен был представить записку о своих ближайших планах. В ней он прежде всего занялся вопросом, как наиболее правдоподобно объяснить начальству и знакомым причину его таинственного экстренного вызова в столицу.
Ему помог случай. Среди многочисленных разношерстных знакомых Шервуда был некий грек Кириаков, комиссионер графа Якова Булгари в его торговых и хозяйственных делах. Кириаков этот, бывший, по-видимому, довольно темной личностью, находился в приязненных отношениях с Шервудом, вообще чрезвычайно легко сходившимся с различными проходимцами, как мы еще в своем месте не раз убедимся. Кириаков, о котором Шервуд писал, что «сего грека совершенно привязал к себе», был замешан в деле кирасирского поручика Сивиниса, который, самозванно явившись к богатому московскому греку Зосиме в качестве царского флигель-адъютанта, обманным образом выманил у него какие-то вещи и значительную сумму денег. По этому делу Кириаков был арестован, причем взят он был в Миргороде, куда приехал вместе с Шервудом и по подорожной последнего. Не было ничего невероятного в том, что следственные власти решили заодно допросить и Шервуда, и этим он предполагал объяснить свой отъезд, а испрошенный им отпуск должен был мотивироваться его невинностью и личным знакомством императора с его отцом.
В дальнейшем Шервуд намеревался отправиться в Одессу и получить там от упомянутого уже таможенного начальника Плахова рекомендательные письма в Орловскую губернию; ехать затем туда и в корпусе генерала Бороздина искать членов общества, относительно которых он был введен в заблуждение Вадковским, а также попытаться использовать последнего для новых открытий. К 20 сентября должен был прибыть в город Карачев нарочный для получения сведений.
Записка Шервуда получила 30 июля высочайшее одобрение, а 3 августа от главного над военными поселениями начальника корпусному командиру господину генерал-лейтенанту графу Витту последовало предписание:
«3-го Украинского уланского полка унтер-офицер Шервуд, который прислан Вашим сиятельством ко мне по данному мною Вам предписанию, был истребован сюда по подозрению в участии с офицером Сивинис при похищении сим последним разных вещей и денег у одного грека в Москве, но Шервуд оказался невинным, и при сем случае он просил об увольнении его в отпуск на год — для приведения в порядок расстроенного состояния отца его. Просьбу сию я доводил до сведения Государя Императора, и Его Величество, зная лично отца Шервуда, Всемилостивейше соизволил на его просьбу.
Объявляя Вам, генерал, таковую монаршую волю и прилагая при сем пашпорт унтер-офицеру Шервуду, предписываю вручить ему оный и считать его в дозволенном отпуску».
Вернувшись в Миргород и пустив под рукой слух о причинах своего отъезда и отпуска, с расчетом, чтобы слух этот дошел до Вадковского, Шервуд действительно отправился в Одессу, где он, между прочим, надеялся уличить в заговорщичестве адъютанта генерала Рудзевича, поэта Шишкова, действительно радикально настроенного человека. Не успев в этом, он поехал в Курск, где имел свидание с Вадковским и несколько расширил объем своих сведений об обществе. После этого ему предстояло ехать в Карачев для встречи с курьером Аракчеева.
Курьер, однако, на несколько дней опоздал, чему причиной было убийство в Грузине наложницы Аракчеева Настасьи Минкиной, повергшее временщика в полную апатию и оцепенение. За это Аракчеев удостоился порицания со стороны официозных историков, Шильдера и великого князя Николая Михайловича, почему-то думавших, что, не случись этой кратковременной заминки, восстаний 14 декабря и Черниговского полка не произошло бы.
Августейший историк даже разразился по этому случаю следующей филиппикой: «…пишущий эти строки может добавить чувство глубокого негодования и отвращения к роли Аракчеева в деле безопасности личности его благодетеля и вообще к его отношению к особе Государя. Здесь вполне отчетливо выразилась вся подлая фигура грузинского помещика, и он сам себе подписал приговор быть заклейменным и не только современниками, но и всеми последующими поколениями»[101].
Нужно заметить, что вряд ли Аракчеев заслужил такие упреки от позднейшего родича своего венценосного покровителя. Прежде всего, мы не думаем, чтобы он особенно серьезно отнесся к доносу Шервуда, показавшемуся невероятным и Дибичу, и самому Константину Павловичу; наконец, и самая задержка не сыграла в дальнейшем никакой роли, потому что уже 11 октября в руках у Александра было донесение Шервуда Аракчееву, в котором он просил прислать к нему в Харьков облеченного соответствующими полномочиями чиновника, а только 10 ноября был к нему послан казачий полковник Николаев[102].
Распрощавшись с аракчеевским фельдъегерем, Шервуд еще довольно долго — до 26 октября — находился в окрестностях Орла, ожидая проезда графа Николая Булгари, от которого надеялся получить сведения об обществе. Убедившись в напрасности своих ожиданий и не успев сделать никаких открытий в корпусе Бороздина, он решил наконец отправиться к Вадковскому, предварительно возобновив с ним переписку[103]. 30 октября он встретился в Курске с Вадковским, который поспешил поделиться с Шервудом своими планами и новостями, правда в общих только чертах. Памятуя об отлучке Николая Булгари, которого Вадковский предназначал в качестве курьера для внешних сношений, Шервуд, по словам его донесения, «стал ему говорить о его прежнем предположении составить со мною ведомость и отослать с графом Николаем Булгари по принадлежности; вообрази, сказал он мне, что и Булгари уехал с графом Спиро и Андреем Булгари в Одессу, чем сделал мне большую остановку… впрочем, сказал он, что способнее он не находит никого послать, как поручика Булгари, и что должен непременно дожидаться его приезда; я всячески давал ему чувствовать, что я теперь на свободе и душевно желал бы на себя взять таковое поручение». Вадковский, однако, не высказывал склонности злоупотребить любезностью своего нового собрата и предпочитал придерживаться раз уже намеченного распределения функций: «он мне отвечал, что граф на то определил себя и имеет подорожную во всю Российскую империю…»
Основное поручение, возложенное Вадковским на Шервуда, заключалось в привлечении к делу тайного общества военных поселений, и Шервуд представил блестящий отчет о своих действиях, сфабриковав даже специальную «ведомость» о состоянии умов в поселениях Херсонской и Екатеринославской губерний и назвав принятых им в общество членов. В ответ на это Вадковский, по-видимому, почувствовал себя в известном смысле обязанным Шервуду и в последовавших беседах, длившихся целых два дня, держал себя уже значительно более откровенно. Правда, большая часть этого времени прошла без пользы для Шервуда, ибо любимыми темами Вадковского были «суждения и разговоры о разных несправедливостях, притеснениях и невыгодах деспотического правления»; тем не менее ряд сведений он добыл и в донесении уже называет нескольких членов общества, именованных ему Вадковским, в том числе Пестеля и Юшневского.
2 ноября Шервуд распростился с Вадковским и, условившись встретиться снова в середине месяца, отправился в Харьков для встречи с ожидаемым правительственным эмиссаром.
Полковник Николаев не чувствовал себя достаточно подготовленным для выполнения выпавшей на его долю хотя и ответственной, но довольно беспокойной миссии. С тем большими вниманием и осторожностью приступил он к рассмотрению положения. Вполне доверяя информации Шервуда, он не решался все же немедленно принимать энергичные шаги. «Взять человека легко, — размышлял он в докладной записке Дибичу, — но если не найдется при нем предполагаемых доказательств, то сим в обществе наделать можно много весьма невыгодных толков». Больших надежд на успех затеи Шервуда получить письма к кому-нибудь из южных или северных членов он первоначально не возлагал, «ибо — сколько я понимаю — Вадковский не имеет к нему большого доверия». Однако, «более всего боясь ошибки в деле столь важном», Николаев предполагал оставаться в стороне, проживая в Харькове «под видом ожидания из Петербурга офицера и денег для покупки унтер-офицерских лошадей».
Из отдельных записей в дневнике Николаева мы знакомимся с ходом развития шервудовской провокации. Правда, во избежание подозрений Шервуд довольно редко навещал своего патрона, положение которого становилось все более и более затруднительным. Предлог покупки лошадей никого не мог убедить, ибо, как справедливо заметил Николаеву харьковский губернатор, донские лошади гораздо лучше украинских, и казачий полковник, скупающий лошадей на Украине, являл зрелище довольно неправдоподобное. «Пребыванием здесь без дела, — отмечал он у себя в дневнике вскоре после приезда, — я уже подал разные догадки. Я выдумываю и лгу беспрестанно… но мне уже не верят и, к счастью, говорят, что я дожидаюсь графа Аракчеева, о чем полиция всячески узнать старается и через служителей трактирных, и подсылая под разными видами людей подсматривать мои занятия». Тайный агент сам приманил на свой след ищеек. В таких условиях ему уже нечего было и помышлять о каких бы то ни было самостоятельных действиях, и появляющуюся у него мысль самому вступить в общество для более плодотворных изысканий приходится отбросить. «К тому же, — замечает он, — мои лета и угрюмый вид могут изменить мне».
24 ноября Николаев с сокрушенным сердцем заносит запись о смерти Александра, причем отмечает, что извещенный об этом событии Шервуд тоже (по вполне понятным причинам) «тронулся». Наконец, 29-го они прибыли в Курск, где Шервуд повел на осажденную крепость решительный штурм. Не стесняясь уже средствами, Николаев решился все-таки вступить на провокационный путь и «написал прокламацию насчет Дона в республиканском духе», с тем чтобы Шервуд прочел ее Вадковскому, объяснив, от кого она получена. Не знаем, какое впечатление произвел на юного заговорщика этот образец казачьей стилистики, но почва, вероятно, уже была достаточно подготовлена, и 3 декабря Вадковский написал цитированное нами выше письмо, причем Шервуду удалось даже добиться того, что Вадковский просил Пестеля утвердить своего посланца в звании «бояра» и вручить ему для ознакомления текст «Русской правды». Понимая важность своей просьбы и желая исполнением ее утвердить свой авторитет в глазах Шервуда, Вадковский даже был в этом пункте особенно настойчив.
Шервуд, по-видимому, действительно собирался отвезти это письмо, чтобы сблизиться с Пестелем и проникнуть в самое сердце заговора. Непонятно только, почему он согласился на выставленное Вадковским условие: он должен был представить Пестелю одного из завербованных генералов. Правда, в письме Вадковский писал, что основная пружина поселенской организации — Шервуд, а генерал командируется только для декорации, но все же приходилось разыскивать человека с густыми эполетами, а подложного генерала, если бы таковым прикинулся полковник Николаев, Пестель, старый служака, конечно, немедленно разоблачил бы. Не знаем, имели ли Шервуд и Николаев кого-нибудь в виду, но ездить к Пестелю уже не понадобилось: письмо Вадковского было доставлено в Таганрог 10 декабря, а уже 5-го выехали оттуда в Тульчин генерал-адъютант Чернышев и состоящий при дежурстве главного штаба надворный советник Вахрушев для расследования дела о тайном злоумышленном обществе согласно доносу капитана Аркадия Майбороды. Николаев получил приказание вернуться в Курск, где 13 декабря и арестовал Вадковского.
Этим и закончилась роль Шервуда в деле декабристов. Вызванный в Петербург, он дал там показания Следственной комиссии, но существенного значения они не имели; серьезно пострадал благодаря ему только Вадковский. В Петербурге он на первых порах жил инкогнито, под фамилией Розена, у дежурного генерала штаба Потапова. Последний стал его понемногу выводить в свет. Об этом сохранились упоминания в письмах к сестре Варвары Петровны Шереметьевой, урожденной Алмазовой. Приехав с мужем по семейным делам в Петербург в конце 1825 года, они вынуждены были застрять там в траурные дни, пережить междуцарствие и ожидать успокоения. Покровителем и «благодетелем» их был Потапов, который и ввел к ним Шервуда. Так, 11 января Шереметьева пишет: «Итак, возвратившись домой, мы послали за молодым человеком, очень интересным. Мы его открыли тому несколько дней, предмет совсем неизвестный, но очень интересный. Во всем Петербурге, я думаю, мы одни его знаем. Мне невозможно Вам написать его имя. Это загадка, которую я Вам посылаю, постарайтесь отгадать, потому что слово я привезу с собой, и то для осторожных, а не для болтунов; ну, потревожьтесь»[104].
14 января он обедает у Шереметьевых. «Только благодетель и мы знали, кто он; он премилый мальчик (мальчику шел 28-й год. — И. Т.). Милая сестра, он хорошо Вас помнит; он Вас очень любит, он приедет в Михайловское, но не маскированный, каким он теперь здесь, но с настоящим своим именем, потому что теперь он здесь под именем Розена; это существо весьма интересное; он интересует всех, кто его видит у нас»[105]. 19 и 23 января у Шереметьевых собирается за обеденным столом избранное общество, в том числе и Шервуд. Экзотический интерес к нему, впрочем, начинает ослабевать. «Неизвестный, которого Вы стараетесь угадать, — читаем мы под 30 января, — существо очень ничтожное для общества, но интересное своими поступками для отечества. Он англичанин, и в детстве Вы его знавали, дорогая сестра»[106]. Шервуд, вероятно, почувствовал себя развязнее и стал шокировать светскую даму.
Тогда он, может быть, еще и не хвастался, что меховые сапоги на его ногах достались ему в наследство от Пестеля, но успех был ему уже обеспечен. Фигурально эти сапоги уже облекли его икры и семимильными шагами волочили к славе. Хотя служба его и не принесла результатов, но добрая воля не была забыта. Он был сопричислен к лику Мининых, Пожарских и Сусаниных; в короткое время стал гвардейским офицером, получил дворянство и прибавку к фамилии — Верный. Николай сам составил ему герб: «В верхней половине, под российским гербом, вензелевое имя в бозе почившего государя императора Александра I, в лучах; в нижней же — простертая кверху рука со сложенными пальцами, как у присяги». Рука эта указывала Шервуду путь к блистательной карьере.
III. Возникновение III отделения. Шервуд в роли тайного агента
Жженку Пушкин называл Бенкендорфом, потому что она, подобно ему, имеет полицейское, усмиряющее и приводящее все в порядок влияние на желудок.
Из рассказов о Пушкине, записанных БартеневымЯ пригласил вас, господа, с тем, чтобы сообщить вам пренеприятное известие…
Гоголь. «Ревизор»«…Способствует в правах и правосудии; рождает добрые порядки и нравоучения; всем безопасность подает от разбойников, воров, насильников и обманщиков и сим подобных; непорядочное и непотребное житие отгоняет и принуждает каждого к трудам и честному промыслу; чинит добрых домостроителей, тщательных и добрых служителей; города и в них улицы регулярно сочиняет; препятствует дороговизне и приносит довольство во всем потребном к жизни человеческой; предостерегает все приключившиеся болезни; производит чистоту по улицам и в домах; запрещает излишество в домовых расходах и все явные прегрешения; призирает нищих, бедных, больных, увечных и прочих неимущих; защищает вдовиц, сирых и чужестранных; по заповедям божиим воспитывает юных в целомудренной чистоте и чистых науках…»
Могло бы показаться, что этот неведомый всеобщий благодетель — идеал, начертанный благочестивою рукою какого-нибудь духовного писателя, если бы не «регулярное сочинение улиц» и некоторые другие обязанности, с мистической благодатью отнюдь не связанные. Чтобы помочь читателю, нам придется продолжить цитированный текст, сразу же обнаруживающий свой совершенно светский и притом официальный характер: «…вкратце ж над всеми сими полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности»[107].
В эти пышные выражения «Регламент главного магистрату» Петра I облекал довольно прозаические действительные функции городской полиции, выросшей в результате административной реформы начала XVIII века, — функции, в которых поимка воров и разбойников занимала значительно больше места, чем призрение и защита нищих, вдовиц и сирых. Наряду с этими обязанностями в круг полицейской деятельности входили и иные, более скромные и незаметные, но не менее важные с государственной точки зрения. Недовольство центральным правительством, принимавшее в различных классах общества самые разнообразные формы, заставляло держаться настороже. Петровские власти отлично понимали, что после введения подушной подати и ужасающего отягощения крестьян (да и не одних крестьян) наборами и поборами недостаточно поставить на открытых местах одетых в голландские мундиры напудренных будочников, вменив им в обязанность чинение добрых домостроителей и предостережение приключающихся болезней; в это время на новых началах организуется и тайная полиция. Правда, большая часть ее концентрировалась в столицах, заботливо опекая царскую персону Петра от лихих людей и тщательно изыскивая «слова и дела государевы». Но и провинция не избегла ее отеческого надзора. Так, в инструкции полковнику и астраханскому губернатору Волынскому Петр предписывал ему «иметь смотрение… чтоб в жителях астраханских… не было какой шаткости, из которой-нибудь стороны подсылок и побуждения к возмущению к каким противностям, и для того, где надлежит, держать для проведывания тайных подсыльщиков»[108].
Впрочем, история полицейских учреждений XVIII века, как явных, так и тайных, довольно темна, что объясняется отсутствием какой бы то ни было системы в организации этого дела.
Ни Преображенский приказ, ни Тайная канцелярия или сменившая ее в 1762 году Тайная экспедиция не были монополистами своего дела. Сложная коллекция коллегиальных инстанций, сожительствовавшая с остатками старой приказной системы, препятствовала этим «конторам пыток» превратиться в центральные органы политической полиции. А сменявшиеся в течение всего XVIII века бесчисленные фавориты четырех императриц не без основания брали на себя руководство делами о злоумышленниках против своих высокопоставленных подруг. С другой стороны, всякому сколько-нибудь видному чиновнику лестно было превратиться в «ухо и око царское», и поэтому, знакомясь с архивами XVIII века, мы находим полицейские дела чуть ли не в каждой правительственной канцелярии.
Некоторая попытка привести в порядок эту сложную систему полицейских взаимоотношений была произведена в 1802 году, с образованием министерств. Уже вступая на престол, Александр I торжественно уничтожил Тайную экспедицию, резко осудив в манифесте 2 апреля 1801 года широко развернувшуюся при его отце организацию тайного политического сыска. Но, как известно, недолго продолжалось «дней Александровых прекрасное начало». За сладкими аккордами их либерального forte очень быстро стали чувствоваться реакционнейшие подголоски, которым суждено было в дальнейшие годы стать лейтмотивом царствования; а знамением времени так и осталась тень призванного к государственной работе и в сознании бессилия покончившего с собой Радищева.
В этих условиях страна не могла надолго освободиться от Тайной экспедиции. Наряду с особенной канцелярией Министерства внутренних дел вскоре вырастает новое учреждение, о котором император, отправляясь в 1805 году в армию, говорил генерал-адъютанту Комаровскому: «Я желаю, чтобы учреждена была la haute police[109], которой мы еще не имеем и которая необходима в теперешних обстоятельствах; для составления правил оной назначен будет комитет»[110].
Перестраивая систему управления на французский лад, Александр, по-видимому, с особым интересом присматривался к устройству французской полиции. При всей его неприязненности к Наполеону последний должен был импонировать русскому самодержцу своей державностью, своим умением заставить себе повиноваться. К тому же иллюзорные угрозы, окружавшие Александра, были для Наполеона вполне реальными, и он умел с ними расправляться твердо и решительно. В этом деле основным его орудием была тайная полиция.
Созданное Наполеоном при помощи знаменитого Фуше Министерство полиции придало последней огромное значение во внутренней жизни страны. «Фуше сумел дать сильный и грозный толчок французской полиции… Никого так не страшились префекты департаментов, как министра полиции; они слепо повиновались его малейшему распоряжению; казалось, что на самом оттиске его печати была надпись „Повиновение!“, и они говорили при получении депеш: „Прежде всего полиция“»[111].
Так представляет историк французской полиции, живший вскоре после описываемых событий, значение созданного Фуше полицейского аппарата. Правда, сам автор его в своих мемуарах жалуется на стоявшие перед ним трудности: «Моя система часто вызывала обвинения и порицания. Против меня был Люсьен (брат Наполеона), то есть министр внутренних дел, имевший свою собственную полицию»[112]. «Между тем восторжествовал макиавеллевский принцип divide et impera, и вскоре оказалось четыре различных полиции: военная полиция дворца, созданная адъютантами и Дюроком; полиция жандармской инспектуры; полиция префектуры, управляемая Дюбуа, и моя… Таким образом, первый консул каждый день получал четыре отдельных бюллетеня, исходивших из разных источников, которые он и мог сравнивать, не говоря уже о его личных доверенных корреспондентах. Это он называл пробой пульса республики»[113].
Стремление к дублированию осведомительных органов — черта, характерная для деспотического правления, вообще подозрительного, а особенно в те периоды, когда общественные отношения требуют перехода к иной форме государственной жизни. И неудивительно, что Александр I в своих интересах к «haute police» шел за учреждениями бонапартовской Франции. Но если Наполеон, твердо проводивший принцип разделения, все же сумел сосредоточить в руках одного министерства достаточно власти для усмирения непокорных, то болезненно мнительный и никому по-настоящему не доверявший русский царь, «властитель слабый и лукавый», как называл его Пушкин, так и не сумел справиться с поставленной себе задачей.
С 1805 года начинается ряд попыток создать самостоятельный орган высшего полицейского управления на французский манер. При всей своей нелюбви не только что к якобинской, но даже и к термидорианской республике и консульству Александр так и окрестил рожденное им в 1807 году после двухлетних мук полицейское детище — «Комитетом охранения общественной безопасности». Происходившая война с Наполеоном заставляла особенно беспокоиться о послушании пограничных губерний, недавно лишь присоединенных к империи и явно обнаруживших сепаратистские настроения. Можно было опасаться, что колонизаторская политика царского правительства без особого восторга воспринимается польской шляхтой, украинскими холопами или крымскими крестьянами. И деятельность комитета, опять-таки не вобрав всего круга полицейских вопросов, сосредоточилась именно на полицейском умиротворении окраинных губерний[114].
Нужно отметить, что, учреждая и развивая тайную полицию, правительство в значительной степени шло навстречу чаяниям основной поддерживающей его классовой группы — крепостнического дворянства. Не менее того, как носитель верховной власти боялся повторения событий, возведших на трон его и его бабку, боялись и дворяне новой пугачевщины, грозно нараставшей в непрестанных крестьянских волнениях. Полицейские мероприятия власти подчас прямо были рассчитаны на сочувствие определенных общественных кругов. Характерно поэтому, что и учреждение комитета безопасности, несмотря на явное его противоречие основному направлению первых лет царствования и на неприятный в ту пору французский оттенок его названия, встречено было довольно дружелюбно. «…На сих днях, — записал 17 января 1807 года благонамеренный С. П. Жихарев, — учрежден особый комитет для рассмотрения дел, касающихся до нарушения общественного спокойствия. Слава Богу. Пора обуздать болтовню людей неблагонамеренных: может быть, иные врут и по глупости, находясь под влиянием французов; но и глупца унять должно, когда он вреден. А сверх того, не надобно забывать, что нет глупца, который бы не имел своих продолжателей… следовательно, учреждение комитета как раз вовремя»[115].
Но возникший как междуведомственное совещание министров, комитет этот, хотя и вырос довольно быстро в самостоятельную организацию и завел собственную канцелярию, не мог удовлетворить правительство, и наряду с ним в 1810 году было учреждено специальное Министерство полиции, нарочито для этого выделенное из Министерства внутренних дел.
Подобная мера, явственно свидетельствовавшая о растущей недоверчивости правительства, уже не встретила особенно приязненного отношения со стороны высших кругов. Они чувствовали себя также взятыми на подозрение и резонно обижались. В позднейших своих «Воспоминаниях» Вигель выразил это чувство, свалив, правда, вину на Сперанского, слепо подражавшего якобы наполеоновским образцам. «Преобразователь России забыл или не хотел вспомнить, что в положении двух императоров была великая разница. Две трети подданных Наполеона почитали его хищником престола и всегда готовы были к заговорам и возмущениям: пока он сражался с внешними врагами, для удержания внутренних был ему необходим искусник Фуше. То ли было в России?»[116].
Правительство, однако, держалось иного мнения и полагало, что без «искусника Фуше» ему не обойтись. Таковой обнаружился в лице недавно назначенного генерал-адъютантом и исполняющего должность петербургского генерал-губернатора А. Д. Балашова. Ему-то и было вручено управление новообразованным ведомством. В довольно широкий круг его ведения вместе с малоопределенными «происшествиями» и «неповиновением» входили шарлатанство, совращение, надзор за тюрьмами, арестантами, беглыми, раскольниками, притонодержателями, буянами, развратниками и пр., а рядом наблюдение за иностранцами, рекрутские наборы, сооружение мостов (совсем по регламенту Петра — улиц регулярное сочинение), продовольствие, корчемство и пр. Но главным движущим нервом министерства была его канцелярия «по делам особенным», куда входили все те дела, «которые министр полиции сочтет нужным предоставить собственному своему сведению и разрешению»[117].
Компетенция министра полиции определялась, таким образом, им самим, и роль его в государственных делах стала расти все более чувствительно. В помощь себе он приблизил авантюриста Якова де Санглена, назначенного директором канцелярии министра и, как можно догадываться, явившегося соавтором нововведенной системы. Главными средствами почитались те, которые с таким успехом применял в Париже Фуше: шпионаж и провокация. Нужно, впрочем, отметить, что агентами на первых порах часто являлись доносители добровольные, и только постепенно собирался кадр профессиональных шпионов и провокаторов. «Со времени войны с французами, — заносил 7 апреля 1807 года в свой дневник С. П. Жихарев[118], — появился в Москве особый разряд людей под названием „нувелистов“, которых все занятие состоит в том, чтоб собирать разные новости, развозить их по городу и рассуждать о делах политических». Опыт французской полиции говорил, что подобные люди, благодаря своим широким общественным связям и повсеместной принятости, могут оказывать в агентурной службе чрезвычайно важные услуги — преемник Фуше, Савари, характеризуя в своих мемуарах эту общественную разновидность, называет ее для полиции «драгоценной». По этим двум путям и направились устремления Министерства полиции, вскоре окончательно реорганизованного, по словам графа В. П. Кочубея, в министерство шпионства. В записке на высочайшее имя, поданной Кочубеем в 1819 году, когда он принимал полицейское ведомство обратно в лоно Министерства внутренних дел, система Балашова описывается следующим образом: «Город закипел шпионами всякого рода: тут были и иностранные, и русские шпионы, состоявшие на жалованьи, шпионы добровольные; практиковалось постоянное переодевание полицейских офицеров; уверяют даже, что сам министр прибегал к переодеванию. Эти агенты не ограничивались тем, что собирали известия и доставляли правительству возможность предупреждения преступления, они старались возбуждать преступления и подозрения. Они входили в доверенность к лицам разных слоев общества, выражали неудовольствие на Ваше Величество, порицая правительственные мероприятия, прибегали к выдумкам, чтобы вызвать откровенность со стороны этих лиц или услышать от них жалобы. Всему этому давалось потом направление сообразно видам лиц, руководивших этим делом. Мелкому люду, напуганному такими доносами, приходилось входить в сделки со второстепенными агентами Министерства полиции, как напр., с Сангленом и проч. …»[119]
Затянув паучьей сетью шпионажа страну, Балашов создал себе независимое и выгодное положение в первом ряду бюрократического строя. Но стремление вверх и любовь к интриге оборвали его расцветавшую карьеру. Честолюбие министра полиции не могло помириться с первенствующим положением Сперанского, и он совместно с графом Армфельдтом, тоже любопытным типом «изящного и оплачиваемого изменника», повел сложную интригу против пошатнувшегося в доверии императора новоявленного законодателя. Балашов не отдавал себе отчета в том, что значение Сперанского, застилая, правда, его самого, вместе с тем служит своеобразным громоотводом от монарших подозрений и гнева. После падения Сперанского они в первую очередь обратились на министра, растущая роль и опасные связи которого намечали самые рискованные перспективы. «Мне Пален не нужен, — пришел наконец к выводу император, — он хочет завладеть всем и всеми, это мне нравиться не может»[120]. С началом войны 1812 года Балашов, впрочем, сохраняя титул министра до самого закрытия министерства, фактически получает отставку и отправляется в армию, где, по-видимому, принимал участие в организации военной полиции.
Роль Министерства полиции в то время ясно характеризуется тем, что временным председателем Совета Министров был назначен заместитель Балашова, С. К. Вязьмитинов. Но при нем, несомненно, деятельность министерства падает; были ли тому причиной преклонный возраст его, лишивший его возможности лично принимать, подобно Балашову, участие в полицейских авантюрах и, конечно, отражавшийся на размахе его энергии, или просто неумение и неприспособленность нового министра, но значение ведомства уменьшается, так что после смерти Вязьмитинова ему и не подыскивали преемников, превратив министерство снова в особое отделение Министерства внутренних дел, где граф Кочубей, не желавший марать свою аристократическую репутацию постыдным промыслом шпиона и, по словам Вигеля, «как бы гнушавшийся этою частью», предоставил полиции значительно более скромное положение.
Неудачные попытки полицейской организации привели к новому разделению сыскных органов, поставленных под взаимный контроль. Вместо одного «искусника Фуше» появилось несколько. Так, столичная полиция, бывшая, как можно видеть из цитированных выше замечаний Кочубея, одним из основных интересов упраздненного министерства, выделилась в особенную часть под началом с. — петербургского военного генерал-губернатора Милорадовича[121]. Столь деликатное дело было, однако, не совсем по плечу этому лихому «отцу-командиру», и, несмотря на несомненную его преданность, наряду с его полицией имелись и другие тайные организации. «В Петербурге, — пишет А. И. Михайловский-Данилевский, — была тройная полиция: одна в Министерстве внутренних дел, другая у военного генерал-губернатора, а третья у графа Аракчеева; тогда даже называли по именам тех из шпионов, которые были приметны в обществах, как-то: Новосильцова, князя Мещерского и других». Специальная полиция создавалась в армии — с 1815 года стали формироваться жандармские полки. «В армиях было шпионство также очень велико: говорят, что примечали за нами, генералами, что знали, чем мы занимаемся, играем ли в карты и тому подобный вздор»[122]. Специальные поручения получали и отдельные лица, как граф Витт, организовавший тайное наблюдение в южных губерниях.
Разношерстность и спутанность надзора доходили до такой бессмыслицы, что сам без лести преданный императору граф Аракчеев находился под бдительным наблюдением агентов своего коллеги и до некоторой степени конкурента Милорадовича. «Квартальные следили за каждым шагом всемогущего графа, — вспоминал декабрист Батеньков. — Полицмейстер Чихачев обыкновенно угодничал и изменял обеим сторонам. Мне самому граф указал на одного из квартальных, который, будучи переодетым в партикулярное платье, спрятался торопливо в мелочную лавочку, когда увидел нас на набережной Фонтанки». Города кишели шпионами, зорко следившими за каждым происшествием, из которого можно было создать «дело» и состряпать донос. Получая скудное жалованье, они ложились на обывателя тяжелым дополнительным налогом. Особенно трудно приходилось тем, у кого не было достаточно твердой руки, чтобы в нужную минуту опереться на нее в борьбе с аппетитами полицейских ищеек. Знакомый нам по первой главе иностранец Май, несомненно имевший неприятную необходимость познакомиться с нравами петербургской полиции, несколько раз в своих записках останавливается на характеристике ее нравов. С горечью обиженного человека он безжалостно рисует портрет полицейского агента, беззастенчиво наглого в своих вымогательствах и почтительно-униженного, лишь только его ушей коснется звон серебра. Правда, одновременно автору приходится сознаться, что иностранцы не только терпят от полиции, но зачастую и сами приходят к ней на помощь и тогда своими повадками мало чем отличаются от туземных агентов. В этих ролях подвизаются и немцы, и итальянцы, и даже французы, — по словам Мая, он краснел, когда писал эти строки.
Что общая оценка верна, что здесь мы не имеем злостного поклепа со стороны пострадавшего от преследований русской полиции иностранца, можно убедиться на основании полицейских же донесений о «толках и настроениях умов в России» того времени. Так, о столичной секретной полиции говорили, что она «большею частью поручена была Фогелю… который расстроил до основания сие учреждение. Известность Фогеля, его развратность превращают сию полицию в коварное ябедничество, в притязательное отягощение публики, особенно иностранцев, и наносят вред полицейским распоряжениям всего правительства, кои, при настоящем времени, лишь облагородствованием своим могут приносить существенную пользу»[123].
Хотя правительство и держалось довольно высокого мнений о своей системе («Наша внешняя полиция не оставляет желать ничего лучшего», — писал императору министр внутренних дел граф Кочубей), на самом деле она приносила не очень богатые плоды. Сбивчивость и неуверенность правительственных распоряжений толкали полицейские органы в самые различные стороны, а персональный их состав не обладал достаточной квалификацией для самостоятельных действий. Добровольные шпионы, вербовавшиеся из более высоких общественных слоев, нагромождали в своих донесениях небылицы и нелепицы, что хотя и вызывалось их усерднейшим рачительством, но ставило правительство в затруднительное положение. Что же касается до профессионалов, то именно о них писал Батеньков: «Разнородные полиции были крайне деятельны, но агенты их вовсе не понимали, что надо разуметь под словами карбонарии и либералы и не могли понимать разговора людей образованных. Они занимались преимущественно только сплетнями, собирали и тащили всякую дрянь, разорванные и замаранные бумажки, и доносы обрабатывали, как приходило в голову. Никому не были они страшны…»[124].
Дело кончилось грандиозным скандалом. О существовании охватившего всю страну заговора начальника столичной полиции графа Милорадовича осведомила только пуля Каховского. Начавшееся в грохоте декабрьских пушек царствование прежде всего озаботилось реорганизацией полицейского наблюдения. Так возникло III Отделение.
«Император Николай стремился к искоренению злоупотреблений, вкравшихся во многие части управления, и убедился из внезапно открытого заговора, обагрившего кровью первые минуты нового царствования, в необходимости повсеместного более бдительного надзора, который окончательно стекался бы в одно средоточие; государь избрал меня для образования высшей полиции, которая бы покровительствовала утесненным и наблюдала за злоумышлениями и людьми, к ним склонными».
Так объяснял граф Бенкендорф в своих записках, составлявшихся в назидание потомству, причины учреждения III Отделения. Если отбросить стереотипную лицемерную фразеологию, то из этой напыщенной тирады можно извлечь некое зерно истины. Действительно, непосредственным поводом образования нового полицейского ведомства было восстание декабристов.
Еще в тот морозный вечер, когда на Петровской площади шло мытье да катанье и свежим снегом затиралась только что пролитая кровь, а в ближайших улицах караульные пикеты вылавливали из дворов мятежных солдат, в Зимнем дворце были установлены основные приемы следовательской работы. Сыском и следствием начиналась новая полоса русской жизни, и с первых же дней встал вопрос, как превратить этот сыск в постоянно действующую силу для охраны официально незыблемых, а по существу довольно шатких устоев русского самодержавия.
На помощь правительству пришел своеобразный общественный подъем, подъем реакционных сил. Все те, чье благополучие зиждилось на твердости крепостнического строя, стремились сплотиться вокруг царского знамени, прийти на помощь новому монарху, поражающему гидру революции, и уверить его в своей преданности. На это толкали и общеклассовые интересы, и заманчивые возможности личного возвышения. Ушаты холопского красноречия полились на Николая в письмах его верноподданных. «Младый законный царь России, приемля бразды правления твердою, сильною рукою, должен пленять сердца не только мужеством и благостию, но предприятиями великими, необыкновенными», — писали ему канцелярские чиновники и «простые российские дворяне»[125].
Итак, поддержка консервативных групп была обеспечена. Как же и с кем вести борьбу? Бенкендорф, говоря о людях, «склонных к злоумышлениям», указывает и корень зла: «Число последних выросло до ужасающей степени с тех пор, как множество французских искателей приключений, овладев у нас воспитанием юношества, занесли в Россию революционные начала своего отечества, и еще более со времени последней войны, через сближение наших молодых офицеров с либералами тех стран Европы, куда заводили нас наши победы»[126].
Для Бенкендорфа все дело сводилось к злокозненному действию французской революционной бациллы и к ставшему уже тогда трафаретным объяснению декабристского движения наполеоновскими походами. Французская болезнь — это, как мы знаем, был и диагноз Милорадовича — Фогеля, ревностно искоренявших якобинскую заразу. Но отзыв шефа жандармов — это уже testimonium paup eritatis[127], потому что его собственные подчиненные гораздо вернее и острее оценивали и причины декабрьского восстания, и последующие настроения различных классовых групп.
В ежегодных отчетах III Отделения можно найти отзывы и характеристики, показывающие, что фактические его руководители довольно ясно отдавали себе отчет в опасностях как крестьянского, так и рабочего вопроса; не закрывали они глаз и на недостатки правительственного механизма и вместе с тем определяли довольно точно ту среду, из которой надо ждать нового протеста, — интеллигентную дворянскую молодежь, не перестававшую бурлить и после разгрома декабристов.
Вражеские ряды были раздроблены и не организованы, и, пока к ним не присоединились новые слои интеллигенции разночинной, николаевское правительство действовало довольно успешно. Но для того, чтобы бороться с крамолой, нужно было укрепить связи власти с дворянством и новым нарождающимся слоем, — союз, давший в последние годы александровского царствования заметные трещины. В протесте декабристов было много черт общедворянского недовольства, и Николай не оставил без внимания советы своих «друзей 14-го декабря» («mes amis du guatorze» — так называл он их впоследствии), повелев даже составить специальный «свод» их показаний с критикой государственного устройства России.
Так под шум пушек и заупокойные молебны над пятью повешенными зачиналась новая глава в истории русского полицейского режима, глава, в которой кризис всего общественного строя тесно переплетался с нежеланием представить себе этот кризис во всей его глубине и стремлением во что бы то ни стало, даже ценой некоторых уступок, сохранить существующий порядок. «Стремление влить новое вино в старые мехи, притом в такой умеренной дозе, чтобы мехи не пострадали, и укрепить устарелые формы от напора нового содержания всеми силами власти — характерная черта николаевской политики»[128].
Превыше всего ставивший дисциплину и из всех общественных организаций симпатизировавший только военной, Николай сам относился к своим государственным обязанностям с добросовестностью исполнительного ротмистра. Он стремился принимать личное участие в разрешении всякого дела, независимо от его масштабов и значения. Не доверяя бюрократической системе управления, особенно широко развернувшейся со времени административных реформ его брата, он пытался превратить всю несметную чиновническую массу, от министров до коллежских регистраторов, в покорных исполнителей царской, и только царской, воли. Не имея возможности одеть в цветной мундир все приказное сословие, он удовлетворился тем, что создал свою собственную военную «опричнину» в виде жандармского корпуса и центральным нервом всего правительственного аппарата сделал свою личную канцелярию, в которой особенное значение получило знаменитое ее III Отделение.
«События 14-го декабря и страшный заговор, подготовлявший уже более 10 лет эти события, вполне доказывают ничтожество нашей полиции и необходимость организовать полицейскую власть по обдуманному плану, приведенному как можно быстрее в исполнение…»
Так писал будущий граф и главноуправляющий III Отделением А. X. Бенкендорф в записке, поданной им зимою 1826 года, вскоре после начала следствия по делу декабристов. Констатируя совершенно очевидный факт неудовлетворительной постановки дела полицейского наблюдения, он тут же предлагал план его преобразования, одновременно делая очень прозрачные намеки личного свойства: «Для того чтобы полиция была хороша и обнимала все пункты Империи, необходимо, чтобы она подчинялась системе строгой централизации, чтобы ее боялись и уважали и чтобы уважение это было внушено нравственными качествами ее главного начальника…»[129]
Далее Бенкендорф предлагал присвоить этому «главному начальнику» звания министра полиции и инспектора жандармерии и объединить в его руках, таким образом, существовавшие самостоятельные полиции, что должно было явиться прочным залогом успешности борьбы со всяческими крамолами и неблагонамеренностями.
Если подобные советы Николай слышал от людей, запуганных возможностью повторения «бунта», то, как это ни покажется на первый взгляд странным, такие же уроки он мог получить и со стороны самих бунтовщиков, и в первую очередь от самого злейшего «демагога» П. И. Пестеля.
В «Русской правде» Пестеля, хотя и рассчитанной на совершенно иную аудиторию, Николай мог найти много полезных истин, если только он самолично познакомился с текстом этого «возмутительного» произведения[130]. Так, не без назидания для себя мог он прочесть о том, что «народы везде бывают таковыми, каковыми их соделывают правление и законы, под коими они живут»; но с особенным вниманием должен был он отнестись к тому отделу «Записки о государственном управлении», где Пестель намечал полицейскую систему будущего государства, по плану «Записки» еще монархического.
«Вышнее благочиние охраняет правительство, государя и государственные сословия от опасностей, могущих угрожать образу правления, настоящему порядку вещей и самому существованию гражданского общества или государства, и по важности сей цели именуется оно вышним…» Оно «требует непроницаемой тьмы и потому должно быть поручено единственно государственному главе сего приказа, который может оное устраивать посредством канцелярии, особенно для сего предмета при нем находящейся…» Имена чиновников «не должны быть никому известны, исключая Государя и главы благочиния». Рассматривая далее функции благочиния, Пестель включает в них наблюдение за правильным ходом государственного аппарата, преследование противоправительственных учений и обществ и иностранный шпионаж. «Для исполнения всех сих обязанностей имеет вышнее благочиние непременную надобность в многоразличных сведениях, из коих некоторые могут быть доставляемы обыкновенным благочинием и посторонними отраслями правления, между тем как другие могут быть получаемы единственно посредством тайных розысков. Тайные розыски или шпионство суть посему не только позволительное и законное, но даже надежнейшее и почти, можно сказать, единственное средство, коим вышнее благочиние поставляется в возможность достигнуть предназначенной ему цели».
Изложив таким образом основные принципы высшей тайной полиции, Пестель переходил к устройству того, что он называл благочинием обыкновенным или открытым. Для нашего повествования особый интерес представляет то место его плана, где говорится об организации «внутренней стражи», то есть той силы, «которая, превышая все частные силы, принуждает всех и каждого к исполнению повелений правительства». «Для составления внутренней стражи, думаю я, что 50 000 жандармов будут для всего государства достаточны. Каждая область имела бы оных 5000, а каждая губерния 1000, из коих 500 конных и 500 пеших… Содержание жандармов и жалованье их офицеров должны быть втрое против полевых войск, ибо сия служба столь же опасна, гораздо труднее, а между тем вовсе не благодарна»[131].
У нас нет, конечно, оснований утверждать, что этот суровый план, начертанный мятежником Пестелем в целях укрепления революционной диктатуры, действительно был использован следователями при организации охраны престола. Но самое совпадение любопытно и, может быть, неслучайно. В этом плане и было построено III Отделение, сосредоточившее в своих руках все управление полицией и опиравшееся на присоединенный к нему под личной унией единого начальника корпус жандармов. 3 июля 1826 года последовал высочайший указ о создании отделения с назначением предметов его занятий.
Мы только что цитировали предположение Пестеля, что во главе высшего благочиния должен стоять кроме государя только один человек — специальный сановник, нареченный им главой благочиния. Пестель заранее указывал, каким требованиям должно отвечать это лицо: он «должен быть человек величайшего ума, глубочайшей прозорливости, совершеннейшей благонамеренности и отличнейшего дарования узнавать людей». Но если таков должен быть тот, кому революционное правительство могло бы доверить охрану безопасности освобожденного народа, то совсем другая мерка применялась Николаем к тому, кто, будучи его ухом и глазом, не должен был, однако, претендовать на более высокие качества, благодаря которым он мог бы затмить самого носителя верховной власти.
Вовсе не случайным поэтому является то обстоятельство, что во главе III Отделения в течение всего царствования Николая I стояли люди, по своим личным качествам мало соответствовавшие их сложному назначению. М. К. Лемке в своем труде «Николаевские жандармы и литература 1826–1855 гг.» приводит ряд материалов, характеризующих основателя III Отделения Бенкендорфа как человека дряблой воли, лишенного каких бы то ни было государственных дарований, кроме безграничной преданности государю и умения снискать его дружбу. Впрочем, иначе и быть не могло. Николай не потерпел бы около себя даже тупой, но упорной силы Аракчеева, не говоря уже о талантах, подобных Сперанскому. Поэтому ближайшими к нему людьми и оказались Бенкендорф и Орлов, последовательно стоявшие во главе III Отделения и единственными качествами которых были их светскость и «без лести преданность».
Внутренний быт III Отделения фактически определялся не рассеянным и легкомысленным Бенкендорфом, а директором его канцелярии М. Я. Фоком. <…>
Фок явился в III Отделение во всеоружии полицейских методов александровского периода. Но времена настали иные. Возвысив полицию до роли высшего государственного органа страны, Николай стремился придать ей некоторое благообразие. Недаром сохранился анекдот о платке для утирания слез обездоленных, который был им вручен Бенкендорфу в качестве инструкции. Отказавшись от восстановления Министерства полиции, правительство тем самым как бы демонстрировало свое нежелание возвращаться к методам «искусника Фуше». П. А. Вяземский сообщает любопытный и характерный эпизод: «Когда граф Бенкендорф явился в первый раз к великому князю в жандармском мундире, он встретил его вопросом: Savary ou Touché? — Savary, honnéte homme, — отвечал Бенкендорф. — Ah, са ne varie pas, — сказал Константин Павлович»[132].
Фуше или Савари? Так стоял вопрос. Фуше, прославившийся своим двуличием и жестокостью, беззастенчивостью методов и многократными изменами знамени, или Савари, с негодованием отвергавший, хотя, по существу, ложно, предположение, что до своего назначения министром полиции он уже был испробован в секретной службе[133]. Бенкендорф выбрал второго, и это несомненно больше подходило к нему; говоря о Савари, цитированный нами историк французской полиции замечает: «При самых благих намерениях, при величайшей преданности своему повелителю, он мог заместить герцога Отрантского, но не заменить его. Он нашел в бюро тех же людей, тех же чиновников; в папках те же доклады и справки; он нашел руки, но головы больше не было». В таком же положении был и Бенкендорф, но это не могло его смущать: думать вообще не входило в его обязанности. Для этого имелся Фок, и затем это входило в прерогативы самого императора. И, оценивая положение, любивший каламбуры великий князь мог справедливо вздохнуть: «Ah, са ne varie pas» — разницы нет.
Но тон был действительно взят новый. Правительство прекрасно отдавало себе отчет в том, что основной его поддержкой в намеченных мероприятиях является консервативная дворянская масса, боящаяся народных волнений не меньше, чем сама власть. Старые полицейские методы вызывали недовольство дворянства; перестраивая полицейский аппарат, правительство стремилось вовлечь побольше офицеров и дворян, привлечь интерес благородного сословия к жандармской службе. «Чины, кресты, благодарность служат для офицера лучшим поощрением, нежели денежные награды», — писал Бенкендорф в цитированной выше записке. Деятели старой школы недоумевали и не могли воспринять нового направления. <…>
Пока таким образом шел процесс создания благородного и чувствительного полицейского в голубом мундире, процесс, закончившийся уже в сравнительно более поздний период, III Отделение, конечно, испытывало чрезвычайную нужду в агентах старого пошиба, в том, что маститый полицейский префект Горон называл «старой традицией иметь в числе своих тайных агентов заведомых мошенников». Наиболее желательным типом сотрудника являлся, конечно, тот, который соединил бы качества респектабельности с талантами тайного агента. Одной из первых кандидатур и явился Шервуд.
Осиянный славой спасителя отечества и взысканный милостями и благоволением царской фамилии, Шервуд представлял фигуру, хотя и несколько интригующую, но достаточно импозантную в глазах тех, кто сочувствовал разгрому декабрьского движения, а такими являлась почти вся дворянская масса. Успехи его на поприще политического сыска, вызванные к тому же собственною инициативой, ручались за плодотворность его работы. Числясь формально в гвардейском драгунском полку, поручиком которого он состоял, он был откомандирован в распоряжение III Отделения и вместе с жандармским полковником И. П. Бибиковым отправлен в начале 1827 года на юг с секретным поручением[134].
Известна и много раз приводилась в печати полученная ими инструкция, являющаяся, по существу, трафаретной для жандармского корпуса. Написанная высоким и чувствительным языком, инструкция эта вменяла жандармским офицерам в обязанность утирать слезы невинных, пещись о сирых и пр. Отбрасывая эту официальную фразеологию, мы видим, что основной задачей инструкция ставит, кроме пресечения всяких «злоупотреблений, беспорядков и законупротивных поступков», борьбу с бюрократизмом. «Сколько дел, — восторженно декламирует шеф жандармов в своей инструкции, — сколько беззаконных и бесконечных тягот посредством вашим прекратиться могут, сколько злоумышленных людей, жаждущих воспользоваться собственностью ближнего, устрашатся приводить в действие пагубные свои намерения, когда они будут удостоверены, что невинным жертвам их алчности проложен прямой и кратчайший путь к покровительству Его Императорского Величества». Наоборот, особенно выделять надо работу честных и непорочных чиновников: «Вы даже по собственному влечению вашего сердца стараться будете узнавать, где есть должностные люди, совершенно бедные или сирые, служащие бескорыстно верой и правдой, не могущие даже снискать пропитание одним жалованьем, — о таковых имеете доставлять мне подробные сведения для оказания им возможного пособия и тем самым выполнить священную на сей предмет волю Его Императорского Величества отыскать скромных вернослужащих».
Заканчивалась инструкция чрезвычайным расширением сферы жандармской компетенции: «Впрочем, нет возможности поименовать здесь все случаи и предметы, на которые вы должны обратить внимание, ни предначертать вам правила, какими вы во всех случаях должны руководствоваться; но я полагаюсь в том на вашу прозорливость, а более еще на беспристрастное и благородное направление ваших мыслей»[135].
Нужно заметить, что борьба с бюрократической системой ставилась III Отделением всерьез. Система эта, особенно развившаяся в царствование Александра I, в связи с усложнившимся строем общественной жизни, к тому времени сложилась в довольно широкое и крепкое, хотя и не очень стройное, здание. Современники, привыкшие персонифицировать причины социальных явлений, связывали рост бюрократизма с деятельностью Сперанского: «В кабинете Сперанского, в его гостиной, в его обществе… зародилось совсем новое сословие, дотоле неизвестное, которое беспрестанно умножаясь, можно сказать, как сеткой покрывает ныне всю Россию, — сословие бюрократов»[136]. Чиновники размножались в таком несметном количестве, что появились специальные казенные города, высший круг которых состоял исключительно из должностных лиц, — к таким городам принадлежал и выведенный Гоголем в «Ревизоре», единственными неслужилыми дворянами которого были, по-видимому, Бобчинский и Добчинский. Вместе с ростом аппарата росла и путаница взаимоотношений отдельных его частей, росло и количество злоупотреблений. При том порядке, который господствовал в первой четверти XIX века, когда во время судебных разбирательств приходилось справляться с боярскими приговорами времен царя Михаила Федоровича, а «Уложение» его сына было единственным кодифицированным памятником действующего права, немудрено было, что российская Фемида представляла зрелище довольно жалкое.
Вместе с тем сохранялся незыблемым, и в течение очень долгого времени, принцип «кормлений», согласно которому каждое должностное лицо должно было питаться от рода своей службы. Оклады чиновников были поразительно ничтожны. Какой-нибудь полицмейстер или почтмейстер не мог существовать своим скудным жалованьем. Первый из них, получая 600 рублей ассигнациями в год, принужден был тратить на одну свою канцелярию не менее 4000 рублей, а содержания последнего едва ли доставало на отопление, освещение конторы, бумагу, сургуч, свинец и укупорочные материалы. Губернии делились по признаку рентабельности. Описывая одного из пензенских губернаторов, Вигель говорит: «…новый губернатор царствовал тирански, деспотически. Он действовал, как человек, который убежден, что лихоимство есть неотъемлемое священное право всех тех, кои облечены какою-либо властию, и говорил о том непринужденно, откровенно. Мне, признаюсь, это нравилось; истинное убеждение во всяком человеке готов я уважать. Иногда в присутствии пензенских жителей позволял он себе смеяться над недостатком их в щедрости: „Хороша здесь ярмарка, — говорил он им с досадною усмешкой. — Бердичевская в Волынской губернии дает тридцать тысяч серебром губернатору; а мне здесь купчишки поднесли три пуда сахару; вот я же их!“»[137]
Лихоимство и казнокрадство пронизывали весь правительственный аппарат до низших его рядов включительно. Население облагалось такими поборами, что даже воры бросали свой промысел, не желая отдавать львиную долю добычи местной администрации[138].
Подобное положение вызывало резкий протест населения, причем в первую очередь приходилось считаться с мнением торгово-промышленных кругов, приобретавших все больший удельный вес в общественной жизни, и рядового провинциального помещика, сплошь да рядом зависевшего в своих хозяйственных делах от произвола канцелярских крючкотворов. Между тем никакого контроля, по существу, не было. С учреждением министерства в 1802 году они были поставлены под контроль Сената, но это учреждение, в течение всего XVIII века пресмыкавшееся перед многочисленными временщиками многочисленных государынь, уж не имело достаточного авторитета для суждения хотя бы об общих министерских отчетах. К тому же, по словам Сперанского, «из самых сих отчетов усмотрено было, что все разрешения министров и все их меры принимаемы были не иначе как по докладу и совершены высочайшими указами, на указы же постановлением 1803 года воспрещено было Сенату делать примечания»[139]. В целях контроля было создано специальное ведомство, но, как заявил первый государственный контролер барон Б. Б. Кампенгаузен Г. С. Батенькову, он «искренно желал учредить в России контроль и завел только путаницу, мелочные придирки, необъятное множество бумаг»[140].
О том, что III Отделение всерьез относилось к поставленной ему в области контроля задаче, свидетельствует дошедшая до нас переписка Фока с Бенкендорфом во время пребывания последнего на коронации в Москве. Рассуждая о внутренних непорядках, Фок в письме от 17 сентября 1826 года пишет: «…городское управление должно знать законы и быть столь же беспристрастным, как они. Да это, скажут, план республики de Morus. Положим, так, но это не причина отказываться от совершенствования полицейского управления»[141].
В следующем письме он соглашается с ходящими в городе толками: «Бюрократия, говорят, это гложущий червь, которого следует уничтожить огнем или железом; в противном случае невозможны ни личная безопасность, ни осуществление самых благих и хорошо обдуманных намерений, которые, конечно, противны интересам этой гидры, более опасной, чем сказочная гидра. Она ненасытна; это пропасть, становящаяся все шире по мере того, как прибывают бросаемые в нее жертвы… Начатые с этою целью преследования настолько же полезны, насколько и необходимы; в этом все согласны…»[142]. Впрочем, старый служака, имевший и время, и случай познакомиться с работой бюрократического механизма, смотрел на возможность успеха начатой кампании довольно скептически. «Подавить происки бюрократии, — замечает он в одном из предшествующих писем, — намерение благотворное; но ведь чем дальше продвигаешься вперед, тем больше встречаешь виновных, так что, вследствие одной уж многочисленности их, они останутся безнаказанными. По меньшей мере, преследование их затруднится и неизбежно проникнется характером сплетен»[143].
Всемерно возвеличивая принцип единодержавия, верховная власть опиралась на поддержку не только столичной аристократии и крупного землевладения, заинтересованного в сохранении своих сословных привилегий, но и на всю массу рядового дворянства. И в борьбе против бюрократического средостения, как бы узурпировавшего ее права, власть натолкнулась на глухое противодействие той же рядовой дворянской массы, жадно бросившейся в результате оскудения поместного хозяйства на ступени чиновной лестницы. Бороться с системой оказалось невозможным — наоборот, она разворачивалась все шире и шире. В желании поставить хотя бы предел бюрократическим аппетитам, правительству пришлось прибегнуть к старым, дедами завещанным приемам: ревизиям. Зато последних стало много. По немеренным дорогам империи Российской понеслись залихватские тройки, унося молодых людей в жандармских мундирах или голубых воротниках; в подорожных их было прописано, что едут они «по особенной надобности»; станционные смотрители униженно гнули спины, ямщики ломали шапки, а в заштатных городах городничие пристегивали к порыжевшим мундирам медали 1812 года и, кряхтя, отпирали заветные шкатулки… Под эгидой жандармского корпуса воцарилось le bien être géneral eu Russie[144] или, как переводили это выражение фрондирующие московские шутники, — хорошо быть генералом в России…
Ревизор стал бытовым явлением николаевской России, притом не просто ревизор, а ревизор-мистификатор. Этим мы не хотим сказать, что все ревизоры были самозванцами. Но приезжавший из столицы с небольшим поручением чиновник мог смело разыгрывать роль вельможи, приводить в трепет и без того перепуганных жителей и властно собирать дань, притом не по «сорок рублей ассигнациями», которыми при случае удовлетворился Хлестаков, ревизор поневоле. Возмущенный в своих патриотических чувствах, Вигель писал М. Н. Загоскину по поводу появления комедии Гоголя: «…читали ли вы сию комедию? видали ли вы ее? Я ни то, ни другое, но столько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь…»[145]
Автор этих строк сознательно закрывал глаза на жуткую жизненность сквозник-дмухановских и держиморд, ибо в своих «воспоминаниях» сам нарисовал картину провинциальных нравов, в которых находила свои социальные корни хлестаковщина. Именно он повествует о «новом поколении губернаторов, воспитанных в страхе министров, и в глазах которых всякий мелкий чиновник министерства имеет некоторую важность»[146]; у него же мы находим рассказ, как в Казани заехал он «к одному члену военной коллегии генерал-майору Б., который находился тут на следствии по одному пустому делу в провиантской комиссии; он давно его кончил, но медлил с отъездом, чтобы продлить приятную для него роль ревизора… Это был препустейший человек в мире, который тщетно силился придать себе какую-то важность; природа и обстоятельства тому препятствовали. Он нахальным образом поселился в доме у губернатора, который тогда был в отсутствии, и без его ведома, на его счет приказывал готовить себе кушанье и даже на сии обеды звал гостей»[147]. Последний эпизод относится, правда, к александровской эпохе, но в николаевскую ревизорские нравы отнюдь не смягчились, а аппетиты еще увеличились.
Точно так же тип авантюриста-мистификатора коренился в предыдущих десятилетиях и был, быть может, занесен к нам иностранными сих дел мастерами. Собственно, и отношение общества к подобным проделкам было довольно снисходительное. Вяземский занес в свою записную книжку следующее рассуждение: «Мистификация не просто одурачивание, как значится в наших словарях. Это в своем роде разыгрывание маленькой домашней драматической шутки. В старину, особенно во Франции, — а следовательно, и к нам перешло — были, так сказать, присяжные мистификаторы, которые упражнялись и забавлялись над простодушием и легковерием простяков и добряков»[148]. Внимания автора не останавливает соображение, что эти забавы преследовали подчас цели, по меньшей мере корыстные. Еще при Павле находились любители этого искусства, вроде Андреева, заслужившего следующий всеподданнейший рапорт петербургского обер-полицмейстера: «…отставной канцелярист Александр Андреев, от роду ему 17-й год, сочинил себе сам фальшивую копию с приказа, в коем назвал себя Летнего сада комиссаром Зверевым, предписывающего ему смотреть за садом и „наблюдать, чтобы купцы, мещане и крестьяне не входили в сей сад в кушаке и шляпе, а ежели кто будет усмотрен, то с таковыми поступать по силе наказания: высечь плетьми и отдать в смирительный дом“. С сим приказом ходил в Летний сад, удерживал людей, кои шли в шляпе и кушаке, показывал им приказ, делая вид, что хочет их отдать на гауптвахту под караул; но напоследок, по просьбам тех устрашенных им людей, отпускал, брав за это с них деньги по 50 копеек, по рублю и более…»
В александровскую пору мистификации принимают уже более широкий характер, причем наиболее удачной личиной оказывается звание царского флигель-адъютанта. В предыдущем очерке мы мимоходом упоминали дело офицера Сивиниса, который именно в этом обличии выманил у купца Зосимы крупную сумму денег. Известна эпопея Медокса… <…>
Осекся он только потому, что, мистифицируя различных людей именем правительства, он одновременно мистифицировал и самое правительство. Этим он погубил свою карьеру и впал в ничтожество, предварительно получив возможность еще более длительного знакомства с казематами Шлиссельбурга[149].
В том-то и состояло связанное с вошедшими в государственный обиход безответственными ревизиями бедствие, что они, преследуя злоупотребления, сами совершали еще более беззастенчивые. «Ревизор» был, вопреки желанию самого автора, воспринят как острая социальная сатира не потому, что он рисовал простодушных чиновников, обмороченных ловким проходимцем, а потому, что самое явление было жизненно правдиво, потому, что именно так поступали и самые настоящие городничие, и всамделишные ревизоры.
В этом отношении представляют немалый интерес похождения Шервуда во время службы его в III Отделении.
Мы не знаем точно, когда Шервуд удостоился лестной близости Бенкендорфа, но, как сказано выше, уже в январе 1827 года он был прикомандирован к жандармскому полковнику Бибикову, получившему секретную миссию ознакомиться с настроением умов юга, уже издавна подозрительного в глазах правительства. «Находя по разным соображениям необходимо нужным устремить частным образом взор на Киев, Одессу, Ново-Миргород и на места квартирования 2-й армии, я избрал Вас для выполнения сего важного предмета, почему и предписываю Вам отправиться на сей конец как в сии места, равно по обстоятельствам и по усмотрению Вашему и в другие города», — писал Бенкендорф Бибикову 5 января 1827 года. Вручив Бибикову и Шервуду обычный, в выдержках нам уже известный текст жандармской конституции, столь добродетельной, пространной и красноречивой, шеф жандармов дополнил ее другой, более сухой, лаконической и вразумительной. Именно эмиссарам III Отделения поручалось:
«1. Удостоверить, не кроют ли какие ни есть остатки секретных обществ и не рождают ли новые, под каким бы то ни было названием, и не скопляют ли тайные сборища людей, подозрение на себя навлекающих.
2. Вникать в направление умов вообще и в расположение всех сословий к законной власти.
3. Замечать, кто именно изъясняет вольно или непочтительно против религии и законов.
4. Вообще какие делают злоупотребления и лихоимства.
5. Не выпускают ли пасквили или не производят ли продажи запрещенных цензурою книг.
6. Не откроет ли какое подозрение в выпуске фальшивой монеты вообще или переплавке монет.
7. Замечать, каким образом чинит и в каких более местах провоз и продажа запрещенных товаров…»
Все это предлагалось «узнавать и замечать» тайным образом, не наводя на себя подозрений окружающих, причем миссия Шервуда, вероятно, заключалась в том, что он, по прежней своей работе в крае и обширными знакомствами и связями, мог из-под руки узнавать о происходящих толках и суждениях. Начальство недооценило, однако, ни кипучей энергии Шервуда, ни низости его характера, вследствие которой он, попав на место, где ранее влачил безвестное существование низшего чина и маленького полицейского агента, не мог не показать свою власть и положение. При низменном и заносчивом характере он, как мы знаем уже, обладал вдобавок и даром красноречия… Результаты не замедлили сказаться.
Граф Витт, выполнявший в последние годы царствования Александра на юге обязанности, отнятые у него III Отделением, конечно, рад был очернить агентов последнего, и уже 7 марта приехавший в Петербург адъютант его, штабс-ротмистр Чиркович, донес о предосудительных поступках Бибикова и Шервуда.
Оказалось, что 6 февраля они приехали в полковой штаб 3-го Украинского полка, селение Панчево, где и остановились у полковника Гревса. «В сие время полковник Бибиков показывал полковнику Гревсу и артиллерии капитану Левшину данную ему от генерал-адъютанта Бенкендорфа инструкцию, а поручик Шервуд, показывая сию инструкцию повсеместно в округах, объяснял, что они имеют право входить во все предметы, по всем частям и отбирать жалобы».
Собственно Бибикову инкриминировалось только то, что он произвел самочинный смотр конскому заводу и одному из эскадронов полка. Зато Шервуд разошелся вовсю. Не удовлетворившись декларацией своего могущества на основании полученной им инструкции, он стал себя держать заправским ревизором, обходил офицеров и собирал у них жалобы, милостиво обещая свою защиту и покровительство. Лично не состоя на службе в жандармском корпусе, он рисовал своим бывшим начальникам заманчивые перспективы жандармской службы и приглашал их записываться в нее. Оставив Бибикова в Панчеве, Шервуд отправился в Елисавет-град, где, очевидно, тоже разыграл важную особу и получил доступ к арестованным по подозрению в знании тайного общества майору Гончарову и унтер-офицеру Варшильяку[150]; дважды имел с ними продолжительные беседы и обещал свое покровительство.
На основании материалов, которые будут приведены ниже, можно догадываться, что, описывая свое могущество, Шервуд ссылался на личную дружбу и приязнь к нему императора и великого князя Михаила Павловича, показавши этим значительно более высокий «класс игры», чем его позднейший робкий подражатель Иван Александрович Хлестаков, высшим пределом которого был министр, иногда к нему жалующий в гости. Будучи сильно навеселе и явно завираясь, он, правда, заявил, что во дворец ездит каждый день, но преимущество Шервуда в том, что он говорил это совершенно серьезно и что в этом, по существу, не было ничего невероятного. Как бы там ни было и правы ли мы в догадке или нет, во всяком случае, герой наш держал себя достаточно независимо и позволял себе вещи, подобающие только вельможе; так, «по возвращении из Елисаветграда в Панчево Шервуд у полковника Гревса, в присутствии многих офицеров и посторонних людей, неприлично отзывался о генерале Мезенцове и прочих начальниках военного поселения и грозил, что он обнаружит все их поступки».
Непонятно, какую роль играл во всех этих эскападах Шервуда полковник Бибиков. Правда, далее цитированное нами донесение сообщает, что по приезде из Панчева в Вознесенск «Шервуд, как полагать должно, по приказанию Бибикова, ходил по офицерам, собирал их, объявлял имеющуюся у него инструкцию, принимал жалобы офицеров на дивизионного начальника, бригадного и полкового командира, и после сего офицеры, человек до 10-ти, ходили жаловаться к самому Бибикову, который их принимал». Инициатива, по-видимому, исходила от Шервуда, а указание на Бибикова могло быть инспирировано Виттом для вящего посрамления жандармерии.
Не чуя над собой беды, Бибиков и Шервуд отправились в Одессу, причем к этому времени, очевидно, уже обзавелись свитой; по крайней мере, В. И. Туманский в письме Пушкину от 2/111 1827 года сообщает: «У нас теперь жандармы: Бибиков, Шервуд-Верный и еще двое малоизвестных». И здесь они не делали тайны из своей инструкции, так как далее в том же письме читаем: «Инструкцию, циркулярно им данную от Бенкендорфа, вероятно, вы имеете в Москве. Мне в ней очень нравится статья о наблюдении за нравами и вообще поведением молодых людей. Содержатели трактиров и… хотят подать прошение на эту статью»[151].
Из Одессы они предполагали проехать в Крым, но 4 марта Бибиковым было отправлено донесение, несколько изменившее намеченный план.
«Ужасная метель нас постигла в Херсонских степях и едва не лишила жизни. Я оправился после нескольких дней лихорадки, но мой спутник Шервуд-Верный получил от сего простудный кашель, который ежедневно усиливается и который, присоединяясь к прежней его грудной боли, соделывает его положение опасным, почему он и просит меня довести сие до сведения Вашего Превосходительства и просит Вашего разрешения съездить ему в апреле месяце на Кавказские Воды. Так как он имеет подорожную во все города России, а сверх того от Вас предписание за № 42 следовать ему для выполнения поручений в разные губернии, то и спрашивает только на сие Вашего соизволения, не имея надобности ни в каких бумагах. Ответ Ваш благоволите прислать на имя Шервуда на Малой Никитской в доме княжны Горчаковой в Москве, куда он к тому времени возвратится. И сие путешествие не будет без пользы, ибо он обратит внимание на разные предметы того края и будет обо всем Вас уведомлять».
Хотя донесение о проделках Шервуда и было к тому времени уже получено, Бенкендорф встревожился опасным состоянием его здоровья и изъявил полное согласие на его просьбу, благожелательно указав, что для соблюдения декорума нужно все же отправить соответствующее прошение по команде в полк. Желая Шервуду «скорого облегчения от болезни», Бенкендорф вместе с тем просил его «соблюдать в поведении… всю возможную скромность и осторожность, уведомляя меня о примечаниях Ваших и о случаях, внимание заслуживающих, с приличною безгласностью».
Пока Шервуд, успешно выполнив возложенное на него важное поручение, наслаждался заслуженным отдыхом на Кавказе, Бибиков принужден был войти в долгую переписку по поводу полученных донесений. Начальство, очевидно, усмотрело в его образе действий превышение полномочий, и он отписывался, что разглашал данную ему инструкцию на основании устного разрешения шефа, что никаких смотров не устраивал и жалоб не принимал, что не допускает мысли, чтоб это делал спутник, «судя по его, Шервуда, правилам»; что «Шервуд, предполагая сам вступить в корпус жандармов, действительно, быть может, восхвалял сию службу; но чтоб приглашал в оную, то сие невероятно, а еще более то, чтоб мог побуждать офицеров к подаче просьб», и пр. Дело осложнилось еще тем, что проездом через Киев Бибиков принял на службу в качестве тайного агента и послал с секретным поручением в польские губернии рекомендованного ему старинного знакомца Шервуда, шляхтича Сильвестровича, оказавшегося проходимцем самого низкого разбора. Отправясь с возложенной на него миссией, он как-то накуролесил и обратил на себя внимание полиции наместника, великого князя Константина. При задержании его оказалось, что он действует по поручению III Отделения, и для спасения престижа последнего Сильвестровича освободили. Лишенный своих полномочий, он продолжал, однако, пользоваться ими самозвано[152]; за все эти грехи Бибикову приходилось расплачиваться, и его беспокоили различными запросами по этим делам вплоть до 1832 года.
Между тем Шервуд вернулся в Петербург и по-прежнему, не состоя официально на службе III Отделения, получал какие-то секретные поручения, связанные со значительными суммами денег. Привыкнув действовать самостоятельно, он создал из своей личной персоны особый разыскной орган. Так, уже в феврале 1828 года на него был подан донос следующего характера:
Записка
С Шервудом поехали в Москву еще двое: некто Де Шарио, а другой — какой-то Степановский; вслед за Шервудом едет в Москву Платонов по поручениям Шервуда, на дорогу Платонову дал Шервуд две тысячи руб. Зная Платонова, могу уверить, что он разгласит в Москве, что Шервуд бывает у Государя-императора всякой день и что Россия управляется по совету Шервуда, а потому необходимо велеть обратить в Москве внимание на Платонова.
Шервуд, уезжая, поручил Платонову уговорить меня, чтобы я соединилась с Шервудом. Я велела Платонову уверить его, что согласна действовать с ним вместе по делам, относящимся к правительству.
Екатерина Хотяинцова
Февраля 27 дня,
1828 г.[153]
Эта записка вводит нас в совершенно особый мир петербургских трущоб начала XIX века, где ютились общественные отбросы, люди темного уголовного прошлого, спившиеся чиновники, промышлявшие писанием прошений, а подчас и доносов, тайные агенты, у которых трудно разобрать, где начинается преступник и где кончается полицейский, — мир, впоследствии ставший объектом пристального изучения Достоевского. Платонов, упомянутый здесь в качестве фактотума Шервуда, и ранее употреблялся на агентурной работе, причем, служа правительству, он одновременно поддерживал связи с декабристами. В цитированном уже выше, характеризующем деятельность полиции письме Батеньков далее рассказывает: «Таков и был у нас некто Платонов, кажется из евреев, крестник митрополита. Он сообщал нам все тайны и говорил, „что одна крайняя бедность заставила его отдаться дьяволу, но что не вручил ему душу и охотнее служит в то же время противной стороне. Полиция не уважит самых крайних нужд, а вы накормите голодного, дадите что-нибудь, когда сего дня нужно крестить ребенка, хоронить жену и даже праздновать именины“»[154]. Сговорчивый шпион-вольнодумец, может быть именно в силу последнего качества, остался безработным, и мы видим, что он без особенных раздумий присоединился к Шервуду. И впоследствии он неоднократно пытался проникнуть в святилище III Отделения, подавая доносы то на своих соплеменников в Минской губернии, то на каких-то виленских контрабандистов, но безуспешно. Сама Хотяинцова, автор записки, жена придворного актера, принадлежала к тому же избранному кругу полицейски-уголовного мира и употреблялась для различных секретных поручений при Александре, продолжая эту службу и при Николае, под тем же умелым руководством Фока[155].
Наряженное по этому поводу следствие не показало ничего путного. Выяснилось, что Платонов вместе с другой, такого же пошиба, птицей, коллежским асессором Анбодиком, действительно приезжал в Москву и, побывав у мануфактур-советника Ивана Кожевникова, на следующий же день отправился обратно. В чем заключалась его миссия, мы так и не узнаем, ибо следующие документы уже относятся к пребыванию Шервуда в Киеве осенью 1829 года.
Держа себя с подобающей важной особе таинственностью и только намеками давая понять о серьезности порученных ему государственных дел, Шервуд настолько смутил жандармского полковника Рутковского, что тот, сообразив наконец фальшивость разыгрываемой Шервудом роли, счел долгом представить Бенкендорфу «записку о составляемых здесь сведениях поручиком Шервудом-Верным, полагая, что оные не достигнут к вам от него, а заключают такой предмет, по коему может терпеть невинность…».
Как оказалось, Шервуд завел в Киеве свою собственную полицию, распространив ее на ряд соседних губерний, и обдумывал план новой провокации. Зная слабую сторону правительства, он хотел создать новое тайное общество из остатков декабристов и масонских и пиетитских организаций. Так, он говорил, что агент его Пановский «весьма удачно кончил пребывание свое в прошлое лето у Юшневских и, вступив в интригу с женами одного и другого братьев, узнал будто бы от них и некоего Рынкевича[156] много подробностей; в чем же оные заключаются — не объяснил». Точно так же он заявлял, что «подозревает живущую здесь в Киеве госпожу, девицу Кологривову, родную сестру по матери князя Голицына, управляющего над почтовым департаментом, который (слова его, Шервуда) не есть чист душою, и якобы князь Голицын хотя показывает себя приверженным Государю Императору, но он, Шервуд, сему не верит, и что по его примечанию князь Голицын покровительствует библейское общество и потому полагает, что князь Голицын имеет переписку с сестрою, госпожою Кологривовою, каковая переписка должна быть замечательна…» и пр. Не стесняясь средствами и лицами, Шервуд возвел подозрение даже на благонамереннейшую аристократку графиню Браницкую за то, что «о прошедшем бунте Муравьева-Апостола знала якобы она заблаговременно», хотя чуть ли не эта самая Браницкая пожертвовала кандалы, чтобы заковать мятежников Черниговского полка перед отправкой их в Петербург.
Как можно судить из приложенных бумаг, Шервуд не упускал вместе с тем случая пустить пыль в глаза, давая понять о благосклонности к нему высочайших особ, жаловался, что под него подкапываются, резко и самоуверенно отзывался о различных сановниках, в том числе и о самом Бенкендорфе, замечая, впрочем, о последнем довольно справедливо, что «хотя он предан всею душою и сердцем престолу, но по жандармской части не настоятелен»; по общему же заключению подполковника Рутковского, «незаметно откровенности Шервуда; но должно признаться, что Шервуд склонен к коварству и хвастовству».
Этих проделок Бенкендорф уже не мог выдержать. На полученной записке он начертал сентенцию: «Точная чума этот Шервуд» — и таким образом положил конец пребыванию его под покровительством III Отделения. Но если молодой драгунский поручик на основании каких-то неопределенных директив мог взбаламутить целый край, что же удивительного в деяниях литературного героя, Хлестакова?.. И быть может, мы не совсем правы, трактуя заключительную немую сцену «Ревизора» как панический ужас провинциальных чиновников перед приехавшим «по именному повелению из Петербурга» гением правды и возмездия. Если бы такая сцена случилась в подлинной жизни, она означала бы только страх перед настоящим ревизором, от которого трудно было бы откупиться удовлетворившими Хлестакова пустяками. А ведь по именному повелению, с герольдом-жандармом впереди, мог появиться и Иван Васильевич Шервуд-Верный…
IV. Похождения 30-х годов
Чтобы успеть на этом свете, необходимо суетиться.
Слова графа П. Д. КиселеваОписывая хлестаковские похождения нашего героя, мы миновали тот период его деятельности, когда он впервые сменил маску и плащ шпиона на бранные доспехи. Эта перемена, столь мало свойственная его характеру и, как говорили в те времена, «гражданскому» направлению, произошла, впрочем, помимо его воли. Пользуясь благосклонностью великого князя Михаила Павловича и будучи причислен к штабу гвардейского корпуса, которым последний командовал, он должен был принять участие в турецкой кампании 1828–1829 годов. Воинское дело вряд ли его привлекло, и в баталиях он, надо думать, был застенчив; по крайней мере, его сослуживец, князь Н. О. Голицын, тоже состоявший при штабе гвардии, рассказывает, как однажды веселая компания штабных затеяла вечернюю прогулку на лошадях:
«В нашей компании участвовали также два почтенных старичка Тихоцкий и Быков[157], а также Шервуд. Загряжский и мы с ним, ехавшие впереди, вздумали в шутку устроить им засаду в лесу. Неприметно для них при повороте дороги направо мы выехали в лес и по приближении их выстрелили из двух или трех пистолетов и с общим громким криком „Аллах“ бросились из леса на дорогу. Это так перепугало Тихоцкого, Быкова и Шервуда, что они во всю прыть обратились в бегство, и всех прытче скакал во главе их Шервуд. Громкий хохот воротил их назад, и Шервуд уверял, будто лошадь его испугалась и понесла назад в лагерь»[158].
В этих пренебрежительных строках можно почувствовать отголосок того общественного презрения, которое, по-видимому, уже в ту пору стало складываться вокруг Шервуда и которое тот же Голицын несколькими строками выше выразил более ясно: «Он не принадлежал к нашему кружку, и мы его чуждались»[159].
Начальство, однако, иначе оценивало его воинские доблести. Правда, даже формуляр называет только один его подвиг, а именно — что в начале сентября 1828 года он успешнейшим образом исполнил данное ему поручение, состоявшее в «забрании у неприятеля большой партии рогатого скота», за что приказом по корпусу ему была объявлена благодарность. Так как в это время он находился в войсках, осаждавших Варну, то можно думать, что экспедиция его была направлена против мирного населения ее окрестностей; но жажда славы Шервуда была уже утолена, и с этим единственным отличием он закончил кампанию, после чего был пожалован орденом Анны 3-й степени, а несколько позднее, 21 сентября 1829 года, император «во внимание к особенным трудам, в течение войны с Оттоманскою Портою понесенным», пожаловал Шервуду в числе прочих не в зачет годовое жалованье и особо — полугодовое.
В это время Шервуд, как мы знаем, подвизался на юге, где его хлестаковские приключения закончились проскрипционной сентенцией Бенкендорфа. Но унывать было еще рано. Сыпавшийся над ним рог изобилия не оскудевал, сапоги Пестеля еще не износились. 1830 год принес ему чин штабс-капитана, жалованный бриллиантовый перстень, новые денежные подарки и постоянный пенсион. Единственное уголовное дело этого года, в котором мы встречаем его фамилию, отводит ему чисто пассивную роль. 28 мая в Петербурге в присутствии Шервуда отравилась мышьяком жена его родственника, титулярного советника Воеводского. Потому ли, что за Шервудом стали уже присматривать, но военное ведомство, в лице графа Чернышева, заинтересовалось его участием в этом происшествии. Дела, однако, оказались семейные. Жена Воеводского до 1830 года была в разъезде с мужем и проживала на Украине, где в 1829 году у нее родился ребенок. Титулярный советник «по слухам осведомился о неверности жены своей; но она не сознавалась ему и требовала удостовериться в ее невинности». Оскорбленный муж обратился к Шервуду с просьбой написать письмо в Киев, чтобы установить, «кто та особа, которая в доме известного ему маляра 9 ноября 1829 года родила сына». Обязательный Шервуд исполнил просьбу, но Воеводская случайно прочитала письмо, результатом чего и была трагическая развязка.
Не все обстоятельства этого дела ясны; утверждения Шервуда о полной его неосведомленности в семейном горе Воеводских чуть-чуть подозрительны. Недаром он не так давно вернулся из Киева, где сохранил, очевидно, агентуру, пригодную и для раскрытия альковных тайн. Но ничего точного мы не знаем; соучастник ли он убийства или действительно случайный свидетель, но на дальнейших судьбах дело это никак не отразилось. Мирное благоденствие, однако, оказывалось не в натуре Шервуда. Он все ближе сходится с тем миром петербургских трущоб начала XIX века, с отдельными фигурами которого мы уже познакомились в предыдущей главе. Наверху этот мир соприкасался с довольно знатным и избранным кругом; представители последнего не гнушались подчас помощью выходцев из низов, которыми кишели прихожие вельмож и сановников, нужных столоначальников и влиятельных балетных див. В этом кругу Шервуд занял промежуточное положение: являясь фактотумом придворных интриганов, он мог с независимым видом греметь шпорами в их кабинетах и сам пользоваться услугами менее значительных агентов. Правда, столпы правительства Николая I не умели вести ту тонкую и запутанную игру, к которой так охотно присоединялся и сам покойный император. Но если кулисы нового царствования и не были так заставлены, то зато доступ туда был свободен для тех, кто знал заветное слово, умел играть на слабой струне власти. Этой струной, как мы знаем, была боязнь появления новых «друзей четырнадцатого», боязнь какого бы то ни было массового или единичного протеста, боязнь всего выходящего за рамки дозволенного и одобренного властью. Поэтому с новой силой вспыхивает эпидемия доносительства, принимающая несколько особый характер. Авторы доносов, о которых мы говорили выше, стремились во что бы то ни стало установить противоправительственные замыслы своих жертв. Самой же приятной перспективой являлась возможность сплести из замеченных происшествий цепь целой организации, сделать семнадцатилетнего студента, осмелившегося хранить в дорожном погребце портрет Занда и необдуманно продекламировавшего случайному попутчику «свободы тайный страж, карающий кинжал», — агентом зловредного тайного общества, адептом франкмасонов или карбонариев.
Доносители, конечно, сильно отличались друг от друга как чинами, званием и общественным положением, так и полетом. И Шервуду уже, во всяком случае, не пристало заниматься пустяками вроде слежки за учащейся молодежью или подслушивания гостинодворских разговоров. Действительно, мы встречаем его имя в делах, требовавших если не высокого мужества, то, по крайней мере, богатой фантазии.
3 января 1831 года некто князь Андрей Борисович Голицын, за несколько дней перед тем получивший распоряжение о выезде из столицы на Кавказ, донес, что ему известно существование ужасного тайного злоумышленного заговора, продолжающегося уже 25 лет и организованного «по всем правилам ужасной системы иллюминатства Вейсгаупта»[160].
Присоединяя к этому, что он является обладателем многочисленных документов, подтверждающих истинность его слов, Голицын просил о соблюдении строжайшей тайны. Особенный страх внушало ему допущение к делопроизводству министерских чиновников, которые, по его словам, в массе своей состоят членами ордена иллюминатов. К тому же не могло быть сомнения, что коварные заговорщики будут пытаться проникнуть к Голицыну, и для охранения тайны он просил прикомандировать к нему в качестве эксперта и помощника Шервуда. В болезненном мозгу доносчика проносились мрачные фигуры замаскированных иллюминатов, преследующих своего неожиданного и грозного врага, и Шервуд, бывший, по-видимому, вполне в курсе дела, должен был помочь сбить их со следа.
Князь А. Б. Голицын, которого А. Ф. Орлов в письме к А. И. Чернышеву аттестовал как «благонамереннейшего, но необычайно путанного человека», являет нам любопытный образчик бескорыстного и убежденного партизана в деле борьбы с революционной заразой. По словам Н. Н. Муравьева-Карского, «он вообще не пользовался доброю славою нигде. Странности его были совсем единственны. Он был мистик и говорил всякий вздор, был нескромен и через сие бывал причиною многих неудовольствий, был набожен без меры, помогал бедным с удовольствием, свои же дела вел дурно, был всегда в долгах, у всех занимал и никому не платил, при дамах мотал деньгами без всякого расчета, без дам готов был обманывать для получения оных, имел склонность к ссорам и сплетням, поселял раздор, вмешиваясь в чужие дела, давал временем смеяться над своими глупостями, мстил наговорами, лгал без милости, плакал охотно, проливая потоки слез, и радовался угнетению тех, кого он не любил. Глупости же сыпались из него без меры, через что он соделывался часто шутом людей, пользовавшихся его легковерием, дабы уверить его в самых больших нелепостях»[161].
Этого-то суетливого и жалкого человека постигла мания государственной деятельности. Еще до своего доноса он привлек к себе внимание III Отделения подозрительными знакомствами, особенно с иностранными авантюристами, которых он собирался использовать для расширения пределов России и увеличения ее мощи. Он сам говорил о себе: «Я действую, как мои друзья иллюминаты, стараюсь везде что-нибудь собрать в запас мой для славы государя моего и России, авось когда-нибудь пригодится…»
8 января 1831 года Голицын закончил свой обширный донос, обоснованный, как он выражался, «historiquement, mathématiquement, logiquement et victorieusement»[162].
Пространный труд этот представлял такое нагромождение нелепостей и путаниц, что менее подозрительное правительство вряд ли стало бы обращать на него какое-нибудь внимание. Основной идеей его являлось положение, что несметные полчища иллюминатов облегли пределы государства Российского. Они проникли в самую сердцевину правительственного аппарата, с царем они «сидят за одним столом, пьют из одного ковша» и медленно, но верно готовят гибель империи и царствующему дому. Во главе их стоит закоренелый мятежник Сперанский, уже однажды чуть не погубивший Россию.
Мы не стали бы подробно останавливаться на этой навязчивой идее больного князя, если бы в некоторых обстоятельствах доноса не было связи с основной интересующей нас темой.
Донос был адресован почему-то не в III Отделение, а военному министру, и все расследование велось Чернышевым и Потаповым, непосредственно сносившимися с Николаем. Мотивировал это обстоятельство Голицын тем, что граф Бенкендорф по несправедливым наветам немилостив к нему. В самом, однако, тексте доноса мы находим новые любопытные детали, разъясняющие смысл этого обстоятельства.
Инспиратором дела был несомненно Магницкий, сводивший счеты со своим прежним благодетелем — Сперанским. От него, вероятно, пошли и упоминаемые Голицыным имена вождей русского иллюминатства — Фослера, Балугианского, Мейндорфа, Корфа, профессора Германа, профессора Шилинга, Ореуса и Линдена; но одно называемое в доносе имя, думается нам, иного происхождения.
Шервуд, конечно, понимал всю нелепость и обреченность затеи Голицына. Не мог же он, в самом деле, после своего пребывания в III Отделении верить в какую-то вездесущую и невидимую организацию, ускользнувшую от всех и замеченную только бдительным оком Голицына. Вместе с тем он знал, что по условиям режима всякая ябеда набрасывает тень на обвиняемого человека, как бы она ни была нелепа и невероятна. Но что мог иметь он против Сперанского, Балугианского и немцев-профессоров? И мы думаем, что предприятием Голицына он воспользовался для того, чтобы нанести удар из-за угла тем, кого считал своими недоброжелателями и винил в неудачах намеченных им провокационных работ. Не рискуя непосредственно задевать Бенкендорфа, он сосредоточил удар на Фоке, которого Голицын и присоединил к своему списку сообщников Сперанского, указав, что Фок «всю цепь держит и самое важное по своему посту лицо».
Что именно Шервуд был инициатором обвинения жандармов, можно видеть из нескольких замечаний Голицына. Не знаем, за что наш герой ополчился на такого близкого ему по духу и роду занятий Фаддея Булгарина, но в сочинении Голицына мы находим следующую тираду: «Преданный российскому престолу журналист Булгарин, который русских в романе Дмитрия Самозванца поучает цареубийством; смеется над покойным государем, consultant P-lle Le Normant et la femme assassineé en Septembre 1824[163], в лице Бориса Годунова у ворожейки, получил дозволение поднести государю императору, вероятно, весьма важный по нынешним обстоятельствам роман „Петр Выжигин“, в котором мы найдем свод всех способов приводить народные возмущения, почерпнутые из многолетних трудов и революционных теорий высшего капитула Вейсгаупта. Верный сей Булгарин прошлого года писал письмо к одному из своих друзей поляков следующего содержания: „La rage me consume, lénfer et dans mon сoeur[164], да будет проклята та минута, в которую я переехал через Рейн и поехал в Россию, да будет проклята мать моя, отдавшая меня в юных летах на воспитание в России; о Россы!“ и проч. Письмо сие было представлено в подлиннике генералу Бенкендорфу, но, вероятно, не поднесено государю». Источник этих сведений Голицын тут же открывает: «Я имею копию с него от Шервуда истинно верного за скрепою чиновника из канцелярии Бенкендорфа, но документ сей затерялся в моих бумагах».
Безработные полицейские агенты дружно держались вместе. Та самая Хотяинцова, которая не так давно доносила на Шервуда, но потом тоже оказалась обиженной, является ныне его союзником. «Если Государю Императору, — пишет Голицын, — угодно узнать подробно что-нибудь о раскольниках, я прошу убедительно приказать призвать по секрету Хотяинцову: она была употреблена полициею генерала Бенкендорфа, подсылалась к ним, она и все знает касательно до них образа мыслей, теперь она в неудовольствии, ибо самым постыдным и предательским образом фон Фок ее выдал, и она была заарестована за векселя, которые графиня Мануци ей подписала, чем расстроился весь план весьма простой, чрез который она могла бы открыть большие связи с Польщею в Москве и со всеми иллюминатами. Я сию женщину мало знаю, не я ее искал, а она меня отыскала, но я редко видел таких умных, рассудительных и благонамеренных созданий».
Нетрудно себе представить, каким путем легковерный и легкомысленный Голицын был уверен в честности и плодотворной деятельности Хотяинцовой, арестованной за какие-то темные векселя[165]. У него был непреложный источник, извещавший его, что «собственная канцелярия все знает, но генерал Бенкендорф и государь не все: они, например, доводят до сведения все возможные фальшивые отношения, все любовные интриги, все наговорки на монахов, на монахинь, на старое духовенство, отношения господ с крестьянами и взаимно, клевещут на раскольников, всячески смущают и уверили Бенкендорфа, что они одни все держат, и если нить у них из рук ускользнет, все пропало. Он даже жалок, бедный. Ф. Фок кричит на него, как на мальчика. Шервуд верный все сии отношения знает совершенно…»
«Совершенная и наглая ложь», — надписал в этом месте император Николай, хотя именно в этой характеристике III Отделения было больше правды, чем во всем остальном доносе; последний также был оценен по достоинству. Вместо Шервуда в качестве эксперта был вызван старый полицейский служака, бывший начальник ф. Фока, страшный в свое время де Санглен. Друзья Голицына, вероятно, рассчитывали, что забытый всеми и опальный еще со времени падения Сперанского Санглен не упустит случая напомнить опять о себе и лишний раз свести счеты со Сперанским. Но старый авантюрист, изведавший уже и ласку и гнев владык, не доверял их коварному и двуличному нраву, предпочитая держаться в стороне от правительственной суеты. Он дал уклончивое освещение голицынского доноса, но достаточное, чтобы оценить его нелепость.
Заключенный в крепость, Голицын был очень обижен недоверием к его рекомендации. В письме от 3 марта 1831 года из Кексгольма он жалуется А. И. Чернышеву: «Я хотел видеть в Петербурге Шервуда; Вы мне в этом отказали, а вместе с тем я понял одну вещь, которая причиняет мне страшную боль за государя. Это то, что бедный Шервуд, объявленный перед лицом всего мира верным, находится в числе заподозренных и что Его Величество им недоволен. Мне известна страшная сила подобной клеветы, и я, лично совсем не будучи трусом, уверяю Вас, что не хотел бы идти со сворой собак (как бы они ни были верны), если бы знал, что они искусаны взбесившимися волками и что среди некоторых из них уже проявилось бешенство».
Мы видим, что если Шервуд еще продолжал пользоваться влиянием в своем мутном кругу и симпатиями доверчивых маньяков, которые, как мы будем иметь случай убедиться, продолжали льнуть к нему и впоследствии, то в сферах его шансы уже несколько упали. Впрочем, участь его неудачливого сообщника миновала его. Вместо крепости он снова был призван под военные знамена, отправившись на этот раз на борьбу с восставшим внутренним врагом, с польскими повстанцами. Правда, и здесь, как мы узнаем из формуляра, он преимущественно принимал участие в различных «ретирадах», но вместе с тем, памятуя оказанную им в предшествующей кампании доблесть, мы с удивлением читаем, что он проявил себя «в разных форпостовых сшибках с неприятелем» и даже отличился «в действительном сражении при обороне Желтовской переправы». Впрочем, всякий может изменить иногда своим обычаям, а в те времена говорили, будто бы и Греч, будучи простым учителем гимназии, краснел, хоть изредка; уверяли, будто бы и у набожного Булгарина, обдиравшего оклады с образов в Испании, рука дрожала; чем же хуже их был Шервуд?
За польскую кампанию Шервуд получил чин капитана, Станислава 3-й и Владимира 4-й степени с бантом. Внешних признаков немилости он не испытывал, наоборот — в октябре 1832 года, когда у него родилась дочь Софья, ему был снова пожалован высочайший подарок, но пути на службу в любимом полицейском деле были заказаны, и Шервуду оставалось действовать на собственный риск и страх.
Литература николаевской эпохи оставила нам два бессмертных типа авантюриста-стяжателя: ревизора-мистификатора и пройдоху-дельца. Жизненность обоих — в противоречиях общественного развития эпохи. Рост капиталистических отношений, характерный для второй четверти XIX века, заставлял предприимчивые умы искать способов скорого и быстрого обогащения. Появляется привычный буржуазному обществу тип скоробогатея, спекулирующего на доверчивости простаков и доступности и беззащитности казенного сундука. Ловкие и оборотистые люди быстро соображали, что в стране, где все общество, по выражению русского публициста, «представляло собою нисходящую систему бар — если смотреть сверху и восходящую систему лакеев — если смотреть снизу», где советников было больше, чем в какой-нибудь другой стране, но никогда никто не спрашивал советов, в стране, отданной во власть мелких и крупных бюрократов, не всегда довольно грамотных и не знающих обычно ни одного закона, кроме «своя рука — владыка», — в такой стране умному и лишенному предрассудков человеку нетрудно сколотить себе капиталец.
Способов было, конечно, много. Можно было, подобно тайному советнику Политковскому, в Петербурге, на глазах у правительства, в течение нескольких лет неуклонно обкрадывать кассу инвалидов, наворовать миллионы, выстроить себе дома и виллы, вести открытый образ жизни, сорить деньгами, устраивая роскошные празднества в стиле версальских ночей, и, наконец, когда государственной казны стало не хватать для покрытия возрастающих расходов, открыть фешенебельный игорный дом, пригласить в качестве негласного компаньона начальника III Отделения Дубельта и закончить дни свои среди всеобщего почета и уважения. Можно было, подобно председателю столичной управы благочиния Клевенскому, проиграть 300 000 рублей казенных денег; опытный современник оправдывает, впрочем, это прегрешение тем, что «часть их он проиграл не в азартную игру, а в преферанс и что в выигрыше участвовало лицо не то чтобы высокопоставленное, а в свое время очень влиятельное и так же, как Клевенский, принадлежавшее, хотя и в высшей сфере, к блюстителям благочиния…»[166].
Мелкой сошке приходилось, понятно, проявлять больше сообразительности и изворотливости. Можно было шулерствовать на проезжих дорогах, обыгрывая провинциальных помещиков, помогать государству в печатании кредитных денег или искать счастья в благодарных землях новоприобретенных колоний Кавказа. Всякого рода проходимцев развелось так много, что благонамереннейший отпрыск Фаддея Булгарина «Выжигин», с выведенными им типами мелких жуликов и робкою попыткою нравоучительной сатиры, внезапно сделался значительным общественным явлением. Шервуд и Голицын, как мы только что убедились, считали его каким-то революционным манифестом, но даже и такие уравновешенные консерваторы, как сенатор П. Г. Дивов, отнеслись к факту выхода этой книги с сожалением. 3 апреля 1829 года Дивов записал в своем дневнике: «Вышел роман „Выжигин“ сочинения Булгарина, редактора „Пчелы“. В этом романе, который написан хорошим слогом, правдиво изображены злоупотребления мелких чиновников судебного ведомства и полиции. Первое издание разошлось в 8 дней, и государь пожаловал автору награду. Стремление покупать это сочинение (хотя оно и дорого стоит) огорчает меня, так как это доказывает склонность публики критиковать действия правительства».
Если различных аферистов было и много, то сфера деятельности их обычно была невелика, и только наиболее талантливые, только художники своего дела выделялись из общей массы. Таков был и Шервуд. Дела его постепенно расшатывались, агентура и всякие другие предприятия стоили денег, а подарки становились реже. Появились долги, а вместе с ними стал теряться кредит. Нужно было как-то изворачиваться, и у Шервуда рождается идея, по своей гениальности и простоте превосходящая даже блестящий замысел Павла Ивановича Чичикова.
Еще в конце XVIII — начале XIX века началось знаменитое дело Баташевых. То были богатые заводчики, владевшие многими миллионами, двое братьев, из которых у одного было несколько сыновей, а у другого, женившегося в преклонном возрасте, незадолго до смерти, только один. Когда в 1799 году умер второй брат, сыновья старшего затеяли процесс, доказывая незаконнорожденность их двоюродного брата, что тем самым лишало его прав на получение наследства. Вопрос о законности брака подлежал компетенции святейшего Синода, куда и поступила жалоба обиженной вдовы, представившей этому высокому учреждению подлинные и неопровержимые доказательства своей правоты. В Синоде дело это попало в руки митрополита Амвросия и обер-секретаря Пукалова. Амвросий, славный в скандальной хронике того времени своей связью любовной с матерью и дочерью Обуховыми, которые и жили вместе с ним в Александро-Невской лавре, был довольно сговорчивым иерархом и, по словам А. А. Яковлева (дяди А. И. Герцена), бывшего одно время обер-прокурором Синода, за опровержение законности брака Батащева взял с его племянников 100 тысяч[167].
Устроить дело должен был Пукалов, любопытный экземпляр канцелярского дельца того времени, биографию которого его современник схематически изображал следующим образом: «…воздоился в подъячизме, насытился премудростью в семинарии, в уважение превосходной способности крючкодействовать скоро достиг чиновничества и избран членами святейшего Синода быть обер-секретарем святейшего Синода; в сей должности по существующему порядку формы утвержден подлинным высочайшим указом»[168]. Этому-то достойному мужу и было поручено, по надлежащем его ублаготворении, разрешить в нужном направлении дело Баташевых. В подобных казусах он был уже довольно искушен — в свое время он оборудовал дело корнета Мякинина, оспаривавшего право на наследство в родовом имении Мордвинова у незаконной дочери последнего Варвары. Пукалов сфабриковал данные, делавшие рождение Варвары законным, и, хотя Мякинин документально доказывал, что брачная запись, представленная Пукаловым, подложна, дело было решено в пользу последней. Варвара признана законной наследницей, а Пукалов в качестве куртажа потребовал ее руки и, само собой разумеется, наследства. Подобный виртуоз по части превращения незаконных браков в законные не мог смутиться и перед обратной задачей. Когда по случаю коронации императора Александра Синод перенес свои заседания в Москву, за ним последовал воз с делами, очевидно наиважнейшими и безотлагательными, а следственно, требовавшими особой охраны. Однако в пути произошло непредвиденное несчастье — воз с делами сгорел, в их числе и баташевское дело. Производства это не остановило, но за вынужденным отсутствием представленных Баташевой бумаг Синод не имел возможности убедиться в их подлинности, и дело было решено в пользу старших Баташевых.
Молодой Иван Андреевич Баташев рос в бедности и тяжелых лишениях и, вероятно, никогда не смог бы добиться восстановления своего в правах, если бы за дело не взялся знакомый нам уже мастер интриги и сыска, неудачливый русский Фуше, генерал-адъютант А. Д. Балашов. Давно оставивший свои высокие посты и забытый новым царствованием, он продолжал быть членом Государственного совета и не прочь был при случае всплыть на поверхность. В позднейших своих записках III Отделению[169] он, правда, отрицал свое участие в этом деле, но современники не сомневались в том, что оно было выиграно молодым Баташевым только благодаря помощи Балашова. По словам же последнего, с Баташевым он познакомился уже после окончания процесса в 1831 году, когда тот пришел к нему и, жалуясь на свое стесненное положение и затруднения, которые он испытывает в деле введения в наследство, просил его, Балашова, помощи и покровительства. «Признаюсь, — писал Балашов, — что он с первого раза возбудил мое сострадание и показался мне по стечению обстоятельств интересен… почему я и не отказал ему в моем покровительстве».
Здесь уместно остановиться на характере Балашова. Это была фигура несомненно незаурядная и сумевшая оставить современникам долгую о себе память, хотя и не очень приятного свойства. Среди многочисленных отзывов о нем мы находим только один всецело благожелательный, принадлежащий, впрочем, слишком заинтересованному лицу. «Не быв нимало горд и тщеславен, — писал он сам о себе, — я врожденную имею ненависть к поступкам подлым и враг раболепию, и принудить себя не могу к тому даже, что хотя не есть подлость, но подобие подлости имеет». Приводящий эти слова барон М. А. Корф, вовсе не питавший вражды к деятелям реакционного толка, прибавляет: «Писал он так, а между тем на самом деле не только способен был, но и имел особенную наклонность, особенное влечение ко всякому даже вымыслу, который мог способствовать его видам»[170]. Более страстную и сильную характеристику Балашова дал И. М. Долгоруков, имевший несчастье лично испытать на себе его немилость: «Александр Дмитриевич, министр полиции при Александре I, человек черной, владеющий в тончайшей степени шпионским искусством и по сердцу привязанный к сему низкому ремеслу. В то время, когда лукавство называлось мудростью, а пронырство человеческим достоинством, он слыл человеком необходимым…»[171]
Как бы там ни было и каковы бы ни были личные качества этого отставного Фуше, Баташев нашел себе патрона и даже поселился в его доме. Балашов склонен, впрочем, не придавать значения этому обстоятельству, так как, по его словам, Баташев снял себе отдельный флигель и почти не показывался на глаза своему хозяину, пока последний не узнал, что Баташев пьянствует, окружил себя подозрительной компанией, выдает направо и налево заемные письма, иногда даже впустую, с пьяных глаз. Он призвал его к себе и отечески распек, угрожая вовсе лишить своего покровительства (в чем, собственно, выражалось последнее, Балашов не сообщает). Иван Баташев, каясь в своих грехах, обещал исправиться и просил не оставлять его. Балашов предложил ему тогда выдать обязательство, что никаких заемных писем он без Балашова подписывать не будет, и посоветовал ему продать свои заводы, так как, при его слабохарактерности, ему с ними не справиться. Совершенно соглашаясь со своим патроном, молодой миллионер умолял его самого купить заводы, но Балашов отказался самым решительным образом. Между тем стали появляться покупатели, первоначально из старшей ветви Баташевых, стремившихся, по-видимому, за недорого округлить свои имения; затем появился Шервуд. Последний якобы пытался подкупить Балашова, предлагая выкупить у него совершенно безнадежные векселя тайной советницы Ланской, но, не успев в этом, познакомился непосредственно с Баташевым, приобрел над ним влияние и, наконец, увез его к себе на квартиру.
«Я лично не имею никакой претензии на господина Баташева, — заканчивает свою записку „русский Фуше“. — После первого опыта, когда подал ему помощь, не хотел и не попускал где-либо смешивать его счеты с моими; надеялся, как христианин, сделать дело доброе, спасти блудного сына, был его благотворитель; был его строгий, но справедливый судия; тем и другим силился удержать его, восстановить его в достоинстве человека: и нашел в нем неблагодарного! Но чему тут дивиться? Разве прежде неблагодарности людской я не встречал? Давно пора мне к ней привыкнуть!»
Поза оскорбленной невинности, в которую становится Балашов, не только не может внушить доверия позднейшему исследователю, но даже не могла оказать это действие на его современников и правительство. Первые представляли себе дело следующим образом: «Балашов поил молодого Баташева и обыгрывал его в карты с помощью… Шервуда»[172]; второе заявило свое отношение к поведению Балашова в отставлении его из Государственного совета.
По-видимому, Балашов предполагал обработать Баташева при помощи Шервуда; по крайней мере, последнего в это время встречали в его доме. Но Шервуд не любил долго оставаться в подчиненном положении; мы уже наблюдали случаи, когда его пылкая инициатива выводила его из повиновения начальникам. Точно так же и на этот раз он сообразил, что баташевские заводы лежат достаточно плохо, чтобы попытаться изъять их в собственную пользу. Он увозит Баташева к себе на квартиру, кормит его, поит, а еще, более того, спаивает, мирволит и потакает его дурным страстям и наконец получает от него, конечно задаром, векселей на 400 000 рублей. С момента окончания раздела баташевского наследства эти векселя быстро обратились бы в звонкую монету, но Шервуду не терпелось. Дела его были плохи. Уже собственная жена начинала жаловаться в III Отделение на его финансовые затеи, грозившие оставить их детей без куска хлеба. И в голову Шервуда приходит светлая мысль.
Июля семнадцатого дня 1833 года отставной коллежский регистратор Иван Андреев сын Баташев и лейб-гвардии конно-гренадерского полка капитан и кавалер Иван Васильев Шервуд-Верный учинили между собою запись, согласно которой наследственное имение Баташева, «состоящее в губерниях: Владимирской, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской и Тульской, заключающееся в 7-ми горных заводах, именуемых: Гусевским, Мердусским, Сентульским, Илевским, Вознесенским, и стеклянной фабрике с находящимися при оных мастеровыми и дворовыми людьми и на помещичьем праве состоящими крестьянами, всего до 14 000 душ мужеска пола», по выделении законных частей другим наследникам, переходит, со всеми «душами, к оным принадлежащими и на праве помещичьем владеемыми, со всеми угодьями, землями, лесами, отхожими пустошами, рудниками, мельницами, рыбными ловлями, всякого рода строениями, во всех местах находящимися, движимым имением всякого рода, равным образом со всеми по заводам материалами, запасами, наличными капиталами и в документах заключающимися, тяжебными процессами», во владение капитана и кавалера Шервуда-Верного. Последний приобрел все это огромное имущество за баснословно ничтожную сумму в 2 миллиона 200 тысяч рублей. Но перлом остроумия Шервуда, у которого за душой не было ни копейки, явился пункт, согласно которому в задаток продавец принимал свои собственные, так дешево Шервуду доставшиеся заемные письма, а остальные деньги, согласно условию, приходилось получить «по совершении крепости и залоге имения в кредитных установлениях», то есть операции, которая и самому продавцу принесла бы значительно большую сумму.
Любопытна подробность, дающая нам представление, к каким способам прибегал Шервуд для удержания своей власти над Баташевым: 18 августа того же года священник лейб-гвардии Измайловского полка донес по начальству, что им получено письмо от 20 июля Шервуда и Баташева о желании их пожертвовать строящемуся в Измайловском полку храму св. Троицы 5000 и 25 000 рублей[173]. Таким образом освящалась заключенная ими сделка, и Шервуд, англиканин по вероисповеданию, выступал в качестве дарителя православных церквей, благочестивого, но, полагаем, не совсем бескорыстного, ибо деньги, вероятно, шли из баташевского кармана; да к тому же щедрые жертвователи ставили обязательным условием приобретение у неизвестной особы, то есть через самих же дарителей, образа Иоанна Богослова за 10 000 рублей, которые и должны были, надо думать, явиться материальной наградой Шервуду за его духовное рвение.
Купчая была совершена по всем правилам, и Шервуд мог считать уже себя миллионером, или, как тогда выражались, «миллионщиком», если бы Петербургская гражданская палата не усумнилась в добросовестности сделки. Стена общественного презрения, отделявшая Шервуда, охватила даже мир крапивного семени, и крепость не была засвидетельствована, так как покупатель, по мнению палаты, был некредитоспособен. Шервуд решил тогда перенести заключение сделки во Владимир, где находились имения Баташева, но в дело уже вмешалось правительство, учредившее «для рассмотрения столь разительного плутовства» особый комитет. Пока этот комитет изучал дело, пока пухли синие папки его работ, Шервуд перепродал свои права на приобретение баташевских владений генерал-майору А. И. Пашкову, уже давно к ним приценивавшемуся.
«К высшему нашему обществу, — писал в своих „Записках“ барон М. А. Корф[174], — принадлежали три брата Пашковы, сыновья родного дяди княгини Васильчиковой. Старший из них, Андрей, умный, даровитый, тогда прекрасный музыкант, а впоследствии стяжавший себе большую известность своими магнетическими лечениями, ославил себя вместе большою наклонностью к ябеде и разными действиями, малосвойственными благородному человеку. Служив до генеральского чина в лейб-гусарах, а потом быв назначен в егермейстерскую должность ко двору, он здесь вскоре поссорился с тогдашним обер-егермейстером Нарышкиным, подал на него донос, который не оправдался, и принужден был оставить службу… Андрей имел множество сомнительных процессов, и ни личные связи, ни родство его жены, дочери очень приближенного к императору Николаю графа Модена, не могли благоприятствовать ему в выигрыше этих процессов… Венцом всех этих нечистых дел была многолетняя тяжба между братьями о разделе наследственного после отца имения…»
С этим-то человеком и связался Шервуд, сходившийся с Пашковым во вкусах как в вопросах магнетизма, так и в прочих областях. Достойные друг друга компаньоны порешили, что Пашков приобретает имение Баташева за 2 900 000 рублей, а за уступку своих прав Шервуд получал от княгини Юсуповой, соучастницы сделки, имение в Московской губернии и каменный дом в Москве. Как видим, Шервуд уже готов был удовлетвориться меньшим кушем, но и это ему не удалось. Особый комитет расторгнул и это условие, и долго еще Пашков добивался восстановления своих прав, между тем как имение Баташева пошло в опеку, и последняя настолько расстроила его дела, что в 1838 году Баташев просил назначить его опекуном Л. В. Дубельта[175], и еще в 40-х годах провинциальные суды погрязли в многосложных перипетиях его многочисленных процессов.
«Действия Шервуда, как человека, заслужившего имя Верного, остались негласными для публики», хотя некоторые детали дела и проникли в широкие круги. Но в отставку ему все же пришлось уйти, и тщетно он уже через год, в 1835 году, взывал к милости своего покровителя, великого князя Михаила Павловича, утверждая, что «в деле по покупке имения Баташева, в котором его обвиняют, весь свет ему бы отдал справедливость, в деле, в коем по законам он совершенно прав, а по совести стократ правее». Опала, постигшая его, вызвана была не этой только авантюрой. Как мы узнаем из других дел III Отделения, Шервуд не уделял всего своего внимания Баташеву и одновременно не прекращал своих полицейских предприятий.
Выгнанный из III Отделения, Шервуд не порвал связи ни с полицейскими, ни с уголовным миром; наоборот, согласно его утверждению[176], начиная с 1827 года он не прекращал подавать великому князю Михаилу Павловичу записки о различных своих наблюдениях и дошедших до него слухах, и «сие не только не запрещали, но, напротив, получал всегда благодарность». Он сделался своеобразным полицейским органом в едином лице, что в значительной степени облегчалось существованием и в николаевское время взаимно контролирующих и друг другу не доверяющих полицейских учреждений. Уже в первые дни существования III Отделения фон Фок писал Бенкендорфу: «Полиция отдала приказание следить за моими действиями и за действиями органов надзора. Полицейские чиновники, переодетые во фраки, бродят около маленького домика, занимаемого мною, и наблюдают за теми, кто ко мне приходит. Ко всему этому следует прибавить, что Фогель и его сподвижники составляют и ежедневно представляют военному губернатору рапортички о том, что делают и говорят некоторые из моих агентов»[177]. Этот антагонизм и соревнование на почетном шпионском поприще создавали подчас и для преследуемых возможность лавировать между тайной и явной полициями, а люди, подобные Шервуду, отвергнутые одной стороной, могли пользоваться тем большей поддержкой другой. И он, действуя от собственного лица, следит за преступниками, собирает слухи, подсылает фискалов и брави (шпионов), проникает в тюрьмы, учиняет допросы и т. д. В этом отношении характерно для него дело шляхтича Горского.
В мае месяце 1833 года к санкт-петербургскому обер-полицмейстеру явился для испрошения вида на жительство шляхтич Михаил Шкуратовский. В те годы обостренной мнительности по отношению к полякам явиться в полицию без паспорта было смелым поступком. «По сомнению в подлинности звания», он был препровожден в губернское правление, а оттуда кратчайшим путем в ***градскую тюрьму. Подобное обхождение, вполне отвечавшее привычкам николаевской полиции, пришлось Шкуратовскому не по вкусу, и шляхтич решил бежать; но справедливость сомнений прозорливого полицмейстера оправдалась в том смысле, что, сойдясь с двумя уголовными арестантами, Шкуратовский изготовил себе вместе с ними фальшивые паспорта на предмет побега. Дело раскрылось, и на суде шляхтич объявил, что «званием шляхтича и сею фамилиею пользуется фальшиво». В новом облике он предстал в качестве подпоручика польских войск Горского, «а после сего показания, находясь в коридоре, напоил допьяна конвойных и бывших с ним арестантов и бежал».
Можно было бы остановиться на этой детали, характеризующей быт полицейских камер, в которых агенты совместно с преступниками предавались Бахусу, но спешим отметить, что, несмотря на свою находчивость, Горский был вторично пойман и на допросе показал, что находился в числе мятежников, взят был с оружием в руках и отправлен в Георгиевскую крепость на Кавказ, с которой расстался по собственному желанию в октябре 1831 года вместе с двумя товарищами Станкевичем и Матусевичем. Пользуясь помощью волынских поляков, к которым они сумели добраться, и получив фальшивые паспорта, они переехали в Виленскую губернию, где скрывались у знакомых помещиков, а оттуда отправились на поиски счастья в Петербург. «18 мая, — доносил обер-полицмейстер Кокошкин, — прибыли в сию столицу и остановились в гостинице „Лондон“, а на другой день отправились за город на 4-ю версту, в трактир „Марьина Роща“, где Горский сделался крайне пьян, товарищи же его похитили у него вид и деньги и скрылись, а он, Горский, возвратился в сию столицу и, как выше сказано, явился ко мне для испрошения вида».
При всей своей неправдоподобности история эта рассказана, по-видимому, человеком неглупым и построена очень целесообразно. Горский приплел к своему повествованию много имен, сделал какие-то туманные указания на связи с зарубежными поляками, и всего этого было довольно, чтобы надолго заинтересовать своей особой власти. В дальнейших своих показаниях он кое-что изменил, многое развил, и из его слов стало очевидно, что в самом Петербурге существует большое тайное гнездо заговорщиков.
Так как розыски полиции не приводили ни к каким результатам, Горский стал добиваться освобождения, уверяя, что без его помощи никаких успехов в этом деле не будет достигнуто. Пока начальство размышляло, возможно ли удовлетворить его просьбу и как бы выудить от него побольше разоблачений, петербургский военный губернатор граф Эссен донес о следующих необычайных происшествиях.
22 июня 1834 года к исправляющему должность обер-полицмейстера полковнику Дершау явился подполковник Шервуд-Верный и принес ему жалобу на надзирателя тюрьмы, отказавшего ему в разрешении видеться с заключенным Горским. Можно думать, что обычно Шервуд не встречал препятствий в исполнении подобных желаний, но на этот раз (было ли то в связи с дискредитированием его по делу Баташева?) его запросили, на основании каких директив он действует. На вопрос этот он ответил фигурой умолчания, и Дершау отказался выдать ему пропуск. На следующий день Шервуд прислал в тюрьму своего слугу с секретным письмом на имя одного из арестованных, куда были вложены вопросные пункты на польском языке для Горского.
Ответ последнего был перехвачен и доставлен в III Отделение. Шервуд собирался, очевидно, предпринять самостоятельное следствие и, быть может, создать себе на польских делах новый триумф и придать свежий блеск своему декабрьскому венку, лавры которого уже заметно выцвели. В таком духе были составлены его вопросы, и Горский в ответе своем «просил господина полковника милости принять его под свое покровительство». «Клянусь Вам, — заканчивал он свое показание, — что буду верным, и мы выкореним все злые намерения, какие бы ни были, польского народа, желая быть всегда верным милостивому монарху. Возьмите меня, полковник, секретно к себе и будьте уверены, что я сделаю большие услуги отечеству».
Опрошенный о причинах его самовольных поступков, Шервуд с достоинством ответил, что Горский сам уведомил его о наличии какой-то государственной тайны, что он, Шервуд, «в продолжение всей своей службы неусыпно наблюдал за всем тем, что могло клониться к нарушению общественного спокойствия», что действует он исключительно из неограниченной преданности к императору и, вообще, никакой вины за собой не чувствует. Письма этого, написанного в оскорбленном и даже несколько вызывающем тоне, без соблюдения даже обычных аппарансов по отношению к такой важной особе, как шеф жандармов, оказалось достаточно, чтобы прекратить расследование о поступках Шервуда.
Чем кончилось дело Горского — мы не знаем. Затея Шервуда потерпела фиаско, и он надолго исчезает со страниц летописи III Отделения.
V. Шервуд против III отделения
Но дверь отверзлась, и явился в ней С лицом почтенным, грустию покрытым, Лазоревый полковник. Из очей Катились слезы по его ланитам. Обильно их струящийся ручей Он утирал платком, узором шитым. И про себя шептал: «Так, это он! Таким он был, едва лишь из пелен». А. К. Толстой. «Сон Попова»Язык до Киева доведет, а перо до Шлиссельбурга.
М. С. ЛукинВыйдя в вынужденную отставку и скрывшись на несколько лет с полицейского горизонта, Шервуд не оставил, конечно, ни своих честолюбивых замыслов, ни столь милой ему среды проходимцев и искателей приключений, с ее обычаями и увлекательными затеями. Но об этом периоде его жизни мы имеем очень мало сведений. За это время он успел схоронить жену и, как можно думать, перенес центр своей деятельности в Москву, где жили его родственники и где, в некотором отдалении от власти, он мог чувствовать себя спокойнее. Об образе его жизни в первопрестольном граде мы можем составить приблизительное представление хотя бы на основании такого эпизода: 7 марта 1840 года начальник Московского корпуса жандармов донес по начальству, что некий канцелярист Робуш, до того служивший в канцелярии киевского военного генерал-губернатора и уже в течение года проживавший в Москве, привлек внимание полиции следующим неблаговидным поступком. Не находя службы и, вероятно, испытывая денежные затруднения, он решил исправить свою фортуну выгодным браком и обратился для этой цели к помощи свахи и… Шервуда, к которому имел рекомендательные письма и в доме которого остановился. Шервуд охотно оказал ему покровительство и ездил с ним к матери предполагаемой невесты — провинциальной помещице Вильгельминовой, привезшей свою дочь на московскую брачную ярмарку. Дело было слажено, молодые благословлены образами, и все могло кончиться без доведения до сведения III Отделения, если бы жених, получивший вперед приданое — 12 тысяч рублей и, как водится, накупивший на значительную сумму подарков своей суженой, внезапно не скрылся с остальными деньгами. В дело это он замешал не только Шервуда, но и его сестру, у них был произведен обыск, но и сам Робуш тем временем был задержан. Так как пострадавшая соглашалась идти на мировую, дело было, по-видимому, прекращено, но в результате полицейскому надзору было поручено наблюдать и за сестрой Шервуда, а он сам чуть не поплатился за проделки своего протеже, действовавшего, быть может, не без его ведома[178].
В августе 1841 года некая Анна Королева жаловалась в III Отделение на неуплату ей Шервудом 1000 рублей ассигнациями, взятых в долг по заемному письму, но жалоба эта, по всей вероятности, осталась без последствий. III Отделение слишком хорошо себя чувствовало, избавившись от Шервуда, чтобы беспокоить его из-за всяких денежных претензий, тем более что последних могло оказаться немалое количество. Думаем, что Королевой сообщили, что она может тягаться «по силе законов»; дело это, во всяком случае, было признано не заслуживающим внимания и при очередной чистке архива подверглось уничтожению[179].
Так продолжалось до осени 1842 года, когда Шервуд, не вытерпев своего относительно праздного существования и все грознее надвигавшейся нищеты, снова явился в столицу, или, как выражались московские славянофилы, резиденцию, и стал нащупывать почву, понемногу восстанавливая свои прежние связи и надеясь на возобновление благосклонности влиятельных лиц. Старых его друзей и товарищей в III Отделении уже не было, а между тем Шервуд прекрасно понимал, что, не исправив своих отношений с этим учреждением, он никаких успехов в Петербурге не достигнет. И, скрепив сердце, он отправился с визитом к своему давнишнему недругу, доверенному агенту Бенкендорфа, Оскару Венцеславовичу Кобервейну, одному из немногих уцелевших до этого времени птенцов Фока. Последний не замедлил сообщить о посещении начальнику III Отделения Л. В. Дубельту, присоединив к своему письму краткий, но довольно характерный меморандум, который мы и приводим полностью[180].
«5 октября в 9 ч. утра слуга доложил мне: „Полковник Шервуд“; очень удивленный этим визитом после десяти лет, что мы не встречались, я вышел к нему навстречу. Он протянул мне руку и извинился, заявив, что пришел просить доброго совета.
Перечислив все свои невзгоды, он закончил: „Короче говоря, вы видите перед собой человека, доведенного до последней крайности, уничтожаемого отчаянием, без гроша, без друзей, без средств, ни даже пенсиону на щей с хлебом, не имеющего возможности вернуться на службу… У меня остается одна только надежда на спасение, это если Его Императорское Величество позволит мне отправиться на Кавказ и умереть или, в чем я уверен, оказать там отличные услуги России.
Генерал Нейдгардт знает меня и знает, что я могу ему быть очень полезен; но я не хочу и не могу ходатайствовать об этом, не получив предварительного согласия Государя, но как быть? Кто захочет сказать ему об этом, когда я всюду очернен… Дайте мне совет“.
„Обратитесь письменно сами к Его Величеству“, — сказал я ему. „Нельзя, — возбужденно прервал он, — вы не знаете моей гордости, — я англичанин, — если император откажет, это для меня смерть“. — „Тогда адресуйтесь к великому князю Михаилу“. — „Нет, невозможно; есть только один человек, который может забыть мои проступки и быть еще моим благодетелем, — это граф Бенкендорф! Но как найти к нему доступ? Он меня не любит, а генерал Дубельт презирает…“[181]
„Во всяком случае, — говорю я, — граф никогда не отказывается принять участие в судьбе просителя, а что касается генерала Дубельта, то он никогда никому не желает несчастья, так что, если ваши намерения чисты и тверды, попробуйте написать им“.
„Опять писать, — говорит он мне, — а что, если граф откажется переговорить с государем? У меня падает последняя надежда?“
„Чего же вы хотите? Как вас успокоить?“
„Я хочу, чтобы вы мне оказали услугу, которой я вам никогда не забуду: возьмите на себя труд справиться, не будет ли генерал Дубельт возражать, если я обращусь к графу, или, если можете, сделайте это сами, попросите его подвергнуть благоусмотрению Его Величества мое скорбное положение, невозможность подобного существования и мое горячее желание искать отличия на Кавказе. Сделайте это, и вы окажете мне услугу большую, чем вы можете себе представить“.
Итак, в полдень он покинул меня, чтобы явиться снова спустя два дня, так как он боится, чтобы генерал Нейдгардт не уехал раньше, чем решится его участь.
Видя, что он упорствует в своем намерении, я спешу передать Вашему превосходительству слово в слово все то, что случилось, и считаю долгом добавить, что по моим наблюдениям Шервуд действительно находится в последней крайности, хотя в поведении своем он стал гораздо умереннее, не пьет и не играет уже в течение пяти лет, с тех пор как он находится в связи с графиней Струтинской, тоже доведенной до нищеты и не имеющей чем заплатить за квартиру. Вместе с тем пребывание Шервуда в С.-Петербурге без цели, в том положении, в каком он находится, при характере скором и решительном, доведенного до отчаяния, кажется мне рискованным; милость же, о которой он просит, — удалить его отсюда и дать ему возможность обелиться на Кавказе — явится и благодеянием и необходимой предосторожностью»[182].
Приведенный диалог рисует нам Шервуда в новом, еще не встречавшемся нам виде просителя, но и здесь он верен себе. Он беден, доведен до крайности, ему грозит долговая яма, но он горд и не забывает с достоинством напомнить, что в понятиях чести он англичанин (совсем как когда-то характеризовал его Вадковский) и что обиды не снесет. Смиренный челобитчик, он не упускает случая напомнить, что может быть и грозен, и Кобервейн в своем письме с испугом отмечает возможность, что Шервуд вздумает лично отправиться в Царское Село, что, конечно, могло бы продлить непредвиденные осложнения. При всех своих неудачах он не потерял присутствия духа, той смелости, которая раньше вывозила его во всех злоключениях.
«Отправить его на Кавказ — это лучший исход», — заканчивал Кобервейн свое письмо Дубельту. Невольно встает вопрос: неужели Шервуд, ратные доблести которого мы наблюдали в столь комическом виде, действительно возымел желание восстановить свое запятнанное имя «в передовых огнях, дозорах и патрулях», в тяжелой боевой жизни кавказской пограничной линии? Кавказ того времени иногда представляется романтической ареной борьбы и подвигов, смертельных поединков трагических героев Лермонтова и Марлинского с непокорными, свободолюбивыми горцами. Николаевское правительство посылало туда умирать людей, которые оказывались слишком независимыми и кому надлежало там «исправиться», на Кавказе искали забвения разочаровавшиеся за зеленым столом князья Звездичи, но чего мог добиться там Шервуд, всегда предпочитавший успехи гражданские?
Романтическая характеристика кавказской жизни при ближайшем рассмотрении оказывается чрезвычайно односторонней. Головокружительные карьеры и состояния очень часто оказывались уделом таких кавказских деятелей, которые даже издали не видели вооруженного черкеса. Интендантские панамы, штабные интриги украшают чуть не каждую страницу летописи сатрапского правления Паскевичей и Воронцовых, равнодушно допускавших грабить и туземцев, и казну.
В 1844 году в Петербурге вышла книга Е. Хамар-Дабанова (псевдоним Е. Лачиновой) «Проделки на Кавказе», поспешно конфискованная властями за то, что в ней, по словам военного министра А. И. Чернышева, каждое слово было правдой. Книга эта наглядно рисует, как последовательно проводилось в кавказском наместничестве среди служившего там офицерства разделение выгод и опасностей. В то время как пограничный казачий офицер должен был существовать на 16 рублей годового жалованья, офицеры регулярных полков, находившихся на хозяйственном расчете, могли вести разговоры вроде нижеследующего:
«— Так я вам говорил, — продолжал он своему товарищу, — за прошлую экспедицию я буду переведен в гвардию тем же чином, а за будущую буду переведен в полковники и назначен полковым командиром Нижегородского драгунского полка. Что, батюшка… двести тысяч годового дохода!
— Если б вышли скорее награды за прошлый год! — возразил другой. — И мне хорошо было бы: я представлен в майоры и должен получить во Владикавказе линейный батальон, при котором транспорт… Тут также тысяч сорок годового дохода; а я не буду этого пренебрегать…»[183]
Можно думать, что и Шервуд не оставался в неведении относительно тех возможностей, которые представлял Кавказ людям, нуждавшимся в поправлении своих денежных обстоятельств, если они к тому же успели достичь штаб-офицерских чинов и обладают должной изворотливостью и смекалкой. Впрочем, как выяснится из письма его к Бенкендорфу от 22 февраля 1843 года, он на Кавказе особенно задерживаться не собирался и меньше всего предполагал быть употребленным по боевой части. «Истинная цель моя, — писал он, — была быть царю и государству полезным, чувствую себя вполне к тому способным, да и многолетние мои наблюдения как в политическом взгляде, равно и в отношении моральных сил государства принесли бы Государю Императору явную пользу, в чем нет никакого сомнения, цель моя была провести одно лето на Кавказе (но не без причины) и потом возвратиться для продолжения службы в С.-Петербурге, исходатайствовав таковую под лестным начальством Вашего Сиятельства, но, чтобы ничего не сделать помимо Вашего Сиятельства, я условился с г-ном Кобервейном, чтобы все, что только я встречу вредного для государства, — сообщить ему для передачи Вашему Сиятельству».
Кобервейн, очевидно, играл в предприятии Шервуда несколько двусмысленную роль, но путь был избран последним правильный. Начальство не проникало в его планы так глубоко, как он сам изложил их в цитированном письме, и по получении просьбы Шервуда Бенкендорф довольно сочувственно отнесся о ней военному министру, заметив, что «по беспокойному характеру его и частому вмешательству в разные дела, для поправления своего состояния, было бы далеко полезнее для службы и для самого его менее вредно служить в одном из полков Отдельного Кавказского корпуса». Дело, как видим, было уже совсем на мази, но непреоборимая страсть Шервуда к авантюрам и на этот раз подвела его.
За истекшие семь лет изгнания Шервуд сильно опустился. Лишившись правительственных милостей и оттолкнутый общественным мнением, переименовавшим его из Шервуда-Верного в «скверного» и пустившим вслед ему кличку «Фиделька», он прозябал в своем темном кругу, сбившись, как мы видели, с крупных афер на мелкие плутни. В это время он познакомился и сблизился с разведенной графиней Струтинской, авантюристкой невысокого полета, и связь эта ввела его в новые прегрешения.
Если Кобервейн приписывал графине Струтинской благотворное влияние на ее возлюбленного, то делал это он, вероятно, на основании слов самого же Шервуда. На самом же деле Струтинская вовсе не принадлежала к тем благословенным женам, которые тихой и кроткой лаской преображают вепрей в смиренных ланей. Долго и утомительно судившаяся со своим бывшим супругом о выделе ей причитавшейся, по ее мнению, части его имения, она находилась в положении не лучшем, чем Шервуд, и пыталась исправить свои дела способами не более законными, чем те, к которым прибегал ее сожитель.
Из использованного нами дела явствует, что при помощи ли Шервуда, а может быть, и самостоятельно она присвоила деньги некой девицы Генриетты Крыжановской, и по просьбе последней петербургская полиция пыталась вернуть ей деньги путем наложения секвестра на выделенную Струтинской часть имущества ее мужа; но по наведении справок оказалось, что имение это находится в столь плачевном состоянии, что для очистки его от долгов требуется еще продолжительная тяжба и вложение дополнительных капиталов. Получила ли Крыжановская обратно свои деньги или нет — не знаем, но попутно произошли следующие происшествия.
10 января 1843 года санкт-петербургский обер-полицмейстер Кокошкин рапортовал шефу жандармов, что закончил следствие об отставном подполковнике Шервуде-Верном, причем из производства выяснилось следующее:
«Служащий в комиссии прошений, коллежский секретарь Дерош довел до сведения полиции, что неизвестный ему человек, познакомясь с крепостным его мальчиком Михайлою, просил сего последнего достать для прочтения хранящиеся в столовом ящике г. Дероша бумаги, обещая за это мальчику денежную награду, и когда мальчик Михайло объявил, что ящик заперт и ключа от оного г. Дерош не оставляет, то неизвестный, явясь в другой раз и вручив мальчику тому кусок воску, просил приложить оный к замку и слепок доставить к нему, по которому обещался принести ему ключ.
Мальчик Михайло, будучи хорошего поведения и не желая домогательства этого скрыть от г. Дероша, объявил ему об оном, и по изъявленному вследствии этого г. Дерошом согласию слепок сдан был неизвестному, а сей последний чрез несколько времени явился с ключом и, вручив оный Михайле, который, получив от г. Дероша пакет с запечатанными ненужными бумагами, отправился с неизвестным в трактир в Кирочную улицу пить чай, где, по словам неизвестного, был брат его, желавший прочесть сказанные бумаги».
Эти канцелярские периоды, при всей своей неуклюжести, довольно ясно свидетельствуют о том, что «неизвестный человек» предполагал совершить ограбление Дероша при помощи подобранного ключа. Явившийся в трактир полицейский надзиратель арестовал неизвестного и обнаружил в нем Ивана Мартынова, слугу подполковника Шервуда-Верного, причем выяснилось, что действовал он по наущению своего хозяина, желавшего извлечь из ящиков Дероша какие-то документы.
В связи со всем этим Шервуд 13 ноября был арестован, а 16-го шеф жандармов сообщил об этом происшествии особым отношением военному министру, в котором, рассуждая, что «офицер, решившийся на подобный поступок, не обещает пользы для службы», просил его не давать ходу определению Шервуда в кавказский корпус.
«При производстве исследования Шервуд-Верный в домогательстве получить бумаги, принадлежащие Дерошу, посредством подборного ключа и во всем вышеизложенном по сему предмету не сознался, хоть и уличали его в том на очных ставках дворовый человек Мартынов и мальчик Михайло Порецкий, подтверждая то только, что он с дворовым человеком Мартыновым был в трактире собственно для утоления жажды и мальчика Михайлу видел там, но его вовсе не знал и не знает».
В запирательстве своем Шервуд оставался непреклонен, недоумевал, почему его держат, и писал заявления, что ему не предъявлено никаких обвинений, что он требует допроса, который обнаружит полную его непричастность и пр. Обер-полицмейстер Кокошкин, однако, получив «лестный отзыв его сиятельства графа Александра Христофоровича о действиях в отношении поступка г. Шервуда-Верного к девице Крыжановской», продолжал гнуть ту же линию, нимало не смущаясь заявлениями Шервуда.
В чем заключалась связь между попыткой к ограблению Дероша и девицей Крыжановской, мы узнаем только из позднейшей записки Шервуда, в которой он, как обычно, задним числом менял показания и давал новое освещение своим поступкам.
Из этой записки видно, что Дерош имел намерение жениться на невестке своего приятеля, секретаря канцелярии министра народного просвещения Ласковича Генриетте Крыжановской, той самой, которая пострадала от Струтинской, ссудив, по-видимому, последней деньги под векселя. Правда, Шервуд утверждает, что Генриетта отдала свое сердце другому, и рисует Дероша как человека низкого, завистливого, «черного». К тому же Дерош оказывался хранителем каких-то важных противоправительственных бумаг, которые Шервуд и решился похитить, как всегда желая оградить Россию от преступных замыслов, на этот раз чиновника комиссии прошений. Зная склонность Шервуда к провокации, мы остережемся давать веру его сообщениям, тем более что замечания его по этому делу каким-то чудесным образом «ускользнули из рук полиции при запечатании у меня моих бумаг». Гораздо более простым предположением — и его-то и сделала полиция — окажется то, которое свяжет дела Струтинской и Шервуда векселями первой. Крыжановская могла передать их на хранение Дерошу или просить его продвинуть ее дело, а, как чиновник комиссии прошений, он, вероятно, был в состоянии помочь ей. Потребовалось спешно эти векселя или другие компрометирующие бумаги извлечь, и в дело пошел набор воровских инструментов.
По докладу о деле Дероша Шервуда решено было сослать в Олонец. Но так еще было сильно обаяние его декабристских заслуг, что из уважения к его бедственному материальному состоянию и как «отцу большого семейства» ему было разрешено отправиться в свои имения в Смоленскую губернию. Одновременно выслана из столицы была и Струтинская.
Шервуд удалился со смиренным видом, но все еще снедаемый честолюбивыми замыслами, к которым теперь присоединились и планы мести.
Еще в то время, когда Шервуд сидел под арестом, его превосходительство, милостивый государь Леонтий Васильевич получил письмо следующего содержания:
«Находясь под арестом в Управе Благочиния, я лишен возможности лично видеться с Вами, но, считая это необходимым, прибегаю к средству сему сообщить Вам, что имею необходимо нужное сообщить Вам по секрету относящееся до Вашего Превосходительства.
Бумаге доверить всего не могу, а потому избирайте средство сами, чтобы вытребовать меня непременно сегодня не в 3-е отделение, а в квартиру вашу, но под величайшим секретом, чтобы никто не догадался, что требуете меня к себе, но всего лучше полагаю прислать Экзекутору вроде предписания о дозволении мне повидаться с женою моей по случаю ее болезни с тем чиновником, который от вас будет прислан и которому Вы сами вполне доверяете, не открывая того, что я к Вам писал.
С глубочайшим почтением имею честь быть Вашего Превосходительства покорнейшим слугою.
Александр Белич
Не оставляйте исполнения сего до завтрашнего дня и соблюдите все, чтобы не было открыто то, что должен иметь свидание с Вами».
Как управляющий III Отделением, Дубельт был чрезвычайно любопытен по части всяких тайн и не замедлил вызвать Белича. Как оказалось, Шервуд, попав в близкую ему атмосферу тюремных обитателей, не сумел удержаться от хвастовства и болтливости и наговорил много лишнего. «Шервуд-Верный, — резюмировал Дубельт свой разговор с Беличем, — хочет подать доклад государю, как ужасно действуют граф Бенкендорф, Кокошкин и я». Бенкендорф, впрочем, «приказал оставить это без внимания», и на дальнейшей, известной нам уже судьбе Шервуда этот донос как будто не отразился. Но Шервуд не лгал. Уезжая в Смоленскую губернию, он заранее решил посчитаться с III Отделением, ответившим на все его благие порывы такой черной неблагодарностью, и в особенности с Дубельтом, которого он считал главным виновником всех своих злоключений.
До некоторой степени Шервуд был прав. Тому обстоятельству, что все его попытки начиная с 30-х годов проникнуть в святая святых полицейского мира наталкивались на решительный отпор, он в значительной степени был обязан тому новому духу в этом учреждении, который, возникнув несколько ранее, особенно развился под заботливым попечением Дубельта.
Мы присутствовали при возникновении III Отделения и видели, как это учреждение возникло в результате противоречивых стремлений николаевского правительства, желавшего этим путем, с одной стороны, пресечь всяческие крамольные попытки и, с другой, добиться популярности и уничтожить бюрократическое средостение между собой и народом. Пример III Отделения отлично подтверждает мысль М. Н. Покровского о том, что «демагогические тенденции… вели туда же, куда вело и сознание своих обер-полицеймейстерских обязанностей», равно как и то положение, что «наклонности демагога и полицеймейстерские обязанности должны были нейтрализовать друг друга»[184], — в лучшем случае, прибавим от себя, потому что при всякой более или менее серьезной коллизии этих двух противоречивых тенденций неизменно побеждала последняя. Мы видели, к чему приводила на практике борьба правительства с бюрократизмом, борьба уже в самой своей идее безнадежная в обстановке николаевской России. Господствующий землевладельческий класс переживал процесс быстрого расслоения, и в желании сохранить свою классовую базу «николаевское правительство ставит себе двойную задачу: восстановить социальную силу дворянства и выработать из него орудие правительственной администрации»[185]. Дворянство, уже давно подчинившее себе государственный аппарат, начинает заполнять все этажи чиновного святилища; дворянская Россия постепенно перерождается в дворянско-бюрократическую, и этот процесс в продолжение николаевского царствования зашел так далеко, что нашел выражение и в изменении даже внешней физиономии дворянского общества. Тонкий наблюдатель, Герцен заметил по этому поводу: «Александр продолжал образованные традиции Екатерины; при Николае светски-аристократический тон заменяется сухим, формальным, дерзко-деспотическим, с одной стороны, и беспрекословно покойным, с другой, смесь наполеоновской отрывистой и грубой манеры с чиновничьим бездушием»[186]. Столичный консервативный дворянин из уверенного в доходности своих имений, слегка фрондирующего светского куртизана превращается в человека типа «чего изволите», с эластичным спинным хребтом, позволяющим сохранить милость вышестоящих, и юпитерским басом, служащим для удержания в покорности подвластных. И немудрено, что учреждение, возникшее как отрицание бюрократизма, само не только насквозь пропиталось им, но сделалось его особенно ярким представителем, создавши себе даже особое положение регулятора всей административной и общественной жизни страны, особого государства в государстве. Последнее стало даже официальной идеологией III Отделения: А. Ломачевский рассказывает, как он представлялся шефу жандармов, «который, объяснив мне в общих выражениях инструкцию губернского штаб-офицера, прибавил, что звание это требует не только честного, благородного и вполне безукоризненного образа действий, но и осторожности дипломата, потому что, как выразился он, государь наш, определяя в каждую губернию жандармского штаб-офицера, желает видеть в нем такого же посланника, такого же честного и полезного представителя правительства, какого имеет он в Лондоне, Вене, Берлине и Париже»[187].
Этот разговор относится к 1838 году. Как раз в это время происходила достройка здания III Отделения, завершение бюрократической стройности его аппарата. Образовавшись в 1826 году и впитав в себя разнородные элементы Департамента полиции Министерства внутренних дел, тайной полиции М. Я. фон Фока и жандармской службы, III Отделение переживало очень медленный процесс организационного роста. Еще в 1832 году в корпусе жандармов не существовало установленной формы переписки[188], а указаний о порядке действий его чинов не было и позднее. Сама организация корпуса жандармов как единого целого относится только к 1836 году и является плодом рук назначенного в 1835 году начальником его штаба Л. В. Дубельта, которого и можно считать творцом системы III Отделения в том виде, в каком она существовала при нем и впоследствии.
Дубельт — одна из наиболее интересных фигур жандармского корпуса. Бывший масон, близкий к декабристским кругам, он поступил в 1830 году в жандармы и в течение нескольких лет добился главенствующего положения в III Отделении. В 1835 году, как только что было сказано, он был назначен начальником штаба жандармского корпуса, а в 1839 году, искусно отстранив своего патрона и родственника Мордвинова, сделался управляющим III Отделением, сохраняя и прежнее звание и объединив, таким образом, в одних руках обе отрасли высшего полицейского служения. <…>
Сентиментально-возвышенный тон, которым Дубельт говорил о своих будущих жандармских обязанностях, не шел вразрез с теми настроениями, которые господствовали в III Отделении в момент его появления. В своем месте мы уже привели благочестивый анекдот о платке, врученном Николаем Бенкендорфу, и обрисовали условия, в которых стал зарождаться тип благородного жандарма. Но, покуда во главе дела стояли люди старой школы вроде Фока, этот процесс мог развиваться только очень медленно. И именно Дубельт, окончательно сформировав аппарат жандармерии, завершил и создание этого персонажа. <…>
Этот новый строй отношений и привычек в полицейском мире препятствовал людям, подобным Шервуду, выдвинуться. Попытки его к самостоятельной деятельности были пресечены, идти на работу мелкого агента не позволяли ни чин, ни самолюбие, а установившаяся за ним репутация затворила перед ним двери III Отделения. Этим он был обязан новому духу — Балашов или Фок не остановились бы перед такими препятствиями. И хотя с Дубельтом он, вероятно, никаких личных столкновений не имел, именно в нем он усмотрел своего главного противника и с ним попробовал вступить в борьбу.
Из изложения всех предшествующих событий мы видели, что счастливая звезда Шервуда выручала его при всех обстоятельствах. Несмотря на всяческие свои проделки, он избегал кары и оставался цел и невредим, потому что правительство никак не могло решиться наложить руку на того, кто столько был возвеличен в первые годы царствования. Оно следило только за тем, чтобы «действия Шервуда оставались негласными для публики». Это давало ему возможность как-то барахтаться на поверхности житейского моря, пользуясь доверчивостью людей маленьких и легковерных и при случае извлекая из них денежную выгоду. В наших руках имеется любопытное письмо конца 1834 года, отобранное у него при обыске, от некоего Федора (подпись неразборчива), который имел великую честь снискать дружбу Шервуда, познакомившись с ним через его фактотума в баташевском деле, Степана Юркина. «Я не говорю, — пишет этот неизвестный корреспондент нашего героя, — что Вы у меня много перебрали. А, напротив, объяснюсь прямо знаменательно, что вы, милостивый государь, И. В., изволили меня обобрать, ибо лишили меня всего, что я имел и мог иметь. А случилось это через то, что я имел несчастье с Вами познакомиться, сблизиться, доверить Вам и позволить Вам называть меня при всех Вашим другом, приятелем, товарищем. Причем долгом поставлю себе объяснить Вам, что Вы в этом успели не чем другим, как уверением меня, что Вы важная доверенная особа у Его Величества нашего Цесаревича и Государя и у Его Высочества великого князя. Ну уж, конечно, Вам это удалось потому, что Вы уверили меня в императорском мундире. Что же касается до того, что я Вам очень, очень нужен, как Вы объяснили в ярлычке Вашем ко мне, а равно и о раскаянии, помещенном в письме г. Юркина, то доложу Вам на первое, что Вы напрасно это поясняете, ибо я это знал и знаю, но я принадлежу как телом, так и душой одному царю моему; на второе — скажу Вам, если Вы изъяснились просто так, что сродни всякому благородному человеку, и только я уже не раскаиваюсь, да только не в том, в чем Вы полагаете, а раскаиваюсь в том, что имел несчастье познакомиться с Вами и получить от Вас в подарок собаку, которая мне весьма дорого обошлась. Если Вы этим меня думаете пугать, то позвольте мне доложить Вам, что тот, который не боится смерти и который знаком с ней больше, чем Вы с Вашими родными, то тот не родился испугаться угроз г-на Шервуда-Верного».
Заканчивает это письмо Федор с неразборчивой подписью довольно ядовитым реверансом: «По правилам деликатности имею честь быть Ваш покорный слуга»; да что, кроме иронии, оставалось обобранному да, по-видимому, еще и шантажированному человеку?
Эта легкость, с которой все сходило Шервуду с рук, потому что правительство щадило его, а скромные жертвы боялись сводить с ним счеты, делала его излишне самоуверенным и вдохновила его на борьбу с III Отделением. Если уже в доносе Голицына он выступал скрытым антагонистом своего бывшего начальства, то теперь он откидывает забрало и выступает на бой со столпами власти, как равный с равными.
20 августа 1843 года Шервуд отправил своему бывшему покровителю Михаилу Павловичу обширный донос на нескольких десятках страниц. Начав с сообщения, что «в Смоленской губернии Poestels letzer Haush уже несколько лет играют и ноты в редком доме не находятся, надо полагать, что сочинено в Смоленске», и приложив и самые ноты этого произведения[189], автор далее переходит к изложению существующих в России непорядков и злоупотреблений, указуя виновных и способы исправления. В этом труде Шервуду помогал отставной коллежский советник Никифоров, приславший ему даже «проект изменения некоторых существующих законов». Мы уже знаем, что у Шервуда было «влеченье, род недуга» ко всяким отставным канцеляристам, охотно сообщавшим за рюмкой водки секреты своих учреждений и не брезгавшим мелкими доносами. Этого отставного служителя Фемиды Шервуд предлагал в прокуроры комиссии для ревизии дел коммерческого суда, «буде Государю угодно будет принять проект Никифорова в уважение», и от него же, вероятно, и заимствовал свои сведения о злоупотреблениях в судебном ведомстве.
Донос Шервуда заслуживает значительного внимания, так как большая часть его, особенно там, где он отказывается от своей роли борца с революционными теориями и действиями, довольно близка к истине. Мы не будем, однако, слишком подробно останавливаться на этом труде, с которым читатель может полностью познакомиться в приложениях к книге, и задержимся только на наиболее существенных его чертах. Начав с судопроизводства, которое «как в столицах, так равно в губерниях и уездах сделалось просто ремеслом грабить», указав на препятствия, которые незаконные поступки судебных органов ставят развитию коммерции, и на злоупотребления по опекам и сиротским судам, он переходит к обвинению полиции. В частности, «Москва от действий полиции не ропщет, а стонет, так их действия беззаконны, что никакое перо не в силах описать, да и превосходит всякое вероятие, дошло до того, что всякого рода и всякого звания сделались общества мошенничества под явным покровительством полиции, а воровство дошло до высшей степени не мелочами, а целыми магазинами, и многое хуже того…» Беспорядки происходят и в откупах, и в акцизе, частые рекрутские наборы отягощают население; состояние государственных крестьян дошло до крайности, так что они «не могут переносить своего положения и готовы к возмущению»; неблагонамеренные люди могут только радоваться всему происходящему, видя в этом «явное начало к конституции», а благие распоряжения правительства не доходят до населения из-за небрежения полиции и чиновников. Раскольников обижают беспричинно; на золотых приисках в Сибири происходят злоупотребления, на которые никто не обращает внимания. Полное отсутствие законности в стране приводит ее на край пропасти. «Горе тому, кто бы смел помимо чьей-то части сделать в государстве какое-либо открытие к общественному благу», — восклицает Шервуд, скромно указуя на собственную особу: «Он подвергается всем возможным гонениям не как благонамеренный верноподданный, а как оскорбивший лично того, до чьей отрасли правления оное касается…» Все это радует одних только врагов царя и России. Европа, в особенности Англия и Франция (нельзя отказать Шервуду в понимании международной конъюнктуры), внимательно следит за слабостями России, оказывает помощь революционерам-полякам, а последние, в свою очередь, делают все возможное, чтобы очернить Россию в глазах иностранцев. Мицкевич, Адам Чарторижский, Сапега, Замойский в Париже, Константин Чарторижский в Вене, Княжевич в Дрездене — все они исподволь готовят новый мятеж.
Здесь Шервуд несколько сбивает масштаб своего и без того не очень последовательного труда и переходит к прямому доносу на живущих в Смоленске поляков, очевидно не очень благосклонно отнесшихся к новоявленному соседу. Разделавшись с ними, он снова возвращается к рассуждениям общего порядка, говорит о раскольниках и их сношениях с западными единоверцами; требует усиления репрессий в отношении вольнодумствующих профессоров; отмечает распространение безбожия среди крестьянства; указывает на недовольство на Урале и Кавказе и проч.
Начертав таким образом во многом справедливую и довольно резкую характеристику нравов российской администрации, Шервуд переходит к наиболее для него важной части доноса — политической. Памятуя, с чем связана была благосклонность к нему властей, он вызывает в памяти своего августейшего корреспондента тени декабрьских событий и старается показать, что, несмотря на расправу с восставшими, дух их еще жив, а следовательно, и с теми, кто заявил себя их решительными врагами, нужно обращаться по меньшей мере бережно. (Хотя мы и избегаем приводить пространные выдержки из его сочинения, но в целях большей отчетливости приведем его аргументацию его собственными словами.)
«Излишним будет описывать подробности, родившие событие 14 декабря 1825 года, а скажем только о последствиях и настоящем направлении умов в государстве; когда преступники получили слишком милостивое наказание, оставалось четыре разряда злоумышленных людей, за которыми правительство должно бы было иметь неослабное наблюдение и прекратить их действия в самом начале: первые — люди, принадлежавшие к тайным обществам и к открытию которых нить порвана частью смертью которого-нибудь из членов, частью несознанием других — нет сомнения, что из ускользнувших, ныне занимают весьма важные места в государстве; вторые — неблагонадежные родственники преступников; третьи — не принадлежавшие еще ни к какому обществу, приготовленные по образцу воспитания на все дурное, ибо в то время существовали учебные заведения, как, например, в Москве Чермака, где юношество просто приготовлялось врагами отечества, да и по домам и учебным вообще заведениям было не лучше; наконец, последние — сами преступники, которые не перестали действовать по разным связям и через ближайших родственников, одни — скрывшиеся за границу, другие — из Сибири, третьи — получившие по неограниченному милосердию монарха дозволение под надзором жить в своих имениях. Месть, вражда к царю не имела границ, и последствия объяснят весь вред, ими сделанной отечеству».
Действия всех этих четырех групп, по словам Шервуда, с 1826 года приняли такие размеры, что опасность становится совершенно несомнительной. Эти люди радуются всем государственным неудачам, клевещут на царя, и, проникая в правительственный аппарат, ведут Россию к ужасным событиям. Особенно опасна Москва, где разговоры ведутся без всякого страха и стеснения; где пользовался неограниченным влиянием покойный декабрист Михаил Орлов; где имеется какое-то тайное общество, находящееся под покровительством обер-полицеймейстера Цинского и жандармского генерала Перфильева; где не так давно поляк князь Радзвилл предвещал близкую смерть императора и где, наконец, митрополичью кафедру возглавляет Филарет, решительный мятежник, за которым «необходимо иметь неослабное наблюдение». Но не только в Москве, даже в скромном Смоленске имеется гнездо заговора: «В Смоленске можно утвердительно сказать, что многие ускользнули от наказания по истории 14 декабря, смертью генерала Петра Петровича Пасика и образ мыслей которых слишком известен, как рославского предводителя Якова Швейковского, человека большого ума и вредного, смоленского Александра Лярского, барона Черкасова, Палицына и многих других, которые в настоящее время носят название les lions de Smolensk[190]…» Нужно отметить, что Палицын действительно привлекался по делу 14 декабря, а Швейковский и Черкасов, по-видимому, родственники декабристов.
«Кто же, — взывает охваченный гражданской скорбью Шервуд, — допустил все это зло, все эти беспорядки, все эти адские замыслы, все это лихоимство?» Ведь в начале царствования был учрежден корпус жандармов, который должен был сосредоточить все моральные силы империи, лучших людей государства, соединявших высокие нравственные качества с беспредельной преданностью царю и отечеству. В том-то и оказывается корень зла, что в III Отделение проникли ненадежные люди, а главенство в нем захватил обольстивший Бенкендорфа Дубельт: этот «человек, всегда бывший против правительства, едва ли не во всех обществах, из III Отделения сделал место, которому дали название факторская контора, надо томы написать, чтобы исчислить все мелочные дела, разобранные III Отделением, и смело можно сказать, много высочайших повелений вышло без воли Государя. Весь Петербург можно спросить, ибо все знали, что если нужно кому было по какому бы то делу ни было исходатайствовать Высочайшее повеление, то стоило только адресоваться к полковнице Газенкампф, которая, будучи довольно снисходительна в цене, всегда была верна в своем слове, генерал-майор Дубельт проживал всегда в год 100 т. рублей, сверх того покупал имение». И покуда такие люди, как Дубельт, сидят у самых истоков власти, а без лести преданные Шервуды находятся в изгнании, до тех пор не воцарится на Руси порядок и она все более и более будет погружаться в бездну гибели.
Таково в общих чертах содержание доноса, к которому Шервуд приложил еще и записку о своих личных делах, частично нами уже использованную. Вряд ли он, однако, представлял себе, в чьи руки попадет его произведение. Мы не знаем, какие непосредственные шаги предпринял великий князь Михаил Павлович после получения шервудовского досье, но, во всяком случае, первым внимательным читателем этого труда, с карандашом в руках и отметками для памяти, оказался не кто иной, как управляющий III Отделением, начальник штаба корпуса жандармов, генерал-майор Л. В. Дубельт.
Положение у Дубельта было довольно щекотливое. Он никак не мог пренебречь столь обширным доносом, говорившим о многих заговорах и злоупотреблениях, называвшим множество имен и фактов. Вместе с тем он не мог отрицать справедливости многих утверждений Шервуда как в общей части, так и касательно его самого. Он действительно был близок к декабристам, особенно к Михаилу Орлову; действительно, по старым связям, часто способствовал облегчению их положения[191]; об этом, равно как и о его стяжательстве и амурных приключениях, хорошо знали в обществе, и даже за границей печатались статьи, посвященные этим темам. В 1846 году Дубельту пришлось подавать заменившему Бенкендорфа А. Ф. Орлову докладную записку, в которой, между прочим, он оправдывался в обвинениях, возведенных на него газетой «Le Corsaire Satan»: «…что я был замешан в происшествии 14 декабря 1825 года, что в III Отделении я сделал незначительное упущение по части цензуры, но не ведомо как, за эту, мною сделанную, ошибку уволен от службы Мордвинов; что моя справедливость падает всегда на ту сторону, где больше денег; что я даю двум сыновьям по 30 тысяч рублей содержания, а молодой артистке 50 тысяч…»[192]
Отбиваться от таких нападок Дубельту приходилось всю жизнь. В публике широко была известна его любовь к наживе, выражавшаяся прежде всего в участии его в различных торговых и промышленных компаниях. Правда, этим способом округления дохода не брезговал и Бенкендорф, но последний как-то остерегался вступать пайщиком в такие сомнительные предприятия, как игорный притон Политковского, с которым Дубельт был в тесной связи. Многочисленные жалобы подавались на него и в связи с его амурными похождениями, особенно родственниками воспитанниц театрального училища и сиротского дома, попечителем которых он состоял. Точно так же не без основания утверждал Шервуд, что в III Отделении за деньги можно все сделать. Это подтверждают и другие источники: «…тайная полиция при графе Бенкендорфе, князе Орлове и генерале Дубельте была вертепом тайного разбоя. Там все продавалось и все можно было купить. С пачкою кредитных билетов в руке можно было совершить деяния самые гнусные»[193]. И в случае, когда дело, в котором оказывались заинтересованными чины III Отделения, шло судебным порядком, его требовали «для некоторых соображений» и погребали в глубине жандармских архивов. Известно также было, что для удержания в страхе Николая Дубельт изобретал заговоры, прибегая в этих случаях то к провокации, то к инсценировке.
В словах Шервуда Дубельт мог найти много горькой правды, и тем решительнее должен был он поступить по отношению к своему антагонисту. Человек, воспитавший своих подчиненных так, что на вопрос «Что лучше для государя — не раскрыть вполне преступления или, напутав небылицу, обвинить невинного?» они отвечали: «Лучше обвинить невинного, потому что они здесь все виноваты, ракалии!» — такой человек, конечно, не мог остановиться, когда нужно было побороть врага. Белые перчатки жандармской благожелательности в нужных случаях снимались, и тогда не требовалось быть Герценом, чтобы различить истинное лицо этого учреждения.
Шервуд, конечно, хватил лишнего. Время, когда всякому доносителю, независимо от истинности его показаний, оказывались и почет и ласка, миновало безвозвратно. Вдобавок он поднял руку на таких людей, как Дубельт, митрополит Филарет, Перфильев, Цинский и пр., то есть людей, удостоенных монарших милостей и потому неподотчетных обывательскому суждению. Он осмелился порицать существующий порядок, уповая на свои, когда-то ценные, а теперь уже забытые, заслуги… Старый авантюрист не выдержал ударов судьбы и ринулся напропалую. Шервуд назначил высокую игру, предварительно не сосчитав взяток; его карта была бита.
Для проформы было произведено следствие, но о всех помянутых в доносе лицах ничего предосудительного не оказалось, — вряд ли жандармы и искали доказательств. Был составлен всеподданнейший доклад, на некоторых деталях которого мы остановимся — они чрезвычайно показательны и характерны.
Классический образец официальной идеологии дает отповедь III Отделения на предъявленные Шервудом обвинения по пункту судопроизводства и полиции:
«Столь преувеличенное описание злоупотреблений само собой обнаруживает неосновательность доноса. Зло существует в частности, но везде преследуется при первом обнаружении оного. Покровительства или даже послабления злу решительно нет и быть не может. Если министры и другие власти не искореняют вовсе беспорядков и не доводят вверенных им частей до полного совершенства, то или потому, что для сего не созрели обстоятельства, или потому, что иные злоупотребления, по общему порядку вещей, всегда будут существовать и существуют у всех народов. При благоразумном взгляде и при справедливой уверенности в суждении, можно сказать, что в России по судебной и административной частям нет общих вопиющих притеснений и злоупотреблений; благонамеренные люди более довольны настоящим положением вещей и спокойно ожидают улучшений в будущем времени; а всем недовольны одни те, которые, по своему беспокойному характеру или неблагоразумию, будут недовольны при всяком положении дел».
По поводу замечаний Шервуда о тяжелом положении населения доклад полагал, что здесь можно усмотреть «преувеличенные опасения, доказывающие только ничем недовольный и беспокойный характер доносителя. Открываемые злоупотребления преследуются всеми начальствами; министры во всех важных случаях доводят до высочайшего сведения, и решительно можно сказать, что никаких важных происшествий не случалось, о коих бы не было доносимо Государю Императору». В связи с различными мелкими указаниями Шервуда мы находим следующее горделивое изречение: «Высшие правительства имели и имеют более данных, нежели Шервуд-Верный, чтобы судить, необходимо ли и должно ли изменить существующие по сим предметам правила».
По поводу сообщений Шервуда о существовании в Москве тайного общества доклад успокаивающе разъясняет, что «Шервуд-Верный разумеет под сим обществом людей, преданных пороку мужеложества», и общий вывод по всем этим статьям гласил, что «сии голословные, совершенно бездоказательные обвинения, вероятно, дошли до доносителя через толки и слухи, выдуманные от праздности, и не заслуживают внимания, тем более что особы, до коих относятся обвинения, лично известны Государю Императору».
Уже в самом конце этого панегирика казенному благополучию идут ответы Дубельта на обвинения, предъявленные ему лично. Дубельт знал, что Николаю известно многое из того, о чем сообщал Шервуд, знал, что император может простить все, кроме политического вольномыслия; знал, наконец, что он любит при случае щегольнуть солдатской прямотой и встретить у подчиненного открытый взор. Поэтому, отрицая все обвинения в стяжательстве, протекционизме и проч., он с честным и откровенным видом заявлял:
«Дубельт, служа тогда дежурным штаб-офицером при генерале Раевском, в течение 9-ти лет был окружен и находился в беспрерывных сношениях с Орловым, князем Трубецким, князем Волконским, двумя братьями Муравьевыми, Пестелем, Бестужевым и другими, и когда все эти лица почти беспрерывно находились в Киеве и замышляли заговор против правительства, несмотря на то он не принадлежал к их обществу, не принадлежал потому, что они не делали ему подобного предложения; а не делали ему оного весьма естественно потому, что, конечно, не находили его к тому способным. В преданности же Дубельта к Орлову нет ничего удивительного. Дубельт был его подчиненным и теперь не отпирается, что любил и был предан своему начальнику, хотя никогда не разделял политических его мнений, а, напротив, часто оспаривал и порочил их».
Разумеется, все эти невинные прегрешения с избытком покрывались беспорочной службой в III Отделении, и не Шервуду было свалить эту крепкую и устойчивую репутацию. Участь Шервуда была решена, статья найдена — 875-я Свода Законов тома 15-го по изданию 1842 года: «За лживые доносы определяется доносителю то наказание, какому подлежал бы обвиняемый, если бы учиненный на него донос оказался справедливым»; соответствующая резолюция не замедлила воспоследовать. 5 января 1844 года фельдъегерского корпуса подпоручику Седову дано было секретное предписание отправиться в Смоленск и, явившись к гражданскому губернатору, с дозволения его превосходительства немедленно арестовать жительствующего там отставного подполковника Шервуда-Верного, одновременно опечатав его бумаги; а 12 января, в 6 часов пополудни, за Шервудом захлопнулись ворота Шлиссельбургской крепости.
VI. Закат Шервуда
Магнит показывает на север и на юг, — от человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни.
Козьма ПрутковВесь остаток жизни Шервуда уже не представляет ни исторического интереса, ни интереса занимательного; но, проведя нашего героя через пять глав повествования и взяв от него все, что он мог дать, мы чувствуем некую обязанность сообщить читателю и о последовавших его трудах и днях, уже не блещущих былой энергией и изобретательностью.
Присоединив свое имя к числу шлиссельбургских узников, Шервуд ни по мотивам своего заключения, ни по характеру своей прошлой деятельности не может претендовать на включение в ее славную «галерею». Да и жилось ему там не так скверно. Уже через несколько месяцев после ареста он получил разрешение переписываться с семьей, правда через благосклонную цензуру III Отделения и, как практиковалось тогда, без указания места своего пребывания. Родные кроме писем посылали ему и деньги, и, в общем, он чувствовал себя не очень плохо. «Здоровье мое, сознаюсь тебе, сверх всякого ожидания поправилось почти совершенно», — писал он сестре Елизавете 25 мая 1848 года. Кроме беспокойства о будущности детей, он никаких забот не испытывает: «Постарайся, мой друг, чтобы сыновья поступили в университет; Константин изберет себе занятия сообразно с его расстроенным здоровьем, а Николай должен непременно поступить в военную службу по окончании курса в университете».
С крепостным начальством у него, по-видимому, также складывались добрые отношения. Вероятно, он умел занять своими красочными рассказами коменданта Заборинского (а должность эта скорее располагала к мрачности, чем к веселью) и разжалобить его. По крайней мере, в июле того же 1848 года Заборинский, уже ранее устно ходатайствовавший перед Дубельтом о смягчении участи Шервуда, снова обратился к нему «из христианского человеколюбия и внимания к домашним обстоятельствам» своего пленника. «Арестант сей, — писал он, — пятый год безропотно несет крепостное заключение, с полной надеждой на монаршее милосердие и всепрощение. Видя шестерых детей, оставшихся без отцовских и материнских попечений и забот, он, как сердобольный отец, тем с большими слезами повергает себя пред священнейшим троном Его Величества, умоляя Монарха о помиловании. Я смею уверить себя, что Ваше Превосходительство не оставит просьбы моей без внимания и, по свойственному Вам человеколюбию, изволит оказать зависящее от Вас содействие к исходатайствованию сему арестанту Всемилостивейшего прощения милосердного Монарха, ради бедствующей великой семьи сего несчастного отца».
Шервуду было разрешено подать просьбу, но прощения он еще на этот раз не получил. В ноябре того же года Заборинский снова, и опять безрезультатно, ходатайствовал о его прощении. Уже в 1851 году новый комендант Шлиссельбурга, А. Троцкий, испросил Шервуду разрешение подать просьбу шефу жандармов, попутно сообщив, что арестанты Миллер и Олейничук «день ото дня приходят в совершенное расстройство рассудка».
Шервуду такая судьба не угрожала, хотя и у него «ревматизм в груди дошел до такой степени развития, что все медицинские пособия сделались недействительными». На этот раз Николай смягчил свою резолюцию, положенную на предыдущее прошение, — «он преопасный человек и нигде не будет жить спокойно», — и Шервуду было разрешено «провести остаток дней в кругу своего семейства».
12 апреля 1851 года Шервуд вышел из Шлиссельбургской крепости, просидев в ней с лишком семь лет, и был отправлен с жандармским офицером в свое смоленское имение, где ему надлежало безвыездно проживать под надзором полиции. Не уверенное в его дальнейших действиях и в том, что семь лет заключения достаточно охладили его кипучий нрав, начальство сделало ему строгое внушение, чтобы он «ни во что, под каким бы то предлогом ни было», не вмешивался.
Для Шервуда начались долгие годы вынужденного бездействия, жалкого существования, без друзей, без денег, без упоительного азарта интриг и авантюр, которым он привык себя взвинчивать в прошлом. Первоначально он еще, может быть, и лелеял какие-нибудь планы, но ни смиренный образ его жизни, ни полная показываемая им благонамеренность не могли смягчить правительство. В конце августа 1851 года, спустя несколько месяцев после прибытия его в Смоленск, жандармский генерал-майор Романус донес по начальству, что «подполковник Шервуд-Верный живет без выезда в имении детей его, в Смоленском уезде, в селе Бобыри, где занимается распоряжением по хозяйству и чтением дозволенных книг. С прибытия Шервуда-Верного в село Бобыри некоторые из соседей, знавшие его до отправления в Шлиссельбургскую крепость, посетили его, но как он не заплатил им за визит, то и те более уже у него не бывают. В образе мыслей Шервуда-Верного заметно раскаяние, а за освобождение его из крепости благодарность к Вашему Сиятельству: он жалуется, что у него водяная в груди, и, как говорят, то тяготят его долги, которые будто бы простираются до 170 тысяч рублей серебром».
Все было напрасно. Когда, вслед за этим отзывом своего надзирателя, Шервуд обратился к Дубельту с просьбой о полном помиловании, ходатайство это было отклонено, несмотря на якобы благожелательное отношение Дубельта к своему врагу. На прошении Шервуда мы находим пометку: «Граф об этом и докладывать не смеет: одно время даст ему на это право».
Между тем Шервуд освятил законным браком свою связь со Струтинской, тоже находившейся в весьма неприглядном положении. Несмотря на заключение мировой с ее бывшим мужем, она никак не могла добиться ввода во владение, и процессы ее все еще не приближались к долгожданному концу. Так как имение ее находилось в Оршанском уезде Могилевской губернии, то Шервуду по случаю брака было сделано послабление — он получил разрешение ездить по Смоленскому и Оршанскому уездам, да и то каждый раз с особого разрешения местного начальства и под неусыпным полицейским наблюдением.
Все просьбы его о помиловании и о денежном вспомоществовании натыкались на один и тот же ответ — «рано». Тщетно жандармские власти уверяли, что «в его поведении, жизни и образе мысли» ничего предосудительного не замечается. Наконец 1854 год принес Шервуду некоторую надежду. Началась Крымская война, и как будто появился повод напомнить о себе. Патриотические чувства Шервуда, как оказалось, не ослабли, и снова III Отделение получает от него письмо.
Перечислив все постигшие его невзгоды, Шервуд вместе с тем «не мог скрыть» от графа Орлова, к которому он непосредственно обращался, что «каждая капля пролитой русской крови отзывается в его сердце самым сильным страданием, самым сильным оскорблением. Чувствую в себе еще довольно и сил, и способностей в настоящее время быть полезным отечеству…»
«Ваше Сиятельство, — пишет далее Шервуд, — прошло уже одиннадцать лет, как я под тяжким наказанием за свои ошибки. Умоляю, Ваше Сиятельство, довершить Ваше благодеяние исходатайствованием мне перед Государем Императором помилования; что же касается до роду службы, которую я желал бы избрать, назначив меня состоять по кавалерии, позвольте, Ваше Сиятельство, мне обратиться тогда к Вам, я вполне уверен, что Ваше Сиятельство, по свойственным Вам благородным и возвышенным чувствам, не захотите лишить меня в настоящее время быть истинно полезным Отечеству, и прошу Ваше Сиятельство верить, в чем призываю и Бога в свидетели, что, несмотря на крайность, до которой я доведен, вовсе не личные выгоды заставили меня утруждать Ваше Сиятельство принять уверение моего глубокого к Вам уважения и совершенной преданности, с чем останусь навсегда
Вашего Сиятельства, милостивого государя, покорнейший слуга
Иван Шервуд-Верный
25 июля 1854 г.
Гор. Орша».
Но и эта попытка оказалась тщетной. Из переписки на полях прошения между Дубельтом и Орловым видно, что последний, не без влияния своего помощника, счел «неудобным входить в доклад о сем». И только когда отшумела канонада у севастопольских фортов и официальная Россия с горестью проводила в усыпальницу Петропавловского собора того, кто в течение тридцати лет держал ее за узду своей крепкой солдатской перчаткой, только тогда для Шервуда пришел час облегчения. Новое царствование началось освобождением декабристов — не могло оно забыть и их предателя. Кстати, и долголетний враг Шервуда — Дубельт оказался вынужденным расстаться со своим местом. После коронации Шервуду разрешено было жить, где он пожелает.
О том бедственном положении, в котором находились Шервуд и его жена, мы знаем от Маркса, встречавшегося с ними в Смоленске в 1857 году. Правда, Шервуд умел скрывать перед лицом провинциального общества свои материальные затруднения благодаря свойственной ему гордой повадке и высокомерному обращению. Скромно маскируя свои последние неудачи, он умел выставлять на передний план былые высокие заслуги. «…Положение и самого его, и его супруги было очень стесненное: финансы их были плохи, доходы с деревушки ничтожны, пенсия из капитула тоже, а спасительного в таких случаях кредита у них не заводилось; несмотря на то что вся смоленская знать и даже, что еще важнее, все капиталисты, и сам даже услужливейший и благодетельнейший Ицка Закошанский[194], относились к нему с подобострастным почетом. Что ни говорите, — а Верный!»
Можно думать, что при всей выдержке его характера стойкость, с которой Шервуд противостоял судьбе, была в значительной степени напускной. Обитание в номерах «Hotel de la Stolarikka» вряд ли отвечало его желаниям и удовлетворяло требованиям, которые он предъявлял к жизни. И весной 1858 года он оказался в Петербурге, снова пытаясь напомнить о себе.
На этот раз он решился обратиться к брату императора, великому князю Константину Николаевичу, может быть по аналогии с его предшественником, бывшим покровителем Шервуда, великим князем Михаилом Павловичем. Рассказав о своих невзгодах и мимоходом обеляя себя упоминаниями, что «в деле Баташева… нисколько не был виновен, но по интригам так хотели Государю Императору доложить», что «записку о нравственном состоянии России», столь много ему повредившую, он представил «по желанию блаженной памяти… великого князя Михаила Павловича», он тут же приводит обычное объяснение своих злоключений: «Ваше Императорское Высочество, с Вашим проницательным взглядом, легко поймете, что оно почти не могло быть со мной иначе, я человек бедный и без всякой протекции, слишком много оставалось родных у декабристов 1825 года, а интриги, Ваше Высочество, чего не делают».
Переходя далее к изложению в самых жалостливых тонах своего бедственного положения («не имею дневного пропитания»), Шервуд просил о назначении ему единовременного вспомоществования, «ибо в продолжении многих лет живет только тем, что может занять», но тут же со своим обычным достойным видом прибавлял, что «чувствует себя в силах еще быть истинно полезным царю и отечеству, и если Государю Императору неугодно будет по каким-либо причинам, чтобы я поступил в военном чине на службу здесь, в С.-Петербурге, то умоляю Ваше Императорское Высочество исходатайствовать мне, по чину моему, казачий полк в Грузии…». Как видим, некоторые идеи и планы оказались у Шервуда довольно устойчивыми.
Гоголевский министр, как известно, уверял капитана Копейкина, что в России, некоторым образом, никакая служба не остается без вознаграждения. «Спасителю отечества» было пожаловано… 200 рублей серебром. Конечно, не о такой сумме думал Шервуд, когда подавал свою просьбу. В службе ему было отказано, и немудрено, что через несколько месяцев жена его подала на высочайшее имя следующую, не лишенную литературной выразительности и пафоса (если не считать последней, крайне обыденной фразы) петицию:
«3 ноября 1858 года
Ваше Императорское Величество!
Государь надежа!
Преклони ухо Твое и услыши глас рабы Твоей в день скорби ее вопиющей к Тебе; нет человека, Государь, без греха, но тот, кто спас отечество от безначалия, тот, который предохранил Александра благословенного от посягательства на жизнь его (чему служит доказательством высочайший герб, ему выданный), тот, — говорю я, — раба Твоя, через гонение и месть семь лет страдал как преступник, в четырех стенах в заточении, тот не имеет теперь ни хлеба, ни службы 60-ти лет.
Этот человек есть муж мой Шервуд-Верный, а потому, повергаясь пред престолом Твоим, прошу устроить его: или пенсию, или службой по милосердию Вашему. Крайность до того велика, что на квартире, где жили, все вещи удержаны и вынуждены переехать в нумер.
Вашего Императорского Величества,
Всемилостивейший Государь,
верноподданная Фридерика,
жена Шервуда-Верного».
Ни пенсии, ни службы Шервуд не получил, но 200 рублей ему снова бросили. Очевидно, он был уязвлен отношением правительства и, демонстрируя обиду и гордость (он ведь любил дать почувствовать в себе англичанина), перестал обращаться с просьбами, предоставив это дело жене. Таким образом, она получила в мае 1859 года еще 200 рублей, а в августе — 150. Но, конечно, все эти подачки не могли надолго выручить Шервуда, и в ноябре того же года он оказывается в долговой яме за неуплату 365 рублей содержателю гостиницы Федору Семенову.
В связи с этим делом в круг нашего повествования попадает еще один друг и приятель Шервуда, как и прочие его друзья, не совсем обычного склада. Человек этот был носителем одной из самых громких фамилий русской аристократии, но вместе с тем одним из наиболее ярких образчиков ее вырождения. Князь Алексей Владимирович Долгорукий был человеком со многими странностями. Окончив Пажеский корпус, он отдал недолгую дань царской службе, сначала кавалерийским корнетом, а позднее чиновником особых поручений при московском генерал-губернаторе князе Голицыне. Затем он пустился в различные спекуляции, записался в купцы, завел в Петербургской губернии свекловичный завод и, конечно, прогорел. Все эти полубарские затеи значительно растрясли не только его карман, но и голову, и в момент нашего с ним знакомства он уже не производит впечатления нормального человека. К этому времени у него остаются два господствующих интереса: фамильная гордость и магнетизм. И тому и другому он предавался с увлечением, даже написал несколько книг по месмеризму и магнетизму (одна из них носит модное тогда заглавие «Органон») и книгу по истории своего рода: «Долгорукие, Долгоруковы и Долгорукие-Аргутинские», изданную в 1869 году его сыном. С Шервудом у него было давнишнее знакомство; по крайней мере, в только что названной книге он рассказывает, что его мать, получив, еще во время его отрочества, от императрицы Александры Федоровны 1000 рублей на лечение сына, «по дружбе с Шервудом-Верным, отдала ему». Какие узы связывали Шервуда с княгиней Долгорукой, мы не знаем, но с сыном ее он должен был особенно сойтись по причине общего интереса их к магнетизму. Шервуд, как и многие авантюристы, питал живое влечение к оккультным знаниям, мы бы не удивились, если бы узнали, что он был суеверен. Так, сестре своей он писал из Шлиссельбурга: «Не теряй из виду только самого действительного рычага животного магнетизма, и тогда все будет хорошо. Он не только на честность имеет благодетельное влияние, но и целые царства предохраняет от несчастий. Кстати о животном магнетизме; нельзя ли тебе с болезнью Костеньки обратиться к магнетизму, сколько вспомнить могу, в Москве был весьма ученый магнетизер, он же и аллопат, кажется Вейнтраубен (видишь: одна фамилия уже — лекарство), и почему не попробывать, каких чудес на свете нет». Нет ничего удивительного, что у Шервуда нашелся общий язык с Долгоруким, и к моменту, когда все его покинули, лишенный чьего бы то ни было покровительства, он все глубже уходил на дно, этот «магнетизер и отец двух морских кадет», как он подписывался, встал на его защиту и спасение.
25 ноября 1859 года А. Долгорукий обратился к главному начальнику III Отделения князю В. А. Долгорукову с следующей лаконической просьбой:
«Ваше Сиятельство, князь Василий Андреевич.
Шервуд-Верный в долговом отделении, между тем в обеспечение иска на его описана его земля, всего 25 душ, а прежде 450… позвольте, Ваше Сиятельство, мне сделать воззвание к честному моему Московскому дворянству и купечеству.
Покорнейший слуга князь Алексей Долгорукий.
P. S. Буду ждать ответа, или же царя проситься».
Увлеченному родовыми преданиями и считавшему себя чуть ли не старшим в роду магнетизеру хотелось тряхнуть фамильной стариной, выступить, как некогда выступал излюбленный им герой, «отличный от буйного стрельца», Яков Долгорукий на защиту Отечества, поруганного в лице его спасителя Шервуда. Но на письмо его ему было объявлено, что «на основании существующих законов желание его удовлетворено быть не может». Однако энергия его не оскудевала. 26 ноября он сочинил Фридерике Шервуд прошение на высочайшее имя, скрепив его своей подписью «магнетизера больниц учреждений императрицы Марии, князя Долгорукого-верноподданного», а вслед за тем приступил к подписке, начав ее с наследника престола (или с брата императора — не знаем, кого он считал «первым верноподданным»).
В обращении к нему он жалуется на недостаток верноподданнических чувств у знати. Он обращался ко многим из своих родственников, к тетке своей Потемкиной, но нигде не нашел отклика: «Все прощенные 14 числа — их родня и умышленники». Он хотел сделать воззвание к «своим» — московскому дворянству и купечеству, но Долгоруков 23-й, ложно именующий себя 1-м, то есть шеф жандармов, воспротивился этому. А между тем «человек имеет пороки, нет человека, не грешного богу и не виновного царю, но того, который, согласно герба его, спас Александра I и способствовал в избавлении Руси от сетей злоумышленников, того нам, верноподданным, грех оставить»[195].
На этом документе сделана пометка: «Уже освобожден» — очевидно, долги Шервуда были уже погашены. И далее из года в год идут прошения о помощи и подачки, становящиеся все скупее и скупее. В 62-м году в семействе Шервуда появляется новый проситель — его 18-летний сын Эммануил, ходатайствовавший об отправлении его на казенный счет в Гейдельбергский университет. Гейдельберг был заменен Дерптом, и деньги ассигнованы, но в том же году молодой Шервуд вернулся, «расстроившись в уме». Новым предлогом для получений пособий явились болезнь жены, вскоре умершей, и сына. В 65-м году Эммануил Шервуд вышел из больницы, но вряд ли совершенно исцелившись, ибо через два месяца подал шефу жандармов прошение о пособии в довольно непривычном для жандармского слуха стиле:
«…Ваше Сиятельство, теперь вторично обращаюсь к Вам с неугаданною очередью и прошу Вас, Ваше Сиятельство, выслушать мою просьбу, потому что мне больше нечего… я влюбился в одну молодую девицу, желаю на ней жениться непременно; прошу у Государя Императора на свадьбу 10 тысяч рублей серебром; если Вам, как я имею надежду, угодно будет поддержать милость для меня Государя Императора своей покровительной рукой, то я, не унижаясь настоящего положения, исполню, что Вам угодно… Одно прошу Вас: боже, боже, не покажись вам просьба моя невозможною…»
Просьба эта, само собою разумеется, удовлетворена не была, и молодой Шервуд был заключен в больницу, где, как кажется, и умер.
В таких хлопотах и невзгодах проходили последние годы Шервуда. К тому же в сентябре 1864 года он успел жениться в третий раз — на дочери коллежского советника Елисавете Александровне фон Парфенек и прижить с ней двоих детей. Положение его становилось все более беспросветным, и только один раз, в январе 66-го года, он попытался вспомнить былую отвагу и подал проект о принятии Александром II титула царя славян.
Нельзя отказать семидесятилетнему старику в тонкости нюха — он правильно почувствовал моду на славян, но не ему было выступать с подобными предложениями. Сотни молодых борзописцев провозглашали на страницах официозных и полуофициозных изданий торжество панславянизма, и лебединая песнь Шервуда замерла в глухих стенках шкафов III Отделения.
Еще несколько слезных прошений, еще несколько подачек с царского стола, и, наконец, 4 ноября 1867 года эта бурная и богатая жизнь кончилась.
Такова была судьба этого незаурядного человека, обладавшего многими данными, чтобы добиться положения в обществе и не запятнав своего имени. Но иностранец, чуждый тому прогрессивному движению, с которым он столкнулся в годы его молодости, и недостаточно живший на Западе, чтобы впитать пуританскую неколебимость того общественного слоя, из которого он вышел, выросший в окружении беспринципной иностранной богемы и не взявший у нее никаких положительных качеств, он продолжал традицию западного авантюризма в России по той линии, на какую его толкали его дурные инстинкты и нравы тогдашней бюрократической России. Честолюбивый, алчный и низменный по характеру, но достаточно образованный, обходительный и ловкий, он вполне мог найти себе применение в ту эпоху. И мы видим, как он оборачивает к нам то одну, то другую личину из запаса театральных масок своего времени. Мы видим беззастенчивого враля, описывающего свою победу над неопытной провинциалкой; ловкого и трезвого сыщика, провоцирующего восторженного юношу-революционера; ревизора, начальственно покрикивающего на старых и опытных служак и вместе с тем блистающего «легкостью в мыслях необыкновенной»; шпиона и доносчика из любви к делу и ненависти к лицам; штабного героя, украшающего грудь незаслуженными отличиями и показывающего спину при первом выстреле; афериста, наворачивающего миллионные спекуляции, и мелкого жулика, крадущегося к чужому письменному столу с подобранным ключом… Ряд отдельных типов того времени сочетались в нем как в фокусе. Но в этом сочетании Шервуду не хватало одного — чувства меры. Будь у него последнее, ему не пришлось бы кончить жизнь в ничтожестве. Николаевская Россия охотно давала пристанище людям, подобным Шервуду; она любила и холила их, награждала деньгами и почестями; но боялась их, когда они становились чрезмерно предприимчивыми…
Приложение
«Исповедь» Шервуда[196]
Я поступил в 1819 году, 1 сентября, в военную службу в 3-й Украинский уланский полк, рядовым из вольноопределяющихся. В то время полковым командиром был полковник Алексей Гревс, и полк квартировал в Херсонской губернии, в городе Миргороде. Чрез несколько месяцев я был произведен в унтер-офицеры и, так как получил хорошее воспитание и знал несколько языков, то был принят радушно в обществе офицеров; полковой командир и корпус офицеров меня очень любили. Гревс давал мне разные поручения и оставался всегда исполнением оных доволен; часто посылал меня в Крым, в Одессу, в Киевскую, Волынскую, Подольскую губернии, в Москву, что дало мне средство познакомиться со многими дворянами разных губерний; имея от природы довольно наблюдательный и верный взгляд на вещи, я никогда ничего не пропускал, стараясь всегда отыскать причину мнения кого бы то ни было, особенно когда говорили люди, знакомые с науками или духом времени, и люди обстоятельные.
В 1822 и 1823 годах меня поражали всегда толки о какой-то перемене в государстве; по моему в то время мнению, важная в России перемена могла только произойти от двух причин: перемена в Государе или в переходе народа из крепостного состояния в свободное, но толки были очень нелепые. В конце 1823 года случилось мне быть на большом званом обеде у генерала Высоцкого; имение его Златополь было на самой границе Киевской губернии и прилегало к городу Миргороду; на обеде между другими офицерами нашего полка был поручик Новиков и из Тульчина адъютант фельдмаршала Витгенштейна, князь Барятинский[197]; после обеда Новиков спросил пить; слуга в суетах, вероятно, забыл и не подал; Новиков рассердился и сказал: «Эти проклятые хамы всегда так делают»; князь Барятинский вступился и спросил, почему он назвал его хамом, разве он не такой же человек, как и он, и ссора дошла у них почти до дуэли; но в горячем разговоре князь сделал несколько выражений, которые не ускользнули от моего внимания и дали мне повод думать, что какие-то затеи есть. Выражения заключались в том, что недолго им тешиться над равными себе. Ссора кончилась ничем. После чего случилось мне быть в доме таможенного чиновника в Одессе, Плахова, где обыкновенно всегда бывали вечера и где я всегда останавливался, когда приезжал в Одессу; на одном вечере случилось несколько офицеров из 2-й армии и много иностранцев, не помню, кто именно эти офицеры и каких полков, но эти господа до такой степени вольно говорили о царе, о переменах, которые ожидает Россия, о каком-то будущем блаженстве, так что я уже почти никакого сомнения не имел, что что-нибудь да кроется, но что именно, трудно было определить[198].
Был у меня знакомый, которого я очень любил, — полковник князь Александр Сергеевич Голицын[199], я бывал у него в имении, Киевской губернии, селе Казацком, и встречался с ним часто у Давыдовых в Каменке, Александра и Василия Львовичей, где бывали Лихарев, Поджио и многие другие; после обеда все почти, за исключением Александра Давыдова, князя Голицына и меня, запирались в кабинете и сидели там по нескольку часов, так что Голицын меня спрашивал: «Кой черт они там делают?» — разумеется, я отвечал, что, вероятно, о чем-нибудь говорят, чтобы ни я, ни вы не слышали[200].
В таком положении все оставались, пока не ехал я проездом через город Вознесенск, где квартировал 1-й Бугский уланский полк, и командовал оным родной брат моего полкового командира, полковник Михаил Гревс; в то самое время он отдан был под суд, и полк у него по высочайшему повелению отнят и отдан Сераковскому. Он меня убедил не ехать, куда я располагал, а просил исполнить для него одно очень серьезное поручение, говоря мне, что ему ни послать, ни надеяться не на кого; поручение это оказалось действительного статского советника, графа Якова Булгари[201]. Полагая его найти в Харькове, я немедленно туда отправился, но не застал его там и должен был ехать в город Ахтырку, Харьковской же губернии, куда приехал я на рассвете, отыскал квартиру графа Булгари, состоящую из двух небольших комнат; первая вроде передней с одним окном, заваленным чемоданом и разными платьями, почти темной, а другая побольше, где спал Булгари, и гораздо светлее; дверь в другую комнату была открыта на вершок; меня встретил комиссионер графа Булгари, грек Иван Кириаков, которого я спросил, что делает граф. Он мне отвечал, что еще очень рано, он спит; я закурил трубку, сел на стул так, что мне видно было, что кто-то под окном на кровати с покрытым лицом спит; полагая, что это граф, я попросил Кириакова сварить мне стакан кофе, он вышел, и я спокойно ждал, пока проснется Булгари, и думал, что он спит один в комнате, но когда тот, на которого я смотрел, сдернул с лица одеяло, я увидал незнакомую мне физиономию, довольно похожую на львиную по широкому носу, довольно хорошо сложенного мужчину, и как только он проснулся, первым вопросом его было: а что, граф, спишь? Булгари отвечал, что нет и что он задумался о вчерашнем разговоре; и затем спросил: «Ну, что ж, по твоему мнению, было бы самое лучшее для России?»
Неизвестный ему отвечал: «Самое лучшее, конечно, конституция».
Граф захохотал громко, промолвив: «Конституция для медведей».
Неизвестный. «Нет, позвольте, граф, вам сказать, конституция, примененная к нашим потребностям, к нашим обычаям».
Граф. «Хотел бы я знать конституцию для русского народа», — и опять захохотал.
Неизвестный. «Конечно, не конституцию 14 сентября 1791 года во Франции, принятую Людовиком XVI. Я много об этом думал, а потому скажу вам, какая конституция была бы хороша».
И затем начал излагать какую-то конституцию. Я в это время перестал курить и, смотря ему в глаза, подумал: «Ты говоришь по-писаному; изложить на словах конституцию экспромтом дело несбыточное, какого бы объема ум человеческий ни был»[202]. Когда он продолжал говорить, граф ему сказал:
«Да ты с ума сошел, ты, верно, забыл, как у нас династия велика, ну куда их девать?»
У неизвестного глаза заблистали, он сел на кровать, засучил рукава и сказал:
«Как куда девать?.. перерезать».
Граф. «Ну вот уже и заврался, ты забыл, что их и за границею много; ну да полно об этом, это все вздор, давай лучше о другом чем-нибудь поговорим».
Неизвестный. «А я говорю — не вздор, а как вам нравится сочинение Биниона?»
Граф. «А! Который писал о конгрессах[203]; да, там много правды, но французы всегда много…» (в это время вошел Кириаков).
Я взял у него стакан с кофеем, закурил опять трубку и сказал: «Скажи, что я приехал». Он к ним вошел, граф закричал: «Шервуд, иди сюда». Я чрез двери отвечал: «Дайте стакан кофе допить». Они оба начали вставать. Допивши кофе, я вошел.
Граф Булгари. «Рекомендую тебе, это г-н Шервуд, а это г-н Вадковский».
Вадковский. «Шервуд? Вы верно иностранец?»
— Да, я англичанин.
Булгари. «Как, ты еще не произведен в офицеры?»
На что я ему отвечал: «Это делается не вдруг у нас в поселении, третий год собирают справки обо мне, и начали тогда, когда я прослужил положенный четырехлетний срок».
Вадковский. «Да, у нас черт знает что делается, вы служите в военном поселении, каково у вас там?»
Я отвечал: «Не совсем хорошо, мало дают времени хозяевам для полевых работ, от этого терпят большой недостаток, их замучили постройками».
Вадковский. «Значит, поселяне очень недовольны?»
Я. «Очень».
Вадковский. «Ну, каково офицерам?»
Я. «Конечно, офицерам лучше, но вообще все недовольны; вы знаете, что Аракчеев шутить не любит».
Вадковский. «Когда, думаете, вас произведут?»
Я. «Кто их знает, я рассчитывал, что на 42-м году буду еще прапорщиком».
Наконец разговор стал общим, но из рассказов обо мне графа Булгари Вадковский узнал, что я имею большие связи в поселениях; Вадковский, сколько мог я заметить, глаз с меня не спускал все время и, когда я вышел спросить трубку, сказал графу: «Как Шервуд мне нравится, должен быть умный человек». Странно, что ему Булгари отвечал: «Да, весьма умный, но опасного ума, есть минуты, когда я его боюсь (mais d’un esprit dangereux, il ya des moments on je le crains)». Все время разговор был по-французски. Не успели мы отобедать, как пришли звать графа Булгари к графине Анне Родионовне Чернышевой, — она была в Ахтырке; я остался один с Вадковским. Немного изменившись в лице, он подошел ко мне и говорит:
«Г-н Шервуд, я с вами друг, будьте мне другом».
На что я ему отвечал, что мне очень приятно иметь удовольствие с ним познакомиться.
«Нет, я хочу, чтобы вы мне были другом, и я вам вверю важную тайну».
Я отступил назад и сказал ему: «Что касается до тайн, я прошу вас не спешить мне вверять, я не люблю ничего тайного».
«Нет, — сказал Вадковский, ударив по окну рукой, — оно быть иначе не может, наше Общество без вас быть не должно».
Я в ту минуту понял, что существует Общество, и, конечно, вредное, тем более что история и времена Кромвеля, Вейсгаубтов и Робеспьера мне хорошо были известны[204]. Я на это ему сказал: «Я вас прошу мне ничего не говорить, потому что здесь, согласитесь, не время и не место, а даю вам честное слово, что приеду к вам, где вы стоите с полком». (Он был поручик Арзамасского конно-егерского полка)[205].
Он мне отвечал, что — в самом Курске. Вадковский задумался, входит Булгари, и разговор наш кончился. Я, переговорив все с графом, в 7 часов вечера отправился, и, признаюсь, не без размышления и внутреннего волнения. Я любил блаженной памяти покойного императора Александра I не по одной преданности, как к царю, но как к императору, который сделал много добра отцу моему. Около 12 часов прибыл я в Богодухов и не успел войти на станцию, как вслед за мной подъехала карета, вышла молодая дама, вошла в комнату и, увидев меня, сказала:
— Как я счастлива! Это вы, господин Шервуд? Какими судьбами здесь?
Я отвечал, что проездом из Ахтырки.
— Я бы себе век не простила, если бы осталась на той станции ночевать, меня уговаривали, я не согласилась; вы бы проехали мимо и не знали бы, что я там; ночуем здесь?
Я ей сказал, что ночевать мне нельзя, но провести часа четыре с ней сочту за самые приятные минуты моей жизни. Перед отъездом я ее спросил, что она так задумчива.
— По двум причинам, — отвечала она. — Первая, — мне жаль с вами расстаться; я бы вам сказала и другую, но вы должны мне дать клятву, что никому в мире не расскажете, что я вам об этом говорила.
Я ей дал честное слово.
— Вот почему: я еду теперь к брату, боюсь я за него, бог их знает, затеяли какой-то заговор против императора, а я его очень люблю, у нас никогда такого императора не было, добр, любезен, — и при этом задумалась.
Я хотел расспросить ее подробнее.
— Да, — сказала она, — бог их знает, что они затеяли — что-то я очень грустна (je suis bien friste).
После незначительного разговора с ней я расстался[206]. Прибыв в город Вознесенск и исполнив поручение Гревса, я немедленно отправился в Одессу, рассчитывая, что мне будет оттуда гораздо лучше донести Государю обо всем, что я знал. Я остановился в доме Плахова и стал соображать, как лучше поступить, чтобы письмо мое дошло до Императора. Я придумал писать Его Величеству письмо, в котором просил прислать и взять меня под каким бы то ни было предлогом по делу, касающемуся собственно до Государя Императора, и подписался 3-го Украинского уланского полка унтер-офицер Шервуд, потом вложил письмо в другое, к лейб-медику Якову Васильевичу Виллие, прося его вручить приложенное письмо Государю Императору, уверив его, что оно ничего в себе не содержит предосудительного и послал его анонимом. Лейб-медик Виллие отдал письмо блаженной памяти Александру I.
Я был в г. Вознесенске, Херсонской губернии, играл на бильярде, когда вошел в трактир адъютант 3-го Украинского уланского полка, поручик Разсоха.
— Ради бога, — сказал он, — скорее отправляйтесь со мною в полк к корпусному командиру, приехал за вами из Петербурга фельдъегерь; фельдъегеря удержали в Елисаветграде, а за вами прислано в полк, а вас там нет; полковой командир в отчаянии, все перепуганы.
— А вот сейчас, дайте доиграть партию, — ответил я.
— Боже мой, что вы делаете, едемте скорее.
Я партию кончил и, простившись с Михайлом Гревсом, отправился 4-го числа июля 1825 года в полк. Мой добрый полковой командир меня встретил словами:
— Шервуд, что ты наделал?
— Полковник, — отвечал я, — сколько я за собой знаю, то, кажется, ничего худого.
— Прямой англичанин, проклятое равнодушие, ты, верно, что-нибудь болтал, а может, и того хуже?
— Уверяю вас, что ничего не знаю и чувствую себя совершенно правым, еду спокойно.
— Дай бог, — отвечал этот благородный человек.
С дивизионным командиром, генералом Трощинским, то же самое, и его уверил, что за собой ничего не чувствую; наконец, прибыл в корпусный штаб. Корпусный командир, граф Витт, мне объявил, что за мной приехал фельдъегерь и что, вероятно, я замешан в каком-нибудь деле. Я графа тоже уверил, что никакого дела не знаю, и 7-го числа июля из Елисаветграда отправился с фельдъегерского корпуса поручиком Ланге. Меня привезли прямо в Грузино 12 июля, где я ночевал на буере, на реке Волхове (должен сознаться, что мне очень неприятно было, что меня привезли к графу Аракчееву, помимо которого я писал к Государю Императору, и боялся, что не увижу Его Величества). На другой день, 13-го числа, я был позван к графу Алексею Андреевичу Аракчееву, он меня встретил на крыльце своего дома, и, когда я его приветствовал обычным «здравия желаю, Ваше Сиятельство», граф, осмотрев меня с ног до головы, подозвал к себе, взял меня под левую руку и повел через залу, прямо в противоположную сторону, в сад, и пошел со мной по средней дороге, приказав мальчику отойти дальше. Я внутренно приготовился к всякого рода вопросам и дал себе слово ничего не говорить, а употребить все силы видеться с Государем Императором.
Граф. Скажи ты мне, братец, кто ты такой?
Я. Унтер-офицер 3-го Украинского уланского полка, Ваше Сиятельство.
Граф (с нетерпением). Я это, братец, знаю лучше тебя, скажи мне, какой ты нации?
Я. Англичанин, Ваше Сиятельство.
Граф. Есть у тебя отец и мать и где они находятся?
Я. Есть, Ваше Сиятельство, живут в Москве.
Граф. Есть у тебя братья и сестры?
Я. Три брата и одна сестра.
Граф. Чем они занимаются?
Я. Механикой, Ваше Сиятельство.
Граф. Где ты родился?
Я. В Кенте, близ Лондона.
Граф. Каких лет ты приехал в Россию?
Я. Двух лет, Ваше Сиятельство, вместе с родителями, в 1800 году отец мой был выписан в Россию блаженной памяти покойным императором Павлом Петровичем как механик, и первый основал суконные фабрики в России с машинами.
Граф. Знаешь ты языки, кроме русского?
Я. Знаю французский, немецкий и английский.
Граф. О! ты, братец, ученее меня, ну, да ты англичанин, а у нас в русской службе делается так: когда унтер-офицер хочет писать Государю Императору, он должен прийти и передать письмо своему взводному командиру, взводный командир передал бы эскадронному, эскадронный — полковому, тот — бригадному, бригадный — дивизионному, дивизионный — корпусному, корпусный — мне, а я бы и представил Государю Императору.
Я. Ваше Сиятельство, смею ли я вам сделать вопрос?
Граф. Говори, братец.
Я. Если я не хотел, чтобы ни взводный командир, ни полковой, ни корпусный, ни даже Ваше Сиятельство об этом не знали, как бы вы, Ваше Сиятельство, приказали мне в таком случае поступить?
Граф остановился, долго смотрел на меня, выпустив мне руку, и сказал:
— Ну, братец, в таком случае ты очень умно поступил, но ты, братец, знаешь, что я все-таки твой начальник, ты, верно, знаешь, как я предан Государю, а потому скажи мне, в чем дело, и что хочешь Государю сообщить.
Я. Я очень хорошо знаю, Ваше Сиятельство, что вы мой начальник, уверен в преданности вашей Государю Императору, но смею вас уверить, как честный человек, что это дело не касается ни до Вашего Сиятельства, ни до военного поселения, решительно ни до чего, кроме собственно Государя Императора, а потому, Ваше Сиятельство, за что хотите лишить меня счастия лично объяснить дело Государю Императору?
Граф. Ну, в таком случае я тебя и спрашивать не буду, поезжай себе с богом[207].
Граф меня так этим поразил, что я ему сказал:
— Ваше Сиятельство! Почему мне вам и не сказать: дело в заговоре против Императора.
И после короткого объяснения я 13-го числа вечером с тем же фельдъегерем отправился и 14-го прибыл в Петербург, на Литейную, к генерал-лейтенанту Клейнмихелю, которому был представлен[208]. Мне отвели в его доме комнату вверху. Немного погодя вбежал маленький мальчик, Огарев (что ныне генерал-адъютант)[209]: «Вас маменька и тетенька приказали спросить, не нужно ли вам книги, может быть, будет вам скучно тут одним?» Я благодарил и просил, чтобы прислали. После трех дней гостеприимства сестер графа Клейнмихеля я отправился 17-го числа в пять часов пополудни вместе с графом Клейнмихелем во дворец на Каменный остров к Государю Императору; мы ждали в комнате пред самым кабинетом Его Величества, пока Государь откушает; не более как через десять минут Император, проходя мимо нас, взглянул на меня, позвал за собою в кабинет и запер двери; Клейнмихель остался в первой комнате. Первое, что Государь меня спросил, того ли Шервуда я сын, которого Государь Император знает и который был на Александровской фабрике. Я отвечал — того самого.
Государь. Ты мне писал; что ты хочешь мне сказать?
— Ваше Величество! Полагаю, что против спокойствия России и Вашего Величества существует заговор.
Государь. Почему ты это полагаешь?
Я объяснил Государю Императору подробно все, что мною выше изложено. Государь, немного подумавши, сказал:
— Да, твои предположения могут быть справедливы. Скажи ты мне, кто эта дама, с которой ты встретился на дороге?
Я отвечал Государю:
— Я всегда шел прямой дорогой, исполнил долг присяги и готов жизнью жертвовать, чтобы открыть зло, в чем надеюсь легко успеть, но умоляю Ваше Величество не спрашивать меня имя этой дамы, я дал ей клятву не говорить и никогда, Государь, не скажу.
Государь на меня смотрел довольно долго, не сказав ни слова, потом говорит:
— Что же эти… хотят? Разве им так худо?
Я отвечал Государю, что от жиру собаки бесятся.
Государь меня спросил:
— Как ты полагаешь, велик этот заговор?
Я отвечал:
— Ваше Величество, по духу и разговорам офицеров вообще, а в особенности 2-й армии, полагаю, что заговор должен быть распространен довольно сильно.
Государь. Как ты полагаешь заговор открыть?
Я отвечал:
— Ваше Величество, если позволите мне, я изложу на бумаге, как думаю приступить к этому делу, и представлю Вашему Величеству, тем более что уже имею начало и знаю, что Вадковский решительно принадлежит к заговору.
Государь меня спросил, как я полагаю, есть ли тут в заговоре кто-нибудь из лиц поважнее.
Я отвечал, что я более ничего не знаю, кроме того, что уже имел счастие передать Государю, но по собственному моему взгляду некоторые учреждения и постановления в государстве мне очень не нравятся, и не может быть, чтобы государственные люди делали без намерения столь грубые ошибки.
Государь меня спросил очень скоро (и как будто удивленный тем, что я сказал): что же именно такое?
Я отвечал:
— В военном поселении людям дают в руки ружья, а есть не дают. Что им, Ваше Величество, остается делать?
Государь. Я тебя не понимаю: как — есть не дают?
Я объяснил Государю, что коренные жители или хозяева обязаны кормить свое семейство, постояльцев, действующих резервистов и кантонистов, и что они так заняты постройками и перевозкой леса из черкасских лесов, что не имеют трех дней в лето на свои полевые работы, и что были примеры, что люди умирали с голоду. Конечно, ни Вашему Величеству, ни графу Алексею Андреевичу об этом ничего не известно, но при нынешних обстоятельствах может быть такое положение военных поселян очень опасным[210].
Государь меня слушал с большим вниманием. Я продолжал говорить, что министр финансов издал гильдейское постановление, которым запрещается мещанам и крестьянам из уезда в уезд возить продавать хлеб и всякого рода произведения свои, чем сковали внутреннюю в государстве торговлю. Таких ошибок, Ваше Величество, государственные люди без цели делать не могли.
Государь Император положил руку свою правую на голову и, несколько подумавши, сказал мне: «Как ты думаешь, для открытия заговора не лучше ли будет, если я прикажу произвести тебя в офицеры?»
Я отвечал Государю, что ни в каком случае этого теперь делать не надо, может мне дело испортить, а когда Богу угодно будет мне успеть открыть зло, тогда Его Величество может меня произвесть во что ему будет угодно.
На это Государь, как ни был сначала серьезен во все время разговора, тут улыбнулся и сказал: «Я надеюсь тебя видеть…[211]»
Государь протянул мне руку, которую я поцеловал, сказав:
— Ваше Императорское Величество! Я положительно еще ничего не знаю, но, Государь, если оно так, как предполагаю, надо взять меры, и скорые; если же оно не так, я, Государь, исполнил только долг присяги и честного человека; прикажите, Ваше Величество, все меры употребить к открытию заговора, а я со своей стороны надеюсь в этом успеть.
Государь Император меня спросил на чистом английском наречии, говорю ли я по-английски. На что я отвечал Его Величеству, что говорю.
— Ну, теперь, — сказал Государь, — Шервуд, поезжай, напиши мне скорее, как думаешь приступить к делу, и жди от меня приказания.
Я поклонился Государю, поцеловал Его Величеству руку, которую Государю угодно было мне подать, и вышел из кабинета. Генерал-лейтенант Клейнмихель отвез меня обратно к себе в дом на Литейную.
Между тем, когда письмо мое было уже отослано из Одессы к лейб-медику Виллие, со мной произошел случай, о котором я должен упомянуть и которым воспользовался впоследствии. Революция в Греции началась, не знаю почему, но, видно, правительству нашему нужно было рассмотреть бумаги графа Якова Булгари. В самое это время поручик Ее Величества кирасирского полка Сивинис, назвавшись флигель-адъютантом, приехал в Москву и от имени Императора взял деньги и вещи обманом у богатого грека Зосима. Сивиниса в Гатчине взяли, и между его бумагами нашли промеморию графа Булгари, в которой он напоминал Сивинису, чтобы по прибытии в Одессу не забыл какие-то самые пустые комиссии; эта записка дала повод правительству отправить бывшего посланником в Турции Дашкова к графу Булгари, для какой цели — не знаю; Дашков, прибыв в Харьков, освидетельствовал бумаги графа Булгари, спросил, где его комиссионер грек Кириаков, вероятно предполагая от него узнать, что было ему нужно. В самое это время грек Кириаков находился в Одессе, где и я был; Кириаков просил меня довезти его до города Миргорода, Херсонской губернии, куда я отправился. Я взял его с собою и заезжал в г. Вознесенск; не доезжая до Миргорода не более полуверсты, уже вечером нашли огромные тучи, гром сильно гремел, и ударил такой проливной дождь, что на нас нитки сухой не осталось; эту полуверсту мы ехали в совершенной темноте почти два часа. Приехав в Миргород, я остановился с ним в гостинице и не успел переодеться и лечь, как слышу — кто-то с колокольчиком подъехал; я говорю Кириакову: «Не одни мы, несчастные, ехали в эту ужасную погоду, кого еще Бог принес?» Слышу, отворяются двери и кто-то громко спрашивает, не здесь ли гостиница; хозяин отвечает: «Точно так».
— Не остановился ли кто за полчаса здесь?
Хозяин отвечал, что сейчас приехал сюда унтер-офицер Шервуд.
— А, хорошо, его-то мне и надо.
Я подумал, верно, какой-нибудь знакомый меня спрашивает, но вместо знакомого входит высокий мужчина, и, когда сбросил шинель, я увидел, что это фельдъегерь. Я подумал, что письмо мое не могло еще дойти до своего назначения, — что за странность такая? Обратясь ко мне, фельдъегерь спросил:
— Вы Шервуд?
— Точно так.
— Боже мой, какая погода, я за вами ехал следом из Одессы, приехал в Вознесенск, а вы только что выехали. Ну, господа, скоро же вы ездите.
Я предложил ему чаю, просил сесть, а сам лежу и ожидаю, что дальше будет; наконец, он обратился к Кириакову и спросил:
— А вы кто такой?
Тот отвечал:
— Комиссионер графа Булгари, Кириаков.
— Ну, собирайтесь со мной, господин Кириаков, и сейчас, я за вами приехал.
Грек побледнел, спросил, куда надо ехать.
— Узнаете после.
Я спросил фельдъегеря, а ко мне имеет ли он какое дело. Он отвечал: никакого, но потому только меня спрашивал, что Кириаков ехал со мной и по моей подорожной (фельдъегерь был по фамилии Иностранцев).
Кириаков уехал чрез полчаса. На другой день утром в городе поднялась тревога: как! из города военного поселения увезен был кто-то, и никто ничего не знает. Дивизионный командир, генерал-майор Трощинский, и мой полковой командир, которым я объяснил, как все случилось, были на меня в претензии, почему я езжу с такими людьми, и, наконец, заключили, что не сносить мне своей головы. Когда приехал за мной фельдъегерь, генерал Трощинский не забыл мне напомнить этот случай и сказал:
— Я вам говорил, чтобы вы удалились от знакомства с подобными людьми.
При составлении мною предположения моего к открытию заговора я, между прочим, просил, чтобы послали предписание корпусному командиру следующего содержания, что я был взят по подозрению в похищении вещей поручиком Сивинисом в Москве у грека Зосима, но оказался к этому делу непричастным, притом Государь император, зная лично отца моего, по рассмотренным обстоятельствам уволил меня на год в отпуск с награждением 1000 рублей ассигнациями. Вместе с тем я просил непременно в известный час 20 сентября, чтобы приехал на станцию в город Карачев, Орловской губернии, фельдъегерь, которому бы я мог вручить секретное донесение об успехах, сделанных мною в открытии заговора[212].
Написав свое предположение, которое было вручено государю императору, 26 июля выехал я из Петербурга и прибыл в Грузино 27-го числа. Мне уже начинали делать неудовольствия; впоследствии благородный человек, граф Дибич, сам мне рассказывал, что когда он узнал о моем донесении, ничему не верил, и как ни уверял государя, что все это выдумка и все кончится вздором, Государь Император сказал: ты ошибаешься, Шервуд говорит правду, я лучше вас людей знаю; а другой меня просто разругал, но я не остался у него в долгу[213]. Граф Аракчеев принял меня как нельзя лучше, всякий день я завтракал с Настасьей Федоровной (это в Грузине была большая честь), а обедал с графом Аракчеевым, который всегда сажал меня подле себя, сам меня угощал, наливал мне вино и просил говорить с Шумским (тогда флигель-адъютантом) по-английски[214]. Всякий день мы обедали в разных местах, и всегда было несколько человек из окружающих графа Аракчеева за обедом, но вместе с тем со мной обедал человек замечательного ума, один из самых ревностных революционеров, принадлежавший к заговору, Батеньков, сколько помню, инженер-полковник[215]. Раз шесть он меня спрашивал, за что меня привезли, и я должен был ему объяснить историю Сивиниса и Зосима с такими подробностями и обиженным тоном, что решительно выучил наизусть предлинный рассказ. Граф Аракчеев дал мне за чичероне какого-то офицера Резенталя, который занимался у него капеллой, приказал мне осмотреть все Грузино, окрестные деревни, что я и сделал, и, наконец, 3-го августа получено было Высочайшее разрешение мне ехать и приступить к открытию заговора.
Граф, отправляя меня, призвал к себе и, вручая мне билет, который у меня хранится, за подписью графа Аракчеева и начальника штаба Клейнмихеля, в котором сказано, что я увольняюсь в отпуск на год с дозволением иметь пребывание в России там, где пожелаю, и по миновании срока обязан явиться в полк, объявил мне Высочайшую волю, сказав:
— Ну, смотри, Шервуд, не ударь лицом в грязь.
Я уверил графа, что если это мне жизни будет стоить, но цели своей достигну. Граф спросил, как мне нравится Грузино. Я отвечал, и, конечно, без лести, что в моих глазах Грузино есть эмблема вкуса, прочности и порядка.
— Это так, — сказал мне Аракчеев, — но ты мне скажи, что тебе всего более нравится в Грузине?
Я отвечал, что остров Мелисино.
— Да он, кажется, не так хорошо отделан.
На это я сказал графу:
— Может быть, Ваше Сиятельство, но благодарность выше всех украшений[216].
Граф был растроган моим ответом.
— Ну, господь с тобой, — прибавил он, — поезжай.
Все время нашего разговора начальник штаба Клейнмихель стоял возле графа Аракчеева, и… конечно, я очень хорошо понимал, что граф, обращаясь со мною так ласково все время, меня изучал.
Я отправился прямо по Белорусскому тракту в штаб своего полка, город Миргород, но уже дорогой наблюдал все, что мог, сходился с офицерами в разных местах, по их разговорам ясно видел, что заговор должен быть повсеместный. По прибытии в полк меня с необыкновенной радостью встретили, забросали вопросами об Аракчееве, Петербурге, о моем деле; само собою разумеется, история у меня была одна: похищение денег и вещей поручиком Сивинисом у грека Зосима, а между тем, желая распустить слух о причине, по которой меня возили в Петербург, и зная, что Вадковский хорошо знаком с графом Булгари, я написал Булгари письмо, наполненное негодованием, в котором упрекал его, что его знакомство со мной доставило мне только случай быть в подозрении по воровству; цель моя была достигнута — все это передано было Вадковскому. Я отправился в Одессу, где был у меня хороший знакомый, поэт Александр Шишков, которого я сильно подозревал, но сколько ни старался что-нибудь выведать, не мог[217]. Я отправился тогда в Курск к Вадковскому, который мне обрадовался и сказал, что он знает, какую подлость сделали со мной. И когда я ему сказал, что по данному слову я к нему приехал, он мне все рассказал о существующих Обществах, Северном, Среднем и Южном, называя многих членов; на это я улыбнулся и сказал ему, что давно принадлежу к Обществу, а как я поступил в оное, я ему скажу после[218].
— Ну, каково идут наши дела? — спросил я.
— Хорошо, — отвечал он, — и, кажется, уже пора будет приводить в исполнение, только надо будет собрать сведения от Северного и Южного обществ.
— Да скажи мне, подготовили ли солдат?
Вадковский отвечал:
— Этих дураков недолго готовить, кажется, многие в том подвинулись вперед.
— Так чего лучше, я теперь совершенно свободен и, конечно, за обиду, мне сделанную, и по любви к человечеству употреблю весь год на разъезды от одного Общества к другому.
Вадковский от души меня благодарил; я ему написал записку, почему я имею большую надежду на возмущение в военном поселении, и, разумеется, старался описать положение поселения, основанное на истинных фактах, к несчастью, которых тогда было довольно. Потом написал письма, не касающиеся, разумеется, до заговора, так что только тот мог понять, к кому оные писаны и к чему содержание оных клонится, а Вадковский полагал, что идет об успехах Общества, к разным генералам, полковым командирам, и вместе с тем написал в Тульчин, к майору Пузино, и спрашивал его, где стоит Пестель с полком. Пузино впоследствии по моему письму привозили в комиссию, но он, разумеется, ничего не знал и сейчас же был освобожден[219]. Вадковский настоял узнать от меня, кем я принят в Общество. Узнав от него же, Вадковского, что сын графа Булгари принадлежит к Обществу, сказал ему, что я узнал от Николая Булгари[220]. Я пробыл у Вадковского несколько дней, отправился под предлогом своей надобности в Орловскую губернию, Карачевский уезд, в имение Гревса, где написал подробно графу Аракчееву все, что узнал, что существуют три Общества: Северное, Среднее и Южное, наименовал многих членов и просил прислать ко мне в Харьков кого-нибудь для решительных мер к открытию заговора. Я приехал в город Карачев в назначенное мною число и час, несколько минут раньше в ожидании по назначению моему фельдъегеря; но прошло несколько часов, фельдъегерь не явился; смотритель спросил меня, не прикажу ли я лошадей закладывать; я сказал, что у меня сильно голова болит и ехать далее не могу, спросил уксусу, перевязал голову, три дня мнимо страдал, потом начал понемногу выздоравливать, и наконец через несколько дней после назначенного срока приехал фельдъегерь; я выслал под предлогом какой-то покупки смотрителя вон и расспросил фельдъегеря, почему он не приехал раньше десятью днями, на что он мне отвечал, что зарезали в Грузине Настасью Федоровну[221], а потому Аракчеев был как помешанный; между тем весь город стал меня подозревать; городничий города Карачева наконец явился для спроса меня, кто я такой и почему живу так долго на станции. Я ему отвечал, что я унтер-офицер, остался на станции, потому что нездоров, что нахожусь в годовом отпуску, и показал ему билет за подписью графа Аракчеева и начальника штаба Клейнмихеля; городничий просто испугался, извинился, что меня обеспокоил, и ушел; но эти 10 дней разницы имели большие последствия: никогда бы возмущение гвардии 14 декабря на Исаакиевской площади не случилось; затеявшие бунт были бы заблаговременно арестованы. Не знаю, чему приписать, что такой государственный человек, как граф Аракчеев, которому столько оказано благодеяния императором Александром I и которому он был так предан, пренебрег опасностью, в которой находилась жизнь Государя и спокойствие государства, для пьяной, толстой, рябой, необразованной, дурного поведения и злой женщины; есть над чем задуматься[222].
Отправив письмо к графу Аракчееву, поехал я в Харьков увидеться с графом Яковом Булгари, а более с его сыном Николаем, который принадлежал Обществу, как мне было уже от Вадковского известно; но он неизвестно куда уехал; мне сказали, что скоро возвратится. Между тем я ожидал по письму к графу Аракчееву присылки кого-нибудь для окончательного открытия заговора, и 12-го числа ноября прибыл в Харьков лейб-гвардии казачьего полка полковник Николаев под званием есаула с несколькими казаками, под предлогом покупки кож[223], и мы с ним увиделись в назначенной гостинице. Полковник Николаев привез мне ордер от начальника главного штаба, генерал-адъютанта Дибича, следующего содержания:
3-го Украинского полка унтер-офицеру Шервуду.
По письму Вашему от 20 сентября к господину генералу от артиллерии графу Аракчееву отправляется по Высочайшему повелению в г. Харьков лейб-гвардии казачьего полка полковник Николаев с полною высочайшею доверенностью действовать по известному Вам делу.
Вы ему укажете способы схватить графа Николая Булгари или другого, есть ли бы в сем случилась какая-либо перемена, с списком, о коем Вы говорите в упомянутом письме Вашем; равно можете объясниться с полною откровенностью и посоветоваться с ним о мерах для совершенного открытия найденного Вами. Во всяком случае нужно будет присутствие Ваше в Таганроге, от обстоятельств может зависеть, что к сему полезно будет для дальнейших открытий, что таковая мера должна казаться противною воле Вашей; Вы о сем также не оставьте изложить мнение Ваше, основанное на точном существе дела, полковнику Николаеву, которому известно все содержание сего ордера, данного Вам по Высочайшему повелению, и коего имеете исполнить в точности.
Начальник главного штаба генерал-адъютант Дибич. Таганрог. Ноября 10 дня 1825 года.
Дожидаясь приезда Николая Булгари[224], мы оставались несколько дней в Харькове, как неожиданно получили печальное известие о кончине 19 ноября Императора. Не стану описывать, какое горестное впечатление произвело на меня это событие; я не знал, что и думать; тысяча разных предположений переходили у меня в голове, время тратить было нечего, событием этим могли воспользоваться заговорщики. Я немедленно отправился в Курск с полковником Николаевым, просил его остановиться в городе, а сам отправился к Вадковскому; он меня встретил с известием, что Государь умер, на что я ему сказал, что я знаю, что поэтому-то спешил к нему приехать и что непременно надо этим воспользоваться; я ему предложил отправить меня в Тульчин к Пестелю, чтобы согласиться насчет наших действий. Мы условились, и он сел писать письмо. На другой день оно было готово, он мне дал наставление о всех предосторожностях, которые я должен был взять; письмо было запечатано в нескольких конвертах, надпись сделана и надписана, чтобы в случае моей смерти дорогой вручить письмо это родителю моему, проживавшему тогда в Москве; мы с ним расстались. В ту самую ночь полковником Николаевым Вадковский был взят и отправлен с казаками в Шлиссельбургскую крепость, а бумаги, хранившиеся у него в скрипичном ящике, были все забраны. Я приехал в Харьков с тем, чтобы дождаться Николаева, и сейчас отправился к графу Булгари в дом. В это самое время, надо полагать, Вадковский кому-то рассказал обо мне и о мнимых связях моих с Николаем Булгари, а тот, проезжая через Харьков накануне моего приезда, вероятно, рассказал Николаю Булгари слышанное обо мне от Вадковского; Булгари тотчас понял, что тут кроется что-то, и у него, очевидно, родилось подозрение. Будучи уверен, что со мною никогда о существовании Общества не говорил, Николай Булгари принял меня довольно странно, приказал мне варить кофе, разговаривали мы о незначительных вещах, между тем Булгари выходил несколько раз, я видел, что он был в каком-то странном расположении. Я полулежал на диване, а он ходил по комнате. Когда мне слуга принес кофе, я заметил, что и слуга в лице переменился, и, когда я у него с подноса брал стакан, он мне тихонько потряс головой и показал глазами на стакан, чтобы я кофе не пил. Я его понял и тотчас сказал, что я кофе не хочу, поставил стакан назад и сказал слуге: подай мне лучше рюмку водки и кусочек хлеба; человек вышел и тотчас пришел: я выпил рюмку водки. В продолжение всей этой сцены Булгари молча ходил по комнате, говорил мне, что надеется, что я буду у него обедать того дня; я отказался под предлогом, что я очень спешу ехать, и отправился в гостиницу, где остановился в ожидании полковника Николаева; в тот же день я послал тихонько за слугой графа Булгари, и он рассказал мне, что Булгари приказал ему молчать, когда кофе варился, насыпал туда какого-то белого порошку, как он выразился, и рассказал между прочим, что какой-то заезжал к нему военный офицер из Курска накануне моего приезда, сидели почти до полуночи, все разговаривали, и хотя они говорили по-французски, но часто поминали имена Вадковского и мое. Мне нетрудно было понять, в чем тут дело[225].
Слуга не знал, как звали этого господина, он его никогда прежде не видел, и сколько я ни старался узнать, кто он такой, никак не мог; на станции я также справлялся, не проезжал ли кто накануне из военных офицеров, но по книге почтовой никто не проезжал. Полковник Николаев не замедлил приехать и рассказал мне все подробности, как он взял Вадковского и отправил его в крепость, а я о том, как Булгари меня едва на тот свет не отправил. Располагая взять Булгари в ту ночь, я послал узнать, дома ли он, и написал ему записку, что непредвиденные обстоятельства меня удержали в Харькове и что я желал бы его видеть, то будет ли он дома. Это было ровно в половине шестого часа, но посланный воротился назад и сказал, что Булгари тотчас после обеда взял почтовых лошадей и выехал из Харькова неизвестно куда; отца его Якова Булгари в то время в Харькове не было, и я с Николаевым, так как нельзя было терять времени, поспешили ехать в Таганрог, дабы окончательно распорядиться арестом всех, о которых Вадковский упоминал в письме своем.
Донос Шервуда (1843 г.)[226]
Ваше Императорское Высочество![227]
Повергая к священным стопам Вашего Высочества записки о моральном состоянии России в настоящее время для вручения оных в собственные руки Государю Императору, не знаю, как оные будут Его Величеством приняты, но осмеливаюсь просить Ваше Высочество доложить Государю Императору, что ни месть, ни злоба, одним словом, никакое чувство не заставило меня оные написать кроме непоколебимой преданности к Царю и России как верноподданного, и которые умоляю Ваше Высочество доложить Государю Императору заключают в себе к несчастью такую истину, что если бы хотел уверить Государя Императора в противном, без всякого сомнения есть враг Царю и Отечеству.
По сношениям моим с Москвою писал я к весьма опытному юриспруденту, на щет злоупотреблений по Московскому коммерческому суду, коллежскому советнику Никифорову, который прислал проект изменения некоторых существующих законов, и которые при сем вместе с письмом ко мне и его аттестатом имею счастье приложить; по моему мнению, необходимо исходатайствовать Высочайшее повеление, обнародовав оное, что по дошедшим до Государя Императора слухам о злоупотреблениях по коммерческому суду назначается особая комиссия на обревизование дел в оном, назначив туда делопроизводителем Никифорова, который ныне находится в отставке в Москве и впоследствии прокурором по его проэкту, буде Государю угодно будет принять проэкт Никифорова в уважение.
В Москве необходимо взять меры к открытию злонамеренных, не по одним сведениям в проезд Радзивилла чрез Москву, а за достоверное знаю, что все слухи самые нелепые про Государя Императора большею частью распускаются в Москве, и сколько можно было проникнуть по всем соображениям не без цели, и если Государю будет угодно, чтобы я приступил к открытию существующего в Москве зла, то Ваше Высочество легко может исходатайствовать, как милость, определение меня по кавалерии. Я смело могу уверить Ваше Высочество, что при умеренном содержании, не мешая мне в моих действиях, я в короткое время все открою Государю Императору, так что никто и знать не будет. Враги Царя всегда были моими врагами, ни нужда, ни унижение, ни самая смерть чувств моих не переменит и Его Величество ясно усмотреть может, что вовсе не личные выгоды заставляют меня принять службу, но не менее того Ваше Императорское Высочество не хочу, чтобы я был отдан в руки моим врагам, тогда когда я этого ни в каком случае не заслужил, и Бог видит, что я против Царя и помышлением не виноват, впрочем сбросив с себя иго, что меня столько лет тяготило, исполнив долг честного человека, предоставляю все на благоусмотрение и волю Государя Императора.
Вашего Императорского Высочества С верноподданническими чувствами имею счастье быть преданнейший Иван Шервуд-Верный.
Отставной подполковник.
20-го Августа 1843 г. Смоленской губернии и уезда.
Село Бобыри.
В Смоленской губернии Poestels letzer Naush уже несколько лет играют и ноты в редком доме не находятся, надо полагать, что сочинено в Смоленске.
Судопроизводство вообще как в столицах, так равно в губерниях и уездах, сделалось просто ремеслом грабить; тот и выигрывает свое дело, который в состоянии заплатить то, что у него, нагло без всякого стыда требуют; тысячи бросают дела; не потому чтобы дело его было не совершенно право, но потому только, что не в силах заплатить судьям, без чего к несчастью, ни одно почти дело не делается; главная причина общего не ропота, а отчаяния; очень жаль, что гг. министры не входят более хозяйственным образом в вверенные им части, и если истинно благонамеренные люди, имея целью только волю Государя Императора пещись об общественном благе, а не другую какую либо цель, — легко могли бы прекратить зло, обращая более внимания на нравственность судей, наблюдая строго за ходом дел и за средствами, коими чиновники приобретают себе большие состояния, не имевши решительно ничего при вступлении в какую либо должность, и у которых роскошь доходит до высшей степени, главное так сказать беззаконие в делах начинает от безнравственных земских судов, в каждой инстанции дело принимает оборот, по произволу судей, обер-секретари и секретари Сената выбирают нужные только из дела материалы, в пользу того с кем у них заключен бесстыдный торг, делает для доклада выписку и наконец какой бы Государственный Совет мог бы что либо извлечь из подобного дела, где совесть и законы заменены ужасным лихоимством, нет части в государстве, на которую не нужно бы было обратить особенное внимание, кто бы мог подумать, что в двух столицах два коммерческие суда потрясли всю внутреннюю торговлю, особенно Московский, председатель, члены и секретарь суда просто делают сделки с неблагонамеренными купцами, получают за то сотни тысяч, кредиторам дают или весьма мало, или вовсе ничего, остальное остается или в пользу обанкротившегося купца, и таким образом, последние пять лет, купцы вместо честной торговли занялись сим новым ремеслом и сколько тысяч купцов сделалось, как в столицах так равно и в губерниях, жертвой, чего ж? двух присутственных мест; вот что подает повод каждому говорить, что правительство всему злу причиной[228].
Злоупотребления по опекам и сиротским судам превосходят всякую меру и требуют положительно изменений, не довольствуясь одними отчетами, составленными большею частью предположительно протоколистами опек, но обратить особенное внимание сообразны ли доходы, в существенности с отчетами, и не давать полную свободу опекунам, показывать доходу и расходу сколько ему заблагорассудится.
Достойный министр Перовский[229] показал в свое короткое управление в С.-Петербурге входя сам во все подробности что деятельный министр может сделать когда захочет, с. — петербургская полиция может служить доказательством, до чего простиралась дерзость в столице в присутствии Монарха никто с полициею дела не хотел иметь, оставляли охотнее всякое родившееся у них дело, или сделанную у них покражу, чем объявлять об иной, ибо начавши дело, не токмо вещей обратно не получали, но должны были кроме потери времени, получать разного рода неприятности, да сверх того во избежание дела иметь, кроме потери кражи, большие расходы; просить где либо защиты было тщетно, вероятно что при министре Перовском, частные пристава более не будут проживать по 40 тысяч в год, проигрывать в один вечер в картах по 5 тысяч рублей, держать на стойле по шести лошадей и за наказание дворовых своих людей при съезжих тюрьмах содержать по пяти лет в заперти, и вероятно как частные пристава так и квартальные надзиратели не будут более обложены два раза в год платой секретарю г. обер-полицеймейстера, и делать тысячу других беззаконных дел[230].
Москва от действий полиции не ропщет, а стонет, так их действия беззаконны, что никакое перо не в силах описать да и превосходят всякое вероятие, дошло до того что всякого рода и всякого звания сделались общества мошенничества под явным покровительством полиции, а воровство дошло до высшей степени не мелочами, а целыми магазинами и многое хуже и того; что ж касается до земской полиции обращено в ремесло научают мошенников воров оговаривать невинных людей по примеру полиции, в двух столицах, потом таскают их по следствиям — до тех пор пока оклеветанный не откупится деньгами, беда если у кого случится какое либо дело где замешана его личность[231], имение его разграблено самым бесстыдным образом, одним словом нет средств которых бы не употребляли к приобретениям, ропот увеличивается с каждым годом до невероятия, действие земской полиции имело большое влияние на сборы податей в государстве с казенных крестьян, тогда когда в России недоимок быть не должно разве только в некоторых губерниях в сильные неурожайные годы, всегда бы крестьяне платили положенные законами подати исправно если бы с них не брали деньги вдвойне, а часто втройне обращая таковые в свою пользу, весьма замечательно, когда поступил высочайший указ об отпущении помещиками крестьян без земли на волю то крестьяне решительно и слышать не хотят, говоря, что у нас по крайней мере есть помещик, который нас защитит, когда нужно, а то боже сохрани подпасть под власть земской полиции, тогда мы пропадем, все это доказывает какого мнения о земской полиции и какое она имеет влияние на государство. Необходимо обратить внимание на ревизию гг. губернаторов губерний которое большею частью только делалось для одной проформы, как губернаторы обязаны о том доносить ежегодно.
Вообще недовольны за дозволение из духовного звания вступать в гражданскую службу, отличаются эти люди в лихоимстве от других, что трудно заметить, ибо в государстве, оно сделалось как будто должным, и чиновник без всякого стыда в обществе говорит о месте которое он ищет, что там невыгодно мало доходу, что другое место лучше, гораздо доходней или третье место не выгодно, что не выберет денег, что им за место заплочено. Но чтобы служить честно и довольствоваться жалованьем об этом много лет и не поминают более.
Последние откупа не могут оставаться в настоящем положении по дороговизне хлебного вина, крестьяне почти перестали пить откупное вино, но все средства употребляют таковую привозить из губерний, где вольная продажа что часто делает что бывают драки смертоубийства; при последних торгах откупщики не столько полагали свои выгоды на увеличение цен на горячие напитки как на существовавшие беспорядки в полиции, которая дозволяла им всеми беззаконными средствами сбывать оное.
Увеличение пошлин на гербовую бумагу произвело ропот во всех сословиях.
По всему государству большое негодование за частые рекрутские наборы, жалуясь, что оные решительно всем в тягость что некоторые дошли до того, что им уже более отдавать некого, недовольны что столько солдат в бессрочных отпусках и действительно что солдаты выходя в бессрочные отпуска не имеют ничего определительного, на каком основании поступать обратно как в казенные селения так и к помещикам; если у которого есть еще близкие родные и сами они люди порядочного поведения, то водворяются у своих родственников, но большая из них часть люди отставшие от крестьянских работ, предаются пьянству воровству и грабежам поселяя повсюду между крестьянами самые невыгодные, нелепые толки, местные начальники не обращают на то внимание, земская же полиция их более к тому поощряет, имея в том свои выгоды и часто от рождающихся разных дел.
Состояние крестьян Государственных имуществ дошли до крайности, как они жалуются от большего числа начальства которых они не в силах более удовлетворять, и которые поступают с их имуществом, по произволу, несмотря, остается ли у крестьянина, корова, лошадь, овца, хлеб, или что бы то ни было, в хозяйстве, все продают, общее мнение что крестьяне Государственных Имуществ более не могут переносить своего положения и готовы к возмущению, кроме того что они лишаются без разбора собственности лишены всякой необходимой в домашнем быту свободы; замечательно что у крестьян сих родилось желание скорей принадлежать помещикам чем быть казенными крестьянами, чего никогда не бывало — настоящее положение крестьян Государственных Имуществ для неблагонамеренных людей готовая пища к достижению своей цели, люди известные своею неблагонамеренностью находят, что действия правительства в этом случае очень хороши, говоря, что это явное начало к конституции, что было бы весьма недурно[232].
Ни одна благонамеренная цель правительства не исполняется так как бы должна, в столицах полиция, или люди коим поручено в губерниях и уездах, исправники, заседатели, вместо исполнения распоряжения начальства о приведении раскольников к своей обязанности делают себе большие приобретения, заставая их по-прежнему в отправлении их служения вместо того, чтобы им запрещать, берут с них большие суммы денег и много лет, до сих пор, у раскольников вместо того, чтобы последовала перемена для прочности государства и для общественного спокойствия, только раздражили этот народ до такой степени, что они решительно готовы на все против правительства, число же их весьма значительно в государстве, ропщут они во-первых за то, что им запрещено их богослужение, во-вторых, что они столько лет обязаны платить за дозволение служить большие суммы денег, со стороны духовенства, которой прямая обязанность была действовать обращая людей к православной церкви, постепенно оставляют раскольников без всякого внимания, назначенные к ним священники часто один раз в год у них бывают и то только чтобы не сказали что он вовсе не бывает и ныне точно также как и прежде все называемые беспоповщина живут с женщинами без венца, дети остаются не крещенные и точно те же беззаконные действия как и прежде, множество раскольников находятся под управлением департамента государственных имуществ[233].
Необходимо обратить особенное внимание на злоупотребление по разработкам золота в Сибири, как в сбыте самого золота в средствах разработки оного и обращении многих лучших мест втуне лежащие прииски и потом по каким то протекциям отдаются для разработки частным людям, да сколько известно и гг. сановники в государстве имеют свои золотые промыслы и много других купеческих оборотов, которые бы вовсе им не следовало имея влияние на разные власти из личных выгод по оборотам, протежируют самых безнравственных людей в отношении к своим обязанностям, давая им тем часто смелость делать всевозможные беззаконные дела, а люди неблагонамеренные в государстве своими отношениями покрывают свои гибельные в государстве действия сильною протекциею, может быть, что некоторые сами не знают что покровительствуя подобным людям, наносят неизлечимые государству раны.
Главные причины негодования в государстве, по причине, что никто почти никакой справедливости, никакой защиты найти не может, дошло до крайности, невинные терпят, все открыто говорят, жалуются, и ждут в паническом страхе какой-то развязки последние два года, никто более своих чувств не скрывает, никто на это не обращает никакого внимания да и те люди, до которых направление общих умов касается, делают как будто ничего не видят, не знают, не трудно заметить что до сих пор, никаких против сего мер не взято, а вместо того, чтобы заняться прямою своею обязанностью в высших предметах, составляющих главные моральные силы государства, занимаются такими мелочами, которые лишь свойственны низшим присутственным местам, или вовсе не заслуживают никакого внимания, отдавая часто высочайшие повеления по незначительным делам, и нет сомнения часто и без ведома царя, без суда и следствия, невинные терпят несправедливое наказание увеличили общий ропот до невероятности, прямое употребление лучшую священную волю монарха во зло, явное послабление коренных законов составляющих прочность и спокойствие государства ибо имея положительные законы всякий знает меру наказания за сделанное преступление, и произвели наказание ни один не смел бы роптать, а всякое умственное показание верховным судьею заставило бы каждого царя благословлять, причины настоящего положения происходят от людей облеченных доверенностью, одни допускают зло ужасное по неведению, другие по протекциям и личности и третьи с целью другие из личных выгод и некоторые по двум последним причинам, одно только странно все всё знают, всё видят, и все молчат, говорить с каждым отдельно судят как нельзя лучше, все видят какую то бездну, а целого нет и действия каждого из них совершенно противны их суждениям; какого еще доказательства что более озабочены личными выгодами, чем общественными благами и горе тому кто бы смел помимо чьей либо части сделать в государстве какое-либо открытие к общественному благу, он подвергается всем возможным гонениям не как благонамеренной верноподданной, а как оскорбивший лично того до чьей отрасли правления оное касается, нет никакого сомнения, что созревшее зло все было скрыто до сих пор от государя императора в противном случае было бы все иначе, злоумышленники сами очень хорошо знают, что до государя императора ничего не доходит, ибо большею частью, они (?) дела их, ибо всюду имея своих соучастников, отыскивают слабую струну каждого из начальников, и вертят всем по своему, при том распуская везде слух что царь всему причиной. Никогда Россия не находилась в таком состоянии, какая ответственность лежит на тех кому государь вверил наблюдение за целым и как они должны отвечать перед богом, царем и отечеством; а врагам царя, врагам России какое обширное поле для их действия[234].
Европа века целые смотрит завидными глазами на Россию, поняла слишком ясно до какой степени величия Россия достигает. Действия ныне царствующего императора Европе слишком не нравятся, по географическому положению, никому Россия так не опасна как Англии, слишком хорошо понимают также, что одна Россия может потрясти до основания ее всемирную торговлю, еще несколько событий и цель достигнута и многое было бы до сих пор приведено в исполнение если бы священная воля государя императора упрочить государство на грядущие века, исполнялась, казалось бы достаточно для бессмысленной толпы что действия царя не нравятся Европе, не явно ли это доказывает, что оные клонятся к славе России но нет одни не понимают, другим некогда, их занимают интриги собственные выгоды, а последние и самые опасные делают умышленно все во вред — Англия в достижение своей цели нашла себе неусыпных сотрудников, которые со временем будут горько раскаиваться но будет поздно, это Франция! влияние Франции на Россию с некоторого времени доходит до невероятности, свободное книгопечатание во Франции существует более для России чем для самой Франции, своими сочинениями они уничтожили в России патриотизм почти до основания потрясли в умах высшего и среднего класса религию, заставили русских пренебречь всем отечественным, все, что русское кажется странным, смешным, а в беспокойных умах, родили какое безотчетное брожение без всякого основания без всякого соображения миллионы томы входят в Россию без всякой цензуры, у всех почти вельмож библиотеки полны, раздают читать кому угодно, только не больно ли смотреть, с каким удовольствием русский читает всевозможные глупости и ложь про действия царя, во всех книгах получаемых из Франции касающиеся религии, воспитания юношества, также ничего не забыто, одного лексикона Боаста последнее издание, достаточно потрясти всякое монархическое правление, а наши гг. журналисты, не забывают обнародывать разные статьи которых если не удается явно напечатать то верно найдутся печатные листки для оберточной бумаги и у купцов, купцы читают и завертывая свой товар отдают покупателям, здесь помещается выписка из двух оберточных листов.
1-й лист изданный Николаем Гречем извещение о «Русском Вестнике», описывая время когда стал выходить вестник, напоминая событие 12-го года между прочим помещены слова на которые невольно надо обратить внимание: («и в нравственном, духовном мире существует эта не зримая связь духов чистых, верующих, любящих, надеющихся; для сообщения между ними не нужно ни телеграфов, ни книгопечатания, ни письменно эти таинственные иероглифы передаются душе душою, перелетают необъятные пространства в одно мгновение, действуют равномерно на точках, разделенных тысячами верст, и не редко появляются священным предведением будущего»).
2-й перевод с латинского («смертные в глубокой древности не заражены будучи никакою вредною страстью, жизнь препровождали, не зная порока, и преступления, и потому не зная наказания или обуздания, не было нужды в награждениях для того, что сами собою стремились ко благу; и поелику ничего противного обыкновению не желали, то не было нужды страхом их удерживать. Потом когда равенство в обществе разрушилось и вместо умеренности и стыда возникло честолюбие и насилие, то произошли власти, и у многих народов навсегда остались. Иные в короткое время, или когда царям повиноваться соскучили, предпочли иметь законы, первые законы по грубости народа были просты, и наипаче славились законы критян данные Миносом, и спартян данные Ликургом, вскоре потом Солон предписал афинянам избраннейшие законы и числом превосходнейшие. Ромул царствовал над нами с неограниченною властью, но потом Нума обуздал народ верою и святостию законов. Тулл и Анк несколько к сему присовокупили; но главный законодатель был Сервий Туллий, которой и царей законам соделал подвластными», и тому подобные)[235].
После польского мятежа поляки рассеялись по Европе, и которые неусыпно действуют на умы как на своих соотечественников так и на Россию, имея повсюду своих агентов, сношений своих не пересекают за границей в Париже Митцкевич почти в каждой своей лекции, имея славяно-польскую кафедру не забывает России представляет ее в самом колоссальном виде дабы более умы восстановить частных людей против России, угрожая всем невежеством, варварством, тогда когда кабинеты смотрят в настоящее время совсем с другой точки, выходят тысячу нелепых сочинений про Россию выставляя разные варварские небывалые поступки. Адам Черторийский в Лондоне, Сапега, граф Замойский, лица сделавшие большие в Европе связи с врагами России, Константин Чарторийский в Вене но главный у них предводитель и советник, старик Княжевич в Дрездене. Все они ожидают какого-то события для восстановления Польши[236]. Историограф последователь Немцевича Красинский беспрестанно от одного к другому ездит через которого все между ими делаются сношения из всего что можно было извлечь главная их надежда на Пруссию и на возмущение в России, к чему внутри государства употребляют все средства и как всюду по присутственным местам в столице и в губерниях их находится множество следовательно все средства к тому имеют; есть города в которых можно подумать, что въехал в польский город как например, в г. Смоленск, очень жаль что в губернии смежной с Белоруссиею столько поселилось поляков, тем более, что вообще крестьяне этой губернии до сих пор называют себя поляками например в г. Смоленске председатель казенной палаты поляк Калковский, виц-губернатор Ивановский, комендант Липарский, губернской землемер Свидренский и все его помощники доктор инспектор медицинской Забелла почти все чиновники казенной палаты и в других присутственных местах, на половину к тому же был и жандармский полковник, поляк Випрейский, но умер и все это делается самым невинным образом; замечательно, что сами поляки удивляются что самые величайшие революционеры нашли себе такую протекцию в России, в С.-Петербурге нет от них ничего тайного все им известно; например, человек был во время мятежа секретарем Главного Революционного Управления у Хлопицкого, потом у его наместников, эмигрировал во Францию кричал, писал против России, потом приехал, пробыл года три под надзором полиции в одной из отдаленных губерний и теперь в Петербурге как кажется в чине статского советника, очень всеми уважаемый г-н Крисинский![237] Все министерства наполнены ими и многие из лиц занимающие высокие места в государстве имеют при себе поляков как самых приближенных людей, спрашивается какая тайна в политическом отношении сохраняется, какое распоряжение упрочить Польшу за Россиею скроется и пусть будут убеждены, что до последнего инвалида поляки в России делают вред, может быть сами собою сии последние и ничего бы не придумали, но у них есть наставники, духовенство раза два в год их объезжают по России и дают наставление, что им делать и что внушать.
С 1836 года более 10 тысяч раскольников бежало в Пруссию и многие теперь о том и думают надежда у них большая на казаков, которые все почти раскольники, и у которых нынче часто вырывается в разговорах, что нам Царь может сделать казаки все наши, дайти срок и мы покажем как нас трогать и тому подобное, странно что до сих пор никто не обратил никакого внимания на тех людей кто у них в голове, есть беглые солдаты, поляки, немцы, французы и разного рода люди. Которые слишком ясно поступили в их секту не без какой-либо политической цели; это обстоятельство несколько месяцев назад передано в III Отделение собственной его Императорского Величества канцелярии где сознались, что на это никогда не было обращено никакого внимания, главные сношения раскольников теперь делаются с Пруссиею по прямым сношениям и через так называемых Бурлаков поселившиеся по Виленской губернии, Риге и прочими местами граничащими с Пруссиею, по всей Белоруссии, одно обстоятельство весьма важное, что их сближают с римско-католической верой и они где только могут и близко есть церковь бывают с большим удовольствием, не говоря об отдельных местах в столице пусть зайдут во время служения в католическую церковь и увидят преспокойно молящихся раскольников своим крестом, на месте влияния имеют на них неблагонамеренные внутри государства.
Необходимо обратить внимание на гг. профессоров часто делалось что если заметят профессора в одном факультете вредным в образе преподавания своих лекций, то только что переводили его в другой, и как будто тот же профессор вне лекции у себя дома не может какое хочет влияние иметь на избранных им учеников. Перевод из одного факультета в другой делалось прежде а ныне и того не делают; несколько лет тому назад был весьма странный случай в Тамбовской губернии в одном селе пришел к помещику священник просить его чтобы он пошел убедить умирающего крестьянина старика лет 70-ти принять святые тайны помещик или управляющий тогда имением сейчас исполнил волю священника, но крестьянин с тем и умер что не принял святых тайн говоря что нет бога, на другой день тот же помещик отправился по своей надобности с старостой того села и рассказал ему случившееся накануне; староста преспокойно отвечал, что само собою разумеется что бога нет, и оказалось, что почти вся деревня принадлежащая к тому селу были одних мыслей, по строгому исследованию открыто, что им это было внушено офицерами водяной коммуникации — сколько труда стоило священнику человеку весьма образованному переобразовать этих крестьян в чем однако ж хотя не вполне но успел.
Ужасное зло в нравственном отношении крестьян, делает земская полиция по несколько раз в год по разным следствиям человек по сту более или менее того, заставляют принимать ложную присягу, а иногда и помещики с своей стороны тоже делают из пустого дела, чтобы избавиться платежа нескольких сот рублей и заседатели и исправники или становые пристава часто за 25 р. Это делает, что крестьяне клятвопреступление сделать готовы во всякое время за рюмку водки, так они к тому привыкают, в серьезных случаях что пользы напоминать крестьянину или солдату о присяге.
На казаков вообще также нужно обратить особенное внимание со времени их переобразования они вообще недовольны равно как и на начальство их в Урале и на линии в Грузии; последние слухи из Грузии насчет линейных казаков самые неблагоприятные также известно, что раскольники на них имеют большое влияние, как на единоверцев.
Излишним будет описывать подробности родившие событие 14 декабря 1825 года, а скажем только о последствиях и настоящем направлении умов в государстве; когда преступники получили слишком милостивое наказание, оставалось четыре разряда злоумышленных людей, за которыми правительство должно бы было иметь неослабное наблюдение и прекратить их действия в самом начале первые люди принадлежавшие к тайным обществам и к открытию которых нить порвана частью смертью, которого нибудь из членов несознанием других — нет сомнения, что из ускользнувших, ныне занимают весьма важные места в государстве, вторые неблагонамеренные родственники преступников.
Третьи не принадлежавшие еще ни к какому обществу приготовленные по образу воспитания, на все дурное, ибо в то время существовали учебные заведения, как например в Москве Чермака, где юношество просто приготовлялось врагами отечества, да и по домам и учебным вообще заведениям было не лучше наконец последние, сами преступники, которые не переставали действовать по разным связям и чрез ближайших родственников, одни скрывшиеся за границу[238] другие из Сибири, третьи получившие по неограниченному милосердию монарха, дозволение под надзором жить в своих имениях. Месть вражда к царю не имела границ и последствия объяснят весь вред ими сделанной отечеству.
С 1826 года действия их увеличились до невероятности, принявши новую систему, но уже без всяких обществ; начали распускать самые невыгодные слухи насчет государя императора, насчет образа правления, распущая повсюду возможные возмутительные стихи против царя, против правления, разные сочинения, внушали каждому, кому только могли образ своих мыслей в особенности молодым людям, в других поселяли какое-то сострадание к преступникам принявшим наказание, оправдывая их действия, рождали повсюду между дворянами ропот за смертную казнь которую приняли преступники стараясь всячески сосредоточить в них оскорбление целого дворянства, поселяли ненависть к образу правления в России к царю и наконец нет сословия в государстве до последнего земледельца, до которых бы их внушение не коснулось, действуя неусыпно, обращали все события в вредное для государства действие: войны с Персиею, с Турциею, мятеж польский, содержание войск на Кавказе приписывали к честолюбию царя, что все события оканчивались, без всякой пользы для России, делали исчисление умершим и погибшим людям в войсках, в продолжение царствования государя императора, доказывая что мирные трактаты всегда были заключаемы без пользы для государства. Рекрутские наборы, увеличение сборов и государственных доходов вообще приписывали более к прихотям царя к неограниченным расходам в поездах за границу, к страсти сооружать здания, внушают повсюду, что государь при всем том питает какую то ненависть к дворянам, что занятия государя императора одни смотры, маневры, разводы, балы, что имея от природы жестокое сердце никогда государь не занимается благоденствием народным, что бразды правления государства отданы им в руки людям самым неблагонамеренным, которые довели государство до самого бедственного положения. Приписывали государю императору даже злодеяния, которые одни подлые мерзавцы могли выдумать, а бессмысленная толпа верит не исключая большой части дворян коим чужды всякая государственная и собственная польза, и наконец, что государь из отечества сделал для каждого ссылочное место; все это говорилось почти явно. Ко всему к этому присоединились — все обстоятельства упомянутые в прежних записках.
Злоумышленники с целью приписывают все вредное царю, лихоимцы с своей стороны все свои беззаконные действия также приписывают воле царя, наконец дошло до того что бы не случилось как бы кто не отнекивал правосудия, от министра до последнего чиновника все говорят, этого переценить нельзя государю так угодно. Ко всему можно прибавить тысячи слухов, которых описать было бы трудно.
Злоумышленники, имея свои связи частью по родственным связям частью по единомыслию, все усилия употребляли замещать все места имеющие влияние на государство, своими соучастниками, и имели в том большой успех, некоторые замещены умышленно, некоторые по неведению главных начальников, находя в оных часто большие способности, слепо вверяют им управление без отчетно, люди эти действуют умышленно во вред государству, родили новый класс людей недовольных, в последние обратились все сословия в государстве негодование общее дошло до высшей степени и недовольные слишком заметно стали почти явно замышлять об изменении положения дел в государстве, злоумышленники всеми силами в том их поддерживают, одно хладнокровие и твердость государя императора может положить всему злу конец и весьма легко и также нет никакого сомнения что от царя до сих пор все было скрыто.
Москва, которую можно назвать сердцем России и на которую необходимо обратить главное внимание теперь на сцене, последние годы заметно во всех но более в дворянах высшего круга, исключая общего ропота на царя какие то скрытые действия, имея близкие сношения с людьми окружающими государя императора ни одного слова, ни одного действия, ни одного совещания нет, которое немедленно бы не передавалось в Москву, отношения их раскрыть весьма легко и тем раскрыть неблагонамеренных окружающих престол, слухи распушаемые в Москве как електризм, разносится по всему государству главные слухи заключаются: в ненависти государя к дворянам, в честолюбии приобрести себе славу в истории не смотря по их мнению на гибель России, в непременном желании сделать в настоящее время народ свободным, подобные слухи произвели двойной вред родило ненависть дворян к царю, а собственно в народе какую то готовность к возмущению, главный слух явно обнаруживающий их ужасную цель, что будто бы государь император чувствует, что долго жить не может, что государь сам часто говорит что в их династии более не живут как 48 и 50-ти лет, на такого рода слухи надо обратить неусыпное внимание, как будто бы умы приготовляют к какому то ужасному событию; при строгом наблюдении неблагонамеренных смешивать нельзя ибо одни имея еще искру любви к отечеству без всякой цели основываясь на нелепых слухах распущенных неблагонамеренными обвиняют прямо царя как виновника всех несчастий в России, но другие и главные враги царю и отечеству действуя скрывая в сердцах неограниченную месть прямо к ужасной цели, и которые были бы действительно опасны. Если бы действия их почти не были явны. Покойный Михайло Орлов человек не терпевший властей, человек образованный, хитрый, одаренный красноречием, где только мог делал царю и отечеству вред как сам лично, так и чрез своих близких участников, прощение свое приписывал он не к милосердию монарха, а более к какой то необходимости, во время его пребывания в Москве он имел большое влияние, завладел почти всеми умами, молодые люди его боготворили, по сношениям своим с Петербургом тысячу нелепостей распущено им про царя, монархическому правлению в России, нет другого названия как деспотическое, здесь помещаются слова Орлова: Il y á реu a espérer d’un peuple chez lequel le Souverain est… despote et le tiers au moins de citoyens valides est payé pour surveiiller et opprimer les deux autres tiers[239] и что Михайло Орлов не переставал действовать ясно доказывается тем, что когда он говорил дерзко с кем-нибудь про царя или правительство и жена его делала упреки за неосторожность, то он ей отвечал: Soyez tranquille, се lui ciest de notres[240]. Нельзя не заметить здесь, что Орловы вообще не терпимы всеми благомыслящими людьми как дворянами купцами даже до простонародия[241].
В Москве существует еще какое-то общество, которое необходимо раскрыть и как бы цель общества сего ни была мерзка никак нельзя смотреть на оное односторонним образом слишком большие пожертвования чтобы оно не имело какой либо особенной цели сколько можно было узнать члены сего общества состоят из Князя Якова Грузинского, Рохманова, гусара Непосильцова, Шубина, Козлова, Мацнева Орловского помещика, остальные еще неизвестны, разные толки на щет сего общества в Москве, известно что они протежированы как Генералом Перфильевым, так равно и Цынским удивительно, что многие из них проживают сотни тысяч в год не имея никакого состояния, да и все секты как в Петербурге, и в Москве и в целом государстве требуют строгого рассмотрения[242].
Московский митрополит Филарет который себя решительно обнаружил говоренным им словом в день восшествия на Всероссийский престол Государя Императора; — и по чьей то милости напечатанное в Сыне Отечества и Северном архиве 1830 года № 51 20 декабря страница 272 статья 11-я духовное красноречие; в нынешнем 1843 году распускал в Москве слух, что государь хочет чтобы народ принял непременно католическую веру почему и назначил в Петербурге униатского митрополита глупый слух который однакож на многих дворян и на чернь имеет большое влияние, к счастью, московского митрополита все ненавидят; кроме некоторых дворян вероятно одних с ним образа мыслей и с которыми он в тесных отношениях за этим святым отцом необходимо иметь неослабное наблюдение[243].
В проезд прошлого года в декабре месяце Князя Льва Радзивила из Перми в Москве прибывши на какой то обед, и когда он положил свою шпагу, кто то ему сказал: когда он перестанет носить белый султан на вопрос Радзивила, а что, ему сказали, что ты его скоро скинешь ибо у нас скоро не будет Николая. Много если пройдет месяцев шесть или год, кстати у него сын Александр с ним будет то, что было с Павлом, и за столом пили тост pour un heureux avenir[244].
Когда Радзивил ехал с своим братом побочным сыном отца его Артюром следовавший везде с ним в этой командировке Радзивил сказал дорогой, как я рад что вырвался им будет беда а нам как полякам достанется хуже — ни время ни обстоятельства не позволяли узнать ничего подробнее но сколько можно было извлечь тут находился князь Павел Гагарин и обед был у князя Голицына но утвердительно сказать у которого Голицына нельзя без исследования этого дела. Сколько известно князь Павел Павлович Гагарин человек весьма умный, из всех Сенаторов в Москве самый справедливый но также известно весьма недовольный государем императором по разным по его мнению причинам все эти обстоятельства очень легко раскрыть; известно также что кн. Павел Павлович Гагарин, имеет большие связи в С. Петербурге, на дружеской ноге с князем Меншиковым и должен быть с ним весьма откровенен, что можно было заметить из одного разговора с ним несколько лет тому назад, неизвестно что они между собою говорили, только Гагарин спросил Меншикова как он успел преобрести расположение государя императора Меншиков ему на это отвечал, я уверил государя что если я что знаю, то это от него. Гагарин в самых коротких отношениях с Васильчиковым и также известно что до каждой безделицы что делается при дворе Гагарину все известно[245].
В Смоленске можно утвердительно сказать что многие ускользнули от наказания по истории 14 декабря смертью генерала Петра Петровича Пасика[246] и образ мыслей которых слишком известен как Рославского предводителя Якова Швейковского человек большого ума и вредного. Смоленского Александра Лярского, Барона Черкасова, Палицына и много других которые в настоящее время носят название les lions de Smolensk[247], некоторые из них недавно прибыли из Москвы после долгого там пребывания, известно что Барон Черкасов в коротких отношениях со многими в Москве в особенности с домом Гагарина; при разговоре о рекрутских наборах некто флота лейтенант Григорий Энгельгардт повторил почти те же слова что было в Москве говорено Радзивилу только в других выражениях, он Энгельгардт сам собою ничего знать не мог, а вероятно повторил слышанное им[248].
Невольно рождается вопрос, кто же допустил все это зло, все эти беспорядки, все эти адские замыслы все это лихоимство? Весьма натурально что люди имеющие влияние на государство и не без цели; корпус жандармов учреждение с лучшим намерением какая быть могла, обязан был избрать людей, известных своею нравственностью, готовых во всякое время жертвовать собою для блага отечества, людей проницательных осторожных в своих действиях, образованных преданных царю и отечеству, но к несчастью почти с самого начала царствования государя императора с самого учреждения корпуса жандармов все делалось иначе III Отделение собственной его императорского величества канцелярии где сосредоточены все моральные силы государства и которое должно было все не видеть а предвидеть, отделение которое должно было представить не скрывая ничего от царя для взятия заблаговременно мер к прекращению рождающегося зла одним словом иметь верный глаз на все предметы могущие делать царю и государству вред. Смело можно сказать что ничего этого неисполнено. К несчастью в отделении поселился человек вкравшийся в доверенность к лучшему из людей, овладел влиянием почти неограниченным на государство в корпус жандармов поступили люди не лучше исправников да и сам генерал Дубельт, кроме зла которое он нанес утвердительно можно сказать царю и государству как человек всегда бывший против правительства едва ли не во всех обществах из III Отделения сделал место которому дали название факторская контора надо томы написать, чтобы исчислить все мелочные дела разобранные III Отделением и смело можно сказать много высочайших повелений вышло без воли государя. Весь Петербург можно спросить ибо все знали, что если нужно кому было по какому бы то делу не было исходатайствовать высочайшее повеление, то стоило только адресоваться к полковнице Газенкампф которая будучи довольно снисходительна в цене всегда была верна в своем слове, генерал-майор Дубельт проживал всегда в год более 100 тыс. рублей сверх того прикупал имение. Сначала когда только что поступил Дубельт в корпус жандармов подана была записка о нем, что он человек вредный по образу мыслей, что он принадлежал к разным обществам, что будучи уже в корпусе жандармов не прекращал дружеских своих отношений и переписки с Михаилом Орловым, с которым некогда в Киеве с жезлом в руках проповедовал истину; спрашивается какая крайность была вверить столь важную часть в государственном управлении человеку биография которого весьма мало обещает хорошего, чтобы все подробности о нем узнать стоит заставить говорить Кобервейна, Астафьева чиновника служившего в Вильне а ныне как кажется в Киеве, оба его довольно хорошо знают, покойный Александр Федорович Воейков издатель Русского Инвалида как истинно русский все делал, как будто предвидел последствия, чтобы помешать вступлению его на службу под начальство к его сиятельству графу Бенкендорфу, но все осталось без успеха, нет сомнения что на многие тысячи дел вредных для государства не обращено никакого внимания[249].
В Москве в окружном управлении корпуса жандармов, всевозможные сделки делаются чрез адъютанта генерала Перфильева отличного афериста Волковского и чиновника Кашинцова, отношения Московского обер-полицмейстера Цынского с этими гг. слишком подозрительны и действия их слиты судя по действиям корпуса жандармов в двух столицах, легко можно заключить и о других губерниях[250].
В Москве управление военного генерал-губернатора, слишком слабо, чрез г-жу Певцову можно все делать, и что замечательно, что все занимающие по службе места, под покровительством самого князя, или им определенные к местам, в лихоимстве смелом превосходят всякую меру. Когда в отсутствии князя Голицына генерал-адъютант Нейгардт вступил в должность генерал-губернатора Москва было отдохнула но это продолжалось не долго к несчастью.
Записка по делу ссылки подполковника Шервуда-верного на жительство в г. Смоленск[251]
В конце 1840 или начале 1841 года вошел к одному французскому подданному Девуалю-де-Мандру, молодой человек, довольно неприятной наружности, которого по его разговору можно было заметить тотчас что он поляк, но с хорошим образованием; после довольно долгого общего разговора, между протчем политического, разговор начался о Польше, где он выражался с каким то пророческим тоном, что Польша будет восстановлена и многое говорил в том роде, наконец вынул из кармана рукопись на французском диалекте и читал в слух о разных угнетениях делаемых Россиею в Польше. Потом улыбаясь положил обратно к себе в карман. Я будучи убежден что большая часть статей печатанных во Франции пишутся не собственно во Франции, а непременно в России и потом пересылаются туда для напечатания в журналах и разных сочинениях, в особенности об угнетении католической веры в России, dans les Annales de la Phylosophie Chrétienne[252] доказательством тому служит что донесения и повеления написаны подлинниками, и кто бы мог об них знать, если бы оные не передавались, из наших министерств или других мест во Францию, на что я ему сказал что вас господа надо розгами сечь вы вашими поступками и болтовней, наносите только вред вашим соотечественникам не делая тем себе никакой пользы, и когда я распросил Девуаля кто он такой, узнал, что он надворный советник Ласкович секретарь министра просвещения Уварова племянник адмиральши Шишковой, для меня было довольно, иметь за ним неослабное наблюдение и имея к тому весьма удобный случай я не переставал об нем узнавать, о всех подробностях домашней его жизни, о связях его, почему и узнал что он в самых тесных отношениях с чиновником служащим в комиссии прошений Дерошом которой хотя и носит французскую фамилию, но родился в Могилевской губернии и в душе поляк, как и все, следовательно непримиримый враг России и нравственности мне давно известно самой дурной, сверх того приобрел себе значительное имение в Виленской губернии неимевши решительно никакого состояния ибо отец его бедной садовник и нынче живет где-то за границей, чрез несколько месяцев или спустя год Ласкович женился на одной из девиц Крыжановских и взял за ней приданого деньгами около ста двадцати тысяч рублей, у которой оставалась сестра младшая Генриетта с таким же приданым; Дерош как друг Ласковича имел намерение женится на другой сестре, и вероятно между Ласковичем и Дерошом было между собою положено, но к несчастью Дероша девица Генриетта влюбилась в другого и возненавидела Дероша — узнавши о нем что человек самый черный, Дерош упрекая Ласковича, за слабое с его стороны действие, свойственно его Дероша правилам вздумал поселить в семействе раздор, и в отсутствии Ласковича наговорил девице Крыжановской чтобы она предостерегла свою сестру Ласковичеву говоря что у Ласковича на содержании прежняя любовница, что Ласкович всякий день у ней бывает, что как свои долги заплатил, так и любовницу содержит деньгами сестры ее и наконец что Ласкович самой дурной человек и растратит все ее состояние; все это было передано Ласковичевой жене — началась ссора, Дерош с дерзостью не переставал ходить по обыкновению в дом Ласковича; а Ласкович вместо того, чтобы Дерошу отказать от своего дома, как человеку нарушившему его домашнее спокойствие не смел этого делать, говоря — что Дерош может его погубить, что у Дероша хранятся какие то бумаги; от которых Ласкович может пострадать, но наконец Ласкович потерял всякое терпение, и в доме у Ласковича началась у них ужасная брань где они решительно угрожали друг другу Сибирью, говоря что если один пойдет, то пойдет и другой, вот те служебные бумаги, которые я хотел достать, и о которых государю императору, так справедливо донесено, но что главное меня к тому побудило, продолжая свое неослабное наблюдение узнал я за несколько месяцев вперед, перед сим происшествием со мной от Девуаля что выдит во Франции сочинение о всех угнетениях католической церкви в России писанное будто бы каким то статским советником служившим прежде в России, что ясно мне доказало, что есть прямые сношения с Францией ибо каким бы образом Девуаль мог знать что непременно выйдет такого рода сочинение наперед за несколько месяцев до напечатания о книге сей в журнале des debats[253] наконец что книга прибудет в Россию к такому времени что по привозе оных обещан мне был один экземпляр, который я и получил в самой тот вечер когда вынужден был оставить Петербург; зная всю важность этих отношений, ибо не только что делается, но что предполагают сделать в России, во Франции врагам России все известно, зная наверное что Девуаль сам по себе с Франциею никакого политического отношения не имеет следовательно все сведения и самую наконец книгу получил он от других, я же полагая наверное что должен буду отправится на Кавказ, не смотря на то, что мне в 1835 году именем государя императора запрещено было во что либо вмешиваться относительно могущего делать вред государству, не хотел оставить С. Петербург, не передав всего что так сказать лежало у меня тяжелым камнем на сердце для передачи по начальству государю императору почему условившись с Кобервейном, что все что я замечу вредного для царя или России передавать чрез него генерал-адъютанту графу Бенкендорфу хотя хорошо знал что пока будет генерал-майор Дубельт в III Отделении ожидать хорошего было нечего, и написал уже почти все мои замечания, которые к счастью ускользнули из рук полиции при запечатании у меня моих бумаг, да и в этом деле с Дерошем Кобервейн хорошо знал, что бумаги которые я хотел у него достать касались правительства, хотя он не знал именно в чем дело, а не другого чего. Почему как скоро я был взят и представлен к С. Петербургскому обер-полицеймейстеру первое что я ему объявил, что дело это касается правительства, что дело такого рода что всякая формальность только может испортить дело; особенно тогда когда я почти приблизился к открытию за которое наверное государь император не подверг бы меня наказанию а благодарил бы, но когда обер-полицеймейстер мне решительно объявил, что дела этого оставить не может без решительного исследования, то я решительно ему объявил, что во всем учиню запирательство, ибо свидетелей ни на что нет и формальным следствием меня обвинить невозможно. Генерал-майор Кокошкин меня отправил сначала в частный дом, потом на другой день в управу благочиния где три месяца содержался под самым строгим арестом, лишен был всякого отношения, ел пальцами, и где полученная простуда вероятно останется на всю жизнь; следствие было поручено следственному приставу Орлову, и хотя бы по законам следовало мне все следствие объявить, чего однакож не сделано, но знал хорошо что в последствии меня обвинить было невозможно, при том все полагал еще, что когда дело поступит в III отделение собственной его императорского величества канцелярии вероятно меня спросят обо всем подробно прежде доклада о сем государю императору, но вышло все напротив, там были очень рады этому случаю потому что когда граф Александр Христофорович Бенкендорф представил государю о принятии меня вновь на службу в III отделении были совершенно убеждены, что государь император на это никогда не согласится, говоря что я слишком замаран в глазах царя и этого никогда не случится, что и убедило меня решительно что в представлении обо мне государю, напутано порядочно, что во всех случаях делалось с тех пор как началось дело Баташева в котором я столько же виноват как и те которые обо мне дело представили, но дело шло только обо мне, и я лучше согласился перенести всю несправедливость сделанного мне наказания совершенно невинно, лишили меня милости царя, последнего состояния и предали забвению, так сказать без всякого пропитания, хотя я и в деле Баташева также ни о чем не спрошен до сих пор, ни о чем не уведомлен и совершенно уверен что в докладе государю нет ни одного слова правды; да могла ли месть составить справедливую записку, а граф Александр Христофорович Бенкендорф мог быть также лихо обманут как и всякий, и теперь как тут припутали графиню Струтинскую, которая как мне совершенно известно в течении 10 лет жизни в С.-Петербурге была примером преданности престолу и всегда благодарна за справедливость которая ей была оказана в деле с мужем ее, на что имею неоспоримое доказательство в III отделении собственной его императорского величества канцелярии и сколько я по слухам знаю приписали какие то векселя занятым деньгам графинею Струтинской у девицы Генриетты Крыжановской и которой заем делался без меня ибо я ни с девицей Крыжановской ни с Ласковичем никогда знаком не был, а напротив при свидании моем с Ласковичем в мою жизнь не более трех раз у Девуаля, что то от него меня отталкивало, и в доме у Ласковича ни у девицы Крыжановской никогда не был и с ней от роду двух слов не говорил, а с Дерошом 9 лет и не встречался даже, а что донесено государю императору даже представить себе не могу, мне и более того известно что когда Орлов следственный пристав представил дело по которому обвинить было нельзя, то генерал Кокошкин дал следственному приставу — выговор и заставил следственное дело переделать с тем чтобы меня непременно обвинить, а самое лучшее, я содержался с отметкой в управе благочиния за кражу документов и других бумаг, с тем чтобы всякий приходящий читал, ужасное казалось бы унижение, но всякий знает, что я не вор, и никто пасквилей на меня не рисовал и не писал. Весь Петербург не говорит что имение все я свое заложенное выкупил из опекунского совета, что ныне имею в ломбарде огромный капитал, или что я через своего секретаря получаю в год до трех сот тысяч рублей доходу, обложив своих подчиненных два раза в год взносом денег и никто не говорит что С.-Петербургские откупщики платят по 50 тыс. в год за дозволение сбывать горячие напитки всеми беззаконными средствами, но если я должен и занимаю деньги будучи уверен что буду в состоянии один день заплатить кредиторам, в этом меня еще никто обвинить не может, а что я занимаю на это имею тысячу причин которые постичь могут те, которые имеют должное самолюбие, я никогда не хотел чтобы на мне лежал отпечаток нужды или нищеты мне ни звание ни имя мое того не позволяло и верно умру с чистою совестью и ни царь ни Россия узнавши один день истину меня ни в чем не упрекнут.
Мне также хорошо известно, что Ласкович хочет оставить Россию после продажи какого то имения на Волыни или Подоле, что до сих пор его удержало; не знаю также в чем именно дело только в его ссору с Дерошом вмешалось III отделение чрез г-жу Газенкампф за весьма умеренную плату. Эти все честные люди остались преспокойно в Петербурге а меня как ужасного преступника сослали. Замечательно то, что всячески уклонялись от делания мне вопросов хотя очень хорошо как Генерал Кокошкин так III отделение собственной его императорского величества канцелярии знали что дело касалось правительства как я и сам объявил, а III отделение знало и генерал Дубельт и все усилия употребили чтобы меня поскорей из Петербурга удалить.
Отставной подполковник Шервуд-Верный
Примечания
1
Красный архив. 1926. Т. XIV. С. 85.
(обратно)2
То есть провокаторов.
(обратно)3
Не все в этом рассказе точно с фактической стороны и в смысле хронологии. Орлов узнал о деле Петрашевского значительно раньше, чем это рисует Герцен. Но соперничество двух полиций изображено превосходно.
(обратно)4
Покровский М. Н. Русская история в самом сжатом очерке. М., 1922. С. 98.
(обратно)5
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Т. IV. С. 16.
(обратно)6
Имеются в виду дела Колесникова и братьев Критских.
(обратно)7
Модзалевский Б. Л. Пушкин под тайным надзором. СПб., 1922. С. 3.
(обратно)8
Черт возьми, вот это я называю уметь говорить! (фр.)
(обратно)9
Ну, прощай, мне пора к императору (фр.).
(обратно)10
Пушкин даже занес в свою записную книжку по поводу смерти Фока: «Смерть его есть бедствие общественное».
(обратно)11
Приводим выписки из писем М. Я. Фока к А. X. Бенкендорфу, свидетельствующие о требованиях, предъявлявшихся III Отделением к своим агентам. 17/VII 1826 г. — Фок останавливается на характеристике новых агентов:
«Г[осподин] Нефедьев имеет деревню под Москвой, где ему необходимо быть по домашним обстоятельствам. Это очень благоприятно для нашего дела. С этим господином не знаешь никаких затруднений: ни жалованья, ни расходов. Услуги, которые он может оказать нам, будут очень важны вследствие его связей в высшем и среднем обществах Москвы. Это будет ходячая энциклопедия, к которой всегда удобно обращаться за сведениями относительно всего, что касается надзора…
Нефедьев — статский советник и имеет орден Св[ятого] Владимира 3-го класса; он честолюбив и жаждет почестей…
Граф Лев Соллогуб… может принести нам большую пользу в Москве, посредством своего брата и своих родных. С этим человеком также никакого жалованья, никаких расходов… Предложение его — действовать заодно с „надзором“, цель же — быть покровительствуемым во всем, что касается ведения интересующего его дела. Граф — человек скромный и способный выполнять даваемые ему поручения» (Русская старина. 1881. Т. XXXII. С. 168).
(обратно)12
И. В. Селиванов в своих записках (Русская старина. 1880. т. ХХХIII. С. 309) рассказывает, что «вслед за упоминанием им имени Герцена… Дубельт вспыхнул, как порох; губы его затряслись, на них показалась пена.
— Герцен! — закричал он с неистовством. — У меня три тысячи десятин жалованного леса, и я не знаю такого гадкого дерева, на котором бы я его повесил».
Если и не все в этом рассказе верно, то, во всяком случае, он достаточно выразителен.
(обратно)13
Из записки М. М. Попова В. Г. Белинскому от 27 марта 1848 г. См.: Русская старина. 1882. Т. XXXVI. С. 434–435. Белинский умер 26 мая того же года.
(обратно)14
«На следующее утро пришел ко мне Л. В. Дубельт и начал разговор расспросами: „Хорошо ли вам? Тепло ли? Что курите, табак или сигары? Не имеете ли каких-нибудь особых привычек?“ и проч… Через полчаса явился ко мне дежурный штаб-офицер с теми же самыми вопросами…» (Селиванов И. В. Записки // Русская старина. 1880. Т. XXVI. См. также: Герцен А. И. Полн. собр. соч. Т. XII. С. 217; Ахшарумов Д. Д. Из моих воспоминаний (1849–1851). СПб., 1905. С. 7–8).
(обратно)15
Кстати заметим, что «приятные» молодые люди оказались в III Отделении довольно устойчивым явлением. М. И. Михайлов наблюдал их и в позднейшее время и оставил описание подобного юноши: «Ему было на вид лет 20, усы маленькие, бороду он едва ли брил. Надежды подает приятные. Впрочем, таких милых юношей в мундирах разных полков я видел больше десятка во время пребывания моего у Цепного моста. Все они прикомандированы к начальнику III Отделения в чаянии мест адъютантов и чиновников особых поручений по жандармерии; состоят тут как бы на испытании и должны зарекомендовать свою скромность и показать отчасти свою деятельность. Шляясь по трактирам и по гостям в свободные от дежурств дни, они обязаны от времени до времени поддерживать хорошее мнение о себе в глазах начальства легкими доносиками» (Из дневника М. И. Михайлова // Русская старина. 1906. Август. С. 402).
(обратно)16
Русская старина. 1881. Т. XXX. С. 183–186. Записка датирована 18 июля 1824 года. Подлинник ее хранится в Лефортовском архиве, в делах бывшего военно-ученого архива.
(обратно)17
Ныне находится в Пушкинском доме Академии наук СССР.
(обратно)18
Русская старина. 1881. Т. XXXI. С. 298–299.
(обратно)19
Шильдер Н. К. К биографии Шервуда-Верного // Исторический вестник. 1896. Май. С. 510. Сведения из этой статьи попали и в статью о Шервуде в Русском биографическом словаре.
(обратно)20
Приказчик (фр.).
(обратно)21
Литератор, уроженец Безансона (фр.).
(обратно)22
Русская старина. 1881. Т. XXXI. С. 186. Подлинник донесения написан по-французски. Приводим его в переводе «Русской старины» с некоторыми поправками. Некоторые дополнительные данные о членах общества извлечены нами из вышеупомянутого дела о высылке их за границу.
(обратно)23
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. III. М., 1864. С. 37.
(обратно)24
Вспоминая приемы у княгини Шаховской, Ф. П. Фонтон писал: «Во время революции этот дом был собрание всех эмигрантов. Там безвыходно сидели Полиньяки, Дамас, Шуазель, Сенпри, братья Иосиф и Ксавер Местер, Мишо и прочая» (Фонтон Ф. П. Воспоминания. Юмористические, политические и военные письма. Т. 1. Лейпциг, 1866. С. 23).
(обратно)25
Вигель Ф. Ф. Указ. соч. Ч. VII.
(обратно)26
Они становились «учителями» или вельможами (фр.).
(обратно)27
См.: Герцен А. И. Былое и думы. Ч. I. Гл. III.
(обратно)28
May J.-B. Saint-Petersbourq et la Russie en 1829. Т. 1. Paris, 1830. P. 135–136.
(обратно)29
Пржецлавский О. А. Воспоминания. 1818–1831 // Русская старина. 1874. Т. XI. С. 468.
(обратно)30
Михайловский-Данилевский А. И. Журнал 1823 г. // Русская старина. 1880. Т. LXVIII. С. 513, примеч.
(обратно)31
May J.-B. Op. cit. P. 325–326.
(обратно)32
Ibid., p. 234.
(обратно)33
Это указание неверно.
(обратно)34
Стогов Э. Очерки, рассказы и воспоминания // Русская старина. 1879. Т. XXIV. С. 54–55.
(обратно)35
Полковник (фр.).
(обратно)36
Трудно угадать, что именно имел в виду М. Маркс в данном случае. Скорее всего, речь идет о деле Баташова или о доносе Шервуда на III Отделение. См. IV и V главы настоящей работы.
(обратно)37
В печати недавно промелькнуло сообщение, что в одной из польских библиотек хранятся мемуарные записи М. О. Маркса. Если там имеются и эти записи застольных рассказов Шервуда, то опубликование их сможет пролить свет на некоторые темные места его биографии.
(обратно)38
Высший свет (фр.).
(обратно)39
Высшего полета (фр.).
(обратно)40
Но ведь это свинство (фр.).
(обратно)41
Сестры-свиньи (фр.).
(обратно)42
Природа, благодетельная наша мать,
Мы, дети, приветствуем тебя… (фр.)
(обратно)43
От света до мрака —
Семицветная радуга (фр.).
(обратно)44
Милый брат, милая сестра (фр.).
(обратно)45
Мой богоданный, моя богоданная (фр.).
(обратно)46
Галантные рыцари (фр.).
(обратно)47
Старшим братом (фр.).
(обратно)48
Отца (фр.).
(обратно)49
Фактически (фр.).
(обратно)50
Корф М. А. Записки // Русская старина. 1900. Т. CI. С. 547. Военный генерал-губернатор Петербурга граф Милорадович был вместе с тем и главой полиции.
(обратно)51
По официальным данным, собрания «свиней» действительно происходили у него на квартире.
(обратно)52
Совершенный шарлатан (фр.).
(обратно)53
May J.-B. Op. сit. Т. II. P. 309–332.
(обратно)54
Пржецлавский О. А. Воспоминания 1818–1831 гг. // Русская старина. 1874. Т. XI. С. 677–678.
(обратно)55
Может возникнуть соображение, что этот нехитрый вымысел — просто литературный прием автора, датирующего свое сочинение 1829 годом и не желающего признаться, что в 1824 году он был выслан из России. Но зачем ему вообще было поднимать вопрос о деле, казалось бы погребенном в петербургских архивах и как-никак набрасывающем на автора известную тень? Думаем, что с легкой руки самих ли «свиней» или Ла-Феронне об этом стало известно и во Франции, и писания Мая носят характер самооправдания.
(обратно)56
С той только разницей, что, по остроумному замечанию одного историка литературы, высказанному им в личной беседе, при простоте и доступности Пушкина грамотный и развязный Иван Александрович, знакомый с людьми, которые «пишут статейки», действительно мог быть с Пушкиным на «ты», а Шервуд и не переступал порога служебного кабинета Милорадовича.
(обратно)57
Дело это действительно не сохранилось, но отсутствие самого архива военного генерал-губернатора, где оно должно было храниться, является тому достаточным объяснением.
(обратно)58
Ср. о нем: Сербинович К. С. Н. М. Карамзин // Русская старина. 1874. Т. XI. С. 60.
(обратно)59
Отнюдь не делают чести ни характеру, ни поведению аббата Жюсти (фр.).
(обратно)60
Опыт о самоубийстве (фр.).
(обратно)61
May J. —В. Op. cit. Т. 1. Р. V.
(обратно)62
Ibid. Р. 140.
(обратно)63
Ibid. Р. 51.
(обратно)64
Ibid. Р. 41.
(обратно)65
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. V // Русский вестник. 1865. Кн. 1. С. 171.
(обратно)66
Русский архив. 1884. Т. III. С. 273, 275.
(обратно)67
Цитируется по официальному переводу. «Дело о розысканиях, произведенных старшим адъютантом главного штаба 12-й армии Сониковым».
(обратно)68
Письма графа Ф. В. Ростопчина князю П. Д. Цицианову // Девятнадцатый век. Исторический сборник. Кн. II. М., 1872. С. 14.
(обратно)69
Исторический вестник. 1896. Т. 1. С. 66–85.
(обратно)70
Нам известно, что в Смоленской губернии, где впоследствии проживал Шервуд, хранится еще ряд документов из его семейного архива, часть которых несколько лет тому назад предлагалась к использованию редакции «Красного архива». Хотя, по-видимому, большинство из них является черновиками бумаг, известных нам в чистовом виде, мы тем не менее будем чрезвычайно признательны владельцам этих документов, если они предоставят их нам в пользование. Не зная их адреса, обращаемся к ним через посредство печати.
(обратно)71
Шервуд. Из записок генерал-майора Б.-П. Берлин, 1860. С. 1.
(обратно)72
Там же.
(обратно)73
Шервуд. Указ. соч. С. 7–8.
(обратно)74
Будущим тестем Шервуда был, по-видимому, Алексей Андреевич Ушаков, родственник М. И. Глинки, заслуживший в записках композитора характеристику, резко отличающуюся от шервудовской: «Мы остановились на квартире родственника, Алексея Андреевича Ушакова, человека веселонравного и радушного, но когда он рассказывал что бы то ни было, то преувеличивал по степени повествования до самой нелепой лжи. 18-летняя дочь его, миловидная девушка, играла хорошо на фортепьяно…» (Рассказ относится к 1826 г.) // Русская старина. 1870. Т. 1. С. 472.
(обратно)75
Русская старина. 1892. Т. LXXIV. С. 241–242.
(обратно)76
Афанасьев И. П. Рассказы // Русская старина. 1879. Т. XXVI. С. 112.
(обратно)77
См. нашу статью «Ликвидация Тульчинской управы Южного общества» // Былое. 1925. № 5. С. 62.
(обратно)78
Русская старина, 1904. Т. CXVII. С. 358.
(обратно)79
Русская старина, 1882. Т. XXXV. С. 198.
(обратно)80
Русская старина, 1901. Т. CVII. С. 187.
(обратно)81
Фон-Брадке Е. Ф. Записки. // Русский архив. 1875. Т. 1. С. 206.
(обратно)82
Русская старина. 1881. Т. XXX. С. 112.
(обратно)83
Мурзакевич Н. Н. Записки // Русская старина. 1887. Т. LIII. С. 285–286.
(обратно)84
Шильдер Н. К. Император Николай I. Т. 1. СПб., 1903. С. 526, примеч. 413.
(обратно)85
Письмо барону И. И. Дибичу, 15/XII 1825 // Русская старина. 1882. Т. XXXV. С. 198.
(обратно)86
Волконский С. Г. Записки. СПб., 1901. С. 425.
(обратно)87
См. предыдущую главу.
(обратно)88
Отметим и такой факт: в августе 1825 года граф Витт писал императору: «Так как в Ришельевский лицей, в Одессу, были присланы из Петербурга два виленских профессора, замешанные в деле, случившемся в Литве, то я счел долгом поручить строгий надзор за ними тайным агентам». Шервуд постоянно ездил в Одессу, а среди бумаг 1827 года, связанных с его поездкой для обследования положения на юге, имеется донос, или записка о беспорядках в Ришельевском лицее.
(обратно)89
О деятельности Бошняка см. публикацию и комментарии Б. Е. Сыроечковского «Записка А. К. Бошняка» (Красный архив. 1925. Т. II (IX)). О доносе Майбороды — нашу статью «Ликвидация Тульчинской управы Южного общества» (Былое. 1825. № 5. Там же проделано сопоставление данных этих доносов).
(обратно)90
Самый факт субботних съездов с таким составом кажется более чем сомнительным, но мы считаем излишним останавливаться на этом вопросе.
(обратно)91
Лишний аргумент в пользу нашего предположения о службе Шервуда в виттовской полиции, уделявшей главное внимание одесским настроениям.
(обратно)92
О том, что Шервуд действительно бывал у Давыдовых, свидетельствует и декабрист Волконский: «Как человек довольно сметливый, он кое-что угадал. Его присутствие в Каменке объясняется тем, что Александр Львович Давыдов употреблял его, как большого обжору, на посылки в Крым для привоза устриц… В этих поездках Шервуд зарабатывал себе копейку. Как сметливая особа, он кое-что угадывал, может быть и от Витта имел поручение кое за чем следить…»
(обратно)93
Есть еще одна версия об истоках Шервудского доноса: так, в заметке П. Е. Эрдели «Рассказы о Пушкине» (Русский архив. 1889. Т. III. С. 404–405), со слов некоего П. П. Лария, бывшего офицера 3-го Украинского уланского полка, рассказывается следующая история: «В день полкового праздника Новомиргородского полка готовился в полку бал. Нескольким офицерам, как водится, распределены были обязанности устройства праздника. Ларию досталось угощать дам. Он попросил двух офицеров, ехавших в Киев, купить конфект. Офицеры эти были граф Булгари и Поджио. По дороге в Киев они остановились на станции Лысенки, где должны были ночевать. Войдя на станцию и узнав, что проезжих никого нет, кроме унтер-офицера их же (? — И. Т.) полка Шервуда, спавшего за перегородкой, и не предполагая в нем знания итальянского языка (он его и в самом деле не знал. — И. Т.), они за самоваром начали разговаривать о предполагавшемся заговоре. Шервуд на другой же день поехал к графу Витту и рассказал о слышанном». Можно думать, что и в этой легенде повинен Шервуд, так как с его слов она же передана в другом месте, но в ином варианте и с романтическими подробностями в стиле «удольфских таинств». На месте Булгари и Поджио оказываются уже Пестель и Муравьев. Узнав, что Шервуд подслушал их, Пестель хочет зарубить его, но по просьбе мягкосердечного Муравьева отпускает, взявши страшную клятву молчания. Передумав, Пестель заряжает пистолеты и отправляется в тщетную погоню за Шервудом, уже помчавшимся к екатеринославскому генерал-губернатору, а оттуда в Таганрог… — См.: Русская старина. 1892. Т. LXXIV. С. 241–242.
(обратно)94
Дело графа Андрея Булгари // ГА РФ. Ф. XXI. № 157.
(обратно)95
Ср. его письма: Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925.
(обратно)96
Которого я ценю и уважаю более всего в мире (фр.).
(обратно)97
Подлинник письма написан по-французски; перевод его напечатан в журнале «Каторга и ссылка», 1929, № 2.
(обратно)98
См. о последнем: Штрайх С. Я. Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX в. М., 1929.
(обратно)99
Нашей семьи (фр.).
(обратно)100
Шильдер Н. К. Император Александр I. Т. IV. С. 336.
(обратно)101
Эту же точку зрения целиком воспринял и А. А. Кизеветтер в статье «Император Александр I и Аракчеев». — См.: Исторические очерки. М., 1912. С. 399.
(обратно)102
В воспоминаниях Д. К. Тарасова имеется маловероятное сообщение о том, что в ночь с 10 на 11 ноября в Таганрог прибыл Шервуд, которого Александр секретно принял у себя в кабинете и в ту же ночь отправил назад, послав вслед за ним полковников Николаева и Фридерихса. Какие воспоминания лежат в основе этой записки, мы не знаем, но несомненно, что Тарасов путает. — См.: Русская старина. 1872. Т. VI. С. 122.
(обратно)103
Так, по крайней мере, можно судить по его донесению от 18 ноября, опубликованному, как и цитированные бумаги Николаева, Н. А. Рубакиным в эмигрантском журнале «Воля России» за декабрь 1925.
(обратно)104
Шереметева В. П. Дневник Варвары Петровны Шереметевой, урожденной Алмазовой. 1825–26 гг. (Из архива Б. С. Шереметева). М., 1916. С. 166. Письма адресованы Екатерине Васильевне Шереметевой.
(обратно)105
Там же. С. 187.
(обратно)106
Там же.
(обратно)107
Полное собрание законов. № 3750.
(обратно)108
Полное собрание законов. № 3622.
(обратно)109
Высшая полиция (фр.).
(обратно)110
Комаровский Е. Ф. Записки // Русский архив. 1867. С. 754. Отдельное издание: СПб., 1914. С. 138.
(обратно)111
Froment М. La police dévoilée… Т. 1. Paris, 1830. P. XXVI.
(обратно)112
Fouche J. Mémoires. T. 1. Bruxelles, 1825. P. 117. Трудно сказать, в какой мере эти мемуары действительно принадлежат Фуше. Впрочем, для наших целей этот вопрос не играет особой роли.
(обратно)113
Ibid. P. 119.
(обратно)114
Ср.: Троцкий И. До icтopii раволюцийного руху на Украiнi на початку XIX ст. // Прапор марксизму. 1930. № 1–2.
(обратно)115
Жихарев С. П. Записки современника. М., 1890. С. 273.
(обратно)116
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. III. М., 1864. С. 110.
(обратно)117
Варадинов Н. История Министерства внутренних дел. Ч. II. Кн. 1. СПб., 1859. С. 29.
(обратно)118
Жихарев С. П. Записки современника. С. 381.
(обратно)119
Корф М. А. Деятели и участники падения Сперанского // Русская старина. 1902. Т. CIX. С. 487–488, примеч.
(обратно)120
Цит. по: Пресняков А. Е. Александр I. Пг., 1924. С. 184.
(обратно)121
Ср. у Вигеля: «Незадолго перед тем граф Милорадович, сам собою, из самого себя сочинил нечто в виде министра тайной полиции». — См.: Русский вестник. 1865. Т. 8. С. 597.
(обратно)122
Михайловский-Данилевский А. И. Записки о вступлении на престол императора Николая I // Русская старина. 1890. Т. LXVIII. С. 512–513.
(обратно)123
Русская старина. 1881. Т. XXXII. С. 671.
(обратно)124
Русские пропилеи. Т. II. М., 1916. С. 106–107.
(обратно)125
Шильдер Н. К. Император col1_0 С. 664–666.
(обратно)126
Там же. С. 465–466.
(обратно)127
Буквально: свидетельство о бедности (лат.) — недомыслие, скудоумие.
(обратно)128
Пресняков А. Е. Апогей самодержавия. Л., 1925. С. 41.
(обратно)129
Записка эта приведена Шильдером в сочинении «Николай I», а также в «Русской старине» (1900. Т. CIV. С. 615–616).
(обратно)130
Если Николай и не читал «Русской правды», то Бенкендорф несомненно был с нею знаком, и, может быть, даже ранее составления своей записки: последняя, по-видимому, не датирована и отнесена Шильдером к январю только предположительно.
(обратно)131
Пестель П. И. Русская Правда: Наказ Верховному Правлению. СПб., 1906. С. 110.
(обратно)132
Вяземский П. А. Из старой записной книжки // Русский архив. 1873. С. 1788. (В приводимом диалоге игра слов: «Савари или Фуше?» — «Савари, порядочный человек». — «Ах, разницы нет».)
(обратно)133
В своих мемуарах он пишет о жандармах, которыми командовал: «Jamais l’empereur ne les a chargé d’aucune police secrete et jatteste sur 1’honneur gu’avant d’etre moi-même le chef de celle d’états, je n’avais pas la première idée de ce, gue cela pouvait étre’» (Duc de Rovigo. Mémoires. Т. III. Paris, 1829. P. 235). — «Никогда император не давал им поручений по секретной полиции, и я клянусь честью, что прежде чем я стал главой государственной полиции, у меня и мысли не было, что это может случиться» (фр).
(обратно)134
Обстоятельства совместной поездки Шервуда и Бибикова заимствуются нами из «Дела III Отделения канцелярии Его Императорского Величества № 1 за 1827 год о поездке полковника Бибикова по разным губерниям».
(обратно)135
Ср.: Шильдер Н. К. Николай I. Т. I. С. 468–469.
(обратно)136
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. II. М., 1864. С. 23.
(обратно)137
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. III. М., 1864. С. 97.
(обратно)138
«Один исправник И. в Уфе говорил, что раз известного воришку он видит на козлах ямщиком. „Что, Абдулка, — спрашивает он, — разве перестал красть?“ — „Бросил, бачка, подумал: что напрасно на чужой человек работать?“» (Листовский И. С. Рассказы из недавней старины // Русский архив. 1882. Т. I. С. 178.)
(обратно)139
Министерство внутренних дел. 1802–1902. Исторический очерк. СПб., 1901. С. 18–19.
(обратно)140
Русские пропилеи. Т. II. М., 1916. С. 106.
(обратно)141
Русская старина. 1881. Т. XXXII. С. 544.
(обратно)142
Там же. С. 548.
(обратно)143
Там же. С. 538.
(обратно)144
Точный перевод: «всеобщее благополучие в России» (фр.).
(обратно)145
Русская старина. 1902. Т. CXI. С. 100–101.
(обратно)146
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. III. М., 1864. С. 99.
(обратно)147
Вигель Ф. Ф. Воспоминания. Ч. II. М., 1864. С. 128–129.
(обратно)148
Русский архив. 1876. Т. I. С. 61.
(обратно)149
История его похождений является предметом исследования С. Я. Штрайха в книге «Роман Медокс. Похождения русского авантюриста XIX в.».
(обратно)150
О Варшильяке (по другим данным — Воротильяке), унтер-офицере 2-го Украинского уланского полка, имеются данные, что он выдавал себя за члена Северного тайного общества, за что был разжалован в рядовые. Ср.: Деятели революционного движения в России: Биобиблиографический словарь. М., 1927–1934. Т. I. Ч. I. С. 38.
(обратно)151
Пушкин А. С. Сочинения. Т. 2. Переписка. СПб., 1908. С. 8.
(обратно)152
Уже в 1828 году великий князь Константин писал Бенкендорфу: «Вследствие сообщаемых вами сведений касательно Сильвестровича, который, как вас уведомляют из С.-Петербурга, бродит по управляемым мною губерниям… выдавая себя за агента высшей полиции, я поспешил дать местным… властям самые точные указания, чтоб этот человек был отыскан, арестован… Судя по имени этого человека и в особенности по его поступкам, можно полагать, что это тот самый, о котором я переписывался с вами в прошедшем году, когда некий Сильвестрович, посланный с поручением от полковника Бибикова, разъезжал по губерниям и который вследствие вашего сообщения ко мне от 16 марта того же года был освобожден из-под ареста в Гродне». 1 /VI 1828 г. — См.: Русский архив. 1884. Т. III. С. 324.
(обратно)153
Дело III Отделения собственной Е. И. В. канцелярии I экспедиции № 123, 1828 г. «О гвардейском поручике Шервуде-Верном, отправившемся в Москву с титулярным советником Платоновым».
(обратно)154
Русские пропилеи. Т. II. М., 1916. С. 107.
(обратно)155
См. о ней письма Бенкендорфа М. М. Брискорну и А. К. Крыжановскому (Русская старина. 1890. Т. XCIV. С. 454).
(обратно)156
Рынкевич был принят братом Юшневского в общество, но наказанию не подвергся. — См.: Оксман Ю. Г. Мытарства декабриста Рынкевича // Декабристы. Неизданные материалы и статьи. М., 1925.
(обратно)157
Обер-аудитор и казначей штаба.
(обратно)158
Русская старина. 1881. Т. XXXII. С. 104.
(обратно)159
Там же.
(обратно)160
Дело о доносе Голицына известно нам в копии, находящейся в бумагах Шильдера. См. также его статью «Два доноса в 1831 г.» (Русская старина. 1898. Т. XCVI).
(обратно)161
Муравьев-Карский Н. Н. Записки // Русский архив. 1894. Т. I. С. 415.
(обратно)162
Исторически, математически, логически и победоносно (фр.).
(обратно)163
Советующимся с м-llе Ленорман и с женщиной, убитой в сентябре 1824 г. (фр.). М-llе Ленорман — француженка-прорицательница. Второй намек неясен. Возможно, что здесь описка: «1824» вместо «1825» — тогда речь идет о любовнице Аракчеева, Н. Ф. Минкиной, с которой, по неосновательным, впрочем, слухам, был близок Александр.
(обратно)164
Ярость снедает меня, ад в сердце моем (фр.).
(обратно)165
Хотяинцову, по-видимому, в связи с голицынским доносом допросили, и она показала в духе своих компанионов, что ей известны проекты действительного тайного советника Сперанского, «насчет конституции и вольности крестьян»; одновременно она дала понять, что в старину ей доверяли не так, как сейчас, что сам Александр давал ей в Таганроге ответственные поручения по делу декабристов и что вообще ей известно многое… — Ср.: Русская старина. 1898. Т. XCIV. С. 454.
(обратно)166
Пржецлавский О. А. Воспоминания // Русская старина. 1883. Т. XXXIX. С. 482.
(обратно)167
Яковлев А. А. Записки. М., 1915. С. 22.
(обратно)168
Тургенев А. И. Записки // Русская старина. 1885. Т. XLVIII. С. 260. См. об участии Пукалова в деле Баташевых. — Там же. С. 263–264.
(обратно)169
Обстоятельства этого дела мы заимствуем из дела III Отделения «О намерении капитана Шервуда-Верного воспользоваться имением коллежского регистратора Баташева».
(обратно)170
Корф М. А. Деятели и участники в падении Сперанского // Русская старина. 1902. Т. CIX. С. 485.
(обратно)171
Долгоруков И. М. Капище моего сердца. М., 1890. С. 22–23.
(обратно)172
Долгоруков П. Правда о России. Т. 1. Париж, 1861. С. 40–41.
(обратно)173
Донесение это найдено нами в военном архиве.
(обратно)174
Русская старина, 1899. Т. XCIX. С. 288–289.
(обратно)175
См.: Русская старина. 1888. Т. IX. С. 508–509.
(обратно)176
Дело III Отделения I экспедиции № 82 1834 г. «О задержанном под именем шляхтича Скуратовского, назвавшемся потом подпоручиком польских войск Горским, и о показании его об укрывательстве мятежников Станкевича, Матусевича и др.».
(обратно)177
Письмо от 10 августа 1826 г. // Русская старина. 1881. Т. XXXII. С. 194.
(обратно)178
Дело Ш Отделения I экспедиции № 60 1840 г. «О неблаговидных поступках канцеляриста Робуша и отставного подполковника Шервуда-Верного».
(обратно)179
Мы могли познакомиться только с его заглавием по «Алфавиту» III Отделения и соответствующей описи.
(обратно)180
Оригинал, за исключением слов, приведенных курсивом, написан по-французски.
(обратно)181
К этому месту Бенкендорф сделал сноску: «И он его даже не знает, никогда его не видел и никогда мне не говорил о нем».
(обратно)182
Дело III Отделения собственной I экспедиции № 273 1842 г. «О противозаконных действиях подполковника Шервуда-Верного и графини Струтинской». Из этого же дела мы заимствуем все дальнейшие сведения.
(обратно)183
Хамар-Дабанов Е. Проделки на Кавказе. Ч. II. СПб., 1844. С. 150.
(обратно)184
Покровский М. Н. Русская история с древнейших времен. Т. IV. М., 1920. С. 6.
(обратно)185
Пресняков А. Е. Апогей самодержавия. Л., 1925. С. 37.
(обратно)186
Герцен А. И. Былое и думы. Ч. IV. // Герцен А. И. Полн. собр. соч. Т. XIII. Пг., 1919. С. 60.
(обратно)187
Ломачевский А. Записки жандарма // Вестник Европы. 1872. Март. С. 245.
(обратно)188
Ср.: Стогов Э. Очерки, рассказы и воспоминания // Русская старина. 1878. Т. XXIII. С. 641
(обратно)189
Мы не имели случая проверить достоверность этих нот. Впрочем, они могли быть сочинены и самим Шервудом при помощи Струтинской, обладавшей композиционными способностями.
(обратно)190
Смоленские львы (фр.).
(обратно)191
Э. Стогов рассказывает в своих воспоминаниях: «Пишет Дубельт: „Под твой надзор назначен бывший волынский губернский предводитель, граф Петр Мошинский. Облегчи его положение, что от тебя зависит“. (Мошинский привлекался по делу декабристов.)».
(обратно)192
Русская старина. 1897. Т. ХСII. С. 389. Под «упущением по части цензуры» разумеется разрешение печатать портрет декабриста А. А. Бестужева (Марлинского) в издании Смирдина «Сто русских литераторов». Это разрешение было дано Мордвиновым и послужило поводом к его отставке.
(обратно)193
Долгоруков П. Правда о России. Ч. 1. Париж, 1861. С. 6–7.
(обратно)194
Известный смоленский богач того времени.
(обратно)195
Читатель узнает манеру письма Струтинской, по-видимому, оба прошения писаны одной рукой.
(обратно)196
«Исповедь» Шервуда-Верного была напечатана Н. К. Шильдером в январской книжке «Исторического вестника» за 1896 г. Заглавие придумано, по-видимому, самим Шильдером, потому что в своей вступительной заметке он называет публикуемый документ «Записками, или Исповедью». Об обстоятельствах написания записок Шильдер ничего не сообщает, хотя и получил их от дочери Шервуда. По незаконченности мемуаров можно предположить, что Шервуд работал над ними незадолго до смерти — иначе трудно объяснить, почему они не доведены до самого торжественного момента в жизни автора — получения дворянства и перевода в гвардию. Скорее всего, Шервуда побудила взяться за перо брошюра о нем Барка-Петровского, вышедшая в 1860 г. В основных фактах «Исповедь», по-видимому, соответствует действительности, но беллетристически развиты отдельные детали (особенно диалоги) и обойдены молчанием некоторые скользкие места.
(обратно)197
Речь идет о декабристе князе А. И. Барятинском, адъютанте главнокомандующего 2-й армии графа П. X. Витгенштейна. Материалист и атеист, Барятинский был одним из наиболее горячих приверженцев Пестеля. Генерал Высоцкий, принимавший Барятинского и Шервуда, — богатый киевский помещик (см. Сулима С. Заметки старого киевлянина // Киевская старина. 1882. № 12. С. 623–624).
(обратно)198
Рассказ Шервуда о вольных обеденных разговорах вполне правдоподобен. Во многих показаниях современников говорится об открытом осуждении правительства в среде фрондирующего дворянства 20-х гг. Правда, разговоры эти обычно велись в отвлеченной форме, «о каком-то будущем блаженстве», как отмечает Шервуд; более конкретные политические высказывания могли вести и к вполне конкретным последствиям, особенно если за столом сидели Шервуды…
(обратно)199
А. С. Голицын был одним из представителей большой семьи Голицыных, о которой много говорит Ф. Ф. Вигель в 1-м томе своих записок. Перечисляя младших членов семьи, он, между прочим, сообщает: «Другой, Александр, был умен и храбр; но ложные понятия о чести и слишком упрямый нрав рано остановили его на военном поприще, которое бы он мог с успехом проходить» (Воспоминания. Т. 1. М., 1891. С. 128). С В. Л. Давыдовым А. С. Голицын был связан, кроме родства и соседства, и совместным воспитанием в пансионе аббата Николаи.
(обратно)200
Имение Давыдовых Каменка была центром так называемой Каменской управы Южного тайного общества. Туда входили В. Л. Давыдов, С. Г. Волконский, братья А. и И. В. Поджио, В. Н. Лихарев, А. В. Ентальцев. В эту же управу вошел и провокатор Бошняк. Собрания в доме Давыдовых были довольно частые, причем обстановка, рисуемая Шервудом, находит подтверждение в записках И. Д. Якушкина: так, во время пребывания последнего в Каменке собрания заговорщиков происходили на половине В. Л. Давыдова, и прочие гости (А. С. Пушкин, Н. Н. Раевский), не принимавшие участия в этих беседах, смотрели «с напряженным любопытством на все происходящее вокруг» (Якушкин И. Д. Записки. М., 1905. С. 48). Не принимал участия ни в обществе, ни в политических разговорах и брат В. Л. Давыдова, А. Л., ленивый барин, окрещенный Пушкиным «величавым рогоносцем». Возможно, что и Шервуду пришлось быть свидетелем собраний, но, очевидно, они были настолько обычны, что подозрений не вызывали; как выяснено в тексте, версия Барка-Петровского об открытиях Шервуда в Каменке совершенно неправдоподобна. Между прочим, В. Л. Давыдову было поручено связаться с военными поселениями, и возможно, что он принимал у себя Шервуда не без задней мысли.
(обратно)201
Граф Я. Н. Булгари, действительный статский советник в отставке, занимался в это время главным образом коммерческими делами и управлял имениями упоминаемой ниже графини А. Р. Чернышевой. В тайном обществе не состоял и если и занимался политикой, то только греческой (был связан с Ипсиланти и тегеристами). По доносу Шервуда был арестован и привлечен к следствию по делу декабристов, но уже в начале апреля освобожден без последствий.
(обратно)202
Разговор о конституции малоправдоподобен, тем более что из приводимых слов остается неясным, считал ли Вадковский ее слишком радикальной или, наоборот, чрезмерно консервативной. Как республиканец и последователь Пестеля, он должен был относиться к конституции 1791 г., монархической и основанной на высоком цензе, отрицательно. Это подтверждают и его слова об уничтожении царской фамилии. С другой стороны, ссылка на Биньона несколько противоречит такому толкованию. Скорее всего, эти детали измышлены Шервудом.
(обратно)203
Имеется в виду Луи-Пьер-Эдуард Биньон (1771–1841), французский историк и государственный деятель, наполеонист, позднее, в период реакции, либерал. Большинство исторических работ Биньона посвящено дипломатическим вопросам. Здесь речь идет, по-видимому, о его книге «Ducongrés de Troppau» 1821 г. («О конгрессе в Троппау») или же о «Des cabinets et des peuples depui 1815 г.» 1822 г. («Правительства и народы после 1815 г.»).
(обратно)204
Характерно, что имя Вейсгаупта стоит в одном ряду с Кромвелем и Робеспьером. Адам Вейсгаупт (1748–1830), профессор Ингольштадтского университета в Баварии, был основателем одного из наиболее радикальных течений в масонстве — ордена иллюминатов. Несмотря на обычную для масонства нравственно-культурную деятельность, орден, буржуазный по своей идеологии и антипоповский (в особенности антииезуитский) по направленности, вызвал гонения и ненависть со стороны феодально-реакционных сил, особенно в период Французской революции. «Возбужденное воображение реакционеров видело иллюминатов, считало их тысячами, открывало их филиальное отделение в Париже: к иллюминатам причисляли графа Мирабо, писателя маркиза Казотта, знаменитого химика Лавуазье и даже Максимилиана Робеспьера» (Васютинский А. Орден иллюминатов // Масонство в его прошлом и настоящем. Т. 1. М., 1914. С. 123). С этой же меркой подходило к иллюминатам русское правительство, сильно опасавшееся их «революционных происков», что открывало широкие возможности перед разного рода доносителями.
(обратно)205
Ошибка. Ф. Ф. Вадковский был не поручиком, а прапорщиком, и не арзамасского, а Нежинского конно-егерского полка.
(обратно)206
Весь этот эпизод кажется весьма сомнительным, как по удивительной осведомленности дамы, так и по рыцарскому поведению Шервуда, даже императору не открывшего ее фамилии. В документальных данных нет никаких следов этой встречи. Если в основе и лежит какое-нибудь зерно истины, то единственно возможно, что Шервуд действительно встретился и беседовал с какой-то родственницей декабриста, а уже впоследствии, задним числом, сделал из этого разговора выводы, которые у него не могли появиться до получения более подробных сведений об обществе.
(обратно)207
Шервуд действительно не сообщил Аракчееву обстоятельств дела, о чем свидетельствует сам Аракчеев в препроводительном рапорте Александру.
(обратно)208
П. А. Клейнмихель, впоследствии граф, главноуправляющий путями сообщения и любимец Николая I, в это время занимал должность начальника штаба военных поселений, состоял в чине генерал-майора, а не генерал-лейтенанта, как пишет Шервуд.
(обратно)209
Имеется в виду К. И. Огарев, позже адъютант графа П. А. Клейнмихеля.
(обратно)210
Указание на недовольство военных поселян не требовало особой проницательности, так как несколько лет до этого, в 1819 г., происходили большие волнения как разв южных поселениях. Сообщая, что южные поселяне обременены работой и умирают с голоду, и прибавляя, что «ни Вашему Величеству, ни графу Алексею Андреевичу об этом ничего не известно», Шервуд тем самым делал замаскированный донос на графа Витта; очевидно, это была контрмера на случай, если Витт станет его преследовать за нарушение субординации.
(обратно)211
Точки поставлены в подлиннике.
(обратно)212
Записка, поданная Шервудом, находится в деле № 3 фонда XXI «Донесения на Высочайшее имя о начальных открытиях Тайного злоумышленного общества» и представляет интерес для ознакомления с планами Шервуда и Александра I относительно открытия Тайного общества. Приводим ее ниже полностью.
Государь император изволил читать. Каменный остров
30-го ИЮЛЯ 1825.
Находясь при бывшем Командире 1-го Бугского Уланского полка полковнике Гревсе 2-м, в городе Вознесенске, с мая месяца прошлого 1824 года, я имел от него разные поручения и командировки, и сие дало мне случай узнать, известное.
Для дальнейшего открытия я предполагаю следующее:
1) Отправить меня к генерал-лейтенанту графу Витту и, объявив ему, что я был взят по подозрению, в деле офицера Сивина, сделавшего похищение в Москве у одного грека, и оказался невинным, а как сем случае, просил о увольнении меня в отпуск на год, для поправления расстроенного состояния отца моего, то государь зная отца и лично, изволил изъявить на мою просьбу высочайшее соизволение.
2) Получа от графа Витта отпуск и забрав все мои вещи и находящегося при мне человека, отправиться в город Одессу, взять рекомендательные письма от управляющего одесской таможней колежского советника Дмитрия Николаевича Плахова, моего хорошего знакомого, по случаю расположения корпуса генерала Бороздина в Орловской губернии, к губернатору г[осподину] Сонцову, с которым Плахов в коротких связях, и к брату его родному, полковнику Плахову, который командует Екатеринославским кирасирским полком, что и отдалит всякое на меня подозрение.
3) Получа сии письма, отправиться в Орловскую губернию и отдав письма по принадлежности, стараться снискать себе знакомство с штаб- и обер-офицерами корпуса Бороздина, где и полагаю сделать открытие.
4) Стараться узнавать каждого в особенности, образ мыслей, разговорами о существующих ныне правлениях вообще, если который будет говорить приметным образом на счет правления в России изъявляя свое неудовольствие, или общее негодование, соглашаться с ним усилив и свое, извлекая от него, не предвидит ли он какого изменения в правлении, дать при том ему чувствовать, что имею в предмете многих, которые жаждут вместе со мною перемены и наконец, заметив из слов его, что он действительно должен быть в обществе, удивляться, что до сих пор нет столь решительных людей, которые предприняли бы, какие-нибудь на то меры, таковой без сомнения не упустит случай принять человека в общество с его образом мыслей совершенно согласного.
5) Какого бы роду общество ни было, с одинаковой стойкостью и дальновидностью не все быть могут, почему от того, который слабее, стараться получить что-нибудь письменно на счет онаго, употребив на то, всю возможную осторожность.
6) Если по открытии сообщников невозможно получить от них письменно о их намерении, или заставить при свидетелях говорить, тогда избрав удобное место к помещению присланного чиновника (которого я буду в свое время испрашивать), так, чтобы он мог слышать весь разговор ясно, и удостоверил сам, взять сих сообщников посредством правительства.
7) Главная цель моя будет употребить все возможное, узнать откуда оно имеет свое начало, у кого находится сделанное на то предложение, и как оно распространено, стараясь узнавать: от кого кто знает и кому уже им передано, и так, переходя от одного к другому, обнаруживать их, с ясными доказательствами.
8) Начать предполагаю, Нежинского конно-егерского полка с прапорщика Вадковского, который, как мне известно, состоит в сем обществе наблюдая за всеми его движениями.
9) Будучи из Одессы, заехать к графу Булгари, с которым я хорошо знаком, и который известен о сем Обществе, ибо ясно слышал его, о сем разговор с прапорщиком Вадковским, он должен быть в Белгороде, или непременно в Харькове, и уведомлю его, что будто бы по делу Сивина, меня фельдегерь брал, о чем он верно знает и постараюсь у него извлечь также возможное, ибо он о сем обществе знает. Сверх того узнал я, от его комиссионера грека Ивана Кириакова, что когда генерал Дашков или другой кто, осматривал у графа Булгари бумаги, то пук оных, был секретно вынесен человеком его, и будто бы сожжен.
10) Грека Ивана Кириакова я надеюсь сыскать близ Одессы на катарах графа, от которого я постараюсь также сделать открытие, ибо сего грека я совершенно привязал к себе и восстановил его некоторым образом против графа, у которого он исполняет все препоручения.
11) Я полагаю, что нужно бы было дать секретное повеление, чтоб письма адресованные на имя Нежинского конно-егерского полка прапорщика Вадковского, были присылаемы сюда, только нужно быть осторожну с Воронежской губерниею, ибо сестра его родная за губернатором той губернии, Кривцовым.
12) Обо всем, что я открою, я буду доносить на имя начальника Штаба военных поселений, по эстафете, или с нарочным доверенным мне человеком, ежели оно будет нужно.
На издержки выдать мне 1000 рублей.
Июль 26 дня 1825 года 3-го Украинского Уланского полка унтер-офицер Шервуд
Тысяча рублей получил в чем и подписываюсь
3-го Украинского Уланского полка унтер-офицер Шервуд.
(обратно)213
«Разругал» Шервуда великий князь Константин Павлович, который, прочитав сводку доносов Шервуда, Майбороды и Витта, со свойственной ему решительностью высказал Дибичу свое мнение следующим образом: «Офицер Вадковский, которого я знаю, есть дрянь, и все прочие, о которых упоминается, и которых хотя не знаю, но тоже дрянь, унтер-офицер 3-го Бугского уланского полка Шервуд должен быть большой плут, и за ним нужно весьма крепко и близко поглядеть… а мне кажется, что главная всему этому есть пружина генерал-лейтенант граф Витт, который, чтобы подслужиться покойному Государю Императору и сделаться нужным, нарочно наделал беспокойства и подвел свои хитрые пружины; тут, может быть, явятся еще какие письма, которые будут перехватываться, но мне кажется, что все это плутни…»
Непонятно, каким образом Шервуд рассчитался со своим обидчиком. Может быть, он имеет в виду действия своего агента Сильвестровича, причинявшего немало беспокойства Константину Павловичу.
(обратно)214
Михаил Александрович Шумский был незаконным сыном Аракчеева и жил при нем в качестве «воспитанника». Благодаря поддержке Аракчеева он был назначен флигель-адъютантом, но уже в 1826 г. потерял это звание и был переведен на Кавказ.
(обратно)215
Декабрист Г. С. Батеньков был не полковником, а подполковником инженерного корпуса. В 1823 г. он был прикомандирован к управлению военными поселениями, а затем назначен членом совета главного над военными поселениями начальника, т. е. Аракчеева, у которого пользовался известным влиянием. Внимание Батенькова к Шервуду последний напрасно ставит в связь с его участием в заговоре, потому что Батеньков вступил в Северное общество уже после пребывания Шервуда в Грузине.
(обратно)216
Генерал от артиллерии П. И. Мелиссино был покровителем молодого Аракчеева, и в память его Аракчеев и устроил в своем Грузине особый «остров».
(обратно)217
Тем не менее А. А. Шишков по доносу графа Витта был арестован и привлечен к следствию по делу декабристов, но, «по изысканию Комиссии, как Шервуд, так и прочие члены отозвались, что Шишков к обществу не принадлежал». Подозрения Шервуда были вызваны, вероятно, либеральными настроениями Шишкова, выразившимися, между прочим, в написании нескольких вольнодумных стихотворений. Как поэт Шишков пользовался некоторой известностью; был в дружбе с Пушкиным, содействовавшим после его смерти в 1823 г. устройству дочери Шишкова и напечатанию его сочинений.
(обратно)218
Это утверждение, по-видимому, ложно, так как ни в письме Вадковского к Пестелю (Каторга и ссылка. 1929. Кн. 2), ни в других документах нет указаний, чтобы Шервуд выдавал себя за члена общества; наоборот, Вадковский «принял» его и сразу дал ему звание «боярина».
(обратно)219
Пузин. О нем в «Алфавите декабристов» сказано: «Был взят по подозрению, которое навлек на себя перепиской с Шервудом и уведомлением сего последнего о месте нахождения Пестеля. Но по изысканию Комиссии оказалось, что он не принадлежал к обществу и о существовании оного не знал».
(обратно)220
Признание выдуманное, но которое мне чуть не стоило жизни впоследствии.
(обратно)221
Любовница и домоправительница Аракчеева Н. Ф. Минкина за жестокое обращение с подчиненными ей крестьянами была убита дворовыми людьми 10 сентября 1825 г. О состоянии Аракчеева убедительно говорит его письмо к царю: «Случившееся со мною несчастье, потерянием верного друга, жившего у меня в доме 25 лет, здоровье и рассудок мой так расстроило и ослабило, что я одной смерти себе желаю и ищу, а потому и делами никакими не имею сил и соображения заниматься. Прощай, батюшка, вспомни бывшего тебе слугу; друга моего зарезали ночью дворовые люди, и я не знаю еще, куда осиротевшую свою голову преклоню, но от сюда уеду» (Шильдер Н. К. Император Александр I. Т. IV. СПб., 1904–1905. С. 358–359). За убийство своей наложницы Аракчеев, при помощи Клейнмихеля, отомстил жесточайшей расправой над своими крестьянами.
(обратно)222
Эта ламентация Шервуда, очень пришедшаяся по вкусу Шильдеру и великому князю Николаю Михайловичу, не имеет фактических оснований.
(обратно)223
Официальным предлогом пребывания Николаева в Харькове был ремонт лошадей, а не покупка кож.
(обратно)224
Поручик граф Н. Я. Булгари был принят Вадковским в тайное общество и предназначался для связи между Вадковским и Пестелем. Вадковский ждал его, чтобы отправить с ним письмо Пестелю.
(обратно)225
Весь этот рассказ об отравлении представляется выдумкой, тем более что по нашему предположению Шервуд и не говорил Вадковскому о своих связях с Н. Булгари. Впрочем, в семье Булгари к Шервуду относились довольно подозрительно, что видно из показаний Андрея Булгари, считавшего Шервуда шпионом.
(обратно)226
Донос Шервуда заимствован нами из дела I экспедиции III Отделения, дело № 273 1842 г. «О противузаконных действиях отставного подполковника Шервуда-Верного и графини Струтинской». Печатается с соблюдением особенностей орфографии подлинника. К сожалению, технические причины сделали невозможной сверку перед печатанием имевшейся у нас копии с оригиналом.
(обратно)227
Письмо адресовано великому князю Михаилу Павловичу, неоднократно оказывавшему Шервуду свое покровительство.
(обратно)228
Ответ III Отделения на обвинения Шервуда по части судопроизводства см. выше.
(обратно)229
Л. А. Перовский с 1841 г. был министром внутренних дел. Так как министерство это, имевшее собственную полицию, было до известной степени антагонистом III Отделения, то Шервуд не упускает случая косвенно уязвить своих противников.
(обратно)230
О доходах полицейских чиновников Шервуд пишет сознанием дела. Вполне авторитетный современник говорит об этом сюжете следующее: «Мудрено ли, что многие из них злоупотребляли своею властью? Мудрено ли, что они годовые доходы свои считали десятками тысяч? Мудрено ли, наконец, что один из частных приставов, объехавший все пять частей света, с клятвою уверял, что 2-я Адмиралтейская — лучше всех других?» (Ломачевский А. Рассказы из прежней полицейской жизни в Петербурге // Русская старина, 1874. Т IX. С. 780).
(обратно)231
Прекрасной иллюстрацией правильности обвинений Шервуда является идущая и сейчас на сцене пьеса Сухово-Кобылина «Дело».
(обратно)232
В 30-х гг. сначала Е. Ф. Канкриным, а потом П. Д. Киселевым (в качестве министра государственных имуществ) была произведена реформа положения государственных крестьян, формально ставившая себе задачу изъятия казенных крестьян из-под власти полицейского произвола, а фактически создавшая аппарат еще более жестокого их угнетения. Жалобы государственных крестьян и дали Шервуду основание для этого пункта, вызвавшего следующую реплику III Отделения:
«Если справедливо, что многие отзываются невыгодно о расположении Министерства государственных имуществ, которые не могут быть совершенны и по новости сего учреждения и по трудности самого дела, то вполне несправедливо, будто все государственные крестьяне готовы к возмущению; неудовольствия же и возмущения, по местам происходившие, составляют частность и не заключают в себе ничего общего».
(обратно)233
Николаевская эпоха ознаменовалась усилением репрессий против старообрядчества и разорением целого ряда старых раскольничьих центров, что, в свою очередь, повлекло рост антицерковных течений в расколе.
(обратно)234
Замечания III Отделения по этому поводу см. на с. 258–259.
(обратно)235
Слишком уверенное в добропорядочности Н. И. Греча, III Отделение не сочло нужным защищать его от довольно необоснованных наскоков Шервуда. По вопросу же о цензуре и иностранных книгах мы находим во всеподданнейшем докладе по доносу Шервуда следующие строки: «Правила цензуры нашей так строги, что чрезвычайно редко водворяются в России неблагонамеренные иностранные сочинения и еще реже таковые сочинения могут быть печатаемы в России; если же подобные случаи бывают, то в скором времени открываются, и правительство тотчас употребляет меры к отобранию и уничтожению сих книг, подвергая виновных взысканию. Впрочем, сии случаи бывают так редки, что весьма несправедливо выводить из оных общие заключения и придавать обстоятельству сему особенную важность. Если же у высших сановников и находятся запрещенные книги, то это неизбежно, и конечно не со злым намерением».
(обратно)236
Характерно, что Шервуда интересует только аристократическая струя в польском национальном движении — «красных» демократов он вовсе не замечает. По поводу этих его указаний III Отделение должно было с грустью согласиться, что, «к несчастью, происки и злоумышления польских выходцев, находящихся за границею, справедливы, но III Отделение собственной Его Величества канцелярии, через своих агентов и через переписку с посольствами, неусыпно следит за всеми действиями злоумышленников, доселе предупреждало даже их намерения и поставляло преграды им при самом начале их действий, так что эмиссары польской пропаганды не могли ни единожды нарушить спокойствия в России».
(обратно)237
Голословные обвинения против смоленских властей, не оказывавших, вероятно, Шервуду достаточного респекта, не могли, конечно, смутить III Отделение, тем более что не все из поименованных лиц оказались действительно поляками. Что касается Крисинского, то III Отделение заверяло, что он вполне раскаялся в своих националистических заблуждениях и заслуживает полного доверия.
(обратно)238
Из декабристов «скрылся» за границу только Н. И. Тургенев, которого декабрьские события застали вне России.
(обратно)239
Мало чего можно ожидать от народа, у которого монарх… деспот, а треть дееспособного населения получает плату за то, что надзирает и притесняет две других трети (фр.).
(обратно)240
Будь спокойна, он из наших (фр.).
(обратно)241
М. Ф. Орлов был одним из деятельнейших членов южной группы «Союза благоденствия» и вел в подчиненной ему 16-й дивизии, центр которой был в Кишиневе, активную революционную работу. В 1823 г., в связи с делом майора В. Ф. Раевского, Орлов был отстранен от командования дивизией и последние годы не принимал участия в делах общества. Орлов должен был подвергнуться суровому наказанию, но благодаря заступничеству брата, близкого к царю, отделался исключением из службы с ссылкой под надзор в деревню. В 1831 г. ему было разрешено переехать в Москву, где он занял видное положение в кругах дворянского общества.
Невоздержанность Орлова в разговорах на политические темы подтверждается другими источниками. Тем не менее роль его и влияние на молодежь Шервуд явно преувеличивает. По поводу смерти Орлова в 1842 г. Герцен записал в своем дневнике краткую характеристику, в которой между прочим читаем: «Молодое поколение кланялось ему, но шло мимо, и он с горестью замечал это». Тем не менее мог он хвалиться своим освобождением от кары и приписывать его какой-то таинственной «необходимости». В той же записи Герцен говорит: «Правительство смотрело на него как на закоснелого либерала и притом как на бесхарактерного человека; а либералы — как на изменника своим правилам; даже легкое наказание его в сравнении с другими декабристами не нравилось. И в самом деле неприятно было видеть на московских гуляньях и балах Мих. Фед., в то время как все его товарищи ныли и уничтожались на каторге» (Герцен А. И. Полн. собр. соч. Т. III. Пг., 1919. С. 18).
Если оценка Орлова в доносе и совпадала со взглядами правительства на этого, впрочем, неопасного отставного декабриста, то только общей озлобленностью Шервуда можно объяснить выпад его против Орловых вообще, т. е. и против любимца императора и будущего шефа жандармов А. Ф. Орлова. Выпад этот III Отделение оставило без внимания.
(обратно)242
Как указано в тексте, III Отделение объяснило, что общество, о котором говорит Шервуд, имело не политический, а эротический характер. Генерал Перфильев, которого обвиняет Шервуд, был начальником Московского жандармского округа, а Л. М. Цинский в 1834–1845 гг. состоял московским обер-полицеймейстером. Дубельт даже не счел нужным оправдывать их.
По поводу этого места доноса в докладе мы находим экскурс в сторону, предоставляющий некоторый исторический интерес: «…в недавнем времени было получено донесение, что близ Москвы в одном селении составилась секта между крестьянами в роде религиозной и соединенная с некоторыми безнравственными обрядами, также, что крестьяне, принадлежащие к этой секте, получают значительные пособия из Москвы».
(обратно)243
Московский митрополит Филарет, фигура среди русских иерархов отнюдь не ординарная, неоднократно вызывал доносы и обвинения в антиправительственной и антисинодской деятельности. Между прочим, в делах военно-ученого архива Главного штаба нам попался донос 1824 г., писанный в разгар церковнической кампании архимандрита Фотия (и, возможно, им самим), озаглавленный «Тайна», обвиняющий Филарета в покровительстве масонству и мистическим сектам, а также в допущении к печати «революционных книг».
(обратно)244
За счастливое будущее (фр.).
(обратно)245
Реплика III Отделения по этому поводу гласит следующее: «…и сии голословные, совершенно бездоказательные обвинения, вероятно, дошли до доносителя через толки и слухи, выдумываемые от праздности, и не заслуживают внимания, тем более что особы, до коих относятся обвинения, лично известны Государю Императору». Что замечание Дубельта верно, подтверждают факты. Так, дважды упоминаемый в доносе князь Леон Радзивилл был царским флигель-адъютантом, выполнял ответственные «патриотические» задания по польским делам, за что получил, по выражению Герцена, «на водку» огромные земельные подарки.
Сенатор же князь П. П. Гагарин, «весьма недовольный государем», — известный реакционер и крепостник, впоследствии заместитель председателя Государственного совета, председатель комитета министров и в 1866 г. председатель верховного уголовного суда над Каракозовым.
(обратно)246
Отставной генерал-майор П. П. Пассек, игравший видную роль среди смоленского дворянства, был принят в «Союз благоденствия» И. Д. Якушкиным. Пассек умер в 1825 г., что и дало Шервуду основание предположить, что остались неизвестными принятые Пассеком в общество лица.
(обратно)247
Смоленские львы (фр.).
(обратно)248
Весьма возможно, что Шервуд действительно подобрал букет местных «либералов». Палицын был членом Северного общества, а Швейковский и барон Черкасов, вероятно, родственники декабристов Повало-Швейковского и барона Черкасова.
(обратно)249
В тексте мы приводим оправдание Дубельта в политических обвинениях. По вопросу о взяточничестве в III Отделении он дал следующий отчет о своих материальных обстоятельствах: «В течение почти пятнадцатилетнего служения его в виду шефа жандармов он не мог приобрести состояния незаконными, следственно низкими средствами, не мог потому, что через руки его проходили и проходят всегда только такие дела, в которых защищается сторона обиженная, разоренная, с которой если бы и хотел, так взять нечего. Но Дубельт имеет собственное состояние: он женат на родной племяннице адмирала графа Н. С. Мордвинова и после кончины тестя своего получил 400 незаложенных душ и два дома в Москве; после кончины родной сестры жены его получил 400 же также незаложенных душ, сто тысяч руб. ассигнациями капитала и дом в Москве; после кончины тещи получил он двести душ и 20 тысяч руб. капитала. Имея уже эти 1000 душ, три дома и 120 тысяч руб. капитала, жена его купила 280 душ и небольшой дом, который недавно ему подарила. Но и на эту покупку она недостающее количество денег 70 тыс. руб ассигнациями заняла, при пособии графа Бенкендорфа, у г-жи Лестрелен. В 1827 году вступил он в первое общество золотоискателей и внес в оное за семь паев 15 тысяч руб. ассигнациями, которые семь паев, при благополучном развитии этого дела, дают ему уже три года по 40 тысяч ассигнациями доходу. Вот средства, которыми Дубельт приобрел хорошее состояние…»
(обратно)250
Реплика III Отделения: «На адъютанта Волковского действительно поступали жалобы, как на человека, занимающегося разными оборотами и не всегда честным образом, и за это он еще в декабре 1842 г. удален из корпуса жандармов. Что же касается до Кашинцова, то сей чиновник находится в Москве только для надзора за выходящими там периодическими изданиями… и по самому значению своему не может иметь никакого влияния…»
(обратно)251
Дальнейший текст — попытка Шервуда оправдаться по делу Дероша и Крыжановской.
(обратно)252
В «Анналах христианской философии» (фр.).
(обратно)253
Известная парижская газета.
(обратно)



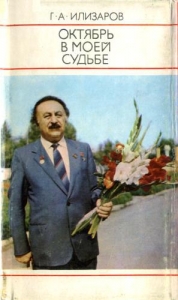

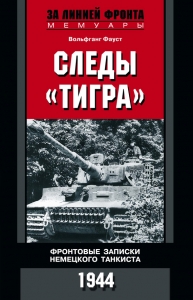
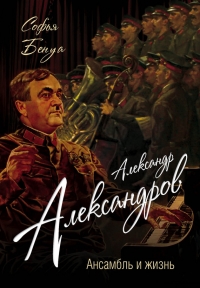
Комментарии к книге «Третье отделение при Николае I», Исаак Моисеевич Троцкий
Всего 0 комментариев