Филипп Вигель Записки Филиппа Филипповича Вигеля Части первая — четвертая
Часть первая
I
Введение.
В наше время появилось бесчисленное множество исторических записок; ими наводнен Запад Европы. Иные из них мало занимательны, другие мало правдивы; но все могут, для будущих историков, быть более или менее полезны. Сии источники, иногда весьма мутные, быв собраны, пропущены сквозь беспристрастную критику, очищены вкусом и гением, могут составить величественный, ясный поток, коим Карамзины грядущих времен будут напоять любопытную жажду к познаниям, более и более увеличивающуюся в моем отечестве.
Давно родилась во мне мысль и желание обратиться в один из сих источников, продлить к концу приближающееся, тленное и малозначительное бытие мое, превратить его в существование столь же неизвестное, невидимое, в журчание неслышимое, с надеждою случайно брызнуть когда-нибудь из мрака и земли, и быть замечену каким-нибудь великим мужем, который удостоит приобщить меня к своему бессмертию или, но крайней мере, долговечно.
Обстоятельства, неблагоприятствующие намерению моему, препятствовали мне доселе приводить его в исполнение. Они не переменились, но я решился вопреки им приступить к труду сему, столь заманчивому, быть может, бесполезному для других, но для меня уже тем полезному, что доставляет мне занятие на весь остаток дней моих.
Но большой части исторические записки составляются государственными людьми, полководцами, любимцами царей, одним словом, действующими лицами, которые, описывая происшествия, на кои они имели влияние и в коих сами участвовали, открывают потомству важные тайны, едва угадываемые современниками: их записки — главнейшие источники для истории. Но если сим актерам ведомо всё закулисное, то между зрителями разве не может быть таких, коих замечания пригодились бы также потомству? Им одним могут быть известны толки и суждения партера; прислушиваясь к ним внимательным ухом, они в тоже время могут зорким оком проникать в самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарены умом наблюдательным и счастливою памятью, то сколько любопытного и неизвестного могут сообщить они своим потомкам!
От самого рождения, природой и Фортуной быв осужден, по мнению моему, более чем на ничтожество, во всём получив от судьбы посредственность в удел, я однако же беседовал много с мудрейшими из моих соотечественников, был в самых близких сношениях с просвещеннейшими из них; глупцы и невежды мне также вовсе не были чужды: я долго жил посреди их и в мыслях часто мерил пространство тех и других отделяющее. Я не убегал также от нищеты и не отказывался от знакомства с богатыми: от знатного до простолюдина, все состояния мне были известны. Пространнейшее государство в мире проезжал я от Востока до Запада и от Юга до Севера и был вне пределов его; его блестящие столицы и отдаленнейшие от них провинции, непроходимые леса Сибири и безлюдные степи Новороссийского края мне равно знакомы. Я пил воды Селенги и Сены и от вершины Хамар-Дабана странствовал до Содома Нового Завета, который посетил я после падения минутной великой империи.
Я родился при Екатерине, записан в службу при Павле, действительно и деятельно продолжал оную при Александре и оканчиваю ее при Николае. Еще в младенческом возрасте, всё окружавшее меня сильно возбуждало во мне внимание и любопытство, всё врезывалось мне в память, и всё в ней сохранилось. Пока еще лета не лишили меня сей способности, желаю я внукам моих соотечественников, за неимением собственных[1] завещать повесть о разнообразных предметах, встреченных мною на длинном пути не совсем обыкновенной жизни.
О себе буду говорить мало: скромность не позволит мне хвалиться добрыми, но весьма обыкновенными свойствами, которые едва могут служить перевесом бесчисленным недостаткам или даже порокам; а стыд, который еще знали в наше время, не допустит меня открывать последних. Не имея великой славы Жан-Жака Руссо, не имею и прав на бесстыдство его.
В описываемом мною я буду ничто: я буду только рама или, лучше сказать, маляр, вставляющий в нее попеременно картины и портреты и многоразличием их старающийся заменить недостаток в искусстве живописном.
Но, делаясь провожатым читателя сквозь места и происшествия, мною виденные, должен я необходимо прежде всего говорить ему о себе, даже о том, что было до меня, о моем происхождении.
II
Предки. — Финское происхождение. — Дед. — Дядья. — Я. Л. Вигель. — Ф. И. Сандерс.
Я долго почитал себя шведом. Один нечаянный случай, а еще более любопытство мое и тщеславие показали мне мою ошибку, открыли мне горькую истину.
Предки мои в Эстляндии, в Везенбергском округе, владели мызами Иллук и Куртна. Мой дед заложил их в 1765 году на пятьдесят лет, и мне досталось или выкупать их, или за некоторую сумму уступить право на вечное ими владение. Я был молод, жил тогда в Петербурге. Эстляндия, которую увидел я зимой, показалась мне мрачным оледенелым адом; я боялся хлопот и рад был за маловажную сумму отказаться от права принадлежать к знаменитому рыцарству. Поспешая обратно в столицу, я не исполнил даже священной обязанности посетить могилу моего деда и не подумал заглянуть в документы, по коим фамилия моя владела сказанными мызами.
Какое-то аристократическое чувство, действие коего я впрочем весьма редко ощущал, побудило меня гораздо после, лет шестнадцать спустя, стараться с точностью узнать эпоху, в которую могущественные предки мои основали свое владычество за Наровой, тем более, что представилось к тому весьма удобное средство: г. Брун, шурин г. Ребиндера, коему уступил я права своей фамилии, служил тогда под моим начальством. По просьбе моей, скоро доставил он мне копию с нужных для меня бумаг, и что же открылось? Первым владельцем помянутого имения в моем роде был только дед отца моего, именем Валдемар и, что еще ужаснее, он назывался Вигелиусом.
Кому неизвестно ныне, что в Финляндии природные жители имеют обычай, коль скоро получат какую-нибудь ученую степень, облагораживать прозвание свое латинским усом. И потому-то вероятно, что прадед мой — сын какого-нибудь пастора или профессора финского племени, который, происходя из низкого состояния, украсил имя свое сею ненавистною для меня окончательною прибавкой. Почему бы кажется, если он был доктор богословия или медицины и коли непременно ему нужно было себя латинизировать, не называться ему дон-Вигелем, как были дон-Калмет, дон-Букет. Дон не так тесно связывается с именем как ус, его легче отбросить. Хвала дедушке, что, вступив в военную службу, он сбрил сей ученый ус.
Но как бы то ни было, я не швед. Увы, нет никакого сомнения: я финн или эст, или, попросту сказать, чухонец! Потомству обязан я говорить всю истину, но от современников буду тщательно скрывать сию ужасную тайну. Открыв ее, враги-насмешники конечно не оставят попрекать меня чудскою моею породой. Они готовы сделать более: они готовы будут сравнивать меня с сими бесчисленными несчастными, презренными тварями, с сими потерянными женщинами, кои, родясь в окрестностях северной столицы, так легко впадают в бездну пороков, и которые думают возвысить себя и состояние свое, называя себя ветками, т. е. шведками. Впрочем, что делать? Если бы сие и случилось, у меня всегда будет чем заплатить им.
Похвастаться дедом моим, Лаврентием Владимировичем (как русские его называли) имею я более причин. Почти с самого детства следовал он за победоносными знаменами Карла XII, быстро проходил чины и земли его герою покорявшиеся и в звании капитана драбантского полка, едва имея двадцать лет от роду, взят был русскими в плен под Полтавою. Почему с другими пленниками не был он тогда отправлен в Сибирь, мне неизвестно; вероятно из числа ссылаемых были изъяты владельцы Остзейских провинций, сделавшиеся новыми подданными Петра Великого.
Нового своего отечества не полюбил дед мой и никогда не хотел ему служить. Он спрятался на мызе своей и долго вел уединенную, мрачную и безбрачную жизнь. Не знаю как сие случилось, но наконец полюбилась ему одна благородная девица, Гертруда фон-Бриммер. Он вступил с нею в законный брак, и по ней отец мой и дяди удостоились чести быть в родстве с Буксгевденами, Бревернами, Розенами и другими знаменитыми лифляндскими баронами — чести, которою я, по крайней мере, всегда весьма мало гордился.
Дальнейших подробностей о деде моем я не имею, ибо отец мой вырос не при нём и рано его лишился. Знаю только, что он никогда не покидал своего поместья, был столь же трудолюбивым хозяином, как храбрым воином, и что сей капитан-Цинциннат всегда плакал при имени Карла XII и постоянно ненавидел Россию.
Доказательством сей ненависти служит следующее. Из семи сыновей своих, четырех старших, не знаю по какому праву, послал он за границу служить другому герою, великому Фридриху.
Неблагодарность его против России, под правлением коей он столь долго наслаждался спокойствием и независимостью, была жестоко наказана: один только старший сын, Лаврентий, уцелел в Семилетнюю войну; другие же трое Оттон, Фредерик и Валдемар, в цвете лет, погибли от русских ядер или штыков. Старший же сын жил, видно, очень долго, ибо в прусской службе умер генерал-майором и комендантом крепости Торуни. (Детей он не оставил, а вдова его, урожденная Глазенап, как она подписывалась, обращалась к отцу моему с просьбою об исходатайствовании ей пансиона, посредством нашей миссии).
Младших трех сыновей своих, Ивана, Якова и Филиппа, решился дед мой посвятить России; но на то были особливые причины.
Карл-Петр Ульрих, герцог Рольштейнский, внук сестры Карла XII-го, великий почитатель, как известно, великого Фредерика, был также племянник императрицы Елизаветы Петровны и наследник её престола. Но его блеска как бы не видел сей слепотствующий германец; могущество народа, над коим ставила его судьба, не мог понять сей слабоумный, сей слабодушный внук Петра Великого. Почти в ребячестве привезенный в Россию и крещенный в нашу веру, он никак не умел сделаться русским: воспоминания младенческих лет и окружавшие его немцы, кои сохраняли их в нём и в его царствование, надеялись воскресить времена Пирона, никак его к тому не допускали. Образцом его сделался просвещенный гений, но он умел только перенять его ошибки. Подобно Фридриху, обожателю всего французского, который не знал истинного духа германцев (сих мыслителей по превосходству) и видел в них только ратных людей и боевые машины, всероссийский наследник начал подражать всему немецкому, презирал всё русское и мундир прусского генерала предпочитал императорской короне. Забывая или не зная, что создатель прусской славы вводил строгую дисциплину в войске и образовал солдат своих не для парадов, а для побед, он первый у нас начал видеть просвещение в маршировке и, говоря словами того времени, в метании артикула. Потому-то Голштейнский его батальон и Кадетский Корпус немецкого издания, коего он был шефом, сделались постоянными, единственными предметами его занятий.
Под его покров поставил дед мой трех маленьких сыновей, может быть видя в них тайно будущих мстителей, будущих повелителей в ненавистной земле. Их приняли в Кадетский Корпус, и когда половина семейства моего деда проливала русскую кровь, другая содержалась и воспитывалась на русские деньги. Старая Россия, в незлобии и беспечности, во всём походила на нынешнюю.
Из трех сыновей, о коих я выше упомянул, один только был действительно умен. В науках, в поведении, даже самою наружностью младший отличался от двух старших — это был мой отец. Но оставим сей любезный для меня предмет: к сему живейшему, сладчайшему из моих воспоминаний я часто буду возвращаться. Теперь поспешу окончить рассказ о моих дядях.
Старший из них, Иван, всю жизнь свою служил в военной службе; другой же, Яков, начал было с нее, но скоро перешел в гражданскую. С ограниченным умом, с пылкими страстями, они не могли пойти далеко. Дядя мой Иван был то, что в старину называлось «забубенный»: влюбчив, мотоват и весьма не строгих правил. Он не дожил до старости и кончил жизнь премьер-майором и комендантом Орской крепости, бездетен, хотя и был женат на дочери какого-то гарнизонного офицера Семенова.
Другой мой дядя, Яков Лаврентьевич, был примечателен необыкновенною честностью в делах. К сожалению, бескорыстные, беспристрастные судьи у нас всегда были редки; они почитались феноменом, и когда-то им дивились и их уважали. Не в это время дядя мой был судьею в Санктпетербургском Надворном Суде: над ним смеялись и о нём жалели; в нынешнее просвещенное время его бы стали преследовать. Он был отменно трудолюбив и точен, занимал всегда должности мелкие, но как говорится, доходные, жил весьма бедно и после себя ничего, кроме скудной движимости, не оставил. Долгое поприще жизни и службы окончил он в одно время, в 1802 году, едва достигнув чина коллежского советника.
Я его знавал и всегда дивился скромности его желаний и удовольствий: чтение весьма незанимательных немецких книг и изредка беседа старинного приятеля коротали для него зимние вечера; летом же нанимал он огород в Екатерингофе и, покопавшись в нём, отдыхал на свежем воздухе. Мир праху его, сего доброго и почтенного родственника!
Жизнь его, однако же, не всегда была безмятежна: он знал любовь и в ней только не знал постоянства. Он не пленялся ни знатностью рода, ни блеском воспитания; красота овладевала им, где б она ему ни являлась, в прачешной ли, или хотя в коровнике. Но честность его правил была видна даже среди волнений его страстей. Слово «наложница» пугало его добродетель, и всякий раз он, влюбляясь в какую-нибудь простую девку (самая знатная из них была кистерская дочь), спешил соединиться с нею законными узами. Как это сходило ему с рук, вот чего я никак понять не могу. Тогда еще не было устава Евангелических в России церквей, и протестантизм, видно, был у нас не лучше магометанской веры (что бы, кажется, ему так и не оставаться!) Как бы то ни было, но почтенный дядя мой был многоженец. Я узнал это после смерти его, когда явилась ко мне одна из его вдов, прося о помощи; потом пришла другая, наконец третья; испугавшись многочисленности теток, я не велел ни одной пускать. Увы, говорят, их было до восьми; одна где-то жила в няньках, другая была кухарка, а третья что-то еще хуже. Утверждают, что все тираны имеют склонность к многоженству и ставят в пример Генриха VIII и Ивана Васильевича, а мой бедный дядя скорее на всё мог быть похож, чем на тирана.
Между родными с отцовской стороны был еще один чудак, о коем никак умолчать не могу. Это Федор Иванович Сандерс, единственный сын Софии, старшей сестры отца моего, которая лет двадцать была его старее, так что племянник был почти ровесником дяде. Любовь и война были его девизом: с ребячества до глубокой старости он жил или среди тревог их, или их воспоминаниями. В первый раз видел он неприятельский огонь в чине поручика при Кагуле в 1770 году, в последний же раз в чине генерал-майора под Парижем в 1814-м. И так сорок четыре года воевал он, и потом точно отдыхал на лаврах в Измаиле (куда его сделали комендантом), на приступе и при взятии коего он был три раза. Смерть его щадила, но не пули: он был весь изранен и, не взирая на то, здоров, весел и бодр до самой смерти. Совершенный недостаток в способности мыслить, при воображении живом, вечно юном, спасли его от нравственных болезней и сохранили ему и физические силы. Под конец жизни он был в отставке генерал-лейтенантом, и хотел еще раз взглянуть на столицу. Дорогой, в Твери, один бродяга, которого в Измаиле он взял кучером, ударил его оглоблей и расшиб ему руку и ногу с намерением его убить и ограбить; разбойника успели схватить, а он, на 90-м году жизни, через два месяца вылечился и явился в Петербурге. Казалось, он бессмертен; однако же по приезде кончил он необыкновенную жизнь свою весьма необыкновенным образом: в самый день рождения своего, когда ему исполнилось 90 лет, 1-го января 1836 года, он, будучи совершенно здоров, нарядился, поехал в Зимний Дворец и умер на ступенях парадной лестницы, по коей он всходил.
К числу странностей его характера и жизни принадлежит и самый брак; он выиграл жену свою на билиарде. Одна молодая, прекрасная киевская мещанка пленила богатого, ветренного поляка, князя Яблоновского, вышла за него замуж и через год или два ему надоела. Сандерс с батальоном стоял тогда на квартире в одном из городов наших западных губерний, принадлежавших тогда Польше, но занятых нашими войсками; он часто играл в билиард с Яблоновским и выиграл у него несколько тысяч злотых. Когда он стал требовать от него уплаты, то увидел его Ариадну, воспламенился и предложил ему взаимную уступку. Договор был скоро заключен, ибо все стороны изъявили согласие, особенно же молодая княгиня, по чувству оскорбленного самолюбия. Он прожил с ней до самой смерти лет сорок пять. Кажется, искренно она его никогда ни любила, обманывала его, часто изменяла ему, но будучи гораздо его моложе, будучи умна, хитра и ловка, делала жизнь его весьма счастливою; может быть своею заботливостью она ее продлила, ибо лелеяла его, ухаживала за старым мужем, как за ребенком[2]. Когда, за несколько лет до смерти, он продолжал еще влюбляться, то ей одной поверял тайны муки своего сердца; она всегда выслушивала его с участием, то смеялась, то утешала его, и не одними только словами, уговаривая молодых красавиц улыбкою, умильным взглядом, ласковым словом и иногда даже холодным поцелуем усладить страдания старика.
Конечно, невозможно Марину Игнатьевну ставить в пример добродетели нашим губернским барыням, супругам наших помещиков: они живут тихо, спокойно, и от них можно требовать более точности в исполнении обязанностей. Но среди беспрестанных переходов, среди шумной, бурной воинской жизни, как иногда не забыться? Сколько я знал таких воинственных жен, которые говорили: «наш полк», «наш эскадрон»; они готовы были разделять опасности своих мужей, готовы были сразиться вместе с ними и жертвовать за них жизнью, а не считали за грех мимоходом любить других. В них есть что-то особенное; они милы какою-то солдатскою откровенностью. Жаль, что ни одна из них неизвестна Жакобу, Сю или Бальзаку: какой бы из них прекрасный можно было сделать роман в новейшем вкусе! Марина Игнатьевна не во всем на них похожа, но может также почитаться совершенно походною женой.
Я счел неизлишним упомянуть об этом старом воине, последнем близком родственнике отца моего (ибо детей он не оставил), тем более, что оригинальность его довольно замечательна.
III
Происхождение по матери. — П. И. Лебедев. — В. И. Чулков. — Мать.
Рассказав всё, что знал, о предках и родственниках отца моего, с чувством некоторой гордости начинаю говорить о русском происхождении моем по матери.
Много есть ныне таких фамилий, кои, гордясь древностью происхождения, имеют сильные притязания на знатность, но коих названий отыскать невозможно в так называемой Бархатной книге. Известно, однако же, что она заменила родословные книги дворян, преданные всесожжению для истребления местничества при царе Федоре Алексеевиче, то есть лет с небольшим полтораста тому назад.
Род Лебедевых, от коих происхожу я по матери, в ней, однако же, находится. Сие, впрочем, могло бы ничего не доказывать; я знал Ушаковых, Новосильцовых, Сабуровых, людей именующих себя в истории Российской везде встречающимися названиями, кои были, однако же, или отпущенные на волю, или отданные в рекруты крепостные люди. Я не говорю уже о бесчисленных Павловых, Алексеевых, Яковлевых, Мартыновых, сих именных прозваниях, кои по отцу всякий принять и потомству передать может. Выслужившись до штаб-офицерского чина, право или неправо наживши имение, женившись на богатой купчихе или бедной дворянке, они детям своим, а еще более внукам, передают право без малейшего препятствия причислиться к благородным фамилиям, им вовсе чуждым, и даже затмевать их, если чины и состояние то дозволяют. После того пусть еще гордятся у нас древние дворяне, почитающие себя древними!
Дед мой, Петр Иванович Лебедев, умер в 1752 году, оставив вдову, беременною моею матерью, и старшую восьмилетнюю дочь Елизавету. Он был тогда прапорщиком гвардии Измайловского полка, а службу начал простым рядовым. Это могло бы заставить подумать, что он также ничто иное как ветвь самовольно привившаяся к древнему, благородному древу; но вот что служит доказательством противному: все дворяне и даже князья, вступая тогда в войско, начинали быть простыми солдатами; а что еще убедительнее того, матери моей досталось от отца по наследству село Лебедевка, при речке Ардыме, в шести верстах от Пензы, еще доныне в нашем семействе сохранившееся. В кладбищенской, полусгнившей деревянной церкви сказанного села находятся с надписями могилы Ивана Кондратьевича и Ивана Ивановича Лебедевых, прадеда и деда моей матери, над прахом коих по известным временам она служила панихиды. Так как Пенза сделалась городом только в 1666 году, при царе Алексее Михайловиче, то весьма вероятно, что Иван Кондратьевич был основателем и первым вотчинником селения, которое назвал своим фамильным именем; если же он получил его по наследству от предков, то тем лучше для дворянского нашего тщеславия.
Моя бабка, овдовев, вышла второй раз замуж за одного рязанского помещика Трескина, прижила с ним детей, но умерла в молодости и оставила мать мою у отчима, в совершенном почти ребячестве. Вскоре потом бабка её с материнской стороны приняла к себе малютку; но и под крылом сей последней не долго она осталась. Она была во втором браке за одним Василием Ивановичем Чулковым и, не имев от него детей, умирая, отказала ему попечение о своей внучке.
Хотя сей г. Чулков был нам почти вовсе чужой, но как он был единственный покровитель и единственное воспоминание младенческих лет моей матери, так рано лишившейся родителей и родных и знавшей их почти только по слуху, то мне желательно сохранить здесь трогательное семейное о нём предание.
Родившись в низком состоянии, он, неизвестно как, попал в придворные истопники на половину цесаревны Елизаветы Петровны; по усердию своему он сделался ей известен и близок и служил, как божеству, дочери Петра Великого. Почести на него посыпались с её воцарением: он вскоре сделался действительным камергером, Александровским кавалером и даже, наконец, генерал-аншефом, хотя в военной службе никогда не находился. Тогда-то дворянка Кривская, урожденная, хотя татарская, но всё-таки княжна Мещерская, не только не погнушалась руки бывшего истопника, но с благодарностью приняла его предложение. Сей брак был устроен Провидением как будто для того, чтобы дать защиту круглой сироте, моей матери.
Я знавал людей, кои помнили еще царствование Елизаветы Петровны и со слезами умиления вспоминали о нём. Сия государыня, с добрым, нежным сердцем, получила самое дурное воспитание; она выросла среди древних, грубых, но уже не простых и чистых, а европейским первоначальным образованием испорченных нравов тогдашнего времени. Ей было ведомо искусство делать подданных счастливыми и заставить чужие народы уважать имя русское; но она не знала тех приличий, кои ныне царям необходимы, сего кроткого величия, коим Екатерина Вторая умела вселять благоговейный к себе страх. Обхождение с нею было самое простое, хотя и трепетали её гнева, и образ жизни её можно было встретить, лет с тридцать тому назад, между помещицами отдаленных губерний.
Во внутренности дворца своего, она была окружена толпою женщин из простонародья, болтуний, сплетниц. Суеверие, ложные страхи производили в ней бессонницу, и эти женщины, сидя в некотором расстоянии от её постели, должны были сначала рассказывать ей сказки, а потом, когда замечали, что она начинает забываться, продолжали между собою разговор шепотом, чтобы совершенно усыпить ее. Верный слуга Василий Иванович должен быль также тут находиться и, не взирая на разницу лет и звания, являясь опять прежним истопником, смиренно клал на пол тюфячок свой подле кровати императрицы и, как бессменный страж, ложился у ног её. Зная, что государыня не спит еще, гнусные твари в разговорах своих часто злословили царедворцев, не довольно к ним чивых: тогда правдолюбивый Чулков тихо возвышал голос, чтоб опровергать их клеветы, понося их словами, которые во дворце слышать бы не должно было, и тем успокаивал рождающиеся подозрения добродушной своей царицы. Случалось, что она, вставая ранее утомленного старика, тащила его, шутила с ним; а он, приподымаясь легонько, потрепывал ее, говоря; «ох, ты моя лебедка белая!».
Не мое дело описывать царицу среди великолепий пышного двора ее, победы её полководцев над великим Фридрихом, благоденствие России под её правлением, рождающиеся при ней художества, театр и поэзию: для того были Ломоносовы и будут еще другие счастливцы, кои в истории её изобразят золотой век России. Мне пришлось сказать несколько слов о домашнем быте старинной боярыни на троне и столько, сколько сие касалось до благодетеля моей матери, предка моего не по крови, а по благодеяниям. Я уверен, что читатели не причтут меня к числу тех злонамеренных людей, коими изобилует наше время, кои, подобно свинье Крылова, ищут одного навоза, не хотят или не умеют отделить частной жизни царей от политической и, привязываясь к одним человеческим их слабостям, стараются затмить весь блеск их царственных деяний.
Лет четырнадцати мать моя лишилась и попечителя своего, который вспоил, вскормил ее, берег и лелеял, оставил ей пример своих добродетелей и несколько отеческих наставлений, но едва выучил ее грамоте, которую сам плохо знал. Она отправилась в свое поместье, вступила в управление, сделалась полною госпожой и… не погибла. Ангел-хранитель её остался тогда единственным заступником бедной сироты; казалось, начертав на лице её свой образ, он в сердце ее вдохнул свою непорочность.
Я не мог видеть её молодости (она родила меня будучи с лишком тридцати лет), но от стариков, искавших руки её, много слышал о ее разборчивости и красоте. Когда я мог судить об ней, она уже была в преклонных летах, но и тут еще нравилась; для ребенка добрая мать прекраснее всего в мире, а мне казалось и в совершеннолетии, что такой миловидной старушки я не встречал никогда.
В следующей главе буду говорить о ней пространнее, но и здесь не утерпел сказать несколько слов.
IV
Филипп Лаврентьевич Вигель. — Служба его. — Саратов и Пенза. — Первый враг отца. — Второй его враг.
Говоря о младших сыновьях моего деда, сказал я, что младший из них был мой отец и вместе с ними воспитывался в Кадетском Корпусе.
Сим первым полезным учебным заведением Россия обязана немцам. В царствование Анны Иоанновны, когда они у нас неистовствовали, безжалостно терзали Россию, грабили ее, унижали, был однако же между ними один знаменитый муж, который не довольствовался дарить наше отечество победами, но и думал о внутреннем его благе. Благодарное потомство умеет отличать его от единоплеменных ему палачей, и имя Миниха ярко блестит среди воспоминаний того мрачного времени.
Его мыслью создано, его стараниями, попечениями устроено первое в России военное училище. При недостатке в средствах к домашнему воспитанию, при стремлении сравниться в познаниях с господствовавшими тогда немцами, лучшие дворяне, самые вельможи, почитали милостью определение детей в Сухопутный Шляхетный Кадетский Корпус, как он тогда назывался. Знатные и иностранцы, разумеется, в сем случае предпочитались. Впоследствии, при Елизавете Петровне, когда основатель Корпуса томился в ссылке, рассадник просвещенных воинов, им насажденный, процветал всё более и более, и даже наследник престола был назначен его шефом. Сие назначение конечно умножило наружный блеск заведения, но ничего не прибавило к пользе внутреннего его устройства. Видно, что оно основано было на твердых началах: ибо Петр III, как известно, мало заботился о распространении наук и, подобно своим последователям, предпочитал им маршировку. Однако же, под его управлением образовались в Корпусе почти все государственные люди, прославившие царствование Екатерины II, и, что всего удивительнее, ни один почти из воспитанных при нём кадетов не был причастен к тем порокам, кои бесславили и, наконец, сгубили несчастного государя.
В особенности отец мой, коего заметил и полюбил он еще с детства, отличался совершенно девственною чистотою. Пылкий, смелый, отважный, он однако же и в старости готов был краснеть от всякого нескромного, неблагопристойного изречения, коими изобилует солдатский язык и коих употребления сам он вовсе не знал. Стройный, статный, благообразный, он, без крайней необходимости, даже перед слугою, не обнажал груди или плеча[3].
Может быть, мне не поверят; но прахом его клянусь, что совершеннее человека, как мой отец, я не встречал. По мнению моему, он был выродок не только в семействе своем, но и в роде человеческом. Если б он мне был и чужой, то мне приятно было бы изобразить его, как самое чудное явление в мире.
Излишество во всём бывает вредно, и для самых похвальных качеств есть границы, за коими они превращаются в слабости и даже в пороки. Так, например, излишняя щедрость делается расточительностью, а бережливость скупостью; смелость обращается в дерзость, покорность в раболепство, и благородное чувство собственного достоинства в несносную спесь. Мудрость человеческая состоит в способности избегать крайности, и в этом отношении я не знал человека, которого бы более, как отца, можно было назвать l’homme du juste milieu.
Он был чрезвычайно вспыльчив, а действиями его всегда управлял рассудок; страстно любил женщин, а всегда был целомудрен и верен долгу супружества. Друг порядка, почитатель установленных властей, он однако же никогда не был очень любим начальниками, всегда уважаем ими. Точность его ума более всего делала его способным к математическим наукам, и он примерно в них успевал, но в тоже время чрезвычайно любил художества и музыку. В особенности же имел он страсть к архитектуре: для соседей, для приятелей, даже иногда просто для знакомых, он чертил планы домов, церквей, заводов и потом, при производстве работ, помогал им советами, как дешевле и прочнее возводить строения; и всё это разумеется даром. В провинциях и доселе чувствуют недостаток в архитекторах; проекты маловажных зданий выписываются из столиц. Что же было лет шестьдесят тому назад? Присутствие моего отца в тех местах, где он находился, в сем отношении было точно для них благодеянием. Одним словом, человек сей, с правдолюбием, с простотою нравов древнейших времен, соединял всю образованность осьмнадцатого столетия.
Слог есть человек, сказал кто-то, и справедливость этого изречения доказывал мой отец. Не быв природным русским, не имев никаких пред собою образцов (ибо по-русски он начал писать лет за десять до рождения Карамзина), русские письма его могут сами служить образцами. Целую сотню их сохранил я как святыню, и они могут служить тому доказательством. Откуда было взять ему столь чистый слог, если не из самого чистого источника прекрасной души своей? Возможно ли ему было с такою стройностью, с такою правильностью выражать мысли, если бы в самих сих мыслях не было столько ясности и красоты? И это был иностранец, воспитанник Кадетского Корпуса 1750-х годов! И он никогда не думал быть литератором и, что всего удивительнее, в письмах его никогда нельзя найти ни слов из приказного слога, сиречь, понеже и дондеже, ни сентиментов, реверансов, онора, конфузии, слов иностранных, коими необразованный еще тогда язык наш столь изобиловал. На немецком языке писал он, как на природном, а на французском писал он и говорил, хотя безошибочно и правильно, но как человек, который, чувствуя необходимость его в обществе, не без усилий ему выучился, и выговор на нём имел немецкий.
У людей совестливых долг и наклонность в беспрестанном состязании. Отец мой ненавидел низкие, подлые или беззаконные дела, но в равной степени не терпел также и злословия. Как быть? Как ненавидеть зло и не осуждать его? Смешной стороны он ни в ком не видел, слабости ему подвластных старался увещанием исправлять, слабости чужих всегда находил средство извинять, на порок смотрел в грозном молчании. Любопытно было видеть, как, убежденный в гнусности какого-нибудь нечестивца, после заметной внутренней борьбы, он иногда с тяжким вздохом произносил наконец: «какой негодный человек!» Бак всякий праведник, терпел он много от несправедливости людей, от начальников и даже от подчиненных. Иногда позволял он себе жаловаться на сии несправедливости, но не примешивая ни единого оскорбительного слова для тех, кои их учинили. В обществе оставлял он пересуды без внимания; у себя же дома всегда учтиво просил осуждающих переменить разговор. Из сего можно заключить, как мало дозволял он семейству своему порицать ближних. Может быть сия самая строгость произвела во мне действие совсем противное, сие чувство нетерпения, с коим так трудно переносить мне несправедливости не только ко мне, но и к другим, и сию способность обильными словами облегчать страдания, причиняемые мне глупостью или злостью людей.
Люди добродушные, как мой отец, бывают обыкновенно несколько ленивы, весьма невзыскательны насчет опрятности и сами мало ее соблюдают; в старости сей порок делается ощутительнее и еще тем более безобразит ее. С отцом моим было совсем противное: он был чрезвычайно деятелен, он не знавал минуты бездействия и скуки. С раннего утра причесанный, умытый, одетый, он раздевался только, когда ложился спать; халат был для него эмблемой болезни: пятно на мундире или фраке почитал он несчастьем не много поменее пятна на чести. Таков был он до старости, до последней минуты жизни. Сие тем примечательнее, что в его молодые годы мы в России мало знали опрятность, и в самых знатных домах сами барыни были весьма нечистоплотны. Опрятность есть одно из малого числа благодеяний, коими, по мнению моему, Западу мы обязаны.
Одно из воспоминаний об отце тревожит меня и смущает: он не был набожен и всегда избегал не только споров, но и разговоров об религии. Объяснить это себе стараюсь я следующим образом. Он родился и воспитан в лютеранской вере; будучи уже мужем и отцом семейства, впал он в тяжкую болезнь, врачи от него отказались и осудили его на смерть. Матери моей, отчаянной супруге, представилась ужасная мысль, что ей, православной, даже и в будущей жизни невозможно будет встретиться с обожаемым ею еретиком; пользуясь его беспамятством, она призвала священника и умоляла его совершить над ним святое миропомазание. Таким образом поступил он в недра Греко-российской церкви. Едва любовь и вера свершили обряд, как уже луч надежды блеснул для моей матери: с той минуты он начал оживать, воскрес, узнал о том, что произошло, и не смел огорчить упреком ту, которая в выздоровлении его видела чудо небесное. Все деяния его были истинно христианские; по присоединении к восточной церкви он с точностью следовал её обрядам; но, может быть, чувствуя тайно ложный стыд, он не любил говорить о том, что напоминало ему о невольно случившейся с ним перемене.
После всего вышесказанного, нужно ли говорить, что он был нежный супруг и отец, постоянный друг, добрый господин, справедливый и приятный в обхождении начальник? Всё это, хотя не совсем обыкновенно, но к счастью и не весьма редко встречается между людьми. Мне хотелось изобразить в нём только то, что отличало его от других, представить в нём противоположности, согласие или соединение коих производило совершенство. Блестящий взгляд его, разговор живой и умный и на устах почти всегда улыбка порочного веселия, знакомого только ему подобным, делали его привлекательным еще и в старости.
Младший изо всего многочисленного своего семейства, он родился 12 июня 1740 года; не знаю, когда поступил он в Кадетский Корпус, но знаю только, что в последний год царствования Елизаветы Петровны был уже он в нём прапорщиком и преподавал науки кадетам, из коих многие были ему ровесниками.
Немецкое происхождение и совершенное знание фронтовой службы ввели его в особенную милость к наследнику престола. Сделавшись императором, Петр III сравнил кадетских офицеров с гвардейскими и, щедрый на награды, как сын и внук, в продолжении шестимесячного царствования своего, произвел отца моего в подпоручики, в поручики и в капитан-поручики. Приближался Петров день, царские именины, и барон Унгерн-Штернберг, генерал-адъютант и двоюродный дядя моего отца, объявил именем государя, что в сей день он будет пожалован флигель-адъютантом. Можно посудить о радости двадцатидвухлетнего юноши; он из Ораниенбаума поскакал в Петербург, чтобы закупить всё нужное к обмундировке. Но прежде 29 июня было 28-е. В этот день, проходя утром чрез Исакиевскую площадь и ничего не ведая, он был схвачен и посажен под караул. Екатерина вступила на престол.
Тогда попали в честь Орловы, а подобно деду Пушкина, отец мой «в крепость, в карантин». Но он не долго в нём оставался, не более двух недель; его выпустили и, не бывши в числе крупных любимцев, он скоро исчез в толпе и возвратился к своим корпусным занятиям.
C величайшим любопытством прислушивался я в ребячестве к рассказам покойного отца о благодетеле его, Петре III-м. Он не хвалил его наружности, об уме слова не было; но зато с восторгом говаривал он о душевной его доброте и беспримерной снисходительности к окружающим. Я рос в Киеве, никогда не видал царей и представлял их себе хотя и людьми, нам подобными, но имеющими еще более важности и величия, чем сам митрополит. Оттого бывал я в крайнем изумлении, когда слышал об огромнейшей чаше с пуншем, о целой горе курительного табаку и о десятках трубок, находившихся по вечерам в приемной у императора, который расхаживал, балагурил, и если не приневоливал, то усердно приглашал всех этим потешаться. Мне это казалось слишком милостиво.
Около тридцати пяти лет служил мой отец Екатерине Второй верой и правдой, всегда с благоговением произносил её имя, никогда не позволял себе осуждать её слабостей (о том у нас в доме и помину не было), но зато никогда и не удавалось мне слышать от него тех заслуженных похвал, коими все ее превозносили. С растроганным видом говаривал он о её наследнике: но уверению его (а ему верить было можно) и многих других, Павел Петрович был в детстве прекраснейший ребенок и между тем чрезвычайно похож на отца своего, который, однако же, был ни хорош, ни дурен.
В 1764 году отец мой, после долгой разлуки, посетил слепого и умирающего своего отца, принял его благословение и последний вздох (но наследства никакого) и, возвратясь в Петербург, был выпущен в армию с чипом премьер-майора и определен в генеральный штаб.
В это время с новым жаром начали хлопотать о водворении у нас европейского образования: надобно было открыть ему все отверстия, дабы оно могло в самую утробу России проникнуть. В Германии вызвались охотники заселять степи, коими Россия столь изобилует. Как было тому не обрадоваться? Целые массы света должны были влиться к нам с тысячами немецких мужиков, из коих, как известно, особенно баварцы и вестфальцы отличаются образованностью. Человеческий род приметно умножается, особенно между славянскими племенами; для сбыта излишества населения у нас неистощимые запасы пустошей, и эти запасы не за морями, как у других, а так сказать под руками; их бесчисленность нас долго пугала, тогда как другие государства, не имея таковых, нам завидовали. Итак, сих пришельцев приняли с распростертыми объятиями, и учреждена канцелярия опекунства иностранных, под председательством самого князя Орлова, тогдашнего фаворита. Императрица Екатерина была еще довольно молода и, несмотря на врожденное в ней искусство царствовать, по неопытности, не знала еще тогда истинных польз своего народа.
Роскошные берега Волги, в нынешней Саратовской губернии, тогдашней провинции, были выбраны для принятия дорогих гостей. Конечно, поселение иностранных колонистов менее вредно и безрассудно на краю государства, чем военные поселения внутри его; однако же и пользы от того мало: казна тратится, а прибыли не имеет; ибо по прошествии семидесяти лет сии колонии, кажется, и поныне пользуются льготою. Хлебопашество в той стороне ничего от того не выиграло; только жители Сарепты размножили сеяние табаку и горчицы, что и без них можно было сделать.
Генерал-фельдцейхмейстер и над фортификациями генерал-директор, князь Орлов, искал между подчиненными своими, военно-учеными (а их было так мало) людей, коим бы можно было поручить смотрение за межеванием земель и размещением на них колонистов, и выбрал двух друзей: инженер-майора Либгарда и отца моего. Сим выбором была навсегда решена участь последнего.
Саратов и Пенза, два провинциальные города, почти в одно время возникшие, построены в двухстах верстах один от другого, и как в старину, так и поныне находятся в тесном союзе и беспрестанном соперничестве или, лучше сказать, соревновании; но участь сих городов совершенно различна.
Первый из них стоит на берегу величественной Волги, царицы рек, движущегося моря, и владычествует над одною из пространнейших областей в государстве. В сей области находятся и многолюдные уезды, хлебопашцами, помещичьими крестьянами населенные, и плодородные, широкими реками орошаемые степи, никем или еще мало обитаемые, и степи безводные, и солончаки; в ней Елтонское озеро, снабжающее солью треть России; в ней иностранные колонии, в ней Ахтуба и развалины Сарая; в ней растут береза и виноград, произведения Севера и плоды Юга; в ней и хлебопашество, и торговля, и судоходство, и рыбные ловли, и соляной промысел.
Пенза на горе возвышается гордо над смиренною Сурой. Сия речка, только при устье своем достойная названия реки, в одно только время года, и то самое короткое, бывает судоходна; она робко и медленно приближается к спесивой Пензе и, не смея коснуться подошвы её, в двух или трех верстах от неё протекает[4]. Губерния Пензенская сжата на малом пространстве и тесно заселена помещичьими деревнями. В противоположность Саратовского разнообразия, в ней всё единообразно, везде равно прекрасные виды, равно прекрасная почва земли, везде изобилие плодов земных и везде недостаток в средствах к их сбыту. Между дворянами везде почти одинаковая невежественно-олигархическая спесь, в простом народе встречаешь почти одинаковую холопью дерзость или низость.
Одним словом, сии две губернии можно сравнить с богатым купцом и довольно зажиточным дворянином. Но как русское дворянство (ныне столь многочисленное) прежде и более других сословий восприяло европейское образование и с преимуществом происхождения или заслуг соединяет преимущества воспитания, то купечество весьма естественно оказывает ему невольное уважение. Взамен того, неимущему невозможно презирать деньгами, и сие восстановляет равновесие как между обоими сословиями, так и между обеими губерниями.
Поселившись в Саратове, отец мой охотно посещал Пензу: там находил он начала, некоторые признаки общежития. В особенности же свел он там дружбу с воеводою, Андреем Алексеевичем Всеволожским, отличавшимся некоторою образованностью, кротким нравом и приятными обхождением.
Некогда слобода, а со времен царствования Алексея Михайловича провинциальный город, Пенза состояла тогда из десятка не весьма больших деревянных господских хором и нескольких сотен обывательских домиков, из коих многие были крыты соломою и имели плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многие сельские храмы, с тех пор построенные, и несколько каменных и деревянных небольших приходских церквей, служили единственным ей украшением. Чтобы судить о неприхотливости тогдашнего образа жизни пензенских дворян, надобно знать, что ни у одного из них не было фаянсовой посуды, у всех подавали глиняную, муравленую (зато человек хотя несколько достаточный не садился за стол без двадцати-четырех блюд, похлебок, студеней, взваров, пирожных). У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душ, более других гостеприимного и роскошного, было с полдюжины серебряных ложек; их клали пред почетными гостями, а другие должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная дворня, псарня и конюшня поглощали тогда все доходы с господских имений.
Двадцать лет спустя, когда, при учреждении губерний, Пенза возвышена была на степень губернского города, в ней всё переменилось. Правильные улицы, и из них иные мощеные, украсились каменными двух и трех-этажными домами и каменными лавками, а в них показались товары, кои прежде, хотя с трудом, можно было только выписывать из Москвы; явилась некоторая опрятность, некоторая бережливость, некоторый вкус — необходимые спутники просвещения. Перемена во всей России шла гораздо быстрее, чем при Петре Великом, и без пыток, без насилий. Гений и улыбка Екатерины творили сии чудеса. Железная трость Петра Великого, переходя из рук в руки, обратилась в магический жезл, как скоро коснулась её сия могущественная очаровательница. Сия новая Цирцея хотела и умела скотов обращать в людей.
Что касается до Пензы, то пусть позволят мне часть успехов приписать присутствию в ней моего отца, уважению, которое он в ней приобрел, деятельности его и его советам, которых к счастью слушались.
Верстах в тринадцати от Пензы, по Саратовской дороге, находится небольшое поместье Симбухино, носящее фамильное имя своих прежних владельцев. Последний из них, отставной кирасирский майор, Андрей Петрович Симбухин не имел никого близких родных и был женат на немке; умирая, отказал он ей с малолетнею дочерью помянутое имение.
Неудивительно, что вдове г. Симбухина, живущей, так сказать на чужой стороне, полюбился молодой, красивый и всеми уважаемый земляк. Едва её дочь достигла шестнадцатилетнего возраста, как сама она предложила ее моему отцу. Нетрудно было ему согласиться вступить в брак с такою молоденькой девочкой, с некоторым состоянием, которой мог он надеяться быть не только супругом, но и образователем. Сей брак был счастлив, но в сем мире счастье бывает редко продолжительно: едва прошел год после замужества Пелагеи Андреевны (так звали первую жену отца моего), как она родила сына Андрея и через неделю спустя вместе с ним пошла в гроб. Но, как бы предчувствуя раннюю кончину свою, она еще во время беременности, по совету матери своей, укрепила поместье свое за отцом моим. Сие поместье еще и поныне находится во владении нашего семейства.
Неутешный вдовец остался единственным утешением и подпорой горестной, бездетной теще: не помня собственной матери своей, коей лишился в младенчестве, он в ней обрел нежнейшую мать, а ей заменял он детей, друзей и родных, коих у неё не было. Но сия добродетельная, благоразумная женщина не хотела дарованного ей Провидением сына осудить на вечное вдовство; по прошествии траурного года, она первая начала ему советовать помышлять о новой женитьбе; она сделала более: между девицами, жившими в Пензе, она начала искать достойную его руки.
Между тем время шло и врачевало горести молодого вдовца. Еще при жизни первой жены своей, он отдавал справедливость прелестям и девственно-гордому целомудрию юной сироты Лебедевой. Не получив никакого образования, в ней однако же в высшей степени господствовало природное чувство, которое французы называют тактом. Без жеманства других провинциальных девиц, её обхождение было со всеми непринужденное, но вселяло какую-то робость в тех, кои руки её искали. Иные пытались однако же являться с предложениями, и хотя получали отказы, но в них было столь много вежливого и утешительного для самолюбия неудачных искателей, что не оставалось места досаде и злословию.
У сей недоступной девы было однако же сердце, и оно, против воли её, тайно принадлежало человеку, о коем она не смела помышлять, ибо он был женат. Никто не ведал о том, а еще менее других тот, который был любим. Он был уже вновь давно свободен и всё еще не подозревал ничего. Один только женский опытный взгляд может проникнуть в сокровенные тайны женского сердца; в заботливости об участи отца моего, теща его подметила неравнодушие к нему независимой и непорочной девицы, её ближайшей соседки, и захотела вторично сделать его счастливым. «Вы любите друг друга, — сказала она наконец обоим: — женитесь». Тут не было отказа, ниже минутной притворной колеблемости. Таким образом состоялся брак, коему я обязан жизнью.
V
П. И. Новосильцев.— Е. П. Чемесов. — В. И. Огарев. — Служба отца на Кубани. — Служба отца в Варшаве. — Строение Херсона. — Князь Потемкин. — Принц Фридрих Виртембергский. — Братья и сестры. — Назначение отца в Киев.
Вторая женитьба отца моего была в 1772 или в 1773 году, хорошенько не припомню, ибо не имел несчастья быть свидетелем брака родителей, как с иными сие случается. Знаю только наверно, что первый ребенок от сего брака, старшая сестра моя Елизавета, родилась в июне 1774 года.
Вскоре после сей второй женитьбы, последовали в участи отца моего важные перемены. Всего важнее было для него оставить Пензу и Саратов. Он давно уже находился в одном чине, не получал никаких наград, а между тем весьма добродушный и довольно просвещенный начальник его, князь Орлов, был к нему отменно благосклонен. Но ему не хотелось с ним расстаться, а с повышением его он должен был его лишиться. Наконец, по чувству справедливости, он решился доставить ему чин полковника с назначением командиром батальона, опять не помню, которого-то егерского корпуса[5].
Так как, вероятно, мне не придется более говорить о Саратове, в коем я никогда не бывал, то я позволяю себе сделать небольшое отступление и бросить недовольный взгляд на службу там отца моего. Место, которое он там занимал, было что называется самое наживное: в том краю, который называется денежною стороной, как Пенза хлебною, там где всё гласит и поныне о прибыли, он ничего не приобрел, кроме двух друзей или может быть только приятелей, совсем не одинакового с ним образа мыслей, но с коими сохранил связи до последнего конца жизни, без чего, по мнению моему, он весьма мог обойтись. Это были секретари Саратовской колониальной конторы, а наконец преважные люди и сенаторы: Иван Сергеевич Ананьевский и Петр Иванович Новосильцов.
Может быть, в толпе грубых, жадных чиновников ему приятно было найти людей более совестливых, более умеренных и благопристойных. Тогда это было редкостью и могло почитаться почти за честность; ныне это сделалось весьма обыкновенно. Впрочем и нельзя было не полюбить г. Новосильцева за его редкий ум и необыкновенные дарования: они кривому подьячему открыли путь до степени государственного человека и дали семейству его притязания и даже некоторое право на знатность. Я помню, с каким удовольствием отец мой говаривал об уме друга своего, Петра Ивановича; о других качествах его он слова не говорил, и пусть мне позволят в сем случае последовать его примеру.
В Пензе было также два человека, с коими отец мой имел тесные, постоянные связи. Первый из них, Ефим Петрович Чемесов, был последним пензенским воеводою и в душе был старинный дворянин. Он отличался честностью, прямодушием, веселонравием, незлобием и необычайным здравым смыслом; но по формам своим, по выражениям, по приемам, по самому произношению слов, казался даже и тогда запоздалым, казался выходцем из времен допетровских. Другой, Богдан Ильич Огарев, был человек с умом приятным и основательным, твердыми и благородными правилами и, в тогдашнее время, с большими сведениями по части агрономической: сими одними средствами умел он умножить и без того уже довольно хорошее состояние[6].
Пред отъездом из Пензы, родители мои имели прискорбие лишиться той, которая для обоих была нежнейшею матерью. Время было тогда для России самое несчастное; на Востоке свирепствовал Пугачевский бунт и близился к Пензе, на Юге чума и война с турками. Бедная мать моя должна была оторваться от теплого гнезда своего, от всех привычек, от наслаждений первоначальной спокойной супружеской жизни. Она уже имела более двадцати лет от роду, но совсем не знала света, ибо Пензу можно было тогда назвать тьмою; но у неё был верный и нежный путеводитель.
Батальон, в который отец мой был назначен, находился тогда на Кубани. Счастье ему не всегда благоприятствовало: вместо того, чтоб под знаменами Румянцева идти против турок и в блистательной войне сделать себе имя, или по крайней мере с Суворовым и Михельсоном спасать отечество от внутренних врагов, он должен был в безвестной, но не менее того в опасной борьбе сражаться с горцами и еще более с климатом и всякого рода нуждами, среди пустынного края, тогда еще не населенного черноморскими казаками. Закавказские области нам еще не принадлежали и, подстрекаемые турками черкесы всех наименований, с большею безопасностью, с большею дерзостью на наши войска нападали. В это время мать моя жила попеременно то в Черкасове на Дону, то в Таганроге, то в крепости Св. Димитрия, нынешнем Ростове, убегая ужасов чумы и везде ею настигаемая.
Наконец, настал мир и тишина; мои родители посетили мирный уголок свой, который в их отсутствие переставал быть мирным, и многих знакомых не нашли уже в нём; они погибли от Пугачева, и между прочим добрый приятель отца моего, воевода Всеволожский, который вместе с товарищем своим Гуляевым был сожжен в том доме, в коем заперся от злодеев. Из Пензы поспешили они в Москву, чтобы видеть известное торжество на Ходынке.
Матери моей, которая Петербург оставила почти в ребячестве, в первый раз мир представился в таком блеске. В её лета, с её воображением, московские праздники оставили неизгладимые впечатления, и она с живостью умела их передавать. Мне всего памятнее один рассказ её о мучении, которое она с великим терпением перенесла. За полторы сутки до какого-то славного бала, была она причесана рукою искуснейшего тогда парикмахера, разумеется француза, который двое суток сряду должен был работать над головами всех желавших быть по моде. Зато что за прическа! Всё тут было: и бастионы, и башни, и ленты, и цветы, и блонды, и пудра и помада, и всё это воздымалось на аршин вышины над головою. Правда, и цена за то была неимоверная; кажется, пять рублей.
Между тем егерский корпус, в котором служил мой отец, был переведен в страну не менее враждебную чем Кавказ, но гораздо более приятную, в Польшу. Туда отправились мои родители. С первого раздела, русские войска почти не покидали Польши, хозяйничали в ней и привыкали видеть в ней собственность своих царей. Сначала батальон отца моего стоял в Люблине, а наконец в самой Варшаве.
Природа гораздо сильнее искусства; иных женщин она одаряет такими грациями, которых одно последнее дать никак не в состоянии. И потому-то посреди образованных, ловких полек, превосходнейших кокеток в мире, мать моя не чувствовала их превосходства и в глазах супруга ничего не теряла от сравнения с ними. Напротив того, видя молодую москальку, умную, приятную, без притворства, без претензий, польские дамы сами полюбили ее до того, что, наконец, и самой ей сделались милы, и сию склонность сохранила она целую жизнь.
Что касается до поляков, то впоследствии она имела случай удостовериться в недоброхотстве их к России, а во время пребывания в Варшаве ничего неприязненного не заметила: из уважения ли к даме, скрывали от неё вражду к её нации, или из страха перед одною знаменитейшей русскою дамой, Екатериною Второй? Отцу моему они также показывали любовь и уважение, может быть потому, что он сам отличался вежливостью форм от других русских начальников, которые, по правде сказать, мало там церемонились, в особенности же начальник отца моего, генерал-поручик Романиус (о котором впрочем он всегда с большими похвалами отзывался) и приятель его, гусарский полковник Древиц, который для поляков был истинно несносен. Они не могли иметь против них нашей национальной вражды, а это была просто жестокость, грубость, которою в завоеванных землях отличались немецкие воины, со времен Тридцатилетней войны.
По случаю рождения первого внука Екатерины, столь славного Александра Павловича, было во всей армии большое производство по старшинству. В сие производство попал и отец мой: он пожалован полковником в Нарвский карабинерный полк, сверх комплекта[7]. Тогда полковник было и чин, и место; название полковых командиров не было употребляемо, а полковники, не имеющие полков, были приписываемы к ним сверх комплекта, как бы за уряд, и могли зато к ним почти и не являться и жить где угодно, в ожидании назначения. И потому-то отец мой возвратился опять в свое поместье.
Недолго однако же мог он подышать свободой и заняться хозяйством: ему скоро дали Алексопольский пехотный полк, который был расположен на берегах Днепра, во вновь занятых тогда степях Новороссийского края.
Умы были тогда наполнены Грецией и Востоком, которые были любимою мечтой Екатерины. Только не задолго до кончины своей, рассталась она с нею, когда она уступила место печальным истинам с Запада, и тогда, вместо того, чтобы разить врагов просвещения, Екатерина должна была помышлять о борьбе с ужасными его распространителями. Но сие время еще не пришло, и в южном крае, на дороге ведущей в Константинополь, учреждались этапы и украшались звучными именами не существующих греческих городов.
В память древнего Херсона, где Св. Владимир восприял крещение, один из подданных Екатерины, но могуществом равный сильнейшим царям, захотел, при устье Днепра, поставить новый город, так сказать, южный Петербург. В князе Потемкине простительно желание быть Петром Великим, когда Россия и поныне полна создателей и преобразователей.
Итак начали строить Херсон. Читателям моим уже известна страсть моего отца к архитектуре; он тут находился с полком. Какое поле или, лучше сказать, какая степь представилась тогда для его деятельности! Неутомимо, безвозмездно начал он трудиться над планами, и первый красивый дом построил для себя (впоследствии с убытком он должен был продать его в казну). Сии занятия сблизили его, сдружили с одним «Негром, каких мало бывает белых»[8], с известным инженер-генерал-поручиком Иваном Абрамовичем Ганнибалом, главным производителем, как крепостных, так и строительных работ.
Явился сам Потемкин. Быстрота исполнения его воли никак его не удивила: едва ли Наполеону были люди более послушны. Подобно ему, окруженный лестью и подлостями, Потемкин с трудом мог отличить от них долг строгой подчиненности и искреннее уважение к его высоким дарованиям. И потому-то отец мой остался в толпе бесчисленных, мало известных ему поклонников и был мало замечен таким человеком, который умел отдавать справедливость достоинствам, когда мог до них добраться. В младенчестве моем я так много слышал о сем гиганте, столь внезапно свалившемся тогда во гроб, что мне невозможно, хотя вкратце, не изобразить его.
Невиданную еще дотоле в вельможе силу свою он никогда не употреблял во зло. Он был вовсе не мстителен, но злопамятен; а его все боялись. Он был отважен, властолюбив, иногда ленив до неподвижности, а иногда деятелен до невозможности. Одним словом, в нём видно было всё, чем славится русский народ, и всё то, чем по справедливости его упрекают; а со всем тем он русскими не был любим. Сие покажется загадкой, а ее можно объяснить весьма естественно. Не одна привязанность к нему Императрицы давала ему сие могущество, но полученная им от природы нравственная сила характера и ума ему всё покоряла: в нём страшились по того, что он делает, а того, что может делать. Бранных, ругательных слов, кои многие из начальников себе позволяли с подчиненными, от него, никто не слыхивал; в нём совсем не было того, что привыкли мы называть спесью. Но в простом его обхождении было нечто особенно-обидное; взор его, все телодвижения, казалось, говорили присутствующим: «вы не стоите моего гнева». Его невзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали от неистощимого его презрения к людям; а чем можно более оскорбить их самолюбие?
Его рассеянно-прихотливый взгляд в обществах иногда останавливался или, лучше сказать, скользил на приятном лице моей матери. Сего достаточно было, чтобы встревожить совсем не ревнивого, но благородно-самолюбивого отца моего. В один вечер, звездоносные шуты тешили светлейшего разговорами о женской красоте; один из них объявил, что он никогда не видал столь прелестной маленькой ножки, как у моей матери. «Неужели?» сказал Потемкин. «Я не приметил. Когда-нибудь приглашу ее к себе и попрошу показать мне без чулка». И не прошло двух дней, как мой отец узнал о сем разговоре. Можно себе вообразить страх и гнев, коим он вскипел; он представлял себе отчаяние супруги, если б ей осмелились сделать столь обидное предложение. Для предупреждения всяких неприятностей, он упросил ее отправиться немедленно в деревню; ничего не подозревая, она изумилась, но должна была повиноваться.
Несколько времени спустя после сей домашней тревоги, о коей виновник её вовсе ничего не знал, прибыл в Херсон Виртембергский принц Фридрих, для командования дивизией, в которой находился мой отец. Это было самое умное и самое капризное создание в мире, столь известный после толстый король Виртембергский. Уважения к высокой его особе, точного исполнения своих обязанностей недостаточно было, чтоб угодить ему; он требовал… он требовал Бог знает чего; своенравию, странностям его не было пределов. С таким начальником трудно было ужиться отцу моему; с первого взгляда он не полюбился Монбельярскому принцу, который всячески начал его теснить, а как он был тиран в полном смысле сего слова и тиран искусный, то скоро положение отца моего сделалось несносным.
Князь Потемкин не очень баловал немецких принцев, в нашей службе находившихся. Глядя на них не только с той высоты, на которой стояла тогда Россия, но с той, на которую мечтал он вознести ее, они казались ему менее чем ничто; но родному брату супруги наследника Российского престола он должен был невольно показывать более уважения. Со всем тем, однако же, он будто наперекор ему стал более покровительствовать моему отцу. Так продолжалось несколько времени до тех пор, как взаимные жалобы их наскучили князю Потемкину, и он решился развести их. В разлуке с женою, с детьми, посреди таких неприятностей, моему отцу самому желательно было отойти с честью.
Он был уже лет семь полковником; ему доставалось в бригадиры, а в сем чине немногим оставляли полки. Потемкин представил его к чину и вместе с тем полк его отдал другому. Сие не совсем было приятно, но делать было нечего: он был, по крайней мере, утешен мыслью близкого свидания с семейством и вскоре потом отправился в Пензу. Возвратившись туда, он недолго дожидался производства: он получил бригадирский чин, но с назначением к определению в обер-комендантскую или комендантскую должность[9].
Не прошло года по прибытии отца моего в пензенскую деревню свою Симбухино, как я в ней родился, среди сельской тишины. Здесь кончается биография моих родителей и начинается моя собственная; скоро перестану я быть рассказчиком слышанного, а сделаюсь повествователем виденного мною.
Я всегда уважал старшинство, и потому прежде нежели буду говорить о себе, считаю долгом поименовать братьев и сестер, прежде меня увидевших свет. Я уже сказал, что сестра моя Елизавета родилась в 1774 году; после нее Наталья в 1775-м, потом брат Александр в 1776-м, за ним Павел в 1777-м и наконец Николай в 1778-м. Из них один только Александр жил недолго; другие же все достигли совершеннолетия, а некоторые и старости. Первые пять лет мои родители всякий год имели детей; потом моя мать начала родить реже, но всё-таки до меня еще было три сестры, Катерина, Мавра и Анна, из коих первая умерла пяти лет, а другие две в колыбели (читатель не избежит со мною ни малейшей подробности, до семейства моего касающейся). После меня, через пять лет, родилась сестра Александра, которая и доныне находится в живых.
Я был еще на руках кормилицы, когда в жизни моих родителей произошла важная перемена. Вот как сие случилось. Князь Потемкин, наконец, поссорился с Виртембергским принцем и, так сказать, почти его прогнал. Один из его любимцев, Василий Степанович Попов, с которым отец мой быль хорошо знаком, но не имел никаких связей, разговорился об нём с князем и представил как жертву своенравия принца. Потемкин был великодушен, как все люди сильные и умные: он начал с того, что бригадиру, почти в отставке жившему, доставил генерал-майорский чин, а потом чрез г. Попова прислал ему письмо, адресованное на имя тогдашнего статс-секретаря (после канцлера) Безбородки. В сем письме, выражаясь с величайшим участием о своем клиенте, он требовал повелительно, чтоб ему дано было первое вакантное место, согласно с его желанием.
С сим письмом оставалось только отцу моему поскакать в Петербург: с таким талисманом в руке хлопотать ему там было нечего. Безбородко объявил ему, что открываются две вакансии: Олонецкого губернатора и Киевского обер-коменданта. Он предпочел последнее из сих двух мест, в хорошем климате, почетное, спокойное и законно-прибыльное, ибо доходы с тысячи душ давались на содержание занимавших оное. Сие место было обещано другому, но нельзя было идти против воли Потемкина.
Отцу моему было тогда от роду 47 лет. В эти лета еще позволено бы было помышлять о почестях, о дальнейшем возвышении; но тогда, не так как в наше время, довольствовались малым и верным, умели на пути честей останавливаться. Я не смею роптать на отца моего за его выбор; не могу однако же не пожалеть о том, что он не предпочел губернаторское место, хотя в каменистой, безлюдной Олонецкой губернии. Это был для него единственный случай сделаться лично известным Императрице; а он должен был знать, что с нею даром никто умен не бывал.
Киев для меня вторая родина, и потому-то намерен я посвятить ему следующую главу.
VI
Мама Аксинья Ивановна. — Дворянка-приживалка. — Детство в Киеве. — Французы-эмигранты. — Первоначальное воспитание. — X. И. Мут. — Товарищи детства. — Приятели X. И. Мута.
Весною 1788 года, мать моя с довольно многочисленным семейством из Пензы отправилась к отцу моему, на постоянное жительство в Киев, где он уже несколько месяцев находился. Я быль тогда еще так мал, что этого даже и как во сне не помню.
Киев! При имени его бьется еще и поныне охладевшее мое сердце, из потухающих глаз моих воспоминание о нём еще и поныне способно извлекать слезы. В течении всей жизни моей, ничего прекраснее мне не казалось, как первые предметы, которые в нём поражали младенческие мои взоры. Подобно Иерусалиму, сей праотец градов южной и западной России долго стенал под игом неверных; как мусульмане у дверей гроба Господня продают христианам позволение поклониться ему, так евреи у поляков держали в нём на откупе православные храмы и без платы молящихся в них не пускали. Уже более полутораста лет возвращен он был России, а язвы, нанесенные ему татарами, Литвою, но более всего польским правительством, еще не исцелились.
Город сей тем более был примечателен, что везде являл контрасты: нищету и великолепие. Бесчисленные храмы его с позлащенными, как жар горящими куполами, были окружены низкими, едва над землею заметными хатами; огромные, живописные горы служили ему подножием, а позади его расстилались необозримые, бесконечные равнины; с одной стороны была спокойная, величественная Россия, с другой бунтующая, истерзанная Польша[10].
В Киевопечерской крепости, где Лавра и пещеры, в священном Сионе древней России, посреди святыни, примеров благочестия и великих отечественных воспоминаний, возросло счастливое мое младенчество. Там набожная мать и сестры учили меня молиться; там почтенный отец не столько словами, сколько примером, научал меня почитать добродетель; там всё ласкало, нежило, лелеяло меня.
Посреди воспоминаний того быстро протекшего времени, подобных сладчайшему сну, является мне одна старушка, няня моя или мама, как ее называли. Слово мама происходит от названия матери, и потому-то оно было приличнее моей незабвенной Аксинье Ивановне. Своею грудью она вскормила мать мою и потом всех детей её имела на своих руках и воспитывала до семилетнего возраста. Она была старинная, русская крепостная женщина, не англичанка, не швейцарка; но её усердие, её нежные об нас попечения едва не более были для нас полезны, чем бы наемная привязанность этих иноземок. Теперь дело другое; но моя мамушка принадлежала к такому времени, когда господа немного поменее чад своих любили своих домочадцев, и когда в глазах сих последних господская власть смягчалась и украшалась отеческою. Просвещение всё это изменило; чем более окцидентальный дух начал между нами распространяться, тем более раб и скот, плантация и деревня, начали иметь в глазах наших одинаковое значение. Трудно было бы Простакову с Еремеевной найти до Петра Великого и несколько времени после него, и хотя утверждают, что комедия Недоросль есть картина нашего варварства — неправда: она изображает только полупросвещение русских.
Но возвратимся к Аксинье Ивановне. Она выросла в доме предков моих по матери, коих просвещение тогдашнего времени, видно, не коснулось, и она всегда с любовью и слезами об них вспоминала. Всё, чти) преданность имеет благородного, являла в себе сия старуха; почтительно и смело говорила она с моими родителями, нежно и строго обходилась со мною. Слово: барское дитя, много для неё значило: но оно всё-таки было дитя, и она с необыкновенным искусством умела журить и унимать меня. Сохранению моего здоровья жертвовала, она беспрестанно собственным; сего мало, ей обязан я и первым нравственным воспитанием. Детским языком, приноровленным к моим понятиям, говорила она мне о Боге, об обязанностях к Нему человека, о любви к родителям, о любви к ближнему. Дар Божий была для меня женщина сия.
Была еще другая, о которой с равным почти удовольствием вспоминаю: жена гарнизонного прапорщика, Василиса Тихоновна (фамильного имени её не запомню, потому что у нас в доме мало об нём заботились). Она была природная, чрезвычайно бедная Новгородская дворянка, сбытая с рук, вытолкнутая замуж за проходившего с полком столь же бедного офицера. Умная и приятная женщина, воспитание её было незавидное до того, что она не умела грамоте; со всем тем, ей, дворянке, не могло быть весело водиться с другими гарнизонными офицершами, совсем необразованными солдатскими дочерьми; а в тогдашнее время (я думаю еще и в нынешнее) трудно было прапорщице попасть в общество к генеральше. Она однако же нашла туда дорогу, не искавши её.
Она повадилась ходить к Аксинье Ивановне, также умной женщине, хотя и не дворянке: гости её, разумеется, не могли быть посетителями моей матери, но я пристрастился к Василисе Тихоновне. Она была дородная, свежая женщина, лет сорока; каждая черта её румяно-смуглого лица выражала веселость, ум и доброту, свойства, которые уже в малолетстве имели для меня притягательную силу. Но всего привлекательнее была для меня её память и просвещенная страсть к повестям: мужа и кого умела найти пограмотнее заставляла она по целым вечерам читать себе романы. Бову Королевича, Петра Золотых Ключей она терпеть не могла, вообще сказок не любила, но пленялась Тысячью и одною ночью, прислушиваясь со вниманием; все их знала наизусть и мне потом рассказывала; одним словом, была моя Шахерезада. Бывало только и речей у меня, что об ней, когда приведут меня к матери. Ей стало любопытно узнать пленившую меня красоту; она сама полюбила ее, и сия женщина сделалась наконец у нас домашнею.
Круг знакомства моей мамушки был довольно отборный. У неё еще было два приятеля, которые посещали ее и следственно и меня. Первый, отец Степан, духовник нашего семейства и священник комендантской Воскресенской церкви и киевских гарнизонных батальонов; другой, Евстафий Яковлевич Яновский, штаб лекарь тех же батальонов и наш домашний телесный врач, как тот был духовный. Не могу судить о искусстве последнего (ибо, сколько припомню, у нас в доме все и всегда были здоровы); но помню, что он был весьма приятный человек, небольшого роста, с живым веселым взглядом, постоянною улыбкой на устах и маленькою лысиной на голове, которая не только не безобразила его, но в целом еще умножала оригинальную его приятность. Он был киевский бурсак, то-есть учился в духовной академии; малороссийским наречием он с жаром рассказывал происшествия своей Украины. Отец Степан рассказывал мне про Адама, про Еву, про грехопадение, Ноев ковчег и прочее; мамушка про русскую старину; Василиса Тихоновна сказывала сказки. Я весь был слух, весь внимание, и издали приготовлялся был сам рассказчиком.
Во дни оны, Киев был проезжий, пограничный город и почти столица Малороссии; кругом его были расположены войска; в нём стекались и воинские чиновные лица, и украинские помещики по делам и тяжбам, и великороссийские набожные дворяне с семействами для поклонения святым мощам, и, наконец, просто путешественники, которые для развлечения посещали тогда южную Россию, как ныне ездят в чужие края. Соседство с Польшей, оборонительные меры давали много забот отцу моему, и должность Киевского коменданта была тогда совсем не синекурой, как она после сделалась. К тому же с европейским вкусом и немецкою бережливостью он соединял русское хлебосольство и был, как тогда называлось, мастер жить. Место, им занимаемое, давало ему средства быть гостеприимным, и он всех порядочных людей радушно угощал. С утра до вечера наш дом был наполнен гостями.
Ему оставалось тогда мало времени думать о моем более растительном воспитании. У матери моей было также много занятий: повинуясь воле отца моего, она большую часть дня должна была посвящать принятию гостей, а утро занималась хозяйственными делами и воспитанием дочерей, которые подрастали и близились к возрасту невест. Опыт показал ей, что можно полагаться на Аксинью Ивановну, и она ограничивалась со мною ласками, поцелуями, предоставляя маленькие строгости кормилице своей.
Меня довольно часто водили в гостиную. Там видел я и ленты, и звезды, и много чопорных разряженных барынь. В угождение ли матери моей или действительно я был так миловиден, все взапуски меня хвалили; всё мне позволялось: кататься кубарем, лазить по креслам, любой вешаться на шею; кажется, житье бы мне там, а меня всё тянуло домой. Какой-то инстинкт давал мне понимать, что в одном месте мною забавляются, а в другом меня забавляют, и с первым развитием мыслей уже рождалось во мне самолюбие. Таким образом всегда предпочитал я свое мещанское общество чиновной киевской аристократии и свою детскую гостиной моей матери. Чего у меня не было в детской? И Аксинья Ивановна, и Василиса Тихоновна! Прибавить ли еще моську Азорку, первую и последнюю собаку, которую я любил.
Увы, куда я забрел с своими воспоминаниями! Я чувствую, что в рассказе моем нет ничего занимательного; но какой жестокий читатель не простит мне продолжительного взгляда, который, может быть, в последний раз я бросаю на столь же отдаленную, как и памятную эпоху моей жизни? Сквозь тьму времен всё еще блестит оно мне, сие время непорочности моей и совершенного благополучия.
Золотой век мой, сие блаженное время недолго продолжалось: тогда воспитание рано начиналось и оканчивалось. Едва исполнилось мне семь лет, как мне наняли учителя. При братьях моих находился один, как говорят, весьма ученый г. Гагер; я должен был наследовать им в его попечениях. Но он пожелал возвратиться в Германию, свое отечество; их отправили в Петербург, в пансион, сколько припомню, г. Девеля, а ко мне взяли другого немца, Христиана Ивановича Мута.
Уже несколько лет свирепствовала тогда революция. Первые её взрывы уже сбросили мишурную поверхность блестящих аристократических обществ, а вскоре потом из недр Франции целые потоки невежественного дворянства полились на соседние страны, Англию, Германию, Италию. Бежать сделалось славою высших французских сословий, и как господа сии умеют всё облекать пышными фразами и щеголеватыми формами, то побег назвался эмиграцией. Остались во Франции несколько знаменитых, великодушных жертв и святой мученик, бывший король. Его верные подданные издали, вне опасностей, старались защищать его воплями и интригами. Со свойственным им легкомыслием, на унесенные с собою деньги и драгоценности жили они весело и роскошно, ожидая нетерпеливо минуты возвращения и мести. Она не пришла, они всё прожили, всё издержали; надобно было подумать, как и чем промышлять. От познаний эмигрантов немецкая и английская ученость не могла ожидать великой пользы: французская литература в сих землях мало уважалась. В Италии науки были дело постороннее, но по художественной части там на французов смотрели с презрением, и Гужоны, Жирардоны, Пуссены и Ле-Сюёры едва ли там почитались ваятелями и живописцами. Как быть? Французы думают недолго, а иногда и ничего не думают; прежние свои склонности, служившие им забавою, они поспешили обратить в пользу. Франция есть царство и отчизна моды; посредством скипетра ее с гремушками она владычествует над просвещенною Европой; в поваренном искусстве французская школа не в шутку имеет превосходство пред всеми другими; во Франции всякий родится комедиантом, там всё поддельное, всё театральное, всё нарумяненное, налакированное; и слава Богу, ибо природа людей ужасает там наготой. Сынам сей благословенной страны можно было в других землях не умирать с голоду. Многие из них пошли в актеры и составили труппы в Гамбурге, Брауншвейге и других местах; для иного бывшего артиллериста кухонный огонь заменил боевой, и на столы гастрономов он начал пускать bombes à la Sardanapale; познакомились тогда немецкие уста с бешамелем, майонезами, но — хвала им! — всё не отставая от родимого бирсупа и жареного мит-пфлаумен-унд-розинен; иной щеголь начал шить дамские платья или башмаки, а иной причесывать букли и сочинять шиньоны; одним словом, кто во что горазд!
Но потребность забав была не в соразмерности с числом забавников, беспрестанно умножавшимся. Немцы мастера избавляться от докучливых и вредных гостей; как некогда жидов, в царствование Казимира Великого, уступили они Польше, так французам указали на Россию, страну северную, где дикая природа людей ожидает искусных рук возделывателей. Почуя русский хлеб, голодные искусники как с цепи сорвались, большими стаями ринулись на бедную Русь и начали ее просвещать по своему. Отец мой был до них небольшой охотник; а впрочем когда началось мое учение, то и взять их было негде, ибо они в небольшом еще числе начали только появляться в столицах. И так, по счастью моему, мне на участь достался немец.
Я распространился о таком предмете, который по-видимому не имеет никакого отношения к моему воспитанию; но как впоследствии французская образованность имела большое влияние на судьбу мою, то я счел приличным здесь означить начало зла, в моих глазах по всей России распространенного.
Трудно вообразить себе мое отчаяние, когда из нежных рук моей мамушки упал я в холодные лапы Германского педагога. Я помню только одно, первую ночь, которую провел я в одной с ним комнате, а уже не в детской: я не мог заснуть и всю ночь сию горько проплакал. Вид его не суровый и не нежный, обхождение его не строгое, но и не ласковое, изумляли и мертвили меня, ученного к демонстрациям. В глазах моих в нём всё напоминало отца моего; но между мною и им были всегда нежные посредники, мать и сестры, тогда как с учителем должен был я находиться в беспрерывных, самых близких сношениях.
Сказать ли истину? Я только поздно узнал всю цену почтенного моего родителя. У него были особенные понятия насчет важности отеческих обязанностей; они казались ему каким-то священнодействием, и малейшая фамильярность, особенно с сыновьями, по мнению его, унижала его в глазах их. Равномерно воздерживался он с ними и от изъявлений гнева; нравоучения делал редко, и они имели всю краткость оракулов; он произносил их тихо и внятно, но потом не дозволял ни возражений, ни даже вопросов. Никогда рука его не ласкала моего ребячества, никогда не подымалась на меня для наказания, и потому-то в чувстве, которое поселил он-во мне, была не любовь, а нечто богобоязненное. Может быть, всё это весьма нужно с другими детьми; но у меня оно отняло много счастья, и мне кажется, что и самого Бога, Отца вселенной, надобно представлять детям не столько грозным судией, как пучиной благости.
Впоследствии, когда я уже начал подрастать, были некоторые случаи, в которые, можно сказать, вся страсть его ко мне, долго удержанная, вдруг, как будто против воли его, с необычайною силой обнаруживалась. Я не смел верить счастью своему, тем более что вскоре потом спешил он принять со мною свой прежний, бесстрастный и холодный вид. Родитель строгий и нежный! Не смею упрекать священную тень твою: ты всем жертвовал тому, что почитал своим долгом; но если бы ранее открыл мне сокровища твоего сердца, то и в моем ранее бы увидел способность любить тебя и добродетель.
С матерью моею было дело совсем другое: с нею знал я печали и радости, и гнев, и нежнейшие восторги, и слезы, и поцелуи; её владычеству отдано было первоначальное мое воспитание; от неё получал я все первые впечатления; и от того удивительно ли, что и с седыми волосами сохранил я раздражительность почти женскую и всю пылкость юноши? Но возвратимся к первому учителю, от которого я беспрестанно отхожу.
Он быль человек умный и холодный только по наружности. Он прибыл в Россию в царствование Екатерины, когда блистательнейшая из немок землякам своим подавала пример любви и уважения к России. Он жил сначала у Переяславского коменданта подполковника Фон-Фока, подчиненного и друга отца моего, и воспитывал старшего сына его, столь известного потом Максима Яковлевича. Когда воспитание сего последнего кончилось, и его отправили на службу, то Фон-Фок предложил г. Мута для меня в наставники. Его приняли с радостью; ибо Адамов Адамычей Вральманов было тогда довольно в России, но люди с некоторыми дарованиями и познаниями были очень редки. Ему самому было довольно лестно перейти из комендантского дома в обер-комендантский: он видел в этом какое-то повышение. Вспомним, что он был немец, и что места и чины уважались тогда не по нынешнему.
Сей человек не только не позволял себе говорить с презрением о наших обычаях, сколь бы они странны ни казались, но даже они освящались в глазах его древностью. Впрочем сие происходило, может быть, не столько от уважения к русским, сколько от природной доброты и душевного расположения видеть во всём хорошую сторону. Он был лютеранин, а всегда отзывался с похвалами о папе, о великолепиях духовного Рима; остроумие французов пленяло его, равно как и основательность и расчетливость англичан. В доброте и злости, в уме и в глупости нравились ему разнообразные виды, в коих является природа. Странный человек: он готов был также хвалить силу медведя, неукротимость тигра, как и верность собаки. Из сего можно бы заключить, что он был весьма нестрогих правил; напротив, в разнообразии природы он искал для себя и для воспитанника своего всё, что ему казалось лучшим.
Еще до г. Мута учил уже меня русской грамоте по Псалтырю и Часослову наш крепостной, молодой человек Александр Никитин, род дядьки при братьях моих. Разумеется, я редко принимался за книгу, но метода моего русского учителя была прекрасная: сколь бы ни ничтожны были успехи мои в чтении, он всегда дивился чудесной понятливости маленького барина и тем возбуждал меня к новым чудесам. Совсем противное делал г. Мут: часто пожимал он плечами, с состраданием говоря о моей бестолковости; наказывал редко и то за явные ослушания, и как наказывал! Ставил в угол, на колени, а иногда бил по рукам линейкой.
С детским простодушием человек сей соединял самую чистейшую нравственность; вся жизнь его казалась изъявлением благодарности к Творцу за то, что Он в глазах его так украсил мир сей: ибо, как уже я выше сказал, на каждом шагу встречал он предметы, его приятно удивлявшие. Я чувствовал, что он достоин любви, всё сбирался полюбить его и под конец успел-таки в том. Он же с своей стороны, сколь ни казался холоден, но с каждым днем более прилеплялся к своему воспитаннику, и хотя он того не говорил, но я замечал иногда, что странности моей природы его восхищают.
Он имел удивительную память и познания, посредством её приобретаемые: знал хорошо историю, географию, знал правильно французский язык, но выговаривал на нём Бог знает как. Что сам знал, тому помаленьку учил и меня. Когда я попривык к нему и начал понимать по-немецки, то разговоры с ним начали для меня становиться занимательнее; мало-помалу начал я даже заимствовать и некоторые из его привычек. Например, он любил собирать гербовые печати со всех пакетов, получаемых отцом моим и кем бы то ни было, он их потом наклеивал на большие листы; мне это понравилось, я скоро начал тоже делать и мог узнавать гербы всех известнейших в России фамилий. Хотя он не был ботаник, но собирал разные цветы, травы и растения, клал их по листам, одним словом составлял herbier, и у меня до сих пор страсть к коллекциям. Всё что касается до хронологии достопамятнейших происшествий в мире, до генеалогии знаменитейших домов в Европе, знал он наизусть, и впоследствии по этой части мог бы и я с ним состязаться.
Некоторое время жили мы с ним, так сказать, с глазу на глаз, но скоро одиночество мое прекратилось, и общество мое умножилось несколькими товарищами. Средства воспитания были тогда так скудны, что родители у моих выпрашивали как милости дозволения детям своим со мной учиться. Их было трое: сыновья артиллерийского генерал-майора Нилуса, гарнизонного майора Яхонтова и штаб-лекаря Яновского, о котором уже я как-то говорил[11]. Между ними, как хозяйский сын, брал я натурально первенство; но г. Мут не оказывал мне ни малейшего предпочтения, а иногда в молчании улыбался прилежнейшему. Поутру задавал он нам уроки, которые мы твердили и должны были сказывать ему перед обедом; а он между тем читал про себя что-нибудь из истории и географии, с тем чтобы после обеда в виде повести нам это пересказывать. Таким образом узнал я историю иудеев, ассириян, мидян, персов и греков, но до Рима едва только с ним дошли. Говоря словами Пушкина, мы учились чему-нибудь и как-нибудь.
Сверх того я брал еще другие уроки: Софийский кафедральный протоиерей Сигаревич преподавал мне Закон Божий, артиллерийский штык-юнкер Скрипкин учил меня арифметике и геометрии, наукам, в коих, мимоходом сказать, я весьма мало успевал. Один малороссийский виртуоз, которого очень хвалили (кажется, звали его Чернецкий), учил меня играть на фортепиано, а какой-то маляр учил рисовать. Не моя вина, если в обоих сих искусствах я не мастер: нашли, что они бесполезны и скоро заставили бросить, тогда как к музыке я всегда чувствовал особенную склонность. Старшие братья, выпущенные гораздо после в кавалерийские полки, учили меня ездить верхом, а про танцы еще речь впереди.
Я обещал в начале говорить о себе очень мало, а теперь ввожу читателя во все подробности ничем не замечательного домашнего моего воспитания. Что делать! Воспоминания из головы моей так и лезут на бумагу. Впрочем, Бог знает, будет ли меня кто-нибудь еще читать, а память может ослабеть. Если Запискам сим не поверю прошедшего, для меня столь занимательного, то мало-помалу оно будет изглаживаться из памяти, и я напрасно буду искать его в голове моей, тогда как им одним уже начинаю я жить.
Иногда, хотя и весьма редко, собирались у моего учителя по вечерам приятели его, единоземцы: губернский архитектор Гельмерсен, пастор Граль, аптекарь Бунге, плац-майор Брокгаузен и капельмейстер Диль. Но гораздо чаще посещал он их сам по очереди и водил меня с собою в сии общества, степенные, спокойно-веселые. Они были мне совсем не по вкусу; вечера обыкновенно начинались разговорами о политике, в которой я тогда ничего не понимал, замечания выслушивались со вниманием, ответы были всегда обдуманы, ибо каждому предшествовало несколько минут молчания; потом подавали всем по трубке, потом садились играть в ламуш или в лото, а всё оканчивалось стаканом пива, несколькими ломтями бутерброда и прощальным дружеским рукопожатием. Конечно в сих обществах много хвалили Германию, но никогда я не слыхал ругательств на Россию, как сие случалось мне после иногда слышать между немцами. Мало-помалу я было сам сделался немцем, говорили не иначе как по-немецки, выражался как немец, смотрел маленьким немцем, и покойный отец мой имел слабость этому радоваться. Слава Богу, характер у меня остался совершенно русский.
Не более четырех лет пользовался я наставлениями г. Мута: всё тянуло его в Переяславль, и, несмотря на возраставшую его привязанность к нашему дому, немецко-лютеранское семейство г. Фон-Фока было ближе к его сердцу; к тому же он дал ему слово заняться воспитанием меньших его сыновей, как скоро начнут подрастать. Итак он оставил меня в начале 1797 года, когда примеры его и нравоучения могли мне быть более полезны. Я помню прощание его со мною: черты его сохранили обычную неподвижность, но из глаз его ручьями текли слезы. Мне случалось потом в самой первой молодости встречаться с ним: лицо его не изменялось, а сам он трепетал от радости.
Недавно узнал я, что жив еще сей почтенный старец. Когда вступил он в дом наш, ему было около сорока лет; прошло тому более сорока, и следственно ему теперь за восемьдесят. Он долго оставался в семействе г. Фон-Фока, которое после переехало в Белоруссию; наконец он опять поселился в окрестностях Переяславля, в деревне Еввы Яковлевны Дараган, старшей дочери Фон-Фока, воспитывал детей её, но внукам посвятить трудов своих уже был не в состоянии. Он живет еще там и поныне, среди трех поколений, пред ним благоговеющих. С растроганным сердцем читал я прошлого года письмо его к Петру Яковлевичу, младшему из сыновей Фон-Фока: оно показало мне, что вечер его столь же тих и ясен, как и вся жизнь его была безмятежна.
Хотя в 1797 году детский возраст мой еще не прошел, но как это был год великих перемен в судьбе целой России, равно как и в моей ребячьей жизни, то им следует заключить здесь главу сию. В сем первом периоде моего существования являлись мне однако же некоторые примечательные лица, о коих я ни слова не упомянул, вопреки обещанию данному самому себе и читателю. И потому прежде всего прошу позволения обратиться к ним и в следующей главе исправить сделанное мною упущение.
VII
Графиня А. В. Браницкая. — Племянницы князя Потемкина. — Маленький граф Браницкий. — Муж и жена Шардон. — Князь В. А. Хованский. — Княгиня К. П. Хованская. — Княжны Хованские. — Учитель танцев. — Кончина княгини Хованской. — Спасение от пожара.
Всего памятнее мне одна вельможная дама, которая почти каждый год посещала Киев и коей приезд приводил в движение, можно сказать в волнение, весь дом наш. Это была графиня Браницкая, любимая племянница князя Потемкина и жена польского коронного гетмана. Не знаю, где и как познакомилась она с моею матерью; но она ее полюбила и когда езжала в собственный городок, известный под именем Белой Церкви, находившейся тогда за границей, хотя только в 80 верстах от Киева, то проездом чрез сей город всегда у нас останавливалась и живала по неделе и по две. Потемкина уже не было на свете; но любимица его, принявшая его последний вздох, всё еще как будто бы озарялась его славою. Умнейшая из пяти сестер, урожденных Энгельгартовых, она была их и богаче. Императрица особенно благоволила к ней и, сверх того, ласкала ее как жену довольно сильного польского магната, преданного России. По всем сим причинам, знаки уважения ей оказываемые были преувеличены, и чтобы посудить об обычаях тогдашнего времени, чему ныне с трудом поверят, все почетнейшие дамы и даже генеральши подходили к ней к руке; а она, умная, добрая и совсем не гордая женщина, без всякого затруднения и преспокойно ее подавала им. Мать моя смотрела на то без удивления, нимало не осуждала сего, но, вероятно чувствуя всё неприличие такого раболепства, сама от него воздерживалась. Вообще обхождение её с графиней Браницкой было самое свободное, приязненное, и разницу во взаимных их отношениях можно было только заметить из ты и вы, которые они друг другу говорили.
Могущество Потемкина вызвало из смоленской деревни прекрасных его племянниц, где получили они обыкновенное тогдашнее провинциальное воспитание. Старшая из них, Браницкая, уже неспособна была к принятию блестящей образованности Екатеринина двора. Но, имея ум, характер, бывши в самых тесных, иные говорят в непозволительных, связях со всемогущим своим дядею, она облеклась в какую-то величественность и ею прикрывала недостатки своего воспитания. Вышедши замуж за человека расточительного, который был вдвое её старее, в такой век, который нравственностью не отличался, она всю жизнь осталась примером верности супругу, несколько раз спасала его от разорения и бережливостью своею, может быть и скупостью, удвоила огромное его состояние.
Когда я начал знать ее, она была ни стара, ни молода: стан её был стройный, хотя не гибкий, лицо отменно-приятное, свежее и серьезно улыбающееся. Любимый наряд её был подражание костюму Императрицы: длинное нижнее платье с длинными и узкими рукавами, почти совсем закрывающее грудь; оно стягивалось узким, почти неприметным поясом с одною огромною, широкою и длинною пряжкой[12]; а сверх его было другое платье, коротенькое без рукавов и спереди совсем открытое, которое называлось гречанкою. Всё это напоминало Восток и романическо-государственные виды на него Екатерины Второй.
Портрет сей чудотворной царицы, списанный искусною рукой Демейса с оригинального портрета известного Лампи, висел в гостиной нашего казенного дома. Когда, бывало, кто взглянет на него, только что не перекрестится; я же решительно почитал его иконой. Вдруг он ожил передо мною: я увидел посреди комнаты женщину, которая показалась мне столь же величавою, точно в таком же наряде, также с лентою через плечо, и вокруг её стоящих с подобострастием. Мудрено ли, что в голове пяти или шестилетнего мальчика понятия о величестве перепутались, и он подданную принял за государыню? Я обмер, но скоро подозвала она меня к себе и осыпала ласками; благосклонность ли её к матери моей, или действительно я так ей понравился, я с той минуты сделался её маленьким любимцем К сожалению, тщеславие не чуждо иногда бывает и детям; я пристрастился к ней и, бывало, плакал, когда меня к ней не пускали. Лет пятнадцать тому[13], видел я ее в последний раз и уже смотрел на нее не теми глазами. Она не роза, но жила близ неё, и отпечаток величия Екатерины долго еще блистал на ней. Она еще жива, но в глубокой старости осталась теперь как полуразрушенный её памятник.
Мне рассказывали про меня самого один анекдот, который, по мнению моему, заслуживает найти место в сих Записках: он покажет дух того времени, которым были проникнуты даже мозги малых ребят. Прежде еще описанного мною появления графини Браницкой, приезжала она уже в Киев в такое время, которого я не запомню, ибо имел не более трех или четырех лет от роду. С нею был старший сын её, Владислав, нынешний сенатор; мне давали играть с ним, хотя он был года два или три меня постарее. Мы смотрели раз в окошко на план Киевской крепости и на гауптвахту, где стояли в карауле какие-то новонабранные малороссийские пешие казаки-стрелки, которые были разделены не на полки, а на когорты, и поэтому называли их когортами. Их не успели еще обмундировать, и они были в серых кафтанах, как ратники 1812 года. Ясновельможный панок расхохотался и, оборотясь ко мне, сказал: «вот какие жолнеры (воины) у вас москалей». Я ли или что-то во мне вступилось за честь русских, и на замечание его, как смею так говорить с польским графом (будто есть настоящие польские графы), отвечал, что всякий русский важнее всякого поляка. За это, говорят, получил я пощечину, на которую отвечал таковою же, и пошла у нас сильная драка; нас разняли, и молодого графа легонько побранили, а меня чуть ли не наказали. Я бы не осмелился похвастаться рановременным патриотизмом своим и, может быть, сам ему бы не поверил, если бы несколько раз не слышал, как про него рассказывали, будто бы со смехом, однако же с видом самодовольствия.
Первые годы пребывания нашего в Киеве, кажется, ни французов, ни поляков, там совсем почти не было, а жидов очень мало. Последних я несколько времени принимал за первых, и вот почему. Едва начал я ходить и говорить, как знал уже, что Спаситель рода человеческого был жидами поруган, мучим и умерщвлен; еще понятия мои не имели настоящей ясности, как изо всех уст услышал я проклятия против одного народа, безжалостно пролившего невинную кровь царя своего, кроткого, мягкосердого и который за злобу сего народа платил ему отеческою любовью. Всё это перепуталось в голове моей, и я долго представлял себе французов весьма нечистыми (в чём и немного ошибся), в длинных, черных платьях с бородами, ермолками и фесиками.
Вдруг одна французская чета поселилась в Киеве, в самой крепости, в нашем соседстве. У нас в России в старину истинная наука мало уважалась; всё гонялось за блеском, все молодые дворяне лезли в гвардию, из неё выпускались в армейские полки не менее как капитанами, а на артиллерию, на генеральный штаб, особенно на инженерный корпус смотрели с пренебрежением: сии части необходимые для войска, за исключением малого числа благомыслящих дворян, наполнялись обыкновенно или людьми низкого происхождения, с похвальными, природными склонностями к познаниям, или чужестранцами, из коих, как известно, было в то время наполовину бродяг[14]. Не знаю, как и когда некто г. Шардон или де-Шардон, как он требовал чтобы к нему надписывали, вступил в нашу службу инженером. Он давно уже в ней находился и всё еще ни слова почти не знал по-русски, когда в генеральском чине назначили его инженерным командиром в Киев. Никто не хотел взять труда доискиваться, откуда он родом и происхождением; француз да и только: этого было довольно. Дородная его супруга поспешила сделать визиты дамам и, разумеется, первую почтила своим посещением соседку свою, мать мою. Меня, не знаю почему, всегда водили на показ приезжим гостям. Мне сказали, что я увижу француженку и повели в гостиную; с потупленными взорами, с ужасом и ненавистью подступил я к ней; наконец, поднял глаза, взглянул на неё, и весь страх мой исчез. Я расхохотался, и как ни старались унять меня, это было дело невозможное, пока меня не увели.
Представьте себе, любезный читатель, старую, полную, румянами крепко натертую, смеющуюся рожу, и посреди её длинный ястребиный нос с двумя широкими отверстиями, источниками двух табачных ручьев; усы, по коим они протекают, потом зоб, тройной подбородок и под ним старую, наморщенную, бронзового цвета шею и такую же полуоткрытую грудь, украшенную алмазами Тульской работы и осыпанную табаком. Всё это на огромном туловище, в странном, пестром наряде, в платье яркого цвета, раз тридцать перекроенного и перешитого по последней моде. Прибавьте к этому вокруг неё атмосферу, которою обыкновенно дышат только поблизости сельдяных буянов. Вы человек благоразумный, умеете владеть собою, и при виде её; вероятно, даже не улыбнулись бы; но не требуйте того от ребенка, которому красоты сии случилось столь внезапно созерцать.
Эта француженка была баба умная, веселая, страстная охотница до светских забав, весьма искательная и совсем невзыскательная, большая мастерица играть в бостон и неутомимая в сем упражнении; не знаю, как-то, наконец, мы все к ней принюхались. К нам ездить повадилась она очень часто; всякий вечер находила у нас гостей, находила партию и уверяла, что никого в свете так не любит, как моих родителей. Она опрокидывала все понятия, которые тогда имели о важности генеральского чина: не было возможности с ней церемониться; у нас в доме до того дошло, что только лишь её хватятся, то, смотря по погоде, бывало повелительным тоном скажут: послать карету или человека за Шердоншей! Так называли ее по заочности, но в глаза поступали с ней почтительнее. У неё спросили: как звали батюшку? потом из семи или восьми имен, данных ей при крещении, выбрали легчайшее для произношения, и из всего этого составили Марью Леонтьевну.
Она меня также удостаивала своего внимания, отцу моему давала советы касательно моего воспитания, и мне самому делала наставления. В чём же они состояли? Держать себя как можно прямее, стараться лучше выговаривать по-французски (а на этом языке говорил я тогда хуже чем она по-русски), наконец, стараться быть как можно любезнее с маленькими девочками и тем приготовлять себя к будущим успехам с большими. Любопытным, внимательным оком смотрел я часто на сие странное существо. Мне всё хотелось вникнуть в причины мефитизма, ею распространяемого; их объяснил мне с самым важным, с самым ученым видом учитель мой, г. Мут, от которого желаний своих я скрыть не умел. «Тучность тела, — сказал он мне, — располагает ее к частой транспирации, а по дурной привычке или по лености, она редко меняет белье; она полагает, что свежесть лицу дают румяны, а не вода, и употребление сего элемента, кажется, ей вовсе незнакомо; наконец, любимая пища её, сколько я мог заметить, голландский сыр, треска, чеснок и фезандированная, то есть, полусогнившая дичина». Сим объяснением совершенно удовлетворилось мое любопытство.
Некоторые из замечаний моих насчет г-жи де-Шардон впоследствии времени оказались весьма основательными. В одной из комнат занимаемого нами дома висело несколько довольно дурно гравированных эстампов с картин Теньера и Остада; в каждой из них видел я по Шердонше; я сказал об этом, и те, которые имели некоторые понятия о живописи, начали подозревать, что она принадлежит к фламандской школе. Когда эмиграция до того размножилась, что некоторые эмигранты начали даже появляться в Киеве, то между ними были какие-то проезжие старики, которые ни мужа, ни жену за соотечественников признать не хотели, утверждая, что они Бельгийские уроженцы, и тайком уверяли, будто когда-то видели их в Антверпене или в Монсе увеселяющими публику пляскою на канате: по ультра-дородному сложению г-жи де-Шардон трудно было этому поверить.
Скорее можно было найти что-то плясовое в походке и телодвижениях супруга её. Он был длинный и сухой старик, на длинных и сухих ногах, которыми ежедневно мерил он верст до пятнадцати, обходя каждый день верхнюю, среднюю и нижнюю части Киева. Каким образом он сделался инженером, это бы знать весьма любопытно; в Россию ведь не прямо же он сорвался с каната. Если догадки мои справедливы, то прежде того был он работником у какого-нибудь оптического мастера, ибо черствые его руки и пальцы носили на себе следы ремесленных трудов, и он вечно занимался деланием барометров и термометров и, разумеется, за деньги снабжал ими весь Киев. Сверх то, он был великий штукарь и ескамотёр; сие искусство было тогда еще в детстве, мы видели в нём почти колдуна; а мне приходит иногда на мысль, что эти господа французы, прежде отправления в Россию, вероятно, советуются между собою, а может быть и мечут жребий, кому за кого себя выдавать. Инженерная часть выпала на долю мусью Шардону, а для сей роли он уже был приготовлен и прежними своими занятиями.
Существование его в России было, впрочем, не блестящее: они с женой были очень бедны, и нынешние инженеры по всем наименованиям должны тому дивиться. Приписать ли сие бескорыстию его или недостатку в доходных занятиях? Его всё переводили из старой крепости в старую крепость; строением же новых в царствование Екатерины занимались Сухтелены, де-Витты, де-Воланы, столь же благородные, сколь и ученые и искусные люди, коими нас одарила Голландия, единственная западная страна, постоянно Россию одним полезным наделяющая.
Генерал де-Шардон был в Киеве покровителем одной весьма нестарой, свежей и плотной жидовки, которая не только умела плясать на канате, но даже ходить по проволоке. Прежде, бывало, он сам привозил к нам и даром показывал китайские тени, но, выучив ее тому, уступил ей и право свое. Сего мало, он составлял для неё маленькие пьесы, пантомимы, неизвестные еще киевлянам; в них увидели мы ее Коломбиной, а двух где-то избранных шутов Арлекином и Пьерро. Всё это чрезвычайно умножало доходы её и права г. Шардона на её благодарность. Сия женщина дерзостно и безнаказанно назвала себя мадам Россети; слава сего имени не гремела еще в мире, и может быть сама жидовка почитала его вымышленным, а может быть и имела на него какое-нибудь право.
Еще несколько слов о Шардоне и Шардонше: я ничего не сказал о том, были ли они по крайней мере добрые люди. Он в обществе бывал очень мало, а когда бывал, то мало говорил; ибо немногие тогда знали по-французски, а он, как уже я выше сказал, не умел или не хотел выучиться по-русски; однако же, злодей, столько знал на нашем языке, чтобы говорить, рассердясь за безделицу на денщика и приказывая его раскладывать: «клади его на сюртурок и давай ему сто палк!» Что касается до неё, то она была женщина не злая, и гибкость её характера, а не стана, служит тому двойным доказательством. Главный порок её был непостоянство; душою пух, хотя и свинец телом, она быстро меняла приятелей. Дружбою её обязаны мы были комнатам немного лучше чем у других убранным, весьма худо, но лучше чем у других освещенным, нанятому довольно искусному повару, для всех открытому столу, и большему, чем у других, числу гостей; но, Боже сохрани, если, бывало, болезнь или какая-нибудь скорбь посетит дом наш: тогда с ней прощайся; тогда она нашей печали, а мы её веселости уже видеть не можем; тогда тело её, вместе с духом, от нас отлетит. Случалось иногда, что завистники подарками стараются ее переманить, и в том успевают. Что за беда! Если, бывало, старая шляпка отнимет ее у нас, то блондовая косынка, её легкомыслию подобная, опять нам ее возвратит.
От изображения в роде Гогарта, должен я теперь перейти к картине в роде Рафаэля, и не знаю, другая сия попытка не будет ли еще менее удачна чем первая. Не помню, в 1793-м или в 1794-м году, Киевский вице-губернатор Башилов (отец сенатора-забавника) пожалован был обер-прокурором в Сенат; как я его совсем почти не помню, то и нечего мне о нём говорить. На его место прибыл из Москвы князь Василий Алексеевич Хованский, в летах еще довольно молодых, служивший в гвардии до капитанов и при отставке получивший бригадирский чин[15]. В первой молодости он путешествовал по всей Европе, знал иностранные языки, был славный музыкант, мастер танцевать, брался о всём судить и, покрытый сим мишурным блеском, совсем было ослепил нас, провинциалов. Но в русских есть врожденная догадливость, которая в молодости заглушается страстями, но тем сильнее обнаруживается в их зрелых летах; изумленные, увлеченные сначала щеголеватостью форм, изысканностью фраз, они начинают потом (требовать более совершенства, истинных достоинств. Когда первое удивление прошло, наши киевляне увидели в речах князя Хованского пустословие, в делах по службе совершенное его невежество, в поступках непростительную ветренность и тщеславие. Он не являлся даже тогдашним европейцем; в тоне, в манерах его, можно сказать, видна была смесь французского не с нижегородским, а с московским. Совсем противное случилось с прибывшею с ним супругою его.
Скромная, тихая, малоречивая, просто одетая, она с первого взгляда много теряла в сравнении с мужем, которого, сверх того, года два была и постарее. Но скоро обнаружились любезность её ума, и кротость нрава, и святость её деяний. Она была урожденная Нарышкина и родная племянница фельдмаршала князя Репнина; но в ней не было заметно ни тени нынешней аристократической гордости, ни следов тогдашней барской спеси. Не будучи красавицей, она имела правильные черты и самую приятную наружность. На лице её, необыкновенной белизны и прозрачности, часто проступал яркий румянец, предвестник смерти, а улыбка печального ангела придавала лицу сему трогательную прелесть. Она страдала телесными и душевными недугами, но никому о том ни слова не поминала, всякий день принимала у себя или бывала в обществе с видом не веселым, но ласковым, ко всем приветливым, никогда себе злословия не позволяла, втайне молилась и творила добро, отказывая себе иногда в самонужнейшем. Dulde, lächle und stirb (терпи, улыбайся и умирай): так в трех словах один немецкий писатель изобразил судьбу добродетельной женщины, как будто имея в виду кн. Хованскую.
Дом вице-губернаторский находился также в крепости и рядом с нашим. Не одно соседство, по взаимная любовь и уважение сблизили моих родителей с сею княгиней, и дружба с нею была совсем иного рода чем с г-жею де-Шардон. Отец мой, столь же мало расточительный на похвалы, как и скупой на порицания, сознавался однако же, что в жизни ничего совершеннее не встречал. Мать моя, будучи несколько лет её постарее, была ей послушна, как ребенок. Пользуясь сим и чувствуя всю цену добрейшего из сердец, княгиня Хованская с нежностью сестры позволяла себе указывать ей на некоторые, впрочем, весьма простительные её недостатки, молила ее воздерживаться от некоторой вспыльчивости, любить мужа без ревности, детей без баловства и, если возможно, еще более облегчать участь, и без того уже не тягостную, домашней крепостной прислуги; одним словом, она сделалась её второю совестью. Жаль только, что сама никогда не хотела открыть ей тайных мук своего сердца, решившись, видно, поверять их единому Богу.
Давно уже свет если не одобряет, то, по крайней мере, извиняет неверность мужей. Но когда неверность сия выказывается с величайшим бесстыдством, с забвением всякой благопристойности, как бы с некоторым хвастовством, когда предмет её достоин презрения, то она делается отвратительною даже в глазах безнравственных людей. Князь Хованский любил крепостную свою девку, стройную, ловкую, но лицом столь же неприятную как, говорили, и нравом. Рядом с спальною своей жены дал он ей комнату, убранную со всевозможною, по состоянию его, роскошью. Сия несчастная, всегда разряженная как кукла, всем повелевала в доме, все трепетали перед ней; но в свою очередь, как бы повинуясь невольному чувству, нечистое создание немело, смущалось, когда встречало тихие взоры своей жертвы. Все эти гадости были баснею целого города; они принадлежали бы к разряду обыкновенных, даже самых низких сплетней, если бы не отравили жизнь посвященную добродетели.
Для верной супруги, что может быть горестнее, унизительнее сего положения? Исполняя долг христианки, она покорялась воле мужа и несла без ропота тяжелый крест сей. Но для бедной княгини были еще другие источники скорби: получив в приданое весьма хорошее состояние, она принесла его в жертву прихотям своего мужа; имение сие было совсем расстроено, всё в долгах. В тоже время умножалась болезнь таящаяся в груди её, силы изнемогали, и, нежно любя трех малюток, дочерей своих, она уже видела грозящие им нищету и сиротство.
У трех девочек сих были совсем различные характеры и наружность. Старшая из них, Наталья[16], была умна и только этим не походила на отца своего; маленькая спесь, насмешливость, едва заметное кокетство, с лицом весьма приятным, уже в ребячестве делали ее оригинально-привлекательною; уже тогда было заметно, что она, подобно отцу своему, будет любить всё житейское, и она исполнила свое предназначение. (Она давно живет в Москве, там очень известна и замужем за столь же известным там почтдиректором Булгаковым). Средняя[17], Прасковья, была девочка смирная, добрая, простая, вся как-то сжатая в комок, не хороша собою, и самое неблагообразие её не имело в себе ничего примечательного: его можно было назвать общим местом. Но меньшая, София[18], была, как говорили в старину, вылитая мать. Никакому ребенку не могло быть приличнее название ангела; тоненькое, эфирное создание, с прекрасным личиком и молящими взорами. Ей также, как и матери, не суждено было оставаться долго на земле, но участь её была счастливее; она вышла за красивого, благородного юношу, который страстно любил ее и пошел за нею в могилу. Если еще нужны сравнения, то старшую из сих сестер можно было уподобить молоденькой вакханочке, еще удерживаемой стыдом, но готовой скоро его сбросить; меньшая была совершенная сильфида, средняя — гном.
Князь Хованский любил хлебосольство нашего дома, жена его любила хозяев; живши в двух шагах друг от друга, наши семейства виделись почти каждый день. Я рос вместе с миленькими девочками и, признаюсь, общество их предпочитал дружбе моих добрых товарищей. У них не было тогда гувернантки, а няня и учитель, старый француз, мусью Фремон, который сам был охотник буфонить и над которым все трунили; вскоре явился еще француз-танцмейстер, мусью Пото, маленький, старенький, худенький, чопорный и с пребольшими претензиями на бельомство. Я всё более и более дивился, стараясь понять, как могут цареубийцы быть так смешны. Два раза в неделю ходили мы с маленьким Нилусом к кн. Хованскому брать танцевальные уроки у г. Пото; на каждого из нас были по две дамы, три маленькие княжны, да еще Настенька Бережецкая, нынешняя сенаторша Безроднова, дочь обогатившегося бывшего таможенного чиновника, служившего в Казенной Палате под покровительством вице-губернатора. Я был довольно толст, тяжел, неповоротлив и несколько ленив, и мне от француза иногда доставалось хлыстиком по ногам, чтобы выше прыгать. И без того уже я его терпеть не мог; один случай заставил меня его возненавидеть.
Я любил подслушивать, когда говорили о любви, и наконец, мне самому вошло в голову, будто я горю чистейшим пламенем к меньшой из княжон Хованских; разумеется, я ни слова не смел о том сказать ей, равно как и старшей её сестре, которую также любил, но как-то иначе. Не надобно забыть, что мне еще тогда не было десяти лет от роду. Вдруг почувствовал я третью страсть, в ней смело открылся и не худо был принят. У этой маленькой Бережецкой, которая меня годом была моложе, были такие чудесные глазки, и такой поощрительный взор, и такие прелестные губки, что раз, во время танцевального класса, в углу, где я полагал, что нас никто не видит, я решился ее поцеловать, а проклятый Пото очутился тут как-тут. Он раскричался насчет безнравственности русских, у которых даже дети заражены пороком, и никто не умел зажать ему рот. Я жестоко был наказан, не тем, что дома, хорошенько побранив меня, поставили на колена, но тем, что бедную девочку за меня высекли.
Я и в ребячестве был столь же долготерпелив, как непокорен и упрям, когда мера терпения моего преисполнялась. Ни угрозы, ни удары хлыстом не могли меня сдвинуть с места; злодею-французу отвечал я на них презрительно-насмешливым взором. Я рассказал моей матери о рубцах, которые покрывают мои ноги, и г-ну Пото отказали не совсем учтивым образом. Сам кн. Хованский, который о танцевальном искусстве имел вообще столь высокое мнение, с видом сострадания советовал отцу моему не тратить за меня понапрасну денег; он как будто хотел сказать: «жаль, право, мальчика; из него никакого прока не будет». Мадам Шардон, которая всегда присутствовала при наших танцевальных упражнениях, глядя на меня, также пожимала плечами, дивясь, как можно даже на полу не выучиться плясать.
Чрез несколько времени после того, князь Хованский, не знаю за чем-то, сколько помнится за Владимирским крестом на шею, поехал в Петербург, оставя жену со всеми признаками злой чахотки и с началом водяной болезни. Оттуда вскоре прислал он для образования дочерей молодую эмигрантку, мамзель де-Рювиль, с эмигрантом-отцом. Он скоро куда-то уехал; а она, полуденный цветок, в варварскую страну заброшенный, как будто всем брезгала и была весьма не сообщительна; но, надобно признаться, имела отменный тон, вежливый и пристойный. В обоих мне всего памятнее костюм их, который был новостью для всех жителей Киева. Он был в темно-синем, довольно поношенном фраке, с непокрытою головой, даже на улице, всегда с шпагою при бедре и шляпою-блином под мышкой; так, говорил он, всегда следует быть легкокавалерийскому французскому капитану. Прическа его также была замечательна; вместо тупея, волосы его в самой середине головы делились надвое дорожкою, называемой chemin de Coblence, в обе стороны шли очень гладко и оканчивались над ушами огромными туффами à l’aile de pigeon; сзади, вместо обыкновенной косы, какие тогда носили, был у него толстый, довольно короткий, вдвое согнутый катоган; за неимением пудры и помады, то есть денег на покупку оных, всё это было туго набито салом и мукой. Мамзель Рювиль первая явилась к нам с короткою талией, опоясанная преширокою лентой, которая спереди на левой стороне завязывалась огромным бантом с длинными концами; у неё увидели мы также в первый раз короткий шиньон, книзу расширяющийся и открывающий весь затылок, что, кажется, называлось à la guillotine.
Конец страданиям несчастной княгини Хованской приблизился: она слегла в постель и с неё уже более не вставала. Мать моя была при ней неотлучно; кроме её и одной монахини Александры, она никого в последние дни своей жизни видеть не соглашалась. Она велела позвать дочерей, благословила их, поручила их моей матери, просила ее взять их к себе до возвращения отца, потом отпустила их и через несколько минут отдала Богу праведную душу свою. Погребение её, которое, по позднему осеннему времени, мне позволено было только видеть в окно, было самое необыкновенное: не было ни одного экипажа, но целые толпы, тысячи со стоном и слезами шли за гробом, который важнейшие чиновники несли попеременно с простолюдинами. Всё многочисленное киевское духовенство также пешком провожало процессию; несколько дней везде встречались печальные лица, и святый град оплакал истинно-святую жену… Можно ли поверить! Лет четырнадцать тому назад был я в Киеве и не нашел почти никого, кто бы ее помнил; теперь едва ли сыщется кто-нибудь такой, который слыхал об ней. Я посетил её могилу и нашел, что, от небрежения, время стерло надпись на её надгробном камне; в самом семействе её об ней никогда не поминалось. Грустно подумать, что пример столь высоких добродетелей совсем потерян для людей; но я уже счастлив тем, что галерею мою, где столько безобразия, мог украсить её священным ликом и утешаюсь надеждою, что когда случайно появятся Записки сии, когда кости мои будут истлевать в утробе земли, на поверхности оной её нетленные останки будут чтимы православными.
Возвратясь из столицы, князь Хованский, на печальные ему приветствия, сказал несколько слов в похвалу покойной, и тотчас же потом пустился танцевать на киевских балах. Ему довольно понравилась девица де-Рювиль, но роялистка древней фамилии требовала серьёзной законной любви. Шардонша ладила сделать ее княгиней; дело не состоялось, она уехала, и для меня, по крайней мере, слух об ней пропал на веки.
После смерти княгини Хованской, наши семейства реже виделись; один несчастный случай опять их на время сблизил. Вновь перестроенный комендантский дом загорелся очень рано утром; я жил тогда на антресоле и еще спал. В ужасной суматохе, не знаю как всё это случилось, что все меня забыли, и родители, и учитель, и слуга, который за мной ходил, и хватились только тогда, как весь дом был в пламени. Лакей князя Хованского, высокий, сильный и смелый, по прозванию Соколов, соколом бросился вверх и нашел, что я преспокойно сплю; не дав мне опомниться, успел схватить меня, обернуть в простыню и сквозь дым и пламя бегом снести по загоревшейся уже лестнице. Я очнулся только на площади, где нашел моих родителей. Не стану описывать ни радости их, ни благодарности к мужественному Соколову. Как я был бос и полунаг, а время было холодное, то меня отнесли в соседний дом, к князю Хованскому; там оставался я недели две, пока заняли другой дом, и всё опять пришло в порядок.
Семейство князя Хованского, коего пребывание в Киеве мне пришлось столь подробно описывать, после того недолго в нём оставалось. Подобно предместнику его, Башилову, князя Хованского сделали обер-прокурором в Сенате, и он отправился в Петербург. Несколько раз в жизни случалось мне встречаться с ним и с его дочерьми. Он всякий раз припоминал мне о пожаре и о Соколове, как будто почитая самого себя моим спасителем.
В Екатеринино время было еще в Киеве несколько примечательных лиц, с коими непременно надобно мне познакомить читателя, дабы дать ему понятие о тогдашнем киевском обществе. На сие намерен я посвятить следующую главу.
VIII
Князь П. М. Дашков. — Его жизнь в Киеве. — Киевский наместник С. Е. Ширков. — Д. Д. Оболонский. — Киевский бал. — Генерал Нилус. — И. Г. Вишневский. — Москотиньев. — И. Г. Туманский. — Митрополит Самуил. — Похороны его.
Жил-был тогда в Киеве один барин, да еще же и князь, который, кажется, почитал себя выше обыкновенной знати. Фамилия Дашковых происходила от рода князей Смоленских, потомство коих, за исключением Вяземских, при польском правительстве утратило княжеское свое достоинство. Князья Дашковы не размножились, как другие княжеские роды, и их имя в русской истории нигде не встречается. Первый и последний блеск дала ему честолюбивая женщина, которая почитала себя рожденною с тем, чтобы располагать судьбою царей. Сын её, последний в своем роде, был ею воспитан на славу; она возила его с собою по всем иностранным государствам, всему его учила и в Эдинбурге доставила ему диплом на звание доктора прав, богословия и даже медицины. Но учение и самый опыт не дают того, что природа отняла.
Участию матери своей в возведении на престол Екатерины Второй был обязан князь Дашков быстрому повышению в чинах: в двадцать пять лет он командовал уже Сибирским гренадерским полком и стоял с ним в Киеве. Тут ему приглянулась одна девочка, дочь облагороженного чинами купца Семена Никифоровича Алферова. По высоким, философическим понятиям, которые почерпнул он в своих путешествиях, по примеру английских лордов, коим он старался подражать и кои часто ничтожных тварей, из одной оригинальности, возводят в звание супруг своих, он долго не задумался, взял да и женился, не быв даже серьезно влюблен. Сей брак поссорил его с матерью, разорвал связи его с обществом столиц и заставил его поселиться в Киеве. Он сдал полк; но, по старой памяти к услугам матери, производство для него не остановилось, и он получил чины бригадира и генерал майора.
Горе ученым глупцам! Для головы их обширные познания тоже, что жирная пища для слабого желудка: их беспрестанно несет вздором.
Самолюбивейший из смертных, Дашков полагал, что способен управлять государством и осужден был скрывать свое величие в низеньком доме самого грязного киевского переулка. Там собирал он около себя веселых людей, каких мог найти в Киеве, шутов, всякую иностранную сволочь, и шумом сего общества старался заглушить страдания своей гордости. Несчастный утешался презрением, которое мог он изливать на всех окружающих его, на жену, на тестя, на всю родню их.
Несмотря на несправедливое пренебрежение, которое он также оказывал как жителям того города, который выбрал он постоянным местопребыванием, так и обычаям их, они сначала приглашали его на все праздники свои, на все вечеринки. Он был красивый, видный мужчина и также, как Хованский, страстный охотник до танцев, которые тогда были едва ли не более в моде, чем ныне; но он не хотел на вечерах сих ни одну даму, ни одну девицу пригласить, а с начала до конца беспрестанно танцевал с одной своей женой. Как бы не замечая, что есть хозяева, есть гости, он без церемонии сажал ее к себе на колени и целовал в засос; потом, за что-нибудь поссорившись с ней, при всех начинал ее бить по щекам.
Мои родители застали его уже женатого и сначала, как и все другие, водили с ним знакомство. Досадуя на целый мир, он всех поносил, всех клеветал и тем уже охолодил отца моего. Один вечер, будучи у нас, он за что-то прогневался на жену и дал ей толчка; тогда отец мой ему напомнил, что он не дома и просил для супружеских исправлений избрать другое место. Он гордо поглядел на него, не сказав ни слова, потом взял под руку битую жену и вышел с нею с тем, чтобы никогда не возвращаться; с тех пор он сделался непримиримым врагом отца моего. Сей пример подействовал на киевлян; наскучив его отвратительными странностями, один за другим перестали к нему ездить и звать его к себе. Несколько лет прожил он потом в шумном своем уединении, среди грубых, отчаянных наслаждений, ни на что неупотребляемый, забытый двором и ненавидимый обществом.
В России есть губернские и уездные города; в числе тех и других есть такие, кои должно назвать казенными, потому что в них встречаются по большей части одни только должностные лица; помещики же бывают в них только иногда, по делам. В них беспрестанно меняется картина общества, которое через десять лет, можно сказать, возобновляется во всём своем составе. Киев более чем всякий другой принадлежал к числу сих казенных городов.
Малороссия, которая ныне разделена на две губернии, Черниговскую и Полтавскую, тогда составлена была из трех: Киевской, Черниговской и Новгородско-Северской; большая часть нынешней Полтавской губернии составляла тогдашнюю Киевскую. Жители Черниговских уездов, а еще более Новгородско-Северских, сохранили или приняли много русских навыков, бывши неоднократно под владычеством Московских государей; жители же южной Малороссии остались почти такими же казаками, какими были при Хмельницком.
Богатейшие из тогдашних киевских помещиков редко покидали свои хутора, с крестьянами своими, кои лет десятка два-три перед тем были им равными, имели одинаковые вкусы, одинаковые обычаи, одинаковую пищу, также всему предпочитали борщ и галушки, столь же нежно любили свиней, в одежде сохраняли ту же Запорожскую неопрятность. Их губернский город был за Днепром, почти в ненавистной им Польше, и со времен Петра Великого в нём беспрерывно начальствовали москали и немцы. Они чуждались его, хотя в нём ни язык, ни происхождение простого народа им вовсе не были чужды; однако же в последние годы царствования Екатерины, то обязанные служить по выборам, то привлекаемые приятностями общежития, они начали чаще и в большем количестве появляться.
В изображении лиц, составлявших тогдашнее киевское общество, должен буду я следовать, так сказать, иерархическому порядку мест, ими занимаемых, и потому должен начать с губернатора или правителя наместничества, как Екатерина Вторая, сия немка, страстная ко всему русскому и вводившая везде русские названия, повелела им именоваться.
Тогда управлял Киевским наместничеством осьмидесятилетний, полумертвый старец, Семен Ермолаевич Ширков, старший генерал-поручик по армии, в польской ленте Белого Орла. Он разрушался, но всё упрямился оставаться на губернаторстве; наконец его уволили с честью и пенсией. Об нём самом осталось у меня самое тусклое воспоминание, но мне очень памятны почести, ему воздаваемые. Из уважения ли к его глубокой старости, или следуя чинопочитанию, которое в то время строго соблюдалось, мой отец всегда на крыльце его встречал и до крыльца его провожал. Его довольно любили, но семейство его было самое странное; вообще весь этот род Ширковых, курских помещиков, как прежде так и после, имел весьма худую славу; членов его обвиняли в насилиях, убийствах, кровосмешении, разного рода преступлениях, из коих некоторые были доказаны по делам. Так как семейство сие недолго при нас оставалось и я чуть его помню, то и почитаю себя в праве не входить в описание всех ужасов, кои слышал я после о сих русских Атридах.
После Ширкова был губернатором Василий Иванович Красномилашевич, смолянин, человек умный и приятный, израненный, известный храбростью генерал, который и на гражданском поприще умел показать усердие и способности. Он был холост и не слишком богат, следственно и не мог иметь открытый дом, однако же несколько раз в год давал балы. О вице-губернаторах или поручиках правителя я уже говорил.
Из губернских предводителей мне памятен Демьян Демьянович Оболонский, человек уже пожилой, но еще видный и здоровый. Он имел семь или восемь тысяч душ и жену красавицу и кокетку[19]. Тем и другой он чрезвычайно гордился; а последнею гордились или, лучше сказать, хвалились еще и другие. Он летом обыкновенно живал в деревне, а только по зимам приезжал, как он говаривал, покормить бедняков. Действительно, говорят, у него стол не накрывался, а не раскрывался: целый день пили и ели: завтрак оканчивался водкой, за которой непосредственно следовал продолжительный обед; после обеда закуски или заедки, как их называли, не сходили со стола; после чаю было кратковременное отдохновение, и всё это заключалось столь же изобильным ужином, Ну уж желудки были в старину! Два раза в неделю пировал у него весь город; по тогдашнему обычаю, все съезжались перед обедом и разъезжались после ужина. Меня как-то раз взяли с собой на один из сих вечеров. Вот что я нашел: две приемные комнаты, длинную и низенькую залу и гостиную немного её поменьше, обе обклеенные самыми обыкновенными бумажными обоями и освещенные довольно плохо, однако же восковыми свечами, что тогда почиталось роскошью; все мебели простого дерева, обитые разноцветными ситцами; и посреди такой простоты, на карточных столах шандалы, а по углам канделябры, литые, тяжеловесные, серебряные, а иные позолоченные; целый полк служителей, не совсем худо одетых, на огромных серебряных подносах разносящих питья и яствы. Жена г. Оболонского носила бриллианты, жемчуги и богатые платья, из которых каждое, однако же, в зиму раз по десяти или по пятнадцати, без всякой на нём перемены, появлялось на балах. Из всех малороссийских помещиков, исключая Разумовских, один Оболонский позволял себе так жить. Но вся эта роскошь, как можно видеть, была весьма не разорительна тем более, что цены на съестные припасы были самые низкие. Имение свое оставил он по смерти в целости, без долгов, единственному сыну своему, нерасчетливому, необузданному, сластолюбивому, который начал жить в прихотливый век и предаваться всем прихотям своим, который, гнушаясь вандальским гостеприимством отца, составил себе в Петербурге избранный круг повес и с ними, невидимым образом, умел промотать не только отцовское наследие, но и другие ему доставшиеся, во французских трактирах на Страсбургских пирогах и Шампанском вине. Вот у нас в России постепенный ход просвещения.
Я часто говорил о киевских балах, не описав ни одного из них, тогда как имею к тому возможность, каждую неделю видевши их у себя дома; ибо детей не только не отсылали к себе в комнату, но даже возили иногда на них с собою в чужие дома. Они начинались редко позже семи часов вечера. Хозяин дома открывал их обыкновенно польским[20] с почетнейшею из дам; мужчины выступали важно, выделывали на, меняли руки, и этот церемониальный марш продолжался не менее получаса. Потом начинались англезы или контрдансы, как их называли; ряд мужчин становился против ряда женщин. Старались сколь можно более разнообразить фигуры и самые названия сих контрдансов: одному дано было имя Данилы Купера, вероятно в честь композитора его, какого-нибудь англичанина, Cooper; другому имя Верезани, в честь какой-то победы над турками, еще другие назывались Соваж, Préjugé vaincu, Английский променад. О мазурке и краковяке и слуху еще не было, хотя мы жили в двух шагах от Польши; также о матрадуре и тампете, которые гораздо новейшего изобретения. Вместо французской кадрили танцевали какой-то монюмаск, а потом чего уже не было! Наскучив веселыми звуками, принимались иногда за менуэты, а там за аллеманд, и в нём особенно отличался один немец, полусумасшедший нарумяненный доктор Шёнфогель. Кто бы мог подумать, вальсов еще не знали. На сих балах можно было видеть и малороссийскую метелицу, и голубца, и казачка; плясали и по-русски, и по-цыгански, кто во что горазд. Как сии балы всегда должны были начинаться польским, так непременно должны были оканчиваться алагреком, который не что иное был как нынешний, чуть ли не покойный, гросфатер.
Когда пожилые люди не волнуются страстями, когда их не мучат ни чрезмерная алчность к золоту, ни зависть, ни пожирающее, беспредельное честолюбие, когда они блаженствуют под сенью мудрого и твердого правительства, которое равно охраняет их безопасность и не допускает возможности преступных, дерзких замыслов: тогда, спокойные духом, они делаются почти молоды и готовы иногда резвиться как дети. Молодые же люди всегда расположены к веселости, лишь бы имели благоразумие не отказываться прежде временно от юности, блага невозвратного. Таковыми были почти все тогда в Киеве. У одного князя Дашкова начинался новый век: у него были уже трубки, и пунш, и смелое обхождение без разбора лет и пола; но зато от дома его бежали, как от заразы. Беззаботная же, непринужденная, хотя и пристойная веселость, коей предавались в описываемых мною собраниях люди разных возрастов и состояний, делала всю прелесть старинных наших балов. Коноводом на них был шестидесятисемилетний старик-немец, артиллерийский генерал Нилус, отец моего товарища; он распоряжался танцами, приказывал музыкантам и с неимоверною живостью плясал весь вечер до упада. Надобно знать также, что он был подагрик; когда сия мучительная болезнь его удерживала дома, то отсутствие его было очень заметно, и веселость уменьшалась на вечеринках; но лишь только немного отпустит ему, он опять явится в бархатных сапогах, и уже сидя, взором, криком, движениями, хлопаньем возбуждает танцующих. Все, кои не были записные бостонисты, несмотря на лета, участвовали в танцах, и от старика Нилуса до меня, осьми или девятилетнего мальчика, неудачного ученика г. Пото, всё бывало в движении. Одного отца моего, не знаю почему, исключая польских, я никогда не видал танцующим.
Как бы мы теперь казались смешны! Сорок лет времени и тысяча двести верст расстояния делают большую разницу в понятиях и мнениях людей. Танцы были некогда приятным и для здоровья полезным телесным упражнением, как верховая езда, фехтование, игра в волан или в пом: тогда мог всякий без претензий в них участвовать. Они сделались исключительною принадлежностью молодости, с тех пор как им дана цель, и они обращены в средство. Теперь в состарившихся и в стареющих, которые танцевать не перестают, позволено подозревать жалкое намерение еще прельщать и нравиться; теперь для немолодых девиц есть в обществе резкая черта, преступая за кою, они становятся смешны, если добровольно не хотят покинуть забаву первой молодости; прежде невинному веселию границ не ставили. Говорят, что нынешние танцы способствуют сближению молодых людей обоего пола, что они дают им средства короче узнать друг друга и совращают им путь к браку. Это бы весьма хорошо, но полно так ли? Разве ныне более женятся? Разве ныне мы видим более супружеств по склонности? А для молодых замужних женщин, к чему нынешние танцы сокращают им путь? Не знаю; но мне всё кажется, что в продолжении двух или трех часов, однообразный шум мазурки или котильона, столь утомительный для слуха, должен непременно усыпить осторожность девиц, для них столь необходимую. Бесчеловечие к музыкантам, невнимательность, неучтивость ко всем не танцующим, которые во многих домах, несколько часов сряду, состоят в блокаде, запираются непроходимою комнатою и отрезываются от своих шуб и шинелей: вот, по мнению моему, большие неудобства нынешних танцев.
Я всё забываюсь и невольно переношусь в настоящее время: спешу переброситься лет за сорок тому назад, в мой любезный Киев, чтобы продолжать список чиновных особ обоего пола, составлявших его общество.
В Уголовной Палате председательствовал Иван Гаврилович Вишневской, человеколюбивейший из судей, что, кажется, довольно великая похвала для уголовного председателя. Он был домосед и, как говорили тогда, человек начитанный и просвещенный. Вместо себя посылал он в общество дородную жену свою Ульяну Степановну, сестру нашего посланника в Константинополе Тамары, добрую и почтенную даму. С нею было у него два сына, которые воспитывались в Вене, и коих возвращение отняло у киевских родителей желание посылать детей за границу; да еще куча дочерей, очень хороших девок, между коими были и хорошенькие. Замечательно то, что при них находилась русская мамзель, Прасковья Ивановна: другого прозвания ей не было. Бог весть где и как выучилась она иностранным языкам, была строгой нравственности и имела сверх того другие познания, которые нельзя найти у выписных мамзелей. Сим доказывается, как давно можно было бы завести у нас сей полезный класс женщин.
До Вишневского был уголовным председателем г. Москотиньев совсем противных ему свойств, грубый невежа и страшный взяточник. Его я совсем не помню. Вдова его осталась жить в Киеве, часто нас посещала, и вообще везде ее можно было встретить. Она была до чрезвычайности ко всем ласкова, ни с кем не спорила, никого не пересуживала, всё хвалила и всем старалась угождать, а всё её не любили и довольно сухо принимали; это происходило оттого, что она слыла отменно жестокосердою дома: уверяли, будто двух или трех несчастных крепостных девок своих, единственное свое недвижимое имущество, она таскала всякий день за волосы по полу и била плетью. Явное к ней недоброжелательство не доказывает ли сострадальность, добрые чувства моих тогдашних киевлян?
Председателем Гражданской Палаты был человек одной из известнейших фамилий в Малороссии, Иван Григорьевич Туманской, который делал величайшую честь сословию старых холостяков. Он судил по справедливости и законам, следственно к неудовольствию половины тяжущихся; а не было ни одного человека, который бы не любил его и не уважал. Его спокойная совесть изображалась на спокойном лице его вместе с тихим веселием, её неразлучным спутником; скромность его была в совершенной противоположности с несносною спесью, коею все родные его, однофамильцы, даже до четвертого поколении, еще и поныне одержимы.
Совестный судья, Иван Михайлович Корбе, ужасал безобразием, но как уверяли, пленял умом и удивлял ученостью, что утверждать я не смею, ибо тогда не был в состоянии о том судить. Жена его, коей имя не запомню, напротив, была хороша собой, хотя и не молода. Сего нельзя было сказать о пяти или шести его дочерях: они все были в него, одна другой дурнее, одна другой добрее. Бог благословил сие семейство; мне сказывали, что все они вышли замуж очень счастливо.
Говорить ли еще о чиновниках, занимавших места ныне почитаемые мелкими, которые тогда считались крупными и доставляли уважение занимавшим их, о советниках губернского правления и палат? Здесь еще не место говорить о постепенном упадке сих должностей в общем мнении, упадке столь вредном для пользы государственной службы; тогда еще искали их и старинные дворяне, и заслуженные чиновники, и люди с достатком, и получивши их, вместе с семействами своими, играли почетную роль в губернских городах. Платя дань нынешнему образу мыслей, я умолчу о многих, а о других скажу только несколько слов.
В Губернском Правлении было тогда только два советника, Николай Иванович Ергольский и Прокофий Федорович Пражевский; строгим бескорыстием, умом, знанием дел и какою-то природною важностью, без примеси чванства, могли оба украсить Сенат, если бы в нём заседали. У первого из них было домашнее горе, добрая и любимая жена, Наталья Егоровна, но которая, к несчастью, имела два порока: была престрашная лгунья и вечерком наедине любила выпить. Последний был счастливее. Странно было видеть его, малорослого, рыжеватого, невзрачного, с женою высокою, дородною, черноволосою, смуглою, всегда и во всём ему покорною как дитя. Татьяна Екимовна, так звали ее, урожденная, если не ошибаюсь, Сахновская, была тем особенно замечательна, что быстрые, огненные её взоры изображали необыкновенное сердечное добродушие, и что каждое слово, на выразительном малороссийском наречии ею произнесенное, подтверждало то, что глаза её говорили; зато от стара до мала все равно любили ее. Одну только заметили в ней слабость: будучи двоюродною сестрою Безбородый (как она выговаривала) она часто любила о том напоминать[21].
Ничего, кроме похвал, не могу я сказать и о других чиновниках воинских и гражданских, тогда в Киеве находившихся и мне ныне на память приходящих. Но как самое лучшее беспрестанно повторяемое может наскучить, то для перемены скажу несколько слов о губернском прокуроре, Григории Ивановиче Краснокутском. Его никто не мог упрекнуть в мздоимстве, но чрезмерное самолюбие и беспокойный нрав делали его привязчивым и сварливым. Он был беден и горд, чисть и зол, и я не берусь его осуждать, хотя он причинил много досад отцу моему. Сын его был один из заговорщиков 14-го декабря.
Может быть, отдаление украшает в глазах моих все предметы; может быть, имея в сердце обильный источник любви к ближним, ничто не препятствовало ему разливаться на всё меня окружавшее, и я других ссужал собственными чувствами; как бы то ни было, мне кажется, что нигде еще не собиралось в одно время столь много добрых, умных и честных людей, как тогда в Киеве, и, по моему мнению, сей город был тогда вместе святый и благочестивый. Одна минута всё переменила, и тем доказывается, что время сие, не для одних ребят, было золотым веком России.
Посреди сего всеобщего благочестия, жил один старец, ознаменованный небесною благодатию, и молитвы его, конечно, низводили ее на вверенную ему паству: святитель Самуил управлял тогда древнейшею епархией в России. Он был выражение всего, что есть прекрасного в учении Христовом, олицетворенная христианская любовь и, если смею сказать, воплощенное слово Божие; смотря на него, можно было постигать высоту, на кою христианские добродетели возводят человека посвятившего себя единственно Небу. Сей великий иерарх удостаивал мать мою отеческою любовью; обремененный не столько еще летами, как следствиями труженической жизни, он редко покидал свое уединение, однако же два или три раза в год посещал дом наш. Всякий раз призывал он меня к себе, сажал на колена и целовал. Как описать мне ощущения мои при его ласках? Невольный трепет, неизъяснимую радость, священный страх? Один непорочный отрок может сие чувствовать; ныне же, грешный, изнуренный пагубными страстями, едва могу себе всё это припомнить и с трудом выразить. Может быть, в другом мире и языком неземным буду в состоянии объяснить сие.
Не задолго до смерти Екатерины угас сей светильник веры. Похороны происходили в Софийском соборе без всякой пышности, не было ни катафалка, ни балдахина; меня, как малолетнего, им любимого, поставили близ самого гроба, который довольно низко стоял посреди церкви. Я не спускал глаз с неподвижного лица усопшего праведника; но что было со мною, когда знаменитый красноречием протоиерей Леванда, его возлюбленное чадо, приблизился к гробу и начал произносить известную речь свою, которая начинается словами: «Пастырь успе, делатель винограда Христова от дел своих почил!» С прекрасною наружностью Леванда соединял звонкий и отменно приятный голос, и проповеди свои, которые и поныне могут служить образцами, говорил он еще лучше, нежели писал; в эту минуту он был очарователен: слезы текли ручьями из глаз его и от рыданий он должен был по временам останавливаться. Я никогда не забуду этого трогательного часа и если впоследствии я не предпочел всему монашескую жизнь, если я остался только тверд в правилах моей веры и не сделался даже набожным: то, видно, нет во мне той благодати, которая необходима для трудного и славного поприща истинного христианина.
IX
Елизавета Филипповна Вигель. — Наталья Филипповна Вигель. — Братья Вигели. — Их воспитание. — Крепость старинной семьи. — Александра Филипповна Вигель.
Я говорил обо всех и обо всём, что только мог припомнить в первом моем младенчестве, но не сказал ни слова о семействе моем, то есть о братьях и сестрах. О близких сердцу говорить весьма трудно: всё похвальное в них хочется украсить, все несовершенства хотелось бы скрыть, а я обещался вещать одну только истину. Итак пусть ее одну только узнают мои читатели.
Лета старших сестер моих и братьев им уже известны. Воспитание их было не худо; ограниченность состояния, недостаток тогдашнего времени в хороших учителях, а еще более в гувернантках, и жизнь в провинции не дозволили родителям моим сделать его блестящим; для нравственного же образования им достаточно было родительских примеров и наставлений. При сестрах моих, как мне сказывали, являлись по временам какие-то мамзели, немки или француженки, а может быть крещеные жидовки, которые за таковых себя выдавали; но доказанные невежество или безнравственность скоро заставляли отсылать их. Пограничный Киев предоставил возможность дать сестрам некоторые таланты: их учили танцевать и играть на фортепиано; последнее, начатое по миновании уже ребяческих лет, не имело большего успеха.
Природа не была скупа к старшим сестрам моим: лучший её подарок — доброе сердце, и она обеих им наделила. Старшая Елизавета умом и красотой уступала младшей Наталье, но едва ли не превосходила ее в добросердечии: в этом сравниться с нею трудно; ни голубицы, ни агнцы не могут быть незлобивее. Она никогда не подозревала существования зла, ниже хотела ему поверить; она знала, что есть люди раздражительные и опасно сердить их, но их мщения, хитрой, постоянной злобы она никогда не могла понять. Когда случатся маленькие, семейные, минутные междоусобия, или горничные, употребляя во зло её снисходительность, не внимательны к фи требованиям, она, бывало, надуется, в ней заметно что-то похожее на досаду; но до гнева, до брани, до ссоры она от роду не умела доходить.
Иные скажут, что это доказывает необыкновенную слабость характера; но в соединении с строжайшими правилами нравственности, такая слабость не могла иметь никаких неудобств для женщины или даже девицы, которой определено было долго ничем не управлять и ни над кем не властвовать. С такими милыми свойствами сохранены были и некоторые недостатки: легковерие, легкомыслие, чрезмерное иногда любопытство; врожденная в ней набожность с летами обратилась в суеверие, в наблюдение странных, несколько смешных формул. Всё это вместе сохранило в ней, среди преклонных уже лет, необыкновенную молодость души: она всем тешится как дитя, мир не теряет для неё своей свежести, своих прелестей. Как будто нарочно для неё Создатель ниспослал в него надежду: она никогда с ней не расставалась. Когда тяжкая болезнь постигнет одного из родителей или которого-нибудь из родных, она тиха, печальна, заботлива, но одна только не предается отчаянию; врачи объявляют, что опасность с каждою минутой умножается, она бежит в свою комнату, помолится там, поплачет перед образами, и выходит оттуда с лицом спокойным, почти веселым, как будто вынося с собою жизнь и исцеление. Когда же смерть погасит перед нею последний луч надежды, она делается молчалива, грустна, но надежды свои быстро переносит в другой мир, совершенно убежденная, что милые её сердцу там блаженствуют, и счастлива мыслью о свидании с ними.
Она никогда не была хороша собою, но имела весьма правильные черты, и постоянное выражение благосклонности придавало им большую приятность. Были люди, которые искали её руки, но или ей, или родителям не нравились, и Бог не судил ей быть супругой и матерью; она бы могла быть их образцом, судя по беспредельной любви её к родным. С самой первой молодости разливала она между ими утешение и мир; если кто-нибудь из нас прогневает родителей, она не покойна, пока не вымолит прощение; братьев и сестер она не только мирила, но старалась предупреждать малейшие несогласие, всему находила извинение, всегда готова была вину взять на себя. Обманутые надежды, безбрачная жизнь, необходимость покорности в такие лета, когда уже можно располагать собою и другими, весьма естественно портят нрав стареющих девиц; кротость же сестры моей с летами, кажется, всё умножалась. О достохвальных её подвигах мне не раз придется говорить, если продлятся Записки сии; покамест ограничусь сказанным. Счастлив, если сего достаточно, чтобы заставить полюбить ее. Беззащитное, безобидное существо! У одра полумертвой матери поклялся я быть твоею подпорой, но что бы мог я для тебя сделать? Награждая твои добродетели, сам Всемогущий, среди старости, бедности, сиротства твоего, послал знакомого тебе благодетеля[22], который душевною добротой даже с тобою поспорить может.
Ко второй сестре моей природа еще была щедрее. Все называли ее красавицей; это был портрет красивой матери, списанный искусным живописцем, который бы захотел польстить ей; нравом же совершенно походила на отца. Тогда как старшая сестра везде видела друзей и тайны невинной души своей готова была поверить каждому, меньшая была осторожна, осмотрительна, даже несколько недоверчива, и веселостям своего возраста предавалась с умеренностью, как бы повинуясь необходимости. Не было ли это предчувствием всех горестей, которые она должна была испытать в жизни? Ничего чувствительнее и вместе с тем менее демонстративного я не знавал; высокие чувства, коим тогда не знали даже названия, таились в глубине её сердца и иногда изливались в деяниях, но не в речах; старые люди дивились чрезвычайному благоразумию молодой девочки, и в обхождении с нею самих родителей заметно было какое-то особенное уважение. Скромность, чувство приличия и собственного достоинства иным казались гордостью; но они скоро узнавали ошибку свою, увидя, сколько она строга к себе и снисходительна к недостаткам других. Ум самый основательный, суждения всегда логические, вывели ее рано из ряда подруг и ровесниц, и тогда как они занимались исключительно нарядами и городскими забавами, предметом её нежнейших попечений сделался маленький брат, который только десятью годами был её моложе.
Мои читатели вспомнят, может быть, о княгине Хованской; сии две женщины умели понять друг друга, несмотря на великую разницу в летах. Её примеру, её нежной любви обязана сестра моя отчасти развитием прекрасных свойств, насажденных в ней природою. Первые годы моей юности, вне родительского дома, провел я вместе с нею, следственно буду часто иметь случай говорить об ней и потому считаю лишним здесь далее распространяться.
Та же самая разница, которую можно было найти в характере двух сестер, встречалась также в обоих старших братьях. Оба были исполнены доброты, правдолюбия и чести, но старший тысячью преимуществами блистал перед младшим. Он был уживчивее, уступчивее, острее и веселонравнее, не говоря уже о природных способностях его ко всякого рода серьёзным занятиям, которые показал он в продолжении службы. Меньшой же Николай был нраву весьма крутого, чрезвычайно вспыльчив и потом упрям, как все люди не одаренные хорошим рассудком. Страшная охота спорить, совершенное отсутствие логики и всегда кривые толки делали его тягостным не только для посторонних, но даже для родных. Намерения же его всегда были чисты и похвальны. Изобразив его недостатки, мне приятно отдать справедливость и добрым его качествам. Заметно было, что он менее всех любим родителями; он сам это знал, а со всем тем никто из нас не мог равняться с ним в беспредельной к ним преданности, в безусловной покорности: он видел в них нечто божественное. Несмотря на бесконечные его споры, он страстно любил сестер и особливо брата и с непритворным удовольствием признавал его превосходство над собою; сей же последний, в беспрестанном с ним сообществе, вероятно научился терпеливости, которою отличается.
Старший брат Павел был весьма недурен собою. Один несчастный случай его несколько обезобразил: кусок фаянса, отскочивший от лопнувшей чашки, попал ему в глаз, когда еще он был ребенком, и все старания, чтоб его вылечить потом, остались тщетны. Наружность меньшего не имела ничего привлекательного: у него были серые глаза и лице бледное, ничего не выражающее, испорченное оспой. Наружные недостатки старался он заменить франтовством, был чистоплотен и в мелочах аккуратен до крайности, имел однако же наклонность к расточительности, но был всегда удержан страхом прогневить родителей. Вообще он, кажется, родился более в братьев отца нашего, чем в него самого: немецкая кровь громче в нём говорила, чем в ком-либо из нас, и с малолетства курительный табак сделался уже одной из потребностей его души.
Братья мои получили весьма хорошее воспитание. В пензенском уединении, в промежутки времени между полковничеством и комендантством, отец был сам первым их наставником. По приезде в Киев вручил он их г. Гагеру, и из всего, что я слышал об нём, можно заключить, что он имел основательные незнания и был почтенного характера. В 1792 году мать моя со всеми старшими детьми отправилась в Петербург, с тем чтобы в первый раз показать его дочерям, а сыновей окончательным учением приготовить ко вступлению в службу и в свет. К счастью, ей указали весьма хороший пансион г. Девеля, куда все почтенные, просвещенные и благоразумные родители отдавали тогда детей; знатные же своих воспитывали дома или за границей, ибо об аббате Николе тогда еще и помину не было. Пристроивши их, она скоро воротилась в Киев.
Странные были тогда обычаи, в сие, впрочем, столь счастливое для России время: в пятнадцать лет обыкновенно уже оканчивалось воспитание мальчиков. Полагали, что они уже всему выучены и спешили их отдавать в службу, чтоб они ранее могли выйти в чины. Многие из родителей с сокрушенным сердцем смотрели на пагубу, которая угрожала нежному возрасту и неопытности сыновей их, но не властны были не следовать общему примеру, опасаясь обвинения, что они препятствовали счастью и возвышению своих детей.
Была еще другая странность, которую можно даже назвать злоупотреблением: в каждом гвардейском полку сотнями считались сержанты, вахмистры, унтер-офицеры, каптенармусы, капралы; все они были малолетние, живущие дома и ожидающие очереди к производству. Каждому из сих гвардейских нижних чинов соответствовал в армии один из обер-офицерских, и потому при записывании дети получали сии чины, смотря по связям родителей с начальниками, по покровительству, а иногда и по заслугам их.
Благодаря весьма дальнему родству матери моей с конногвардейским премьер-майором, от армии генерал-поручиком Петром Ивановичем Боборыкиным, нас всех троих, братьев за азбукой, а мена в колыбели, записали вахмистрами лейб-гвардии в конный полк. Старшинство между тем сохранялось, и для братьев приближалось уже время производства в офицеры; стоило только подождать год-другой; но каким мальчикам не хочется ранее быть на свободе? Они убедили родителей дозволить им, как говорилось тогда, подать в армию и, едва показавшись на службу, они были выпущены 1 января 1795 года ротмистрами в Нежинский карабинерный полк. Подобная участь впоследствии ожидала и меня, и я, признаюсь, ожидал её также с нетерпением.
Тот полк, в который вышли братья мои, стоял тогда на квартирах во вновь присоединенной от Польши Изяславской губернии, нынешней Волынской, бывшем Заславском воеводстве, не очень далеко от Киева. По снисходительности начальства и вообще по необращению в мирное время строгого на то внимания, они большую часть года проводили у родителей. Приезд их меня совсем не обрадовал: три года отсутствия в тогдашние мои лета были целая вечность, я их совсем почти не помнил и, смотря на ласки, расточаемые им матерью и сестрами, видел в них только пришельцев, похищающих мои права.
Неприязненное к ним чувство еще умножилось, когда они начали мне приказывать, на мне взыскивать. Пусть бы сестры, думал я: они бранят таким нежным голосом; когда они принуждены даже взять за ухо, от прикосновения их менее боли, чем удовольствия; а эти карабинеры, по какому праву? Сие право я ныне уважаю, право старейшинства между родными; оно было тогда освящено обычаем и проистекало из самых ясных понятий о взаимных обязанностях единокровных. Им крепится союз в семействах; никакой ребенок не мог тогда остаться совершенно сиротой, напрасно смерть похищала у него отца и мать: дяди и тетки, старшие братья и сестры, при жизни их, уже участвовавшие в их обязанностях, тотчас заступали их место и становились естественными покровителями младенца, отрока или даже юноши. Общее мнение поручало им беззащитного и требовало от них строгого отчета; безжалостный брат или хищный дядя были им преследуемы и были столь же редки, как жестокосердые родители; но зато и они находили в питомцах своих покорность и нежность. Узел, прикрепляющий детей к родителям, а за неимением их к старшим в роде, слуг к господам и взаимно, сей самый узел связывал граждан между собою и привязывал их к правительству, вере и отечеству. Горькая истина!
Все сии узы до того ныне ослабели, что стоит безделицы, дабы совсем развязать их. О всегубительный вихорь Запада!
Напрасно будут говорить, что народы всегда любят правительства, коих благотворные законы ограждают их безопасность и собственность, что людям необходима какая-либо вера, и сия необходимость заставляет любить ее, что общие выгоды всегда соединяют людей на защиту их, что слуги волею или неволею и теперь повинуются господам; что если дети и не оказывают ныне родителям принужденного уважения как прежде, если позволяют себе беспрестанно с ними обо всём спорить и смеются над их ветхими предрассудками, то не менее того их любят по привычке, по воспоминаниям о младенчестве. Хорошо, если б и так; но это действие необходимости, рассудка, расчёта, а прежде всё это было чувство, и, кажется, что одно всегда бывало сильнее другого.
Настоящее заставляет меня часто забывать прошедшее; спешу опять в нём утешиться. Итак братья мною командовали; из них старший, а из сестер средняя преимущественно мною занимались, мне покровительствовали, меня предпочитали, тогда как старшая сестра и средний брат всегда оказывали совершенное пристрастие к самой меньшей сестре нашей Александре, которая, как уже сказал я, была шестью годами меня моложе.
Сия последняя от природы получила всё, и ум, и красоту, и доброе сердце; но, к сожалению, всё это напрасно. Если оспа не совсем ее изуродовала, то по крайней мере весьма попортила её лицо; коже необыкновенной белизны и тонкости и чертам самым привлекательным дала некоторую грубость и выражение не совсем приятное, оставив ей одни только прекрасные глаза. Дурное воспитание еще более испортило её нрав и не дало природному уму ее развиться и украситься. Сей Вениамин женского пола был идолом покойного родителя; но отягченный еще, но уже побежденный летами, он не мог сохранить с нею притворного равнодушия, которое показывал старшим детям; вся нежность отца, усиленная продолжительным воздержанием от её изъявления, излилась на малютку, последний плод счастливого его супружества. Её появление всякий раз рождало улыбку на устах его, при ней терял он обычную свою важность; чадолюбивейшая из матерей не хотела или не смела показать ей малейшей строгости; старшие братья и сестры тешились ею как куклой, а один из них, отличающийся некоторою суровостью в характере, позволял ей всё с собою; наконец, и мне, который в ребячестве имел наклонность к постыдным порокам зависти и ревности, ни минуту не приходило на сердце ей позавидовать, и мы поблизости лет чрезвычайно друг друга любили. Всё позволялось ей, все её прихоти исполнялись; долго не решались занимать ее учением, а когда и принялись за то, никто не смел ее приневоливать; одним словом, это было самое избалованное дитя, и если Вениамин не сделался, наконец, Митрофанушкой в юбке, то его спасли единственно хорошие примеры в семействе, а может быть и счастливые дары природы.
Коротко познакомив читателей со всем моим семейством, мне предстоит теперь обязанность доставить им новые знакомства с посторонними лицами и приступить к описанию совсем новой эпохи в моей жизни.
X
Век Екатерины Великой. — Характер его. — Весть о кончине Екатерины. — Кончина графа Н. А. Румянцова. — Воронцов и Ермолов. — Отставка Суворова.
Кому из пожилых ныне людей не памятен роковой 1796 год? Великие народные бедствия постигли Россию в первое десятилетие царствования Екатерины; на Юге война пылала с Турцией, Польша волновалась и угрожала опасностью её западным границам, все её юго-восточные области кипели ужасным Пугачевским бунтом, и моровая язва, опустошив южные пределы, проникла в самое сердце её, Москву. Твердостью, счастьем и мудрыми выборами Екатерины зло физическое и нравственное было везде побеждено, когда Румянцев предписывал туркам условия мира, Бибиковы, Панины, Суворовы укрощали мятеж, а Еропкины и Орловы спасали древнюю столицу. Бедствия миновались, и наступила для России славная тишина, какой нельзя дотоле найти во всех её летописях. Тишина не есть однако же бездействие: спокойствие, коим более двадцати лет наслаждалась Россия при Екатерине, можно уподобить летнему зною, когда в молчании поля и лес, люди и стада ищут прохлады, а силою великого светила зреют жатва и плоды.
В сии двадцать слишком лет быстро, хотя сначала едва приметно, естественно и непринужденно, просвещение разливалось по всем отраслям управления, проникало в целый состав народный. Под государственное здание, наскоро, нетерпеливою, насильственною рукою Петра Великого воздвигнутое, подведен прочный фундамент, которого оно не имело; грубый чертеж его во многом изменился, и в сей переделке, приспособленной к нашему народному быту, соблюдены стройность и приятность форм. Народный дух, более пятидесяти лет подавляемый сначала Петром, а после него Меншиковым и Бироном, воспрянул уже при Елизавете; но в нём была заметна не столько привязанность к достоинству русского имени, сколько к предрассудкам, к варварским обычаям старины. Первые искры национального самолюбия, просвещенного патриотизма показались при Екатерине; при ней родились и вкус, и общее мнение, и первые понятия о чести, о личной свободе, о власти законов.
Пустоши, необитаемые степи покрылись при ней селениями; мало известные селения обратились в многолюдные, губернские города, и зацвели торговлей и общежитием. Она никого не принуждала, но во всех умела возбуждать желание учиться, и русские, как будто бы следуя собственному внушению, стремились сравняться с народами, многими веками в образовании их опередившими. Всё шло как бы само собою, и очарованная ею Россия, упоенная славой, пресыщенная завоеваниями, предавалась какому-то сладкому забвению, от которого только по временам столь же приятно была пробуждаема громом заграничных наших побед.
Говорят, что её придворные, как и везде, пресмыкались, завидовали и клеветали, пристально вглядывались в царские слабости, старались угождать им и в тоже время нескромными речами старались поносить их. Но в дали солнце России являлось нам во всём своем блеске. Державин пел его, Суворов ему служил, мы согревались его лучами, мы озарялись его светом. Мы блаженствовали, мы ликовали, мы всё более и более предавались врожденной нам беспечности, забывая о прошедшем, не думая о будущем, как будто бы бессмертная делами была также бессмертна и телом.
В ноябре месяце 1796 года ужасная весть о её внезапной кончине прервала пленительный сон, в который погружена была вся Россия. День именин моих с покойным отцом, 14-го ноября, был днем торжественным для нашего семейства и праздником для целого города. В этот день с раннего утра до обеденного времени посетители и даже посетительницы являлись беспрестанно с поздравлениями; между тем во всех комнатах накрывались столы, за которые тесно садились потом духовные, воинские и гражданские чиновники и несколько почетнейших киевских купцов; это был, как говорилось, пир про весь мир. Лишь только исчезали столы, как начинали съезжаться на вечер и далеко за полночь веселились: самый приятный и утомительный для нас день.
Он взошел как обыкновенно: дом наш наполнился всякого звания людьми; со всех сторон доброжелательные лица и нельстивые уста приветствовали доброго, всеми любимого хозяина и его семейство. Сели за обед, и к концу его, радость, кажется, более нежели когда-либо блистала на всех лицах и изливалась в шумных не складных речах. Вот уже встали из-за стола, уже наступил вечер, и молодежь с нетерпением ожидала первых ударов смычка, как вдруг вызвали губернатора Милашевича, а за ним и отца моего, и чрез несколько минут они воротились с видом мрачным и беспокойным. Немногие это заметили; но, спустя полчаса, отец мой объявил, что музыканты отосланы и пляски не будет. Старые барыни приступили к нему с убеждениями и с требованием отменить сей бесчеловечный приговор, молоденькие девицы взорами молили его о том же; он остался непреклонен; одна мать моя, которая знала, что он никогда не действовал по капризам и подозревала важную тайну, была сильно встревожена. Вечер прошел довольно скучно, и все рано разъехались по домам.
На другой день поутру весь город узнал ужасную тайну. Проехавший накануне из Петербурга курьер к фельдмаршалу графу Румянцеву, генерал-губернатору Малороссии, с подорожной, на которой было выставлено имя Павла Первого, был остановлен на почте и проведен к губернатору, который тогда находился у отца моего, и они оба узнали от него некоторые подробности о кончине Екатерины Второй, которых никому не спешили сообщить. Ночью приехал другой курьер с манифестом о восшествии на престол императора Павла.
Как описать виденное мною? Я помню всеобщее оцепенение; я помню, как сквозь слезы поздравляли друг друга с новым государем; помню изъявление надежды, что он будет милосерд к своим подданным, тогда как печальные взоры говорили всем противное. Молва заносила к нам вести о его раздражительном и слабом характере, по коему он невольно покорялся той, пред коею все смирялись; нам рассказывали о его странностях, о его мрачном житье в Гатчине, среди леса и болот, в сем Минтурне[23], где он помышлял о мести. Многие видели в нём жертву, но жертву озлобленную, и при имени его чувство сострадания сливалось с каким-то тайным ужасом. Он явился на троне, и Россия в безмолвии, с благоговением и трепетом преклонила колена пред сыном Екатерины и правнуком Петра.
Первые известия, полученные потом из Петербурга, многих обрадовали: щедроты лились рекою. Но благоразумные люди рассчитывали, что если так продлится, то наружные знаки отличия потеряют всю цену, а раздача денег и деревень скоро истощит государство; впрочем, они приписывали сие избытку радости при достижении давно желаемого венца.
Вскоре потом другие известия, быстро одно за другим приходящие, всех изумили. Явно преследуя память матери своей, новый император с особенною торжественностью поклонялся праху отца. Извлекая его из могилы, венчая во гробе, он только воскресил неуважение к сему давно забытому государю. Как святой Реми завоевателю Клодовигу, казалось, он говорил русскому народу: жги что ты боготворил и боготвори что ты жег. Минерва в баснословии не имела матери, а сыну Минервы можно было бы забыть, что он имел отца.
Все окружавшие Петра III были призваны ко двору и осыпаны милостями. Вероятно, в списке не столь важных лиц при нём находившихся, нашлось и имя отца моего; так должно полагать: ибо, без всякого представления, без всякой известной причины, вдруг получил он милостивый рескрипт от царя и на шею Анненский крест, огромную бляху, составленную из красных и белых стекол, изображающих яхонты и алмазы. Награда ныне маловажная, даже обидная для генерала, но в первые месяцы царствования Павла она почиталась лестною; отменив раздачу орденов, учрежденных Екатериною, Георгиевского и Владимирского, он хотел заменить их своим наследственным Голштинским и для того разделил его на три степени, почитая вторую наравне с второю степенью Владимирского ордена. Получив крест от сына Петра III и в память его, отец мой надел оный с растроганным сердцем.
Ровно через месяц после Екатерины, 6 декабря, скончался близ Киева один из знаменитейших её полководцев, Румянцев-Задунайский. Он с давнего времени жил в поместье своем Ташани, во ста верстах от Киева, и оттуда управлял Малороссией, то есть имел главное наблюдение над ходом в ней дел, но всё время нашего там пребывания ни разу не посетил Киева. Заслуженные воины, поклонники отечественной воинской славы, с разных сторон стекались к нему как на богомолье. Из подчиненных его отец мой, им особенно любимый, раза два или три в год посещал его и гостил у него по неделе. Преданный ему душою, он не без сожаления видел, что благорасположение его разделяет он с князем Дашковым, и сие, может быть, умножило его отвращение к сему человеку. Граф Румянцев воспитывался в Кадетском Корпусе при Анне Ивановне, следственно тогда еще был напитан Германским духом; под начальством графа Фермора сражался с великим Фридериком и, среди самых побед наших над венчанным полководцем, дивился его искусству и гению; впоследствии имел случай узнать его лично и без восторга не мог говорить об нём. Отечественное он мало уважал и жил всегда окруженный немцами. Зато и Россия, платя ему дань удивления, ограничивалась сим холодным чувством, тогда как имя Суворова еще и поныне заставляет биться сердца патриотов[24].
Тело покойного фельдмаршала привезено было в Киевопечерскую крепость и, по приказанию Павла, предано земле в Лавре с величайшими военными почестями. Три холостые сына, из коих младшему, Сергею Петровичу, было уже за сорок лет, прибыли к печальной церемонии. Они принимали посещения, но сами их никому не делали, и один только из них, Николай Петрович, умел со всеми быть любезен и приветлив. В память уважения отца своего к моему, подарил он ему богатую конскую сбрую и любимую лошадь покойника, вороную, откормленную, на которой он изредка выезжал и которая потом более шести лет служила отцу моему для прогулок.
Хвалясь вниманием Румянцева к покойному родителю, я было забыл похвастаться ласками к нему Суворова. Это еще было на Кубани, где Суворов сражался с горцами и жил с молодою, добродушною женой, которую отменно тогда любил. Она была красавица в русском вкусе, бела, румяна и полна, ума невысокого, с воспитанием старинным. В Таганроге и Черкасске, среди тогдашних казачек, приятно было встретиться русским барыням, и она очень сдружилась с моею матерью. Сам Суворов, навещая жену, очень полюбил ее, был с нею чрезвычайно любезен и часто при ней гениально дурачился. Но с тех пор мои родители уже с ними нигде не встречались.
Великий Суворов, Оден русского воинства, вдруг был отставлен, как простой офицер и послан жить в деревню. Не знаю, насильственная смерть герцога Ангиенского произвела ли во Франции между роялистами тот ужас, коим сие известие поразило всю Россию. Она содрогнулась. Сим ударом, нанесенным национальной чести, властелин хотел как будто показать, что ни заслуги, ни добродетели, ни же самая слава не могут спасти от его гнева, справедливого или несправедливого, коль скоро к возбуждению его подан малейший повод. Сим не довольствуясь, по какому то неосновательному подозрению, он велел схватить всех адъютантов его, всю многочисленную его свиту, посадить в Киевской крепости, и бедный отец мой осужден был стеречь сподвижников великого человека!
Екатерина и Румянцев во гробе, Суворов заживо похороненный, многие вельможи, подпоры трона, опрокинутые слепым самовластием, представляли картину разрушения России в начале 1797 года. Скоро, скоро от прежнего, недавнего её величия осталась одна только ее колоссальность, служащая подножием маленькой фигуре, которая на ней кривлялась и топорщилась.
XI
Преобразование при Павле. — Прибалтийский край. — Шарлота Карловна Ливен. — Слияние поляков и русских. — Киев при Павле. — Княгиня Яблоновская. — Княгиня Шуйская. — Судьбы Польши. — Польские женщины. — Русское западничество. — Характеристика поляков.
Перемены шли при Павле с неимоверною быстротой, более еще чем при Петре; они совершались не годами, не месяцами, а часами. Тридцать пять лет приучали нас почитать себя в Европе; вдруг мы переброшены в самую глубину Азии и должны трепетать перед восточным владыкою, одетым однако же в мундир прусского покроя, с претензиями на новейшую французскую любезность и рыцарский дух средних веков. Версаль, Иерусалим и Берлин были его девизом, и таким образом всю строгость военной дисциплины и феодальное самоуправие умел он соединить в себе с необузданною властью ханскою и прихотливым деспотизмом французского дореволюционного правительства.
Звание наместников и генерал-губернаторов уничтожено и заменено званием военных губернаторов, управляющих и гражданскою частью. В сию должность назначали того же самого графа Румянцева; но он умер, и на его место прибыл вновь пожалованный фельдмаршал граф Иван Петрович Салтыков. Военные генералы, управлявшие губерниями, переименованы в соответствующий их классу гражданский чин и названы гражданскими губернаторами. Обер-коменданты лишились сего названия, остались просто комендантами, и у них отняли инспекцию над крепостями и гарнизонами; но зато в их ведение поступила полиция губернских городов, и в случае отсутствия военного губернатора не гражданские губернаторы, а они заступали его место.
Не самая важная, но для наружности самая примечательная перемена произошла в воинском наряде. Щеголеватость одежды Екатерининских воинов найдена женоподобною. В самое короткое время, сначала гвардия, а потом вся армия обмундированы по новой форме; и что за форма! Миллионы истрачены, чтобы русских сделать уродами. Описание сего безобразного костюма довольно, кажется, любопытно: он состоял из длинного и широкого мундира довольно толстого сукна, не с отложным, а лежащим воротником и с фалдами, которые спереди совсем почти сходились; из шпаги между сими фалдами, воткнутой сзади; из ботфортов с штибель-манжетами или штиблет черного сукна; из низкой, сплюснутой треугольной шляпы; узкого черного галстука, коим офицеры казались почти удавленными; перчаток с огромными раструбами; простого дерева форменной палки с костяным набалдашником и, наконец, из двух насаленных над ушами буколь с длинною, туго проволокою и лентою перевитою косой. Всё это в подражание подражателю Фридерика Второго, отцу своему, тогда как в самой Пруссии сей странный наряд давно уже был брошен. Исключая кавалерии, все одеты были в мундиры одинакового цвета; но зато отвороты и обшлага были и розовые, и абрикосовые, песочные, кирпичные, всех в мире цветов: удивительное единообразие и пестрота в одно время, живое изображение единства воли и беспорядка мыслей ее движущих.
По неограниченной любви моей к истине и справедливости должен я сознаться, что в начале сего царствования, сделаны были и такие перемены, которые были весьма полезны для службы, хотя иные и оскорбили тогда ребяческое мое самолюбие. Бесчисленные толпы гвардейских сержантов и вахмистров потребованы на службу; иные оставлены в гвардии, другие выпущены в армию не более как прапорщиками, а малолетние за неявкою исключены вовсе из полков. Нет нужды говорить, что я попал в число последних.
Но что значит исправление мелких злоупотреблений в сравнении со всеобщими, губительными распоряжениями, противными политике и здравому рассудку? Начало сего несчастного 1797 года, между прочим, ознаменовано одною важною государственною ошибкой, коей зловредные последствия ощущаем мы и поныне. Сие дело было для меня предметом постоянных горестных размышлений, и я позволю себе изложить его с некоторою подробностью.
Остзейские провинции были некогда достоянием великого Новгорода и Полоцких князей. Они были обитаемы теми же самыми малоумными, смирными, слабыми дикарями, которые ныне стонут под тяжким игом жестокосердых своих завоевателей, а прежде платили легкую дань своим добрым и сильным соседям. Не задолго до нашествия татар и вторжений Литовских, начали исподтишка в малом числе показываться монахи и рыцари на Ливонских берегах и с дозволения беспечных новгородцев и полочан строить замки и кирки. Когда две кровавые тучи, одна после другой, с Востока и Запада, покрыли почти всю раздробленную Россию, тогда и наши немцы, усиленные прибытием многочисленных сподвижников, начали расширяться на Севере. Татары нагрянули, вломились; немцы же воспользовались гостеприимством и засели, мечом начали крестить несчастных эстов и скоро захватили два русские города, Юрьев и Ругодив, нынешние Дерпт и Нарву. Если бы не могущество республик Новгородской и Псковской, они бы проникли во внутренность России.
Итак хищные враги со всех сторон рвали на части и до того уже междоусобиями раздираемое наше отечество. Как оно не погибло, а возродилось, вознеслось, это чудо Провидения, о котором здесь не место говорить. Лишь только установилось у нас единодержавие, лишь только справились с татарами, как тотчас хватились отнятого у нас немцами. Мужество Батория не допустило грозного царя удержать за собою завоеванную уже Ливонию. Бесчеловечные же её владетели, истребители её тишины и свободы, давно уже утратили неукротимое мужество предков и утопали в неге, в роскоши, в разврате; теснимые сильными государствами, они должны были попеременно признавать над собою господство Польши, Дании и Швеции. Они принадлежали последней, когда возгорелась война между Карлом XII и Петром Великим: первого ненавидели они за отнятие будто бы каких-то прав, а последнему поддались бы неохотно. Правда, дело шло об них и за них, но не с ними; им оставалось ожидать, кому они достанутся.
По праву победы и завоевания, по праву прежнего владения и по Ништадскому трактату, не с ними, а с шведским правительством заключенному, земли, ими захваченные, возвращены опять России. При сдаче одного города, Риги, были сделаны некоторые условия, и они уверяют, будто на сих условиях вся Ливония добровольно покорилась Российской державе. Петр Великий, известный по своему пристрастию ко всему европейскому, обрадовался новым подданным, просвещенным, напудренным и выбритым, и утвердил все их привилегии, вредные, даже унизительные для России. Солиман, при взятии Родоса и англичане в Мальте не позаботились о правах существовавшего еще ордена; а мы хотели показать великодушие и учтивость хищникам нашей собственности. Всем известно, как возблагодарили они нас за то, сии завоеванные наши тираны, во время Бирона, да и всякий раз, когда случай к тому представлялся. При Екатерине Второй дела пошли иначе, сближение их с нами сделалось возможным; но смерть её навсегда отделила их от нас. Одна немка, коей поручила она воспитание своих внук, мадам Ливен, Шарлота Карловна, осыпанная её милостями, не устыдилась сыну её представить некоторые нововведения, как посягательство на священнейшие права Лифляндского и Эстляндского дворянства. Не довольствуясь сим, она успела уверить его, что и введение русского языка и законов в губерниях, вновь приобретенных от Польши, есть вопиющее насилие. Павлу Первому стоило указать на мнимые несправедливости его матери, чтобы возбудить его к противодействию.
Не станем говорить о справедливости или несправедливости присоединения Литвы, Украины и Белоруссии; тому, кто знает хорошо русскую историю, разрешить вопрос сей будет не трудно. К несчастью, Павел Первый знал ее плохо; он переписывался с Лагарпом, который весьма исправно сообщал ему литературно-драматические известия, закулисные анекдоты, парижские сплетни; но едва ли знал наследник Всероссийский, кем и когда перенесена столица из Киева во Владимир, кто первый у нас восстал против татар, каким образом и кем Москва освобождена от поляков; имена мамзелей, хотя и не девиц, Лекуврёр и Клерон ему были известнее, чем имена Пожарского и Минина.
Жители разорванной натрое, несчастной Польши покорились судьбе, начинали привыкать к новому порядку вещей, особенно же те, кои по разделу поступили в подданство к России. Они были присоединены к народу славянскому, не чужому; простой народ в том краю не переставал называть себя русским, две трети его исповедывали греко-российскую веру; а остальные, насильно вовлеченные в латинство и унию, готовы были возвратиться в недра православия. Дворянам не постыдно было променять имя храбрых поляков на имя доблестных россиян, которое носили их предки. Определяя одних только коренных русских на все места в новых губерниях, употребляя поляков в армии и внутри государства, так сказать, тасуя два народа, Екатерина изглаживала следы взаимной их вражды. Её преемникам оставалось только, следуя по пути ею проложенному, собирать плоды её мудрой системы. Пример Смоленска, а еще более Белоруссии, в самое короткое время забывшей, что она принадлежала Польше, показал на опыте, как легко и естественно сливаются славянские племена под одним управлением. Как подживает переломленный член, осторожно перевязанный искусным врачом, так Украина начинала было прирастать к России. И вдруг толчок, и пробуждение усыпленной боли, и волнение замыслов, и несбыточные надежды, и ветхий Литовский статут! Я тогда не в состоянии был чувствовать всю беспредельность зла, России причиненного; но ныне сердце обливается кровью всякий раз, что вспомнишь, как безумно играли судьбами великого народа.
В начале сего самого 1797 года сделано генеральное перемежевание губерний, то есть весьма многие из них упразднены и причислены к соседним, в том числе и наша Пензенская; но для чего? Это один Бог знает. Три малороссийские губернии слились в одну. Киев от них отделился и сделался главным городом Брацлавской губернии, наполненной польскими помещиками. Вскоре потом из Дубно, местечка Волынской губернии, переведены в него контракты, род дворянской биржи, на которую дворяне, в известное время года, съезжались для разного рода сделок, покупки и продажи имений, отдачи капиталов в займы и прочего. Тут опять представляется вопрос: для чего это? Не с намерением ли сблизить поляков с русскими? Но как в это царствование всё делалось без цели и по одним только прихотям, то и отвечать опять будет трудно.
Итак, я в малолетстве своем сделался свидетелем великой метаморфозы. Древняя столица великих князей русских, даже при польском правительстве сохранившая себя невредимою от польского влияния, вдруг ополячилась. В продолжении 1797 года число русских чиновников и малороссийских дворян начало приметно в ней уменьшаться, а число панов в той же пропорции увеличивалось.
Но таковы были следствия направления, данного умам в предшествовавшее царствование, что они не только не чуждались общества русских, но сами искали его, были ласковы до унижения, чтобы не сказать до подлости и даже, кань умели, старались говорить по-русски. О Екатерине говорили с почтением и с восторгом о её сыне, называя его своим благодетелем. Не знаю, ненависть ли к памяти Екатерины, или безрассудство, в котором их обвиняют, рождали их симпатию к сему царю; но они его действительно любили. Странное однако же дело: они при нём не смели питать тех надежд, кои с такою силою обнаруживали при его преемнике. Может быть, они чувствовали, что с ним невозможно ни на что положиться и что в иную минуту ему могло бы вздуматься заставить их переменить веру: от него всё бы сталось.
Немного времени спустя после коронации императора Павла, несмотря на траурный год, начались у нас в Киеве потехи и празднества. Начальники губерний, сбросив траур, заботясь об увеселениях, делали сие конечно в угождение царю. В одной из крытых аллей прекрасного дворцового сада настлали гладкий ноль и над ним из двух или трех палаток сделали намет. В сой крытой галерее нового рода, ярко освещенной, танцевали два раза в неделю; право входа имели в нее все без исключения, начиная от высших классов до порядочно одетых людей. Сверх того всякую неделю был бал у военного губернатора графа Салтыкова; он жил тогда в построенном давно, но дотоле никем не обитаемом, обширном деревянном доме графа Разумовского, который, так сказать, висел над стремниной и из коего были чудесные виды за Днепр. Дом сей казался волшебным, когда, в летнюю, темную ночь полуденного края, он блистал огнями; сверх того, в царские дни были маленькие фейерверки, иллюминации, и иногда спускались небольшие воздушные шары; одним словом, всех насильно хотели заставить веселиться.
Тут в первый раз увидели мы привлекательных полек; они отличались не столько еще красотой и любезностью ума, сколько ловкостью и смелостью. Их самонадеянность, их ласковое, веселое, и вместе с тем несколько насмешливое обхождение приводило в смятение наших добрых барынь и барышень; от разговоров их они часто должны были краснеть. Что касается до меня, то мне казалось, что я в первый раз вижу женщин. Они к нам в дом очень часто начали ездить; я не знал кого предпочесть, которую из двух Залесских, панью ли Гурковскую, или Росцишевскую, или Пупертову? Наше киевское общество составляло одно семейство; и взрослые, и молодые девицы, как будто видя во мне маленького брата, обходились со мной как с мальчиком. А эти милые польки, они шутили, резвились со мной, щипали меня, и даже с ребенком не забывали кокетствовать.
Между сими польками были тогда две старухи, довольно замечательные. Одна из них была вдовствующая княгиня Яблоновская, урожденная княжна Корибут-Воронецкая, женщина лет шестидесяти, довольно добрая, не надменная, но тщеславная, не столько глупая, сколько помешанная. Две знатные фамилии, к которым она принадлежала, были в родстве с Чарторыйскими и Радзивилами, кои, как известно, породнились с домами Прусским и Виртембергским; она была в свойстве с Понятовским, который сидел на польском троне, и с Понинскими, из коих одна была за Курляндским герцогом. Всё это вскружило голову её покойному супругу; он возмечтал, что сам он царь, и промотался на милостях к своим подданным. Повреждение ума его привилось и к ней; в небольшом поместье Стеблове, как-то уцелевшем, в ветхом, не весьма обширном доме, который величала она замком и палацом, сидела она, окруженная портретами родственников своих, императоров и королей; дворню свою называла двором, имела несколько голодных фрейлин, панов-служонцев, а из мелкой, дробной шляхты ей не трудно было набрать маршалков и шталмейстеров; когда же посещала соседей, то два казака с пиками должны были всегда перед ней ехать верхом[25]. Визитные её карточки были огромные панкарты, на которых был напечатан весь её титул, кастелянша такая-то и такая-то, кавалерша Австрийского ордена звездного креста (dame de la croix étoilée) и владетельница города Стеблова. Впрочем, она была очень тиха и благосклонна, особливо когда ей говорили о знаменитых её связях и тешили титулом светлости. Такие затеи и таких чудаков случалось мне после видеть и внутри России.
Оригинальность другой старухи, также княгини, была иного рода. Бог знает каким образом, однофамильцы или родственники несчастного царя Василия Ивановича Шуйского остались в Польше и вступили в её подданство; может быть, кто-нибудь и присвоил себе самовольно сие униженное имя, никем не оспариваемое, судьбою гонимое. Как бы то ни было, но последний, который носил его, жил в поместье своем Ясногородке, в бывшем Киевском воеводстве.
Вдова его слыла некогда красавицей, жила долго и никогда этого не могла забыть. Не знаю каких лет была она, когда мы ее увидели, но на взгляд ей казалось более семидесяти. Как бы описать ее? Это был венчанный розами иссохший труп, в котором, однако же, заметны еще были признаки жизни; сухощавая, сгорбленная, вся дрожащая старушка, одетая, как шестнадцатилетняя девочка, предмет ужаса, сострадания и смеха. Румяны и белила с неё сыпались; но она была мрачна, угрюма, и в очах её впадших, неподвижные взоры горели каким-то страшным жаром. Любовь оспаривала у смерти сию жертву, но торжество последней казалось весьма близким. Любопытно было видеть этот мосол подле жирной Шардонши; обе с удовольствием говорили об любви, но для последней была она только веселым воспоминанием, а для первой серьезным, вседневным упражнением; и не удивительно: у одной было тощее тело, у другой был тощий карман. Три или четыре поляка, красивые атлеты, записные обожатели княгини Шуйской, без стыда и ревности всюду ее сопровождали; надобно признаться, что в сем случае наши русские уступали в храбрости полякам: ни один из них не дерзнул вступить в её свиту.
У неё было две дочери, из коих старшая была прекрасна собою, а меньшая весьма не дурна. В сию последнюю влюбился старший брат мой, и дело шло на лад; но он был еще слишком молод, да и мать моя, которая в обществе любила видеть полек, всегда страшилась видеть их своими невестками. Однако же дурной пример и дурное воспитание, видно, не подействовали на этих княжон: обе, как говорят, впоследствии подавали собою пример целомудрия и кротости[26].
Из русских домов, ни в одном столько поляков не собиралось как у нас; учтивость и образованность хозяина, врожденная любезность и умное добродушие хозяйки, место, которое отец мой занимал и что-то гостеприимное, которым всё у нас дышало, привлекали их к нам. Я часто видел настоящих или так называемых графов Чацкого, Ржевуского, Грохольского, Дульского, Олизара и многих других, людей отменно вежливых, хорошего тона, остатки лучшего Варшавского общества. Нужно ли повторять здесь, что в них не было заметно и тени недоброжелательства к России? Отечество за отечество, они предпочитали ее Австрии и Пруссии, где их обирали и гнули в дугу.
Я не могу воздержаться, чтобы не сказать здесь несколько слов о поляках вообще, тем более, что мне не скоро придется опять говорить об них. При описании событий настоящего времени, я должен буду представить их, как народ совсем другой; ибо разные происшествия, для них благоприятные или пагубные, которые в продолжении сорока лет имели влияние на судьбу их, во многом изменили их характер. Итак я позволяю себе теперь объяснить мысли мои о прежних поляках.
Славянские племена, основавшиеся на Северо-востоке Европы, в странах почти неизвестных, в девятом и десятом столетиях слились в один могущественный народ, который назывался русским. Другие племена славянские, подвигавшиеся на Запад, раздробились на мелкие княжества; иные из них втеснились в самое сердце Германии, но встретившись с силою оружия Карла Великого, а потом императора Оттона, не только были побеждены, но и вошли в состав народов Германских. Между сими западными и северо-восточными славянами образовалось не весьма обширное государство и от тех и от других начало отдельно существовать. Поляки, несмотря на слабость сил своих, как все единоплеменные им народы, властолюбивые, храбрые, даже дерзкие, не хотели признать перед собою первенства бесконечной, бездонной России и не устрашились вступить в опасное для них соперничество. Редко победители, часто, весьма часто побеждаемые, они избегнули завоевания, благодаря кровавым междоусобиям князей, следствиям пагубной удельной системы; но еще более они сим были обязаны для самих русских непонятному, тайному влечению на Юг, куда стремились они за славою, за золотом и где обрели они лучшее сокровище: сохранивший их в бедствиях спасительный свет христианской веры.
Сим светом озарились русские и поляки почти в одно и тоже время; но первые приняли греко-восточную веру, последние латинскую. Несогласия двух церквей умножили несогласия двух народов; они приняли направления совсем противоположные, и препятствия к их соединению сделались неодолимы. Когда внезапно гнев Божий наложил на русский народ ярмо татарское, тогда Польша начала добровольно налагать на себя иго западных народов; соседство с немцами, зависимость от папы, а более всего прельщения Франции развратили нравы её жителей, испортили их язык и породили бесчисленные беспорядки, коих она не преставала быть жертвою.
Посреди двухвековых жестоких испытаний, русские сохранили нравы и обычаи предков, утвердились в любви к отечеству, научились терпению, не переставали презирать хищных своих властителей, гнушаться их верою и, как драгоценный металл, вышли чисты из горнила, плена монгольского. А бедная Польша! Всё более и более предавалась она обычаям Запада, принимала к себе феодальные, готические учреждения, совсем не сродные славянским племенам, сначала лишилась Силезии, а потом немецкий орден отрезал ее от моря. Скоро, подобно Богемии, превратилась бы она в немецкое курфиршество, и существование её, как независимого государства, должно было прекратиться; но брачный союз католички Ядвиги с язычником Ягелло переменил судьбу её, и варвары. Литовцы дали ей новую жизнь, новые силы.
Сим возрождением воспользовался один только духовный Рим; впоследствии оно сделалось вредно для России, а для Польши было бесполезно. Правда, распространив в Литве Римско-католическую веру, она взяла в ней перевес, начала в ней преобладать и, так сказать, всосала ее наконец в себя со всеми её обширными, блестящими завоеваниями. Но что значит распространение пределов государства, когда в нём теряется дух народности? Бедная Польша! Изгнанные отовсюду жиды стеклись в нее и обратили ее в помойную яму Европы. Сии вечные враги рода христианского стали между господами и их вассалами, первым облегчили средства к получению и умножению доходов и тем умножили склонность к расточительности, последних изнурили до невозможности поборами; развращали и разоряли тех и других. Бравши всё на откуп, они везде истребили вкус к домашнему и сельскому хозяйству. Высшие классы предались от того праздности, а бедный простой народ доведен ими до безнадежности, до бесчувственности, до истуканства, почти до состояния скотов.
Потом начали на польском троне являться француженки[27]. Их влияние на судьбу Польши было самое пагубное. Они взялись образовать в ней прекрасный пол и совершенно в том успели. Жены и девы славянские славились дотоле своею непорочностью, набожностью, трогательною покорностью ко власти родителей и супружеской; от сего тяжкого ига избавили их француженки: они сделали более, они научили их распалять страсти в мужчинах, возбуждать в них и месть, и злобу, одним словом, научили их над ними властвовать. Сделавшись честолюбивыми, алчными, ничем не удерживаемые, ни страхом Божиим, ни законами человеческими, могли ли польки не забыть обязанностей супруг и матерей? Брак, ими беспрестанно разрываемый, потерял всю святость свою и обратился в законное наложничество; они сами превратились в очаровательных Цирцей; какая-то волшебная сила заступила в них место силы небесной, коею прежде они были одарены, и тогда-то в Польше, говоря словами незабвенного, вечно-милого поэта нашего, прекрасный пол
… утратил навсегда Стройность робкую движений, Прелесть неги и стыда.Но что же делали тогда мужчины? Какими глазами смотрели они на сей ужасный переворот? Их также француженки уверили, что ревность постыдный порок, свойственный одним только варварам, что в просвещенных землях женщины должны быть свободны как воздух, как солнечный свет, что ими составляются, поддерживаются и украшаются общества, что малейшая прихоть их должна быть законом для мужчин и что сии последние одними угождениями могут им быть любезны. Вот наши поляки принялись по своему рыцарствовать, пить Венгерское вино из женских башмаков и отечество свое обратили в царство женщин и пародию Франции.
К умножению зол и беспорядков, нагрянули иезуиты и с известною их хитростью овладели умами. На праздность, расточительность, тщеславие, легкомыслие поляков смотрели они снисходительным оком; ничего от них не требовали, кроме слепого повиновения Римской власти; главный догмат их, что нет преступления, которое бы не могло быть отпущено католику, и нет добродетельной жизни, которая бы могла спасти еретика, сделал богатых поляков совершенно необузданными. Я не хочу входить в рассмотрение чудовищного образования Польши, королевства и республики в одно время, и многих других разрушительных причин, но скажу только, могло ли ожидать славной будущности государство, коим управляли женщины, иезуиты и жиды, то есть, страсти, обман и корысть? Горьки были для Польши плоды европейского образования!
Когда все язвы сии не глубоко еще проникли в целый состав Польши, она встретилась опять с сестрой своею, соседкой-соперницей. Но она предстала ей не в прежнем уже виде малолюдного княжества, хранимого только одною отвагою своих жителей; она явилась ей могущею, грозною, обогащенною её же бесчисленными потерями. Поюневшая же, из пепла, как Феникс, возникшая Россия была также сильна своею новою молодостью и в тоже время опытом, плодом двухвековых протекших бедствий; была сильна единовластием царей, единомыслием народа. На ней еще видны были следы тяжких оков, которые недавно она сбросила и истоптала; но самый вид заживающих ран, самое воспоминание о татарах, еще более воспламеняли ее против Литвы (ибо имя Польши было ею уже давно забыто).
Началась семейная распря, народная фиваида, упорная, лютая борьба, изредка прерываемая перемириями. В сем кровавом процессе один Бог был судьею; Европа в наши дела не мешалась, и сей Высший Судия постоянно, многократно решал в пользу варварства против полупросвещения. Ныне, после троекратного, в глазах наших совершившегося покорения, поляки подают на апелляцию в Париж. О как жалки они! Судей, коих участь мы недавно сами решили, не должно нам страшиться.
Но прежде чем Польша перестала существовать, увы что сталось с самой Россией! Высшие слои общества потеряли в ней совершенно народную физиономию. Сначала против воли, потом всё более и более увлекаемые, мы наконец с остервенением устремилось на Запад, будто бы за познаниями, а в самом деле за всеми утонченностями роскоши и порока. Самодержавие, которому благоразумие повелевало осторожно знакомить нас с Европой и ее просвещением, потащило нас на сей опасный путь и в ослеплении своем часто требует от нас невозможного, любви к отчизне вместе с пристрастием к иноземному, и таким образом ставить себя в беспрестанное с собою противоречие. Нас ни мало не ужасает пример Польши. Милосердое к нам Небо между Европой и Россией поставило ее как строгий спасительный урок; но мы не внемлем ему, и горе нам! Позволено ли будет, говоря о-столь важном предмете, сделать сравнение не совсем важности его приличное? Мне всё кажется, что судьба поступает с нами и с поляками как иной господин, в устрашение барского сынка своего, без милосердия наказывает холопского мальчика: судьба секла и сечет еще Польшу, а барчонок Россия на то глядит, и всё шалит, всё проказничает и если не уймется, то рано или поздно сломит себе шею.
Коль скоро дело коснется до Польши и до русского европианизма, то кровь бросается мне в голову, мысли во множестве начинают в ней тесниться, и я делаюсь плодовит, хоть и десятой доли их не в состоянии выразить. Таким образом, желая изобразить характер поляков, я заговорился о политическом состоянии прежней Польши; но им же и можно объяснить пороки, в коих обвиняют её жителей. Ни одно государство в мире не имело столь бурной жизни: славянская природа в нём спорила с европейскими навыками, западная церковь с восточною; в нём можно было найти всё что вольность имеет необузданного и все, что рабство имеет унизительного; всё это приучило поляков к сильным ощущениям, и всё являлось в них в преувеличенном виде, и гордость, и уничижение. Мужик, который попадал в шляхтичи, почитал высокомерие обязанностью своего нового звания, и в тоже время, по старой привычке, не переставал падать до ног и целовать «ренки пански» у тех, коих считал выше себя. За то мы называем их спесивыми подлецами. Кто горд и подл, тот обыкновенно бывает трус; а можно ли этим упрекнуть поляков? Из множества слов латинских, вкравшихся в польский язык, ни одно так не ласкает слуха их, как говор. Впрочем, «падам до ног» в разговоре тоже самое, что покорнейший слуга в письме, — одна учтивость. Весьма бестолково называем их также безмозглыми. Когда страсти не заглушали рассудок? Если б от сильного их волнения он и помрачился у поляков, то у них всегда сохранится необыкновенная живость ума и воображения. В век философии и либерализма, всеми обманутые, всеми обиженные, разделенные и переразделяемые своими и чужими, то возносимые до чрезмерности незаслуженными похвалами, то унижаемые столь же незаслуженным презрением, все понятия их о их правах и обязанностях, о настоящей их пользе, о истинном патриотизме смешались и перепутались; в них осталось одно чувство и чувство прекрасное: ойчизна им милее всего на свете.
Я не думал быть защитником поляков, тем более что имею много причин негодовать на них, но я люблю истину и вспомнил поляков моей молодости. Вековая их вражда тогда погасла в изумлении пред победившим их дивным гением Екатерины; её народ разделил с нею невольное их уважение; но когда потом увидели они своих завоевателей на коленях в грязи перед теми, коих почитали своими друзьями и наставниками, то удивление прошло, и прежде чем они стали нас вновь ненавидеть, уже научились они нас презирать.
Итак в царствование Павла поляки еще не смели ничего затевать; напротив, они старались привыкать к своему новому положению и в том совершенно успевали. Общее горе, общие опасения сблизили всех, даже личных неприятелей. В западных губерниях император продолжал во множестве раздавать деревни русским генералам и министрам, губернаторские и другие места в них по-прежнему наполнялись одними русскими; если в Киеве увеличилось число поляков, зато и русские беспрестанно размножались в других городах вновь приобретенного края. По крайней мере с этой стороны творение Екатерины еще не начинало разрушаться, её духом еще исполнена была Россия, и государственные лица, советники царские в делах политических, всё еще шли путем, ею начертанным.
XII
Преобразование войска. — Гатчинцы. — Граф Ферзен. — Граф И. П. Салтыков. — Илья Иванович Алексеев. — Сговор сестры Натальи. — Генерал Розенберг. — Свадьба сестры.
На преобразование войска было обращено главнейшее внимание императора. Подобно отцу, он был страстен к фронту и всегда восхищался порядком и устройством, кои видел в прусской армии. В последнее время Екатерины дисциплина действительно несколько ослабела в нашем войске, но ее можно было восстановить менее крутыми средствами; я даже не знаю, необходима ли она столько для русских воинов, сколько для немцев.
Названия армий, корпусов и бригад не существовали первые два года при Павле Первом. Была одна только армия без главнокомандующего, разделенная на двенадцать дивизий, и каждая из них имела по два инспектора, одного по пехоте и артиллерии, а другого — по кавалерии. Таким образом генералы остались бы без занятия, если бы каждому из них не дано было по полку с названием шефа. Всё это я очень помню, ибо жил тогда в крепости и мечтал только о военной службе.
Из инвалидных, более чем гарнизонных, киевских батальонов, велено вдруг составить гарнизонный полк, совсем на полевой ноге. Все старые изувеченные солдаты отосланы в инвалидные команды и заменены новонабранными рекрутами. Отец мой, который был шефом этого полка и который должен был отвыкнуть от фронтовой службы, но который некогда был кадетским офицером Петра III, вспомнил молодость и сделал чудеса. Несмотря даже на недостаток в хороших офицерах, через три месяца полк его ни в чём не уступал лучшим старым линейным полкам. Это было доведено до сведения императора, и он не замедлил наградить его чином генерал-лейтенанта, который, впрочем, ему следовал и по старшинству.
Чтоб удостовериться в успехах предпринятого им военного преобразования, сверх инспекторов, находившихся при каждой дивизии, Павел Первый рассылал еще инспектировать полки приближенных своих, так называемых гатчинских офицеров, пережалованных им в генералы и полковники. Это были по большей части люди грубые, совсем необразованные, сор нашей армии: выгнанные из полков за дурное поведение, пьянство или трусость, эти люди находили убежище в гатчинских батальонах и там, добровольно обратясь в машины, без всякого неудовольствия переносили всякий день от наследника брань, а может быть, иногда и побои. Между сими подлыми людьми были и чрезвычайно злые. Из гатчинских болот своих они смотрели с завистью на счастливцев, кои смело и гордо шли по дороге почестей. Когда, наконец, счастье им также улыбнулось, они закипели местью: разъезжая по полкам, везде искали жертв, делали неприятности всем, кто отличался богатством, приятною наружностью или воспитанием, а потом на них доносили. Из сих злодеев более всех был известен своею лютостью один беглый прусский гусар, именем Линденер, которого Павел произвел в генералы. В кавалерийских полках долго помнили его имя; он сотнями считал людей, коих удалось ему погубить; наконец дошло до того, что, несмотря на покровительство императора, преследуемый общею ненавистью, он должен был оставить службу и куда-то скрылся. У нас был свой терроризм.
Войска, в Киевской губернии расположенные, были счастливее других. Узнали, что приехал из Петербурга генерал-адъютант Баратынский[28], о котором дотоле не слыхивали. Все вздрогнули, все ожидали видеть людоеда; тем приятнее все были изумлены, когда узнали сего почтенного, тогда еще довольно молодого человека, благонамеренного, ласкового, с столь же приятными формами лица, как и обхождения. Казалось, он приехал не столько осматривать полки, сколько учить их по новому уставу, и он делал сие с чрезвычайным усердием, с неимоверным терпением, как будто обязанный наравне с их начальниками отвечать за их исправность. Он охотно разговаривал о своем государе и благодетеле, уверяя всех в известной ему доброте его сердца, стараясь всех успокоить на счет ужасов его гнева и чуть-чуть было не заставил полюбить его.
Месяца через три приехал инспектор, другой гатчинец, молодой Измайловский полковник Малютин: новый страх, новое успокоение. Этот Малютин был добрый малый, гуляка, великий друг роскоши и всяких увеселений, который имел особенное искусство придавать щеголеватость даже безобразному тогдашнему военному костюму. Но это в нём было не главное: в фронтовом деле был он величайший мастер; зато всё ему прощалось, даже страсть его к щегольству, порок непростительный в глазах Павла Первого, так как цинизм казался ему почти добродетелью.
В числе полков, коим в Киеве Малютин делал смотр, был также и Киевский гренадерский. Его шефом был тогда знаменитый граф Ферзен, победитель Косцюшки, немец, каких давай Бог более русским. Он не скрывал, сколь тяжко ему поникнуть лавровой главой почти перед мальчиком; очень умно и вежливо сказал он это ему самому; но Малютин не был, видно, потомок Малюты Скуратова, а если и был, то не походил на своего предка, ибо с благоговением и стыдом принял рапорт от Ферзена.
После такого героя, отцу моему уже не стыдно было представить новый полк свой на смотр г. Малютину. Мне в первый раз случилось тут увидеть покойного отца перед фронтом. Я не мог им налюбоваться. Ему было тогда около шестидесяти лет, но всем кто тут был показался он двадцатью годами моложе. Сам Малютин удостоил его величайших похвал.
Мимоходом сказал я несколько слов о графе Ферзене. Я никак не могу сим ограничиться; ибо сей человек, коего именем украшаются наши военные летописи, был частым посетителем нашего дома, и мне не редко удавалось слышать любопытный его разговор. Он был тщедушен, роста небольшого, имел нос длинный, щеки впалые, лицо бледное; голос его был тих, и наружность всегда спокойна, даже тогда как говорил он с жаром; только одни глаза его разгорались огнем ума и чувства. Воин Екатерины, он, подобно ей, всеми силами пламенной души своей, прилепился к нашему великому отечеству и служил ему не как наемник, а как преданнейший сын. Германия сделалась ему вовсе чуждою; несправедливость её сынов против народа, его благородным сердцем избранного, против земли, подательницы побед и славы, его жестоко оскорбляла. Когда соотечественники его сделались образцами для нашего войска, он не скрывал намерения оставить службу, прибавляя, что если возгорится у нас война с Пруссией, либо с Австрией, то он опять готов вступить в нее, хотя бы простым рядовым.
Домашние несогласия давно разлучили его с женой, и единственного сына своего он видел только в колыбели. Этот сын, молоденький мальчик, вызванный им из Лифляндии, к горю его, приехал в Киев. «Посудите, — говорил Ферзен отцу моему, — каково мне глядеть на него? И глуп, и ни слова не знает по-русски». А между тем ни один портрет, ни одна статуя ни могли быть так схожи с подлинником как отец с сыном: последний был совершенно старик Ферзен, помолодевший и не одушевленный.
Примечательно, что при Екатерине все немцы, служившие в нашей армии, делались наконец русскими. Взаимная их ненависть с нами, возбужденная при Анне Иоанновне, не совсем потухла еще при Елизавете Петровне и на минуту опять было пробудилась при Петре III, но искусством Екатерины совершенно погашена. При ней один немецкий генерал обрек себя на верную погибель, чтобы ценою её купить для России победу, которую он не должен был разделять: Вейсман был русским Леонидом, как образовавшийся при ней Барклай был после русским Эпаминондом. Нельзя винить немцев, если в последующие царствования они начали отделяться от нас, составлять между собою какое-то братство и обратились наконец в status in statu. Беспрестанно оказываемое предпочтение ливонскому дворянству перед коренными жителями России должно было возгордить его и озлобить последних. Веселая беспечность русская мстит покамест немцам одними эпиграммами, точно так как праотцы наши злились тайком и подтрунивали над татарами. Если ничто не переменится, то рано или поздно должно ожидать ужасных последствий для них или для нас; лучше бы, кажется, примирением стараться предупредить их.
Мне необходимо говорить теперь о вельможе, в 1797 году начальствовавшем в Киеве. Его пребывание в сем городе имело большое влияние на судьбу некоторых членов моего семейства и на мою собственную. В предыдущей главе, кажется, упомянул уже я о графе Иване Петровиче Салтыкове. В нём можно было видеть тип старинного барства, но уже привыкшего к европейскому образу жизни; он любил жить не столько прихотливо как широко, имел многочисленную, но хорошо одетую прислугу, дорогие экипажи, красивых лошадей, блестящую сбрую; если не всякий, то по крайней мере весьма многие имели право ежедневно садиться за его обильный и вкусный стол. В обхождении его, весьма простом, был всегда заметен навык первенства и начальства; вообще он был ума не высокого, однако же не без способностей и сметливости; он не чужд был даже хитрости, но она в нём так перемешана была с добродушием, что его же за то хвалили. Как воин, он более был известен храбростью, чем искусством.
Семейство его находилось в Петербурге. Кто в звании генерал-губернатора не любить одиночества, тот чувствовать его не будет: к графу Салтыкову каждый вечер собирались на бостон, иногда даже и дамы. Но для перемены любил он раз или два в неделю проводить вечера у нас, и обыкновенно в сопровождении Алексеева, любимейшего из своих адъютантов.
Необыкновенная привязанность графа Ивана Петровича к этом молодому человеку, носящему прозвание, которое мог всякий принять, и которого, сверл того, звали еще Ильей Ивановичем, заставляла думать, что он его побочный сын. Но он был просто небогатый дворянин Московской губернии, рано лишившийся отца, и по сим двум причинам не получив никакого образования, еще в детстве был отдан в военную службу. Граф Салтыков, который прежде командовал конною гвардией, увидел у себя на ординарцах хорошенького, живого, проворного мальчика, у которого любовь и усердие к начальству и службе были написаны на лице, велел чаще его наряжать, полюбил его и наконец оставил при себе.
У этого Алексеева была самая счастливая физиономия, самый счастливый характер; я не знал почти людей, которые бы его не любили и ни одного, которого бы он не любил. Апатия равнодушных людей спасает их от врагов, они обыкновенно их не имеют, но зато не имеют и друзей; Алексеев же был исполнен огня и был веселый друг вселенной. Случалось, иногда он вскипит, но тотчас же и простынет; с ним бывали часто минуты гнева, но часов досады он не знавал. Его филантропия не была действием рассудка, следствием правил (где было ему взять их?), но горячее, врожденное сердечное чувство, коего притягательная сила действовала на всё его окружавшее. Это был гений доброты. Что делать, если другого гения в нём было?
Умному отцу моему и умной сестре Наталье с самого начала полюбилось в нём что-то такое, что лучше богатства, ума и знатности; прекрасная душа в стройном теле, которая отражалась на свежем как утро, румяном, красивом лице. Он влюбился в сестру мою и, видно, очень страстно, потому что необыкновенно смелый, он сделался робок и долго не решался открыться. Дочери знают только что любить; а матери, забывая, что сами тоже делали, гордясь красотою и достоинствами дочерей, более чем ценили собственные, всегда бывают разборчивы. Наша мать, которая в целой России не видела столь завидного жениха, которого бы, по её мнению, любимая дочь её не была достойна, разумеется, обиделась предложением двадцатипятилетнего адъютанта, майора, у которого всего только было 40 душ. Но все его любили, все были в заговоре против неё; сам старый фельдмаршал принялся сватать; как человек придворный, не поскупился на убеждения, на обещания, и она почти против воли принуждена была, наконец, дать свое согласие.
В нашем семействе было одно маленькое существо, которому брак сей не нравился еще более чем матери моей: это был я.
Свободное обхождение с сестрой моей мужчины, который накануне еще был нам посторонним, мне казалось верхом неблагопристойности, которая должна была стыдом покрыть сестру и всех её родных. Я сказал уже, что любил ее, и в тайной досаде моей было много ревности. Мне трудно было привыкнуть к мысли, что она перестанет носить одно со мною фамильное имя.
Не прошло месяца после сговора, который был 14-го октября 1797 года, как граф Салтыков получил известие, что он переведен военным губернатором в Москву. Сие известие, возвещающее отцу моему разлуку с дочерью, его опечалило, но матери моей подало надежду, что скорый отъезд Алексеева, а потом продолжительное отсутствие, отдалят не совсем приятный для неё брак, а может быть и не дадут ему состояться. Напрасно: граф Салтыков, который тогда пользовался особою доверенностью царя и вследствие её большими правами, уезжая объявил, что он адъютанта своего оставляет в Киеве на неопределенное время.
Итак двойное горе: надобно было приготовляться в одно время и к свадьбе, и к разлуке. Среди сих приготовлений, отцу моему пришло на мысль отправить меня с зятем и сестрой, коей попечениям, несмотря на её молодость, можно было поручить меня с полною доверенностью. Около года у меня не было учителя: после отъезда г. Мута, старались безуспешно приискать кого-нибудь на его место, и я жил в праздности, пагубной для столь нежного возраста. У меня была особливая комната, и при мне находились из крепостных людей пьяный дядька Быков для присмотра за мною, и шаловливый мальчик для прислуги. Первый обыкновенно напивался тайком, только не от меня; а я старался скрывать его порок, сколько из сострадания к нему, столько из опасения, что заступивший его место будет мне менее потворствовать; наконец, однако же, его наказали и прогнали.
К счастью, я страстно любил читать, и мне открыта была маленькая библиотека отца моего, вся состоявшая из немецких книг; я знал хорошо по-немецки и некоторые из них по нескольку раз перечитывал. Более всего любил я путешествия, историю и географию, описания земель и происшествий; Шрёкка и Бюшинга знал я почти наизусть, также и басни Геллерта, хотя не любил тогда поэзию; но зато какой же Геллерт поэт? — В таком положении мне оставаться было невозможно; что бы из меня вышло? Дело решено, чтобы воспользоваться удобным случаем и везти меня доучиваться в Москву.
После отъезда графа Салтыкова, отец мой около месяца исправлял должность военного губернатора, до прибытия вновь назначенного в сию должность генерала Розенберга. Когда новый начальник приедет в провинцию, то первое дело её жителей сравнивать его с предместником: по склонности людей к перемене, сравнения сии бывают редко в пользу оставляющего место. Сие, однако же, случилось в Киеве, когда увидели Розенберга. Какой контраст! Старый немец, который столицу видел только в первой молодости, который более двадцати лет жил в забытьи и чем-то командовал, то на Кавказе, то в Крыму, человек весьма небогатый, а еще более расчетливый, чтобы не сказать скупой, невзначай, как часто бывало в то время, попал по старшинству на место знатного русского барина, жившего пышно, всем милостиво улыбавшегося. Розенберг никогда не улыбался, а был однако же, весельчак, то что немцы называют «брудер люстих», и беспрестанно любил пошучивать; но известно, что веселость немца всегда тяжела и несообщительна и веселит его только самого. То ли дело французы!
Этот г. Розенберг был великий чудак; он никогда не хотел жениться, а до того любил женский пол, что девки у него подавали чай и даже, говорят, служили за столом, что, впрочем, в Киеве бывало не часто; ибо признав отца моего за земляка, он в доме у нас почти поселился и всякий день обедал. Он у себя дома не выпускал трубки изо рта, а как при дамах тогда вежливость делать сего не позволяла, то от нас, кажется, ездил он домой только покурить. В царские дни, все обеденные столы, должен был, как говорилось тогда, справлять отец мой, любезный ландман (земляк): это было гораздо экономнее для г. Розенберга. Когда нас с сестрой уже не было в Киеве, приехали туда принц Конде с герцогом Ангиенским и со всем своим главным штабом и прожили там три дня; показывая отвращение от французов и извиняясь незнанием французского языка, Розенберг предоставил отцу моему заниматься ими и их угощать[29].
Приближались для меня дни радости и дни печали: первое путешествие и первая разлука с семейством. Что касается до свадьбы сестры моей, то я с чувством детского удовольствия приготовлялся держать над нею венец, так как старший брат мой назначен был в шаферы к жениху. Но и в сем утешении мне было отказано: на беду мою, в самый день свадьбы приехал средний брат из Петербурга, куда он от полку был послан для научения кавалерийской службе. Итак я должен был удовольствоваться последнею ролью, то есть нести только образ.
Кстати о братьях: я было и позабыл сказать, что в последние месяцы царствования Екатерины, за какие то подвиги при усмирении каких-то мятежников в западных губерниях, произвели их в майоры, тогда как у старшего еще не было и пуху на подбородке. Так как при Павле нельзя было часто отлучаться от полку, а родители наши желали иметь при себе которого нибудь из сыновей, то и выпросили они, чтобы старшего, любимейшего, будто бы по неспособности в кавалерии, перевели в пехоту, из Нежинского карабинерного (тогда уже кирасирского) в Киевский гренадерский полк, который тогда квартировал в самом Киеве.
Свадьбу сыграли мы 20-го января 1798 года, а в путь отправились 16-го февраля. В следующей главе вступаю я в новый мир и повлеку в него за собою читателя, если он не остановится, наскучив мелочными моими рассказами.
XIII
Из Киева в Москву. — Графиня Д. П. Салтыкова. — Госпожа Лоран. — В московском генерал-губернаторском доме. — Увольнение от службы. — Графчик П. И. Салтыков. — А. И. Талызина. — Девицы Полтевы. — Князь Петр Иванович Одоевский. — Девицы-приживалки. — Дом князя П. И. Одоевского. — Госпожа Форсевиль. — Пансион ее. — Девица Лаборд. — Ученье во Французском пансионе. — Д. И. Королькова. — А. А. Турчанинов. — Девица Турчанинова. — И. А. Жуковский. 1799.
Есть чувствования, которые не только другим, но и самому себе объяснить весьма трудно. Первый раз в жизни покидал я всё родимое, всё мне любезное, священный Киев и благословенное семейство, в котором я родился. Как будто нарочно, всё сделалось перед отъездом ко мне ласковее, сам отец мой мне начал улыбаться; даже дворовые люди наши и женщины находили сказать мне что-нибудь необыкновенно-нежное. Беспрестанно был я в горестном волнении, и слезы нередко навертывались на глазах моих, но в тоже время сердце было наполнено неописанным восторгом. Как часто из окошек своих, любопытным, жадным взором глядел я на Заднепровье, на этот густой, темный бор, для меня заповедной, как будто заколдованный, который сколько раз уже то зеленел, то чернел в глазах моих. Никогда еще не ступал я в него ногой; теперь проникну в глубину его; что я говорю? Он только занавесь, скрывающая от меня незнакомый мне мир: его увижу я, его узнаю. Голова моя была полна слышанными рассказами про Москву белокаменную, про её обширность, её велелепие, её сорок сороков церквей. В сем расположении духа, с печалью и радостью вместе, выехал я из Киева.
В трех кибитках быстро мчались мы по снежной дороге. Единообразие зимнего пути меня скоро утомило. Февральское солнце, которое в Малороссии греет сильнее и светит ярче, чем на Севере, и снег, который от него блистал и таял, днем еще кое-как развеселяли мои мысли; но как пришла ночь, я почувствовал тоску необычайную. Даром что я был с сестрой и зятем, и что старший брат провожал нас до первого маленького города Козельца, мне вдруг показалось, что я совсем осиротел: сидя один в кибитке, впотьмах, я не мог заснуть и заливался слезами. Так прошел первый день; следующие были не забавнее.
Мне стало еще грустнее, когда, въехав в Орловскую губернию, в первый раз увидел я себя в черной закопченной избе, куда спаслись мы от метели и где должен был я ночевать между телятами и поросятами: изнеженному мальчику, каковым был я тогда, это показалось верхом злополучия.
В то время между малороссийскими деревнями и местечками и малороссийскими городами не было заметно почти никакой разницы. В тех и в других встречались, почти одинаковой величины, чистенькие мазанки, с чистыми окнами, которые ежемесячно белились изнутри и снаружи. Все они между собою, равно как и от улицы, отделялись садиками, коих высокие деревья осеняли их кровли, что некоторым из деревень давало вид приятных рощей, в коих белелись рассеянные сельские домики. Всё показывало, что тут живет народ, который столь же мало знаком с роскошью, как и с нищетой; общество, коего члены были все равны между собою и отличались одними заслугами, оказанными войску, и почестями, личною храбростью или личными достоинствами приобретенными. И потому-то образ жизни помещиков столь же мало разнился тогда от быта крестьянского, как вид городов от наружности селений.
Но коль скоро переедешь за Глухов, картина совсем переменяется: бедность и нечистота деревенских хижин, особенно же в господских имениях, поражает своею противоположностью с прочностью строений городских. Когда увидел я первые великороссийские деревни, то полагал, что города немного разве лучше, и оттого не весьма красивый Севск изумил меня своими каменными палатами. Вслед за тем Орел и, наконец, Тула показались мне столицами.
Москва произвела на меня то действие, которое обыкновенно производят большие столицы на провинциалов, никогда их не видавших, старых ли или малых: я был еще более оглушен её шумом, чем удивлен огромностью её зданий. По набожности сестры моей, мы от заставы отправились прямо к Воскресенским воротам помолиться Иверской Богоматери; вокруг часовни, где поставлен её образ, в двух узких отверстиях, ведущих к Кремлю, беспрестанно кипит народ, ломятся экипажи. Во время молебна мне всё казалось, что подле нас идут на приступ.
Квартира, которую дали зятю моему в казенном доме, называемом Тверским, или Чернышовским, или домом главнокомандующего, была просторна, довольно красива, а мне показалась даже великолепна. Мы занимали комнат двенадцать в одном из загнутых флигелей внутри двора сказанного дома. Из окошек были видны только высокие палаты, в коих жил начальник Москвы и зятя моего и пред коим наш флигель казался на коленях, да еще не весьма обширный двор, с утра до вечера наполненный каретами, в коих приезжали не к нам с посещениями, а с поклонением к фельдмаршалу и жене его.
Сестре моей нужно было несколько дней, чтоб обмундироваться по моде и приготовиться предстать пред графиней Салтыковой, коей надменностью всех пугали. Обряд сей совершился не совсем к её удовольствию. Потом пустилась она развозить рекомендательные письма, данные ей от родителей, и имела причины быть более довольна сделанными ей приемами. Две статс-дамы, фельдмаршальша графиня Каменская и княгиня Долгорукова, жена князя Юрия Владимировича, предместника графа Салтыкова, не замедлили сами сделать ей визиты и осыпали ласками робкую провинциалку. Обе бывали в Киеве и были очень знакомы с нашею матерью; первая же один раз провела в нём целое лето. Другие дамы, менее знатные, оказали приезжей еще более вежливости; но, графиня Салтыкова не обратила ни малейшего внимания на бедную сестру мою, никогда к себе не приглашала, дозволяя разве только по временам к себе являться. Это было совсем неободрительно, это было даже бесчеловечно в отношении к молодой женщине, которая, по тогдашним понятиям, находилась, так сказать, при дворе её сиятельства.
Сия графиня, Дарья Петровна Салтыкова, была между тем женщина чрезвычайно умная и отменно добродушная. Наружности своей, от природы суровой, старалась она, по примеру Екатерины, придать некоторую величественность и тем пугала не коротко ее знавших. Она была, действительно, самой строгой добродетели; примером и наставлениями старалась внушить она ее дочерям, но была, может быть, слишком снисходительна к единственному сыну и вообще в посторонних расположена была видеть одну только хорошую сторону. Будучи дочерью графа Чернышова, более двадцати лет русского посла в Лондоне и Париже, она всю первую молодость провела за границей и оттого не совсем свободно объяснялась по-русски, тогда как французский язык не был еще в столь общем употреблении, как ныне. Сие затруднение делало ее часто молчаливою с другими женщинами; но зато она строго соблюдала все формы вежливости, всем без изъятия платила визиты, и у себя была внимательною к каждому, никого не оставляя без того, чтобы не сказать несколько слов.
Отчего же столь почтенная женщина показывала более чем холодность существу, ничем ее не оскорбившему, существу, которое имело даже нужду в её покровительстве? Это надобно объяснить. Графиня Салтыкова была превыше мужа своего столько же умом, сколько нравственностью; частые его неверности, несмотря на преклонные лета, не могли от неё совершенно укрыться; она никогда не унизилась до ревности, но с отвращением смотрела на невоздержность супруга. У неё в доме находилась тогда одна француженка, madame Laurent, ловкая, хитрая, довольно пригожая и не старая, в качестве более собеседницы чем гувернантки при взрослых её дочерях; сверх того имела она особую, секретную должность при самом графе Салтыкове: она умела пользоваться в одно время доверенностью жены и нежностью мужа. Преувеличенные похвалы графа Салтыкова красоте невесты любимого им адъютанта возбудили мерзкие подозрения в душе француженки; она поспешила сообщить их обманутой графине еще прежде нашего приезда.
Опасения госпожи Лоран должны были исчезнуть, коль скоро она только увидела сестру мою; порок узнаёт тотчас добродетель по тайному стыду, который она в нём производит; но она не вдруг еще успокоилась. Граф Салтыков поступил в сем случае благоразумно и деликатно: он только один раз, по приезде их, навестил молодых супругов. Можно легко себе представить весь ужас положения несчастной тогда сестры моей. Дотоле уважаемая, любимая и достойная того и другого, она вдруг встречает забвение всякого приличия в обхождении с нею жены начальника своего мужа и осуждена жить с нею в одном доме. Она не вдруг могла постигнуть, отчего это происходит; но когда, по инстинкту, коим женщины одарены, она вникнула в причины явного презрения, ей оказываемого, то содрогнулась от негодования. Она, которая почиталась в Киеве цветом непорочности, в первые дни, в первые минуты счастливого нежнейшего союза, подозревается в измене, и в какой же измене? Осмеливаются считать ее наложницей старика из подлых видов корыстолюбия. Сей первый, тяжелый крест, посланный ей в жизни, понесла она с терпением, призвав на помощь веру и чувство собственного достоинства. На чужой сторонушке, с кем было залетной пташечке разделить жестокую скорбь свою? Кому ее поверить? Людям ли, едва знакомым, или мужу, который в обеих супругах видел свое провидение, но, несмотря на то, в исступлении обиженного самолюбия, готов бы был погубить себя дерзостью против них? Или малолетнему брату, которому неприлично и опасно было доверять такого рода тайны? Но я часто заставал ее в слезах перед иконами; я один был свидетелем её печали, которую более всего старалась она скрывать от мужа, и я почти угадал её тайну.
Впрочем, безрассудные подозрения не выходили из тесного круга, в котором родились, и не долго существовали. Прошел месяц или два, и графиня Салтыкова приглашениями, приветами старалась заставить забыть свою первую несправедливость; но оскорбленная сестра моя осталась непреклонна и долго еще чуждалась её высокого общества. Для мужа всё это было непонятно; он дивился своенравию жены, но не смел ее упрекать в том.
Мы жили почти в совершенном уединении: сестра редко делала и принимала визиты. Шум и блеск были вокруг стен наших, а внутри царствовали тишина и молчание. Я начинал сравнивать настоящее положение наше с прошедшим… Тяжело вздохнул я; мне казалось, что наша доля самая низкая в мире. Моральная болезнь, врожденная, хотя и не наследственная, которую ни религия, ни рассудок, ни опыт доселе совершенно излечить не могли, жестокое самолюбие, источник немногих для меня наслаждений и бесчисленных страданий в жизни, сия болезнь в первый раз открылась во мне с некоторою силою; тогда-то заронились мне в сердце первые семена отвращения от аристократии, впоследствии столь постоянно развивавшиеся.
В Киеве мечтал я о Москве; в Москве только и думал что о Киеве. Но без нас всё уже там переменилось. В марте месяце генерал Розенберг переведен военным губернатором в Смоленск, а на его место назначен граф Иван Васильевич Гудович. Сей последний не успел еще с Кавказа приехать в Киев, как его перевели в Каменец-Подольск, а на его место назначили… кто бы мог ожидать? того самого князя Дашкова, который жил в Киеве брошенный всеми. Он находился шефом какого-то полка, был за чем-то вызван в Петербург и там до того полюбился императору, что вдруг получил ленту, чин генерал-лейтенанта и место Киевского военного губернатора. Трудно объяснить, что побудило кн. Дашкова говорить царю об отце моем? Чувство ли великодушное или желание мести? Мне приятно думать, что он надеялся доставить ему новое, высшее назначение. Он с видом откровенности сказал, что ему совестно сделаться начальником заслуженного человека, который старее его в чине и гораздо старее летами. Павел Первый не задумался, он церемониться не любил: вдруг приказал без всякой другой причины отца моего отставить от службы. Лишить почетного, выгодного места человека, который десять лет занимал его с честью, который в глазах его ничем не провинился и даже был ему угоден, ему казалось делом самым обыкновенным, никакая несправедливость его не устрашала: помазанник Божий, он твердо веровал в свою непогрешимость; во всех жестоких проказах своих видел он волю небес.
Будучи в отставке, не имея более средств жить в прежнем изобилии, отец мой желал оставить Киев, куда личный его неприятель прибыл начальником, и отправиться в Пензу, которую он любил и куда призывали его хозяйственные дела. К несчастью, в последний год своей службы, он увлекся страстью к строениям и затеял огромный дом, который надеялся или выгодно отдавать внаймы или с прибылью продать: ему необходимо было его окончить. Князь же Дашков, втайне торжествуя, желал явить умеренность, первый посетил отца моего, и потом при всякой встрече показывал вид, будто ему везде уступает место.
В Москве жил я, между тем, в совершенной праздности и скуке, не имел знакомых, не имел книг и нетерпеливо ожидал минуты, когда отдадут меня в какое-нибудь учебное заведение. Но зять мой, по своему пекшийся о моем благе, полагал, что для меня будет величайшая честь воспитываться вместе с молодым графом, сыном его начальника: у него шли о том негоциации, и от того медлили решить мою участь. Я знал о его намерении и трепетал от ужаса сделаться наперсником московского дофина. В Киеве естественным образом брал я верх над своими маленькими товарищами, в Москве я ожидать сего не смел; но всё-таки не хотелось же находиться в свите сына, как зять мой был при особе отца[30]. В одном равенстве видел я свое спасение.
Моего мнения не спрашивали, и дело было почти полажено. В один вечер пригласили меня, то есть призвали, к знатному моему ровеснику. Я чувствовал, что иду на смотр: московское житье сделало меня робким, застенчивым; но отчаяние дало мне силы, и я вооружился неведомою мне дотоле наглостью. Я нашел графчика одного; я ожидал найти в нём спесь, но он мне показался в смущении, в замешательстве. Притворная смелость моя его ободрила, мы начали говорить вздор и, как водится между мальчиками, через несколько минут коротко познакомились. Я уже умягчался душой, как вдруг показались мои судьи, сперва мусью Моринбо, наставник графа, за ним г. Лоран, воспитатель его, и, наконец, сама г-жа Лоран, супруга последнего. Она была вся разряжена и, благосклонно улыбаясь, сказала мне: «bon jour, mon petit»; не имея понятия о её интригах, не знаю сам от чего, я весь вспыхнул и готов был в нее вцепиться. С трех сторон посыпались на меня вопросы. Я прескверно говорил по-французски; тут нарочно я коверкал язык, врал и дурачился. Плечи пожимались, уста насмешливо улыбались, и всё мне показывало, что я успел в своем намерении. Может быть, я и напрасно приписываю себе успех в сем деле; я не имел довольно ума и искусства, чтобы прикидываться глупым; может быть я показался бы им неуклюжим и без всяких усилий; но как бы то ни было, я торжествовал, чувствуя, что мне не выбрили затылок.
После того я с сыном графа Салтыкова встречался только изредка в манеже отца его, куда ходил я учиться верховой езде. Он всегда ласково протягивал мне руку, говоря с сожалением о невозможности нам часто видеться. Он был преблагородный, предобрый малый, не имел понятия о спеси, но к сожалению и ни о чём не имел понятия. Единственный наследник большего состояния и знатного имени, природою не обиженный, он достоин был лучшего воспитания. Лораны были просто интриганы и пройдохи, которые мало заботились о своем воспитаннике, но имели по крайней мере светское образование; поклонник же их Морино, как узнал я после, был пошлый дурак, совершенный невежда и в обращении настоящий мужик. В то время стоило лишь быть французом, чтобы заслужить доверенность знатных родителей.
Я сказал выше, что у меня в Москве не было знакомых, забыв, что одному нечаянному случаю был я обязан весьма приятным знакомством. Мы жили в приходе Косьмы и Дамиана, куда по воскресеньям и по праздникам ходил я слушать обедню; однажды я заметил группу женщин, откуда смотрели на мена с московским любопытством, которое тогда было гораздо сильнее и выразительнее, чем ныне. Но окончании богослужения, одна из сих женщин, постарее других, отделилась от группы, подошла ко мне и спросила: «чей ты, голубчик?» Я покраснел от сего вопроса, который мне показался обидным, однако же назвался. За ответом моим последовало громкое восклицание: «ах, Боже мой, как я рада; да как мил, как хорош!» Потом пожилая дама потребовала, чтоб я следовал за нею, прибавляя, что она живет в двух шагах; я отговаривался тем, что не смею ни к кому ходить без позволения сестры. «Пустое, пустое, батюшка», сказала она, «мы ведем тебя не в худое какое место; пошлем слугу твоего сказать сестрице, что ты у нас, и она успокоится». Взглянул я на них: старые показались мне так добры, молодые так милы, что я перестал отговариваться. По узкому переулку пришли мы к калитке, чрез нее вошли в сад; потом пройдя двор, я очутился в барских, разукрашенных хоромах[31].
Надобно, однако же, объяснить причины столь внезапного знакомства. Почти за год до того, в июльский палящий зной, у нас кто-то смотрел в окошко и указал матери моей старую, дряхлую женщину, которую два дюжих лакея более тащат, чем ведут под руки, а за нею толпу женщин в дорожном платье. Изнеможение, страдания были на лице старушки; мать моя послала предложить ей карету и просить ее покамест к себе отдохнуть, что приняла она с благодарностью. Это вышла одна почетная дама, Авдотья Ивановна Талызина, приехавшая на богомолье; у неё что-то изломалось, да и лошади решительно отказались взвезти тяжелый экипаж её на крутую, сыпучую, Печерскую гору. Ее успокоили, угостили и не прежде отпустили, пока не приискали хорошей квартиры. Она была чрезвычайно тронута гостеприимством незнакомых ей людей и потом, хотя имела намерение посещать одни только монастыри и церкви, приезжала и к нам, уверяя, что в назидательно-веселой беседе матери моей находит столько же услаждений, как и в молитве.
С нею была одна родственница, Александра Николаевна Полтева, зрелая дева, которая, оплакивая потерю жениха, решилась посвятить себя иноческой жизни в Киево-Флоровском монастыре: благое намерение, которое сохранила она всю жизнь свою, не приводя его в исполнение. Возвращаясь в Москву, г-жа Талызина поручила ее утешениям и попечениям моей матери. Её-то старшая сестра Анна Николаевна Полтева заметила меня в храме и, узнав фамильное имя мое, увлекла с собою. Она жила у третьей сестры своей, которая была замужем за князем Петром Ивановичем Одоевским, братом г-жи Талызиной.
Дом князя Одоевского, коего сделался я частым посетителем, не был шумен, пышен, как другие дома богатых в Москве людей, но он был, однако же, верное изображение тогдашних нравов древней столицы; в описании его вижу я обязанность принятого мною звания рассказчика. В одеянии, поступи, в самом выражении лиц господских людей виден характер господина: там, где беспорядок, они ленивы, неопрятны, оборваны; там, где их содержат в строгости, они одеты довольно чисто, вытянуты в струнку, но торопливы и печальны. Вид спокойствия, довольство, даже тучность домашней прислуги князя Одоевского, почтительно-свободное её обхождение с хозяевами и гостями, вместе с тем заметный порядок и чистота показывали, что он отечески управляет домом. Действительно, он был барич, который, по достижении совершеннолетия, долго путешествовал за границей и, возвратясь оттуда, сохранил в доме своем обычаи старины, прибавив к ним устройство и опрятность, которые заимствовал он у европейских народов[32].
Он был сухенький старичок, но весьма живой и, как говорят французы, еще зеленый. Мне сказали, что он отставной полковник; а я, признаюсь, сначала принял его за отставного камергера. Он нисколько не походил на тех отважных Екатерининских полковников, которых прежде я видел в Киеве; несмотря на имя его, я даже не вдруг поверил, что он русский: не знаю, природа ли или искусство дали ему совершенно французскую наружность, хрустальные ножки и какое-то затруднение в выговоре. Но в доме его всё напоминало русское барство, и в нём только он один был аристократ. Различие между сими двумя названиями — аристократией и барством, надеюсь я объяснить в другом месте.
Он не гнался за почестями: в это время бригадирским шитьем или камергерским ключом заключалось обыкновенно поприще честолюбивейших или тщеславнейших из москвичей. Он жил в кругу родных и коротко-знакомых, довольствовался их любовью и уважением, наслаждался спокойствием, богатством и воспоминанием молодости, проведенной в Париже. Там был он в конце царствования Людовика XV и, в качестве русского принца, был представлен ко двору его. Так очарователен пример старой греховодницы-Франции, что добрый и честный князь завел свою мадам де-Помпадур.
Больная, набожная княгиня редко выходила из внутренних своих покоев. Это было ненужно: как в гостиной, так и в сердце её супруга, место её занимала молодая дворянка, Анна Васильевна Сабурова, неимущая сирота, не столько ею, сколько мужем её призренная. Но это еще не всё; была в одно и тоже время и мадам Дюбарри. Видно, в это время французские гувернантки занимали везде более одной должности. Мамзель Дюбуа, которая воспитывала двенадцатилетнюю дочь князя Одоевского, была совершенная красавица и до того мила, что во мне… стыдно сказать, родилось сожаление, что я не девочка и что не она моя наставница. Я не могу понять, как согласилась она играть второстепенную ролю, тогда как подле девицы Сабуровой казалась она как пышный цвет подле миниатюрного скелета; предпочтение же Анне Васильевне было очевидно.
Несмотря на эти княжеские прихоти, которые у нас в России могли бы войти в пословицу, как за границей баронские фантазии, совершенное согласие царствовало в сем доме. Посетителей в нём видел я весьма мало, молодых ни одного; но зато посетительницами он изобиловал. Большая часть из них были так называемые московские старые девки. В Москве было в старину одно почтенное, трогательное обыкновение: в каждом доме, смотря по состоянию, принималось на жительство некоторое число убогих девиц, преимущественно дворянок; одни старились в них и даже умирали, других с хорошим приданым выдавали замуж; связи первых с своими благодетельницами от времени становились иногда крепче, чем самые родственные узы. В домах женатых людей положение сих девиц было не совсем безопасно, но у вдов и у незамужних старушек, их общества составляли род светских монастырей или, лучше сказать, капитулов, коих они были канониссами. Их жизнь была деятельно — праздная; в доме они кой зачем присматривали, исполняли некоторые комиссии своей хозяйки-аббатисы, раскладывали с ней гран-пасьянс, посещали иногда подруг своих. Их набожность ограничивалась одними наружными обрядами религии, но они соблюдали их с точностью мелочною; они знали все храмовые праздники и там, где бывало архиерейское служение, ими наполнялась половина церкви. Так проходила их беспорочная, их бесполезная жизнь.
Целыми стаями слетались эти барышни к своим знакомым у князя Одоевского; бывало спросишь: кто они такие? скажут такая-то живет у княгини Марьи Ивановны, такая-то у княжны Лисаветы Федоровны. Нельзя себе представить их детского добродушия; разговор их был невинный лепет первого возраста. Они меня чрезвычайно любили, осыпали ласками и, будучи сами престрашные лакомки, и меня прикармливали вареньями и пастилой: сладко мне о них воспоминание! Изредка попадаются ныне такого рода женщины, и я всегда встречаю их с сердечным удовольствием. Дому Одоевских останусь я всегда благодарен за приятные минуты, в нём проведенные, хотя, впрочем меня, свежего мальчика, довольно оригинального, любили там и тешились мною среди единообразной жизни, как забавляются обезьяной, карлицей или попугаем. Князя Одоевского благодарить мне нечего: он, кажется, не любил мой пол, я же был не совсем ребенок, и он всегда на меня косился. Когда после воротился я в Москву уже взрослым мальчиком, то не мог быть принят в его доме, где, видно, наблюдались все строгие правила гаремов.
Мне было весьма трудно уговорить сестру сделать первое посещение княгине Одоевской; с каждым днем она более дичала, но решилась, наконец, сие сделать, чтобы поблагодарить за оказанные мне ласки. В разговоре о затруднениях, куда бы меня лучше пристроить, была призвана на совет мамзель Дюбуа; она рассыпалась в похвалах пансиону г-жи Форсевиль, своей единоземки. Мне чрезвычайно хотелось учиться в Университетском пансионе; но французский язык, коим преимущественно и почти исключительно говорили тогда высшие сословия, был вывескою совершенства воспитания; я на нём объяснялся плохо, а воспитанники университетские не славились его знанием. Это заметила мамзель Дюбуа, прибавляя, что из рук г-жи Форсевиль молодые люди выходят настоящими французами. Рассуждая, что мне предназначено быть светским и военным человеком, а не ученым и юристом, сестра моя нашла, что действительно лучше отдать меня к французам. Видно, на роду у меня было написано не получить основательного образования.
Исполнение намерения предать меня в руки мадамы замедлилось несколько дней по случаю тревоги, в которой находилась вся Москва, и особенно свита графа Салтыкова. Ожидали скорого прибытия императора, полки собирались на маневры, и все исполнены были страха, надежд и любопытства. Я стоял с трепетом 10-го мая[33] на Тверской, подле дома главнокомандующего, когда Павел Первый в нескольких шагах проехал мимо меня. Он сидел в открытой коляске с своим наследником и с улыбкой кланялся (безобразием его я был столько же поражен, как и красотою Александра). В продолжение шестидневного пребывания своего в Москве он всех изумил своею снисходительностью: щедротами он удивить уже не мог. Войскам объявил совершенное свое удовольствие. Шеф одного полка, который был действительно очень дурен, он наказал только тем, что ничего ему не дал, но не позволил себе сделать ему даже выговора; всех же других завешал орденами, засыпал подарками. Никто не мог постигнуть причины такого обыкновенного благодушия; узнали ее после. Любовь, усмиряющая царя зверей, победила и нашего грозного царя: пылающие взоры известной Анны Петровны Лопухиной растопили тогда его сердце, которое в эту минуту умело только миловать. Графу Салтыкову пожаловал он четыре тысячи душ в Подольской губернии, а всех адъютантов его, в том числе и зятя моего, произвел в следующие чины.
В пансионе, в который, наконец, отвезли меня, воспитывались дети обоего пола, под непосредственным наблюдением содержательницы его. Я ожидал найти в ней другую мамзель Дюбуа; может быть, лет двадцать до нашего знакомства была она и лучше. Тогда она была женщина лет сорока пяти, высокая, полная, белая, которая задыхалась от здоровья, у которой щеки алели всегда от удовольствия, когда не багровели от гнева. Она деспотически управляла вверенными ей ребятишками, и мне казалось обидным, что меня ставят на одну с ними ногу, тогда как почти все они были меня моложе. Я, напротив, имел притязания на совершенную свободу, коею пользовался соученик мой Лутовинов, пятнадцати или шестнадцатилетний дюжий мальчик, который ничему не учился, ничего не делал или, лучше сказать, делал всё что ему было угодно. Если б я был несколько постарее, то может быть умел бы присвоить себе равные с ним права; а может быть и нет, ибо румянец осеннего листа, ветчинная свежесть г-жи Форсевиль мне были вовсе не по вкусу.
Был также и мусью Форсевиль; он принадлежал к тому роду незаметных мужей, коих существование поглощается и исчезает в великой знаменитости супруг, как муж г-жи Жоффрен или г-жи Каталани. Заведение находилось под его фирмой, но в нём почти ни во что он не мешался. Он мало выходил из своей каморки, прозванный кабинетом, разве только потому, что в ней находился маленький шкаф, с двумя дюжинами каких-то книг, прозванный библиотекой. Тут не было ни письменного столика, ни даже чернильницы, а одни станки, да пилы, буравы, все принадлежности токарной и столярной работы: всё было засорено стружками и опилками, и всё обличало присутствие более мастерового, чем грамотного человека. На природном языке говорил он как простолюдин, зато уверял, что весьма хорошо знает английский, и взялся два раза в неделю учить меня оному. Недостаток ли в его знании или в моих способностях был причиною, что я никаких успехов не сделал. Он был совершенный сморчок, старичишка добрый, по крайней мере для меня; доверенность его ко мне до того простиралась, что из учеников я только один имел вход в так называемый кабинет его, где таинственно предавался он своим занятиям. Он долго жил в Англии и всегда предпочитал ее своему отечеству; теперь я уверен, что он там был ремесленником. Бог весть, как занесло его к нам и как встретился и совокупился он с француженкой, в России родившейся, хотя безграмотною, но досужею и проворною бабой. Обо всём он говорил равно душно, кроме Англии; самая покорность его супруге, кажется, была не что иное, как следствие уважения его к той земле, где королевы женятся.
Пребывание мое в пансионе мне сначала полюбилось. Лето было прекрасное: от барства, шуму, духоты городской, мне казалось, что я перенесен в тихое, сельское уединение. Дом, в котором помещался форсевилев пансион, находился у подошвы невысокой горы, на которой построен упраздненный Новинский монастырь; сей пригорок заслонял нам вид городских строений, а с другой стороны открывался прекрасный вид к Москве-реке, на рощи, сады и невысокие деревянные дома, Между ними рассеянные. Товарищи мои речами и манерами также напоминали деревню: каждый из них был оттуда прямо привезен в училище, в Москве никого почти не знал и мог только, в незанимательных разговорах своих, познакомить меня с образом жизни наших мелкопоместных дворян. Их было человек тридцать; каждого из них мог бы я и теперь назвать по имени и отчеству, хотя, с самой минуты нашей первой разлуки, я ни с одним не встречался, ни об одном ни слыхивал ни слова. В пространном мире, называемом Россия, в сей целой части света более чем в государстве, люди, с которыми долго живешь и беседуешь, не переставая существовать, часто исчезают как атомы, теряются в безызвестности. Куда девались мои товарищи. Не зная ничего о судьбе их, но судя по их способностям и образу воспитания, могу с достоверностью рассказать их историю. В пятнадцать или в шестнадцать лет их определили в армейские полки унтер-офицерами, потом через год или два произвели в прапорщики; одни воспользовались сим первым чином, чтобы выйти в отставку: другие, более алчные к почестям, дослужились до поручиков или до штабс-капитанов, но наскучив службою, также ее оставили. Все они зарылись в деревне, начали гоняться за зайцами, бить мужиков, обольщать девок, потом завелись женой и детьми; одни спились, промотались и потомство свое привели в состояние однодворцев; другие, более степенные, пошли служить по выборам и попали уже верно не более как в заседатели или исправники; без угрызения совести, следуя общему примеру, стали неправо наживаться, чтобы каждого сына, сколь бы их много ни было, поставить на ту точку, с которой сами пошли.
Девицы, которые с нами воспитывались, обедали, а иногда и учились за одним с нами столом, жили, однако же, в особливой половине. Они были также маленькие провинциалки, но грациознее и остроумнее мальчиков. Из двадцати или из двадцати пяти, одну только Ложечникову можно было назвать хорошенькою; не знаю, где умели набрать таких уродцев. Обхождение с ними Форсевильши было более строгое: от взгляда её, от одного движения губ, бедняжки приходили в ужас. Более всех тирански преследовала она бедную, четырнадцати или пятнадцатилетнюю француженку, дочь какого-то приятеля, которая училась у неё даром, а за то употреблялась для разных домашних упражнений без платы; расцветающие прелести были её виною в глазах отцветшей мадамы. Ее звали Лаборд; она родом казалась более из Индии, чем из Франции: весь пламень Востока и Юга блистал в черных глазах её, самый яркий румянец выступал на смугло-свежих её щеках; её волосы, уста и губы позволил бы я себе сравнить с эбеном, кораллом и перлами, если б от частого употребления сии сравнения мне самому не надоели; выражение же лица юной одалиски словами невыразимо. Живши с ней под одною кровлей, видя ее часто, я бы влюбился в нее, если бы был постарее; однако же, несмотря на отрочество мое, я не был к ней совершенно равнодушен, написал какой-то вздор и всунул ей потихоньку в руку во время танцевального класса, который для девочек почти столь же опасен, как балы для девиц, а для меня всегда был часом искушений. Я ожидал ответа, но тиранка-Форсевиль имела свою тайную полицию: кто-то из уродцев подсмотрел и донес. На другой день тревога, позор и срам: призвали виновных, осыпали их ругательствами, самыми грубыми, непристойными укоризнами; я стоял как вкопанный, не внимал им, а только смотрел на слезы и на тяжко вздохами волнуемую грудь, и был весь раскаяние. Определено обоих выгнать из пансиона, и приговор исполнен в тот же день; меня отослали к родным, но как шурин адъютанта главнокомандующего, я на другой же день воротился с письменным уверением, что дома строго был наказан. Наказание мое состояло в грустных, нежных упреках сестры; зять же мой расхохотался, называя меня молодцом. Чрез три дня явилась и бедная Лаборд, но с тех пор я не смел уже подходить к ней, а она на меня даже и глаз не подымала[34]. Пример сей не нужен, чтобы доказать, сколь опасно воспитывать вместе детей разного пола; теперь это вывелось, а в старину полагали, что до пятнадцати лет все дети должны быть столь же бесстрастны, как грудные младенцы.
Главный вопрос, который должен был сделать всякий и который могу я сам себе сделать: да чему же мы там учились? Бог знает; помнится всему, только элементарно. Эти иностранные пансионы, коих тогда в Москве считалось до двадцати, были хуже чем народные школы, от которых отличались только тем, что в них преподавались иностранные языки. Учители ходили из сих школ давать нам уроки, которые всегда спешили они кончить; один только немецкий учитель, некто Гильфердинг, был похож на что-нибудь. Он один только брал на себя труд рассуждать с нами и толковать нам правила грамматики; другие же рассеянно выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые всё забывали тотчас после классов. Мы были настоящее училище попугаев. Догадливые родители не долго оставляли тут детей, а отдавали их потом в пансион Университетский. Сие неминуемо должно было со мной случиться, но странность судьбы моей к тому не допустила.
Четыре тысячи душ в Подольской губернии, пожалованные императором графу Салтыкову, предоставлены были его выбору. Пользуясь необыкновенною милостью царя, он выпросил у него позволение отправить адъютанта своего, подполковника Алексеева, чтобы сделать сей выбор. Оказывая неограниченную доверенность зятю моему, он вместе с тем доставлял ему бессрочный отпуск. В конце августа собралась сестра моя с мужем в Киев к родителям, а в начале сентября оставила меня одного в Москве.
Мое одиночество показалось мне ужасным, хотя в положении оставленного в пансионе мальчика не было ничего необыкновенного. Сестра, отъезжая, поручила меня попечениям близкой родственницы мужа своего, не очень старой, но и не весьма молодой девицы, Дарьи Ивановны Корольковой, которая имела собственный дом за Сухаревой башней. Сей доброй и умной, кроткой и твердой женщине недоставало только воспитания; своим примером она доказывала, что оно не всегда бывает необходимо для собственного счастья и для блага окружающих. У неё также жили две барышни, под именем компаньонок, и они все вместе старались утешать меня. Всякую субботу или накануне праздника, у подъезда пансиона всегда являлся за мною экипаж и отвозил меня к моей попечительнице. Главные заботы её обо мне состояли в том, чтобы меня исправно водили у неё в баню, вычесывали голову, чаще меняли белье, и чтобы поутру к чаю всегда подавали мне свежие крендели. Поведением моим она не могла нахвалиться, и как не быть довольным таким человеком, который сидит сложив руки, всё молчит и тайком зевает? Она меня очень полюбила и потому неохотно отпускала меня иногда в дом Одоевских, где, признаюсь, мне всегда было гораздо веселее с губительницей моею Дюбуа.
Письмами своими старался я разжалобить родителей и в том успел; но не вполне достиг я своей цели, ибо, вместо того чтоб отдать меня в Университетский пансион, велено обратно меня отправить в Киев. Причина тому была нижеследующая. В числе имений князя Потемкина, коим наследовали племянницы его, находилось в Киевской губернии село Казацкое, доставшееся на часть княгине Голицыной, жене известного князя Сергия Федоровича. Муж её некогда воспитывался в Кадетском Корпусе, в одно время с отцом моим, и хотя несколько лет был его моложе, всегда помнил его, любил и сохранял с ним сношения; она же была родная сестра графини Браницкой. По сим уважениям (как часто говорится в канцелярских бумагах), проезжая в сказанное имение чрез Киев, она прямо остановилась у моей матери, хотя до того не была с ней знакома. Её супруг начальствовал тогда над корпусом, посылаемым на помощь Австрии против французов, а она намеревалась несколько лет прожить в деревне, для поправления расстроенных хозяйственных дел. Покойная мать моя, которая с ней скоро подружилась, не в состоянии была не говорить о том, что ей казалось моею миловидностью и затейливостью, и о тяжкой для неё разлуке со мною; слушая ее, княгиня Голицына предложила ей взять меня к себе, чтобы неподалеку от Киева воспитываться вместе с её сыновьями, и прибавила, что многочисленность её семейства и разные учители делают из её дома настоящий пансион. Предложение было принято, и я, ничего о том не ведая, несказанно возрадовался, в уповании вновь узреть богоспасаемый град Киев.
Одну московскую барыню, на житье переселившуюся в Киев и находившуюся тогда в Москве, по каким-то дедам, просила мать моя привезти меня с собою. Итак госпожа Королькова взяла меня от госпожи Форсевиль и передала госпоже Турчаниновой: тогда судьба моя была переходить из рук в руки к женщинам.
Но прежде чем отправлюсь из Москвы, хочу описать, сколь можно вкратце, как особу, с которою должен был совершить путешествие, так и семейство её.
Во время походов Миниха и Ласси, маленький турчонок был взят русскими в плен и привезен в Петербург к Анне Иоанновне, которая его крестила. Елизавета Петровна отдала его в услужение наследнику своему; он сделался Кутайсов Петра III-го. Господин и государь его не имел времени пожаловать его графом или светлейшим князем, и в день кончины его он назывался только Александром Александровичем Турчаниновым, камердинером полковничьего ранга. При Екатерине он скрывался, потом на сбереженные деньги купил именьице в Орловской губернии, потом женился на соседке, девице Сибилевой, также с некоторым достатком. Семейство их втихомолку плодилось и множилось, равно как и состояние; наконец, они имели даже дом в Москве у Пречистенских ворот.
Воцарение Павла пробудило давно заснувшие надежды малого числа приверженцев Петра III; в числе их предстал и г. Турчанинов пред новым императором, который приказал производить ему всё содержание, кое получал он при отце его, а сверх того выдать ему оное за всё время царствования Екатерины с наросшими процентами и рекамбиями. Составился значительный капитал, на который искал он купить хорошее имение. Тогда в Киевской губернии продавались за ничто поместья князя Станислава Понятовского, брата последнего короля; для сбыта их был дан ему самый краткий срок, ибо он переехал в Австрию и не хотел сделаться русским подданным. Бывши в Киеве на богомолье, г-жа Турчанинова о том проведала, купила селение Степанцы, состоявшее из 1000 душ, кажется, не более как за 60 000 рублей и потом властного ей мужа выписала из Орла.
Он был сухенький, сладенький старичок, который всегда улыбался и до того ко всем был ласков, что рождал недоверчивость. Супруга его, женщина еще видная, соединяла твердость с добротою душевною; слабость её, впрочем весьма простительная, была желание казаться моложе, и потому-то погибшие на лице её розы и лилии она весьма неискусно заменяла искусственными. Из многочисленного семейства их одна только младшая дочь была примечательна и сделалась даже впоследствии известною.
Не имея еще двадцати лет от роду, она избегала общества, одевалась неряхою, занималась преимущественно математическими науками, знала латинский и греческий языки, сбиралась учиться по-еврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у нас ее знали под именем философки. Вся киевская ученость скрывалась тогда под иноческими мантиями в стенах Братского монастыря; она открыла ее и, чуждая мирских слабостей, не побоялась свести явную, тесную дружбу с некоторыми монахами, преподававшими науки в духовной академии. С такой высоты вдруг опустила она внимание на маленького невежду, которого пугали и странность её наряда, и мрачное выражение её лица.
Когда она выпросила меня к себе в гости, и меня в первый раз к ней послали, то я отправился весьма неохотно. Только сей первый шаг был для меня труден, а потом я надоедал просьбами о дозволении посетить ее. Чистота ли её души, сквозь неопрятную оболочку, сообщалась младенческой душе моей, или магнетическая сила её глаз, коих действие испытывали впоследствии изувеченные дети, действовала тогда и на меня: я находился под очарованием. Я не нашел в ней и тени педантства: всегда веселая, часто шутливая, она объяснялась с детскою простотой. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о том, чему я учился, и ужасалась глубине моего неведения; но вдруг потом, как Пиния на треножнике, как бы содрогаясь от вдохновения, сверкала очами и начинала предрекать мне знаменитость. Увы, пророчества её столь же мало сбылись, как и удалось её лечение!
Разговоры её были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно рассказывала мне про связи свои с почтенными учеными мужами, профессорами Московского университета, хвалилась любовью и покровительством старого Хераскова, дружбою Ермида Кострова и писательницы княжны Урусовой. Поэзия доступна понятиям младенчествующих как народов, так и людей, и хотя она была для меня Халдейским языком, девица Турчанинова заставляла меня иногда читать некоторые места из Россияды и негодовала, когда неодолимая зевота мешала мне продолжать сие чтение. Тогда принималась она за мелкие стихотворения, потчевала меня ими, упрашивала выучить наизусть, и одно только из них, «Ода на смерть сына моего», Капниста, мне полюбилось и осталось доселе у меня в памяти. Первое знакомство с русскими музами сделал я в запыленном, засаленном кабинетце моей любезной Турчаниновой.
Лет тридцать спустя, увидел я ее опять в Петербурге, вскоре после того как имя её наделало в нем великий шум, но столь же кратковременный как и надежды, кои возбудила она в сердцах скорбных родителей обещанием исцелить их детей. Я не нашел в ней почти никакой перемены: черные, прекрасные, мутные и блуждающие глаза её всё еще горели прежним жаром; черные, длинные нечесанные космы, как и прежде, выбивались из под черной скуфьи, и вся она, как черная трюфель в масле, совершенно сохранилась в своем сальном одеянии. Я не упомянул об ней, говоря о Киеве; там видел я еще много других примечательных особ и умолчал об них с намерением после описать их, по мере как в совершеннолетии случай опять сводил меня с ними.
С её родительницей я должен был отправиться, и отъезд наш был назначен на третий день после Рождества. Я был вне себя от радости; но, в самую почти минуту сего отъезда, к ней примешалось маленькое горе. Младший сын г-жи Турчаниновой, по совету сестры, учился в Университетском пансионе; к нему пришли товарищи и начали при мне читать Московские Ведомости, лежавшие на столе. В них было помещено известие об экзамене, за несколько дней перед тем в сем пансионе происходившем, и имена учеников, получивших награды. Двум только даны были золотые медали; один из них г. Кириченко-Астромов, находился тут на лицо; приветствия ему и поздравления хозяйки были мне как острый нож. Отец его занимал какую-то маленькую должность в Киеве, и он ласково подошел ко мне, называя себя моим земляком; но я спесиво и холодно отвечал ему, что никогда имени его не слыхивал (этой глупости я в век себе не прощу). Имя другого ученика, целой России после знакомое, имя — Жуковского, было тогда столь же мало известно. Уверяли, будто он поляк; другие утверждали, что он малороссиянин; он сам долго не мог решиться, чем ему быть и оставался покамест русским, славя наше отечество и им славимый. После восторгов, произведенных во мне его стихами, мне нечего раскаиваться в зависти, которую возбудило во мне имя его, в первый раз как я его услышал.
XIV
На пути из Москвы в Киев. — А. А. Беклешов. — Граф Ксаверий Браницкий. — Местечко Казацкое. — Отставка князя С. Ф. Голицына. — Семья князей Голицыных. — Француз-гувернёр. — Воспитатели юношества. —Павел Иванович Сумароков. — И. А. Крылов. — И. А. Крылов в Казацком. — Слава Суворова. — Образование высшего общества. — Барская спесь. — Возвращение из Казацкого.
Несмотря на весьма хороший гладкий, зимний путь, мы ехали медленно на Лихвин, Калугу, Белев и Волхов. Близ новой сей для меня дороги жили родные г-жи Турчаниновой, Панины, Кривцовы и другие, и она беспрестанно к ним сворачивала. Я сидел с ней рядом в четвероместном возке, а против нас довольно толстая и безобразная горничная, которую прозвала она бомбой. Я находил довольно рассеянности в разговорах самой г-жи: она любила рассказывать, я любил слушать и узнал от нее множество старинных анекдотов и генеалогию знатнейших в Москве домов. Страсть её казаться моложе не покидала ее и дорогой: всякий день покрывала она румянами синеву, которую сильный холод производит на старых лицах; в городах же и в гостях у родных, везде где только останавливалась она на сутки, не упускала белиться и проводить себе синие жилки, и лицо её, как трехцветное знамя, гордо подымалось против законного могущества времени.
Украина была для меня настоящая родина; сильно забилось во мне сердце, когда, после годового отсутствия, я опять ее увидел. Когда в Есмани, первой малороссийской станции, вошел я в хату и услышал: «що, пане», то едва не заплакал от радости. Старая спутница моя, которая часто бывала недовольна моим упрямым молчанием, удивилась моей внезапной болтливости: я вступал в разговоры со всеми мужиками и крестьянками, которых находил на станциях. Наречие хохлов, по мнению нашему столь грубое, мне казалось райским пением; как Батюшкову, знакомыми звуками хотелось мне насытить свой жадный слух. Но что сделалось со мною, когда, оставя Бровары, сквозь чащу леса в глазах моих
Как звездочка зажглася Глава Печерская с крестом?Турчаниновой показалось, что я сошел с ума: я крестился, я плакал, я дрожал. Давно уже знал я что такое любовь к ближним и, к несчастью, до сих пор не совсем еще тому разучился; тогда в первый раз ощутил я, как сильно и неодушевленные любимые предметы могут говорить нашим чувствам. От восторга к восторгу, очутился я наконец к объятиях родителей, сестер и братьев.
Это было в половине января 1799 года. Всё наше семейство довольно тесно помещалось тогда в одном флигеле, вновь построенного, но еще неотделанного дома на Печерском Форштате, близ Никольского монастыря. Отец мой жил благородно, довольно открыто, но уже не было следов маленькой роскоши, в которой дом наш я оставил. Сестра моя медленно оправлялась после первых, мучительных родов мертвою дочерью. Братья были оба в отставке: старший получил ее по просьбе, а о меньшом прочитали раз в приказах, что он отставляется от службы, без всякой оговорки. Никто не знал причины, и никто тому не удивлялся: это случалось ежедневно, и всякий в свою очередь мог того же ожидать. Вообще в образе жизни моих родителей нашел я большую перемену: менее шуму, менее суеты, но зато еще более семейственного согласия, семейственного счастья и тихого веселия.
Князя Дашкова уже в Киеве не было. Новым поведением своим он заставлял забывать прежние свои поступки, с усердием исправлял лежащие на нём обязанности, и все им были довольны. По какому-то недоразумению, или наговору, Бог весть за что, царь на него прогневался и, без всякой церемонии, просто отставил его от службы; он поклонился и уехал в деревню.
Об нём бы стали может быть даже жалеть, но преемник его того не допустил. Это был известный природным умом, правдивостью и опытностью в делах, Александр Андреевич Беклешов, один из государственных людей, образованных Екатериной. Воспитанный в Кадетском Корпусе вместе с отцом моим, в такое время когда юношество училось немецкому языку более чем французскому, он знал его лучше других и для того был императрицей определен губернатором в Ригу, где и пробыл он лет пятнадцать. Он имел от неё тайное поручение, которое он один только в состоянии был выполнить: стараться познакомить немцев с русским языком и приучить их к нашим обычаям, законам и нравам. Наружное безобразие, вид брюзгливый, всегда недовольный, голос грубый, сначала рождали в подвластных ему отвращение и страх; твердость воли и что-то откровенное в обхождении вселяли потом к нему доверенность; наконец, благодарность за добро, которое он никогда не отказывал делать кому только мог, обращала всё это в искреннее к нему уважение. В нём была и русская хитрость; но он не тратил её на мелочи, а употреблял для видов государственной пользы, не для собственных успехов при дворе.
Потом был он генерал-губернатором Орловским и Курским: в последнем из этих городов имел он постоянное пребывание и был настоящим его основателем, обстроив его, украсив и введя в нём приятности общежития. Курская губерния, коей уезды примыкающие к Малороссии были искони наполнены беглецами, бродягами, преступниками, при нём только переставала быть разбойничьим вертепом. При Павле дали ему в управление Подолию и Волынь; потом перевели его в Малороссию и придали ему наконец Киев и Минскую губернию.
Старинную дружбу, сведенную с отцом моим в молодых летах, возобновил он в старости и часто наедине требовал его советов. Как в Риге пленил он немцев, заставляя их однако же, как говорится, плясать по своей дудке, так в Киеве умел обворожить поляков, которые для него рады были всё сделать, мне кажется, даже переменить веру. Несколько таких людей как Беклешов были драгоценнейшее наследство оставленное Екатериной, и некоторое время ими только и жила Россия, в безрассудное царствование её преемника.
Только в одной наружности Киева не нашел я ни малейшей перемены; в обществе же его почти на половину встречались мне совершенно новые лица. Я не успел еще ознакомиться с ними, не успел еще хорошенько узнать их имен, как родители мои объявили мне о намерении своем отдать меня в дом Голицыных для усовершенствования моего образования и самим везти меня туда. Мне это было очень не по сердцу, но делать было нечего. Итак Киев мелькнул только передо мною, ибо в первых числах февраля отправились мы в новое для меня местопребывание.
В первый день остановились мы в Белой Церкви и весь следующий провели у графини Браницкой; я говорю у графини, ибо супруг её в доме ничего не значил, так точно как мужья госпож Форсевиль и Турчаниновой. Он был человек старый, но образованный и довольно еще любезный, ума весьма посредственного; славился же он беспримерным аппетитом вместе с утонченным вкусом в гастрономии. Несмотря на свою скупость, графиня Браницкая нанимала изящнейшего повара-француза и ничего не щадила для стола, дабы сим приятным занятием отвлечь супруга от хозяйственных дел, в которых он ничего не понимал и в кои от скуки он захотел бы, может быть, мешаться. Они жили в обширном деревянном доме, внутри оштукатуренном, коего стены были выкрашены просто, а потолки выбелены. Но главные комнаты сего дома были наполнены драгоценными вещами, бронзовыми, мраморными, фарфоровыми, хрустальными, из коих, как уверяли, ни одна не была куплена графиней Браницкой: все они были даны дружбою и щедротою Екатерины, а иные подарены или завещаны князем Потемкиным. Изо всех мне более показалась примечательна одна высокая бронзовая гора, на вершине коей сидел двуглавый русский орел; из боков её струились живоносные хрустальные ручьи, а внутри её устроенный механизм производил музыку, которая подражала журчанию вод. На полугоре сидел Сатурн с косою за плечами, одною рукой опираясь об часы, а другою держа миниатюрный портрет Екатерины на меди писанный, в оправе из стразов, как бы забывая время свое и любуясь её изображением.
При двух сыновьях и трех дочерях, также как у графа Салтыкова, находились учитель и гувернер с гувернанткой, муж с женой, г-н и г-жа Дориньи и мусью Бробек. Сверх того, жили в сем доме польские и русские дамы и барышни, иностранный медик и несколько отставных военных, неимущих, довольно образованных чиновных людей, занимавших должности домоправителей, приказчиков над деревнями, конюших и тому подобное[35]. Две враждебные нации жили тут в совершенном согласии. Домашняя услуга вся состояла из шляхтичей, и в сем доме, без лишних прихотей, всё напоминало однако же феодальное могущество.
Княгиня Голицына, к которой везли меня, была родная сестра графини Браницкой; но в ото время произошла между ними если не явная ссора, то, по крайней мере, сильная простуда родственной любви. Обе хотели купить Корсунь, поместье князя Понятовского, которое вместе с окружавшими его деревнями имело до восьми тысяч душ. У Браницкой были огромные капиталы, а у Голицыной не было даже большего кредита; следственно первая сторговала имение. Павел Первый помирил их, купив оное для Петра Васильевича Лопухина, отца своей любимицы, которого, вместе с тем, пожаловал светлейшим князем. Мать моя взялась довершить примирение начатое императором и, кажется, в том успела.
Село или местечко Казацкое, в которое мы приехали, было из числа тех имений, кои польские короли раздавали магнатам в Украине, после разделения её на русскую и польскую и по совершенном порабощении последней. Магнаты никогда в них не приезжали, жили в Варшаве или Вильне и получали с них только доходы; казацкая вольница не страдала от панского присутствия. Князь Потемкин, еще при польском правительстве, властью и деньгами приобрел все те имения, которые находились в соседстве с Новороссийским краем; по смерти его, они достались его наследникам. Проезжая чрез сии имения, чрез Богуслав, Корсунь, я не мог надивиться тому, что везде вижу православные церкви, везде слышу малороссийское наречие и только изредка встречаю поляков. Невежество мое, которое, впрочем, разделял я со всеми жителями внутренней России, заставляло меня думать, что всё находящееся за старою нашею границей есть и было всегда настоящая Польша.
Еще не было году, что семейство Голицыных поселилось в Казацком. Мы приехали туда в сумерки. Бесконечный двор, обнесенный тыном, в глубине коего открывались деревянные барские хоромы, наскоро выстроенные, а по бокам находились шесть довольно просторных мазанок, вместо флигелей, и сад разведенный только осенью и представляющий одни только ряды прутьев, всё это занесенное снегом, имело в глазах моих вид мрачный и угрюмый. Те, кои вспомнят, как тяжела мне была мысль сделаться приемышем в знатном доме, даже среди шума блестящей столицы, могут посудить о том, что во мне происходило в сию истинно-горестную для меня минуту.
Нам отвели особливые комнаты. В тот же самый вечер меня представили княгине, и я познакомился как с гувернером, коему меня поручили, так и с маленькими моими товарищами. Я не скажу теперь ни слова о впечатлении, которое произвело на меня мое новое знакомство: ибо всех членов многочисленного семейства, среди коего пришлось мне жить, также и все лица, кои, находясь в сем доме, составляли его общество, намерен я впоследствии перебрать поодиночке. Права гостеприимства я почитаю священными; но я нимало не нарушу моих обязанностей, если о посторонних людях скажу истину с такою же откровенностью, с какою говорил о самых близких родных. Чрез два дня родители мои воротились в Киев, оставив меня между людьми мне дотоле вовсе незнакомыми.
С нетерпением ожидала княгиня Варвара Васильевна (так звали г-жу Голицыну) известий от мужа из армии, которая на походе находилась тогда в Литве; с исступлением бешенства скоро получила она письмо его, коим он ее уведомлял, что государь за что-то на него прогневался, отставил его от службы, отдал корпус его генералу де-Ласси, велел ему жить в деревне, и что фельдъегерь не замедлит привезти его к нам. Конечно, было за что подосадовать, но гнев княгини Голицыной превосходит всякое описание. Столь ужаснейшего гнева я никогда еще не видывал; он превратил ее в Фурию, исказил все черты еще прекрасного её лица. Забывая, что свидетелями она имеет детей и слуг, она проклинала царя, всех, народ и войско, которые ему повинуются, и успокоилась только от изнеможения сил. Этот первый взрыв яркими чертами осветил в глазах моих весь характер той особы, у которой я находился в зависимости и заставил меня в поступках своих быть весьма осторожным.
Дня три спустя после того прибыл, или был привезен, сам князь Голицын, в сопровождении второго сына своего, Федора, отставного гвардии корнета, который отправился к нему в армию, в надежде под начальством его опять вступить в службу, но, встретясь с ним на дороге, вместе воротился. Не прошло недели, как из Петербурга прислали старшего сына его князя Григория, генерал-адъютанта и любимца Павла Первого, внезапно отставленного и высланного из столицы. Это было в феврале, а в половине лета еще прислали к нам третьего и четвертого сыновей князя Голицына, Сергия и Михаила, семеновских офицеров, также без просьбы отставленных, но не совсем однако же без вины и причины. Итак Казацкое сделалось местом заточения целого семейства, мне совершенно чуждого, но которое однако же я должен был с ним разделять.
Я не был свидетелем свидания супругов; мы в это время сидели за книгами; когда же кончился класс, и меня представили хозяину дома, то вид его, спокойный, довольно — веселый, и ласково-покровительственный мне прием меня чрезвычайно ободрили.
Теперь приступлю к обещанному выше, к изображению людей, с коими прожил я около года в совершенном удалении от мира и коих характер следственно мог хорошо изучить. Чтобы успокоить читателя, спешу предупредить его, что между ними были лица отменно-замечательные и начинаю с главы семейства.
Воспитанный в Кадетском Корпусе, в конце царствования императрицы Елизаветы, князь Сергий Федорович учился с успехом математическим наукам и, исключая русского, знал еще хорошо немецкий язык. Вышедши из него, он в обществе получил навык к французскому; знание языков было тогда не безделица: оно вело к повышению. Он не принадлежал к знаменитой ветви Голицыных, Дмитрия и двух Михаилов Михайловичей, коих счастье при Петре Великом равнялось великим их заслугам и коих семейства приобрели новую славу в глазах русского народа, падая умилительными жертвами немецкого тиранства при Анне Иоанновне. Его отец, князь Федор Сергеевич, был человек и не чиновный, и не богатый, и не расчётливый: прельстившись всем заграничным, куда как-то его занесло, он получил необоримое отвращение ко всему отечественному. Рассказывали, что, по возвращении из путешествий, он тотчас завел флёровую фабрику и потом, гнушаясь названиями ржи и проса, он все поля свои засеял французским табаком, и скоро до того разорился, что наконец не на чём ему было посеять и репы. Когда просвещение блеснет перед полуварварами, то прежде всего хватаются они за роскошь, как дети, которые ловят огонь.
К счастью молодого сына, он вовсе не походил на отца; в нём билось истинно русское сердце, он был наружности приятной, был добр, умен и храбр: без того, несмотря на сиятельное свое происхождение, ему бы невозможно было выбиться из княжеской толпы[36]. Много ему способствовало к тому родство с известным фельдмаршалом, графом Захаром Григорьевичем Чернышовым, президентом Военной Коллегии, коего по матери был он родной племянник; а еще более женитьба на племяннице князя Потемкина, который, впрочем, не очень его любил, но не мог отказать ему в уважении. Тоже самое было и с другими тогда царскими любимцами.
Это знал Павел Первый и, вступив на престол, осыпал его ласками и наградами. Долго это продлиться не могло: только в Екатеринино время можно было безнаказанно соединять верную службу и преданность престолу с некоторою независимостью характера. Скоро должен был князь Голицын оставить службу и поселиться в Москве. Но когда война с французами заставила вызвать Суворова из заточения, тогда вспомнили и о других брошенных мечах Екатерины: на гатчинских фрунтовиках трудно бы было выехать. Призванный в Петербург, обласканный Голицын отправился ко вверенному ему корпусу, а вскоре потом в ссылку, за какое-то откровенное письмо к императору.
Он был тогда полный генерал и обвешен всеми первостепенными орденами, за военные подвиги полученными. Он был в крепости сил и лет, ибо ему еще не было пятидесяти, и по его опытности, деятельности и бесстрашию казалось, что судьба предназначала его быть одним из лучших наших полководцев; сии ожидания никогда не сбылись. Но можно утвердительно сказать, что если б ему поручен был корпус Корсакова или Германа, то слава русского оружия в Голландии или Швейцарии прогремела бы тогда не менее чем в Италии; самые важные происшествия взяли бы тогда, может быть, иной оборот.
Росту был он небольшого, но сложения очень плотного и чрезвычайно полнокровен. Один глаз его был косой, и он имел обыкновение его прищуривать; сие придавало ему вид несколько насмешливый, улыбка же его всегда выражала добродушие, и это вместе делало лицо его весьма примечательным. Кажется, кроме военной истории и стратегических книг, он другого чтения не любил; о литературе и помину не было. В хозяйственные дела он не мешался; по тогдашнему обычаю, воспитание детей предоставлял гувернёрам и учителям. В чём состояли кабинетные его занятия, мне неизвестно; ибо мы видели его только в обеденное время, и по вечерам он должен был часто скучать. В хорошую погоду ездил он прогуливаться в коляске или верхом, а в вечеру сражался иногда с кем-нибудь на шахматной доске и почти всегда побеждал противников. Осень и начало зимы было для него самое лучшее время года: тогда по целым дням мог он гоняться за зайцами.
Все склонности его были молодецкие. Говорят, что смолоду он был отчаянный игрок, часто до последней копейки всё проигрывал, пока Фортуна не сделалась к нему благосклоннее, и он несколько сот тысяч не приобрел игрой; тогда он победил сию страсть и карты перестал брать в руки. К вину он никогда не был склонен, а страсть к женщинам превратилась у него в постоянную любовь к одной. Благородство души его было неимоверное, оно не дозволяло зависти её коснуться. Надобно было видеть его сердечную радость, его восторги при чтении тогда новостей из Италии! Сражение при Нови готов он был торжествовать как собственную победу; зато надобно было видеть и его глубокую печаль при получении известия о Цюрихском деле. Изгнанник восхищался тем, что умножало славу правления его гонителя и рукоплескал соперникам! Жестокая несправедливость царя не могла переменить его чувств к России. Какой запас славных, отличных людей оставила Екатерина! И как расточительность её двух наследников умела сделать его бесполезным!
Как домашним, так и деревенским хозяйством исключительно занималась княгиня, «его супруга златовласа, Пленира сердцем и лицом»[37]. Когда я начал знать ее, такое название уже ей не было прилично, хотя черты её были бесподобные, и в сорок лет она сохраняла свежесть двадцатилетней девы. Но сильные страсти, коих вследствие дурного воспитания она никогда не умела обуздывать, дали её лицу весьма неприятное выражение. В её власти находились чада и домочадцы, слуги и крестьяне; однако же муж не переставал быть господином, и хотя всем она управляла, всем повелевала, но он сохранял права генеральной инспекции и контроля: самый благоразумный образ правления в доме.
Я худо объяснился, если мои читатели увидят в княгине Голицыной злую женщину: между злою и сердитою разница превеликая. Если бы гнев её иногда не был продолжителен, то ее просто можно было бы назвать вспыльчивою. Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила без памяти мужа и одного из сыновей своих и терпеть не могла противоречий; а как рассудок её был не весьма обширен, то никакие доводы не могли ее убеждать. Сообразуясь с сим, можно было избежать неприятных с нею столкновений, и в её управлении не было заметно и тени тиранства; но горе тому, кто, возбудив её гнев, не спешил покорностью смягчить его: тогда она забывала всё, и свой сан, и свой пол, и начинала даже рукам давать волю. Рассказывали ужасы, будто бы один раз она приятельницу свою, помещицу Шевелеву, у себя в гостиной, при всех таскала за волосы; будто бы дорогой, измучившись от неисправности, в которой она находилась, она среди поля при себе велела разложить сопровождавшего ее заседателя и высечь плетьми: тогда еще был жив князь Потемкин, и не было даже возможности жаловаться на нее. Надобно сказать, однакоже, к её чести, что на совершенно беззащитных, например на горничных девок, никогда рука её не подымалась.
С таким нравом ей не легко было жить в обществе. В столицах она обыкновенно вела жизнь уединенную, стараясь окружать себя одними только угодниками и угодницами, а в деревне тогда не трудно было знатной барыне соседних мелкопоместных дворянок обращать в свои прислужницы. Потому-то её Зубриловка, в Саратовской губернии, была любимым её местопребыванием: там степень её доверенности указывала места всем уездным барыням.
Получив село Казацкое по наследству от дяди, она долго не решалась в него приехать. Одни только сильные привычки удерживали тогда на Севере новых помещиков завоеванного края; но они восхищались мыслью, что могут, когда захотят, поселиться в теплом, прекрасном климате; ныне, если б государь имел власть раздавать имения близ Ниццы и Флоренции, то получившие их наши руссо-европейцы едва ли бы тому так радовались. Княгиню Голицыну к переселению побудили другие причины: все эти имения, находящиеся в руках арендаторов, заброшенные, забытые польскими помещиками, приносили чрезвычайно мало доходу в сравнении с великороссийскими деревнями; она хотела личным присутствием стараться его умножить.
Часто, часто вздыхала она о своей Зубриловке. В благословенной стране, среди роскошной природы, она жила как в пустыне; вокруг были одни крупные поместья, и самые ближние соседи во ста верстах. Все ее навыки, все её вкусы были старинные русские. Кому было угождать им, кому было разделять их с нею? Конечно, она бы могла собрать рассеянных в округе шляхтянок, но как их подпустить к себе? В глазах её они стояли ниже её служанок. Одна своя семья и живущие в ней составляли её бессменное, единообразное общество. Поутру она занималась дедом, за обедом хорошо кушала (и по большой части одни русские блюда); после обеда она сидела за столиком в софе, как изобразил ее Державин. Скука ее одолевала. «Что бы нам делать?» иногда говорила она, «чего бы нам поесть?» И моченые яблоки, и рябинная пастила, и брусничная вода, и клюковный морс, и морошка в сахаре, иногда просто липовый мед, все Северные лакомства предпочтительно южным плодам, сменяли друг друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая, сердитая княгиня! Истая боярыня! Несмотря на твой постоянно-угрюмый вид, на твои страшные иногда взоры, я чту, я люблю твою память; прости мне мою откровенность: ты теперь в обители вечной истины и дозволишь мне говорить ее о тебе.
Десять сыновей родила княгиня Голицына мужу своему, и один только из них умер в малолетстве. Старший, князь Григорий, при рождении был пожалован гвардии капитаном, как первенец из внуков Потемкина, то есть сыновей его племянницы. Император Павел, при вступлении на престол, сделал его, тогда семнадцатилетнего мальчика, полковником и своим флигель-адъютантом, а года через полтора генерал-адъютантом. Тут нет ничего мудреного и цари могут, когда им угодно, жаловать новорожденных фельдмаршалами; но вот что удивительно: он несколько времени управлял военною канцелярией и докладывал по делам её государю, следственно был род начальника штаба; кто его знал прежде и после, тому это покажется вовсе непонятным. Он лицом походил на отца, хотя был красивее его и ростом выше; не имел пылкого характера матери, но у неё заимствовал страсть первенства над мелкими людьми. Его воспитывал какой-то барон Эйбен, который, даром что немец, ни сам ничего не знал, ни его ничему не учил. Много придется мне говорить об этом человеке впоследствии времени; теперь сказанного здесь почитаю достаточным.
Второй сын, восемнадцатилетний князь Федор, не только в нашем маленьком обществе, но и в самом блистательном, многочисленном, был бы замечателен. Получив столь же плохое воспитание, как и братья, он приобрел, однако же, в большом свете этот хороший тон, который человеку, одаренному умом, дает так много средств его выказывать, а неимущему скрывать его недостатки. Более всего помогает он обходить затруднительные вопросы, которые могли бы изобличить в невежестве: имея самые поверхностные познания, можно с мим прослыть едва ли не ученым. Во Франции, где родился он, прикрывались им пороки и даже злодейства, пока революция не истребила его, как бесполезный покров. Давно уже вывезли его к нам молодые, знатные наши путешественники, Шуваловы, Белосельские, Чернышовы, но более всего эмигранты распространили его в лучшем обществе. В нём образовался князь Федор Голицын; а как французский язык был исключительный орган хорошего тона, без которого и поныне он у нас не существует, то он выражался на нём так свободно и приятно, как я дотоле не слыхивал.
Казалось, что он взял себе девизом: всё для большего света, его успехов и наслаждений. И потому-то я мало знал людей, которые бы имели столько светской любезности и ума. Лицо русской кормилицы, белое, полное, широкое, румяное, но с огненным взглядом и привлекательною улыбкой, делали наружность его весьма приятною; самой необычайной толщине своей умел он в молодости, посредством туалета, давать щеголеватую форму. Он прекрасно пел романсы и прилежно читал романы; в этом, кажется, заключались все его знания.
Сверх того, был он одарен необыкновенным вкусом, не тем изящным вкусом, который умеет давать цену произведениям ваятеля, зодчего или живописца и которого одобрение почитают они лучшею наградой, — нет, он сам сознавался, что ничего не смыслит в наружной архитектуре, что красоты её для него не существуют, и никогда не хотел взглянуть на картину. Но что касается до внутреннего расположения комнат, до убранства их всеми драгоценными безделками, то на вымыслы в этом роде был он настоящий гений. Если б он остался жив и захотел бы себя на то для других употребить, то я уверен, что в нынешнее время он бы затмил, уничтожил Монферрана[38].
Еще одну великую способность имел князь Федор: никто в России не умел так славно приготовлять великолепные праздники и быть их распорядителем. С большим состоянием, которое наконец он получил и с маленькою бережливостью, которой никогда он не имел, такие люди, как он, служат если не подпорою государства, то по крайней мере украшением двора.
Моложе его годом, князь Сергий, третий брат, был похож на него лицом, но лучше его, выше ростом и не так толст. Он его взял за образец, и сие искусное подражание была одна только его блестящая сторона.
Но четвертым, Михаилом, не без причины гордился отец; его любила мать, любили братья, товарищи по службе, весь дом, все знакомые. Нельзя было сыскать дурного лица столь приятного, в невысоком росте нельзя было найти более мужественного вида; из-под наморщенного чела, из под нахмуренных всегда бровей, никакие глаза не выражали столько сердечной доброты, столько веселой смелости. Он без памяти любил женщин и был столько в них счастлив, сколько скромен на счет успехов своих. С первого взгляда физиогномист мог узнать в нём русского человека. Изо всего семейства своего он один был одарен основательным умом и любознанием и один был бы в состоянии поддержать весь падший ныне род князя Сергея Федоровича. Но смерть всегда выбирает лучшие жертвы, и он погиб в сражении при Прейсиш-Эйлау, имея не более двадцати трех лет от роду.
За ним следовал пятый брат, Николай, несчастный, больной, искаженный в ребячестве от испуга, лишенный рассудка, и который потом, двадцати лет, умер на руках у няньки.
Шестой и седьмой, Павел и Александр, были мои товарищи, но двумя или тремя годами моложе меня. Ни тот, ни другой далеко не пошли. Первый, весьма плохоголовый, еще в ребячестве имел лакейские манеры и самые подлые наклонности; он долго страдал следствиями порочной жизни и в низких должностях старался держать себя вдали не только от столичных, но и от губернских городов. Другой, Александр, был умен и храбр; но ложные понятия о чести и слишком упрямый нрав рано остановили его на военном поприще, которое бы он мог с успехом проходить.
Самые меньшие, Василий и Владимир, едва выходили тогда из младенчества. Первый весьма не глуп и всегда оставался добрым и честным человеком; он мог бы быть человеком более полезным, но баловство страстной к нему матери много повредило ему. Вообще все члены этого семейства гибли, одни в блестящем, другие в жалком ничтожестве. Более всех из братьев наделал шуму меньшой, Владимир, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлоном, он имел силу Геркулеса и был ума веселого, затейливого и от того вся жизнь его была сцепление проказ, иногда жестоких, иногда преступных, редко безвинных.
Источником всех неприятностей в жизни, неудач по службе, разорения, для этих Голицыных было дурное их воспитание.
Отец более всего заботился о физическом образовании детей: ему желалось их всех видеть молодцами. Конечно, это весьма похвально, особливо в то время, когда родители не только высшего, но и среднего состояния думали отличиться от простонародья, воспитывая детей своих в совершенной неге, державши их вечно в тепле и не давая никакой свободы ни их мыслям, ни их движениям. Человек, однако же, не растение, и нужно приготовить его к перенесению непогод и нравственной атмосферы. Об этом, кажется, никто не думал в том доме, где я находился. Молодые князья были искусны во всех гимнастических упражнениях: они шибко бегали, высоко лазили, славно катались на коньках, мастерски перепрыгивали через рвы; смотря по возрасту, у каждого из них были разных величин свайки, и они тешились ими между собою или дворовыми людьми; зимою и летом каждое утро обливали их холодною водой. Развитие же их умственных способностей оставлено было на произвол судьбы; никаких наставлений они не получали, никаких правил об обязанностях человека им преподаваемо не было. Гувернер ими очень мало занимался и только изредка, как Онегина, слегка бранил. Дядьки говаривали: «Полноте, ваше сиятельство; ведь за вас на мне взыщут».
Что касается до наук, то, исключая гувернера, который учил их по-французски и знал хорошо правописание, несмотря на то что он был эмигрант, находился еще при них учитель математики.
Имея намерение их всех посвятить военной службе, отец чувствовал всю необходимость для них сей науки.
Будучи воспитан как благородное дитя, то есть ленивый телом и мало приученный к холоду, новая метода, которой и я должен был следовать, была мне вовсе не по вкусу. Делать было нечего, и я привык к ней. Здоровое и крепкое сложение, которое получил я от природы, могло бы со временем быть обессилено телесным бездействием, и я весьма благодарен дому Голицыных за сохранение многих физических способностей. Но как добро бывает редко без худа, то в сем же доме (с горестью должен в том признаться) в первый раз познакомился я с идеями порока и разврата. Опасность явилась с той стороны, где её менее ожидать было можно. Старший из моих маленьких товарищей, моложе меня, как сказал я выше, заговорил со мной таким языком, который сначала показался мне непонятен; я покраснел от стыда и ужаса, когда его понял, но вскоре потом начал слушать его с удовольствием.
Кто бы мог поверить? Другой соблазнитель мой был сам наш гувернёр, шевалье де-Ролен-де-Бельвиль, французский подполковник, человек лет сорока. Не слишком молодой, умный и весьма осторожный, сей повеса старался со всеми быть любезен и умел всем нравиться, старым и молодым, господам и даже слугам. Обхождение его со мною с самой первой минуты меня пленило. Я еще помнил строгую мораль, которую читал в глазах г. Мута; недавно расстался с брюзгливым Форсевилем, и вдруг нахожу наставника, который хочет уверить меня, что я уже не ребенок; а в отроческие лета кому не хотелось быть постарее! Он начал давать мне дружеские советы и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмешками; я чувствовал себя совсем на свободе. Во время наших прогулок, которые начались с открывшейся весной, он часто забавлял меня остроумною болтовней; об отечестве своем говорил как все французы, без чувства, но с хвастовством, и с состраданием, более чем с презрением, о нашем варварстве. Мало-помалу приучил он меня видеть во Франции прекраснейшую из земель, вечно озаренную блеском солнца и ума, а в её жителях избранный народ, над всеми другими поставленный. Революционеры, новые Титаны по словам его, только временно овладели сим Олимпом, но, подобно им, будут низвергнуты в бездну. При слове религия он с улыбкой потуплял глаза, не позволяя себе однако же ничего против неё говорить; как средством, видно, по мнению его, пренебрегать ею было нельзя. Он познакомил меня с именами (не с сочинениями) Расина, Мольера и Буало, о которых я, к стыду моему, дотоле не слыхивал, и возбудил во мне желание их прочесть.
Посреди сих разговоров, вдруг начал он заводить со мною нескромные речи и рассказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты. Я не знал что мне делать: я так уже привык в него веровать, что стыдился своего стыда; а он, злодей, наслаждался моим смятением. Еще приятнее было ему видеть, как постепенно исчезала моя робость и умножалось бесстыдство. Какая была цель его? Просто, в этих людях есть нечто демонское. Когда между французами таковы были поборники веры и законного правительства, то что же такое были их противники?
Изобразив поступки этого человека, надобно сказать несколько слов и о наружности его. Он был высок и сухощав, имел самые маленькие, серые, сверкающие глаза и огромный нос, который, описывая правильную дугу, составлял четверть круга. Он был чрезвычайно опрятен и никогда не покидал крестика Св. Лазаря, который доставляли не заслуги, а доказательства старинного дворянства.
И вот в каких руках находилась тогда, конечно, половина благородного русского юношества! При Павле, в числе других зол и беспорядков, размножились у нас эмигранты: не было полка в армии, в коем бы не находилось их по два и по три человека. Вообще тем, коим удалось попасть в службу, более других посчастливилось. Графский титул, который по бесчисленности носящих его мелких, мало известных дворян, во Франции уже был ни почем, у нас тогда еще был в редкость, и наши знатные или богатые невесты охотно выходили за сих мнимознатных людей, особливо когда они имели русский чин. Таким образом Лавали, Модены, Кенсона[39] у нас сделались величайшими аристократами, не только сравнялись с знаменитейшими нашими фамилиями, но начали почитать себя выше их. Не такова была участь тех, кои принуждены были приняться за воспитание детей: звание учителя, в наших варварских понятиях, казалось нам немного выше холопа-дядьки, вечного соперника мусьи. Французы это заметили; но как не было возможности их всех поместить, ибо прибывающие их толпы беспрестанно увеличивались, то, следуя нашей пословице (я думаю у них же заимствованной) «плоха честь, когда нечего есть», они рассеялись по лицу земли Русской, чтобы каким-либо образом добывать себе хлеб. Умножающееся употребление французского языка способствовало им к отысканию мест; скоро, в самых отдаленных губерниях, всякий небогатый даже помещик начал иметь своего маркиза[40]. Не было у нас для французов середины: ils devenaient outchitels ou grands seigneurs.
Когда между французами, между эмигрантами, встретится человек благоразумный, просвещенный, скромный, с религиозными чувствами и строгою нравственностью, то надобно говорить об нём как о диковинке. Такая диковинка находилась у нас в селе Казацком. К сожалению, не ему было поручено воспитание наше: он только давал нам уроки. Г. Керлеро, о коем хочу говорить, не приехал, а пришел в Россию с корпусом принца Конде. Как искусного инженерного офицера, его бы охотно приняли во всякую иностранную службу; но он предпочел надеть лядунку, взять ружье и стать в ряды простых воинов, защитников королевских прав, кои почитали они священными; когда корпус, к коему принадлежал он, был принят в русскую службу, то скоро, наскучив гарнизонною жизнью, он определился учителем в дом Голицыных.
В этом коротеньком и крепком человечке нельзя было предположить ни костей, ни мяса, ни жиру, а одни только мускулы: он весь был как одна только сильная пружина. Родом был он из Бретани. Я не знаю, должно ли бретонцев почитать французами. Из завоеванных кельтических племен они одни под римским владычеством сохранили некоторую твердость, независимость, честные и дикие нравы и неблагозвучный свой язык, когда вся Галлия приняла обычаи своих завоевателей. Гордые их единоплеменники, отделенные от них проливом, также легко переродились в англосаксов и норманнов, коль скоро были ими покорены. Оружие франков позже всего проникло в их Арморику, и Вандея была последняя защитница прежнего порядка. Пусть назовут их непреклонными или упрямыми; таковы остались они и поныне. Таков был и мой любезный Керлеро.
Он с добродушною настойчивостью победил во мне отвращение к математическим наукам, и в одно лето прошли мы с ним геометрию и алгебру; ему обязан я тем, что не остался совсем бессчетным. С величайшим терпением учил он маленьких князьков, но усердно и успешно занимался с шестнадцатилетним отставным офицером, князем Михаилом, который один из братьев пожелал вознаградить потерянное на службе время.
И так в сем доме было два француза. Было еще и два немца: отставной ротмистр, который, заведовал конюшней и смотрел за лошадьми, и лекарь, который морил людей; последний был женат. Потом был грек, отставной майор, главный управитель над деревнями, который всегда улыбался, пришучивал и обкрадывал своих верителей. В нём одно только мне памятно: от него ужасно несло курительным табаком; цвет лица он имел совсем кофейный и ежедневно пил по двенадцати чашек кофе. Всех вышесказанных, но не вышеименованных особ, лет двадцать тому назад, мог бы я назвать читателю, который впрочем немного бы от того выиграл, и горе только одному мне, кому память столь приметно изменяет[41]. Наконец, был и поляк, Загурский, пан-эконом с своей паньей. Грек и немцы обедали с нами только по праздникам и по воскресеньям, а шляхтича с женой, тоже по воскресеньям, пускали только поутру с поклоном к княгине, которая милостиво давала им целовать ручку.
Всё это были должностные лица; но в нашем обществе находились еще два почетные члена, из коих один давно уже членом Российской Академии, а другой доселе тщетно ожидает сей чести.
Родной племянник Александра Петровича Сумарокова, одного из известнейших наших старинных писателей, Павел Иванович служил в Преображенском полку под начальством князя Сергия Федоровича и женился на двоюродной сестре его, княгине Марии Васильевне Голицыной. Он свел ее с ума, где-то оставил, а прижитых с нею двух детей, сына и дочь, отдал он на воспитание в дом своего родственника и покровителя. Принужден будучи, подобно многим, оставить службу при Павле и не имея большего состояния, он находился тогда вместе с ними и гостил в Казацком.
Весьма бы любопытно было сделать психологическое изыскание, отчего люди, имеющие сколько-нибудь рассудка, иногда до того бывают ослеплены высоким о себе мнением, что выказывают его на каждом шагу, при каждом слове, не замечая, сколь неприлично сие в общежитии, сколь противно для самолюбия других. Каждый из нас, если только захочет взять труд рассмотреть себя, то найдет внутреннее, верное чувство, которое поможет ему лучше других сделать самому себе оценку. Многие, ужасаясь умственной нищеты своей, холодным молчанием ограждают ее от проницательности людей; высокомерным обхождением, как плотною мантией, прикрывают они природные свои рубища. Всё это предполагает некоторый рассудок, некоторое искусство и следственно некоторый ум. Но тех, кои, будучи словоохотны, вечно повторяют глупое я, когда в их взглядах вы всегда видите бессмысленное самодовольство, тех позволено решительно назвать дураками.
Непомерная спесь г. Сумарокова превосходила всякое описание: никакие успехи не смягчали его гордости; бесчисленные неудачи не могли никогда его образумить. В обращении со всеми, кого смолоду не привык он почитать выше себя, было всегда что-то грубое, жесткое, нестерпимое. В глубокой старости он остался также тяжел и несносен, как в первой молодости; более он сделаться не мог. Два раза был он губернатором, обе губернии должен был оставить, истощив терпение начальства, подчиненных и жителей; теперь он состоит инвалидным сенатором.
Он один видел в себе государственного человека и литературного гения; никто даже в шутку его в том не уверял. Вероятно, у него был двойник, и их взаимное удивление, обожание, утешало его в мнимой несправедливости людей. Нельзя думать, чтобы творения его дошли до потомства; библиоманам было бы однако же не худо их сохранять: они могут служить образцами дурного слога, дурного вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой неблагопристойности. Стараясь спасти их от забвения, в котором, может быть, и сам потону, спешу назвать известнейшие: Досуги Крымского судьи, Прогулка за границу и повесть: Федора, которая такая же дура, как и сам сочинитель.
Дочь его, Мария Павловна, ныне пожилая дева, была тогда двенадцатилетняя девочка; воспитанная с детьми другого пола, она имела и сохранила много ухваток мальчика. Сыну Сергею Павловичу, славному артиллеристу и генерал-адъютанту, было тогда лет восемь или девять. Они оба были вовсе не в отца. Первая необыкновенною любезностью ума, последний заслугами, храбростью и добросердечием всегда искупали недостатки его и приобретенными в обществе любовью и уважением украшают незавидную его старость.
В Казацком г. Сумарокову не было перед кем гордиться: хозяева были к нему расположены приязненно, а прочие уму его верили на слово. Со мной был он довольно ласков, спускался иногда до шуток и забавлялся моим неведением, моею неопытностью. Заметив однако же возрастающую дружбу мою к дочери, взаимную, детскую, невинную, он прогневался, мне запретил к ней подходить, ей говорить со мною и с того времени стал сурово на меня смотреть.
В ненастное время пернатые певцы скрываются в густоте леса: деревню и дом князя Голицына избрал тогда убежищем один весьма мохнатый певец, известный чудесными дарованиями. Я назвал его певцом мохнатым, потому что в поступи его и манерах, в росте и дородстве, равно как и в слоге, есть нечто медвежье: та же сила, та же спокойная угрюмость, при неуклюжестве, та же смышленость, затейливость и ловкость. Его никто не назовет лучшим, первейшим нашим поэтом; но конечно он долго останется известнейшим, любимейшим из них. Многие догадаются, что я хочу говорить о Крылове.
Он был тогда лет тридцати шести и более двенадцати известен в литературе. Он находился у нас в качестве приятного собеседника и весьма умного человека, а о сочинениях его никто, даже он сам, никогда не говорил. Мне это доселе еще непонятно. От того ли сие происходило, что он не был иностранный писатель? От того ли, что в это время у нас дорожили одною только воинскою славой? Как бы то ни было, но я не подозревал, что каждый день вижу человека, коего творения печатаются, играются на сцене и читаются всеми просвещенными людьми в России; если бы знал это, то конечно смотрел бы на него совсем иными глазами.
Собственное его молчание не может почитаться следствием скромности, а более сметливости: он выказывал только то, что в состоянии были оценить; истинные же сокровища ума своего ему не перед кем было расточать.
Происхождение его мало известно; кажется, он должен быть сыном нового, мелкого, бедного дворянина. Природа сама указала ему путь, на котором он встретился с Фортуной; потому-то он мало заботился о службе. Но в России, особливо лет пятьдесят тому назад, никак нельзя было оставаться без чина, и его куда-то записали. Неимущий, беспечный юноша, он долго не имел собственного угла и всегда гостил у кого-нибудь. Таким образом попал он к князю Голицыну и жил у него уже года два до нашей встречи. Он сопутствовал ему в армию в звании частного секретаря, надеялся за границей получить новые впечатления, приобрести новые познания; но неблагоприятный оборот, который взяли дела его патрона, заставил его с ним вместе укрыться в деревне.
В тучном теле его обращалась кровь не столь медленно как ныне, в нём было более живости, даже более воображения; но уже тогда был он замечателен неопрятностью, леностью и обжорством. В этом необыкновенном человеке были положены зародыши всех талантов, всех искусств. Природа сказала ему: выбирай любое, и он начал пользоваться её богатыми дарами, сделался поэт, хороший музыкант, математик. Скоро тяжестью тела как бы прикованный к земле и самым пошлым её удовольствиям, его ум стал реже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевного Жара, священного огня, коим согрелась, растопилась бы сия масса, поглотившая у нас столь много наслаждений. Мы дивимся, мы восхищаемся тем, что ускользнуло от могущества плоти: что бы мы увидели, если б она могла быть побеждена!
Крылова называют русским Лафонтеном; тот и другой первые баснописцы в своей земле; но как поэт, мне кажется, француз стоит выше. Как он бывает иногда трогателен, увлекателен, например в басне: «Два Голубя»! Читая его, никто не спросит: был ли он добрый человек? Всякий это почувствует. Если б о Крылове мне сделали сей вопрос, то я должен бы был отвечать отрицательно. Чрезмерное себялюбие, даже без злости, нельзя назвать добротой; в деяниях Крылова, в его, разговорах был всегда один только расчёт; в его стихах чистота, стройность и размер, везде ум, нигде не проглянет чувство, а ум без чувства тоже что свет без теплоты. Человек этот никогда не знал ни дружбы, ни любви, никого не удостаивал своего гнева, никого не ненавидел, ни о ком не жалел. Никогда не вспоминал он о прошедшем, никогда не радовался ни славе нашего оружия, ни успехам просвещения; если он и завидовал другим знаменитым современным нашим писателям, то разве в тайне; был с ними приветлив, но никогда их не читал, никогда не хотел говорить о их сочинениях. Единственную страсть, или лучше сказать что-то похожее на нее, имел он к карточной игре, но и в ней был всегда осторожен и всегда презирал игроков, с коими однако же прожил век. Две трети столетия прошел он один сквозь несколько поколений, одинаково равнодушный как к отцветшим, так и к зреющим.
С хозяевами домов, кои, по привычке, он часто посещал, где ему было весело, где его лелеяли, откармливали, был он очень ласков, любезен; но если печаль какая их постигала, он неохотно ее разделял. Если б его спросили, какое слово в русском языке ему кажется нежнейшим, то я уверен, что он бы отвечал: кормилец мой. Что делать! Видно, сердце у него в желудке; из сего источника почерпнул он большую часть своих мыслей, и надобно сказать правду, он им не худо был вдохновен.
Тот, кто остается чужд житейских бурь, кто на страсти людей, благородные или пагубные, смотрит с улыбкою презрения, тот не должен иметь их слабостей, а еще менее их предрассудков. Но таковы несообразности в каждом из нас, такое несогласие бывает между рассудком и наклонностями, что не сыщется ныне человека, который бы более Крылова благоговел перед высоким чином или титулом, в глазах коего сиятельство или звезда имели бы более блеска. Положим, это следствие господствовавшего прежде мнения, под влиянием коего он вырос, и я очень далек, чтобы видеть тут что-нибудь худое; но зачем же богатство имеет равное право на его почтительную нежность? Отчего же такое жестокое невнимание ко всем, кто обижен не природой, а Фортуной? Где же твердый муж? Где же философ? Надобно было видеть в Казацком его умное, искусное, смелое раболепство с хозяевами; надобно было видеть, как он сам возбуждал их к шуткам, как часто в угождение им трунил над собою.
Грустно это вспомнить, а еще грустнее подумать, что на нём выпечатан весь характер простого русского народа, каким сделали его Татарское иго, тиранство Иоанна, крепостное над ним право и железная рука Петра. Часто этот народ должен трепетать перед тем, что он презирает, и если Крылов — верное изображение его недостатков, то он же и представитель его великих способностей. В простом языке его, который иногда употребляет он и в разговоре, из простых его изречений схватил он всё, что показывает его глубокомыслие, и без лишних украшений, без приправы, составил из них оригинальные свои творения, как славный повар из простых, но самых свежих припасов готовить вкусный стол, который может удовлетворить прихотям взыскательнейшего гастронома. Подобно восточным стихотворцам, в коих самовластие не могло заглушить таланта, но кои не дерзают явно говорить истину, решился и он ясным мыслям своим, верным наблюдениям дать форму аполога.
Несмотря на свою леность, он от скуки предложил князю Голицыну преподавать русский язык младшим сыновьям его и следственно и соучащимся с ними. И в этом деле показал он себя мастером. Уроки наши проходили почти все в разговорах; он умел возбуждать любопытство, любил вопросы и отвечал на них также толковито, также ясно, как писал свои басни. Он не довольствовался одним русским языком, а к наставлениям своим примешивал много нравственных поучений и объяснений разных предметов из других наук. Из слушателей его никого не было внимательнее меня, и я должен признаться, что если имею сколько-нибудь ума, то много в то время около него набрался.
Обхождением его со мной я был очень доволен: правда, он напоминал мне иногда о почтении, коим обязан я ребятам, молодым князьям, моим товарищам, что мне было весьма не по сердцу; но за то маленькому англичанину Личу при мне говаривал он, что ему не следует забываться передо мной, генеральским сыном.
Чтобы никого не пропустить из нашего деревенского общества, должен я назвать еще два лица: отставного капитана Таманского, побочного сына князя Сергия Федоровича, и живущую у княгини русскую барышню, Прасковью Андреевну, которые ничтожества свои, во время пребывания моего в Казацком, совокупили законными брачными узами.
Нас человек двадцать каждый день садилось за стол, но по праздникам бывало и более двадцати пяти. Казалось, будто мы океаном или непроходимыми горами отделены от других частей мира, и только один раз в неделю, посредством почты, имеем с ним сообщение. Меня уверяли после, будто за нами присматривали; но кажется, кому бы было? Земской полиции мы в глаза не видали, а между нами не было ни одного человека, который бы когда-либо запятнал себя предательством.
Почтовые дни были для нас днями радости. Я знал тогда хорошо по-немецки и с жадностью бросался на Гамбургские газеты, которые по прочтении вручал мне князь с одобрительною улыбкой. Московские Ведомости не менее тогда были любопытны: не было номера в коем бы не упоминалось о Суворове. Я шел за ним через Адиж, Требию и По, за ним летел на высоты Альпов и с нетерпением ожидал его в Париже; голова моя горела, сердце билось при чтении блистательных его реляций. Я дома был изнежен и следственно труслив; тут откуда взялась бодрость: с восхищением мечтал я об опасностях, стыдился малейшей робости и побеждал ее. Так сильно действуют великие люди, в отдаленнейших от нас местах, на самые низшие классы и на самый нежный возраст.
Слава Суворова отражалась на пославшем его, ослабляла чувство ненависти к нему, утешала угнетенных им, ссыльных, и разливала радостный свет среди скорбной тьмы его царствования. Дерзали даже ликовать, и известия из Киева говорили о беспрестанных там увеселениях.
Тут в первый раз узнал я сладостное чувство любви к отечеству, меня потом никогда не покидавшее; в этот достопамятный для меня год познакомился я с пороками и добродетелями, мне дотоле неизвестными; в уединенном углу России вкусил я от древа познания добра и зла. Скудны были мы настоящими происшествиями; но за то, исключая детей, все были богаты воспоминаниями, и потому-то большая часть разговоров проходила в рассказах. Из разных стран собрались тут образчики разных наций и состояний; с обыкновенным вниманием я всё выслушивал, позволял себе мешаться в разговоры, делать вопросы и получал снисходительные и удовлетворительные ответы. Таким образом, в самом тесном кругу, в коем прожил я тогда близ года, чрезвычайно расширился круг моих идей.
Например, я узнал между прочим, что знатный род и блестящие связи не только заменяют заслуги и чины, кои они доставляют или должны доставлять, но стоят на высоте, для сих последних недосягаемой. Сию веру исповедывали все члены семейства, в коем я жил; из них, кажется, первый князь Федор принял ее в тогдашних Петербургских гостиных, куда вывезена была она прямо из Сен-Жерменского предместья статскою советницей княгиней Натальей Петровной Голицыной, урожденной графиней Чернышовой, сестрой фельдмаршальши Салтыковой. Находясь в Париже во время революции, сия знаменитая дама схватила священный огнь, угасающий во Франции и возжгла его у нас на Севере. Сотни светского и духовного звания эмигрантов способствовали ей распространить свет его в нашей столице. Составилась компания на акциях, куда вносимы были титулы, богатства, кредит при дворе, знание французского языка, а еще более незнание русского. Присвоив себе важные привилегии, компания сия назвалась высшим обществом и правила французской аристократии начала прилаживать к русским нравам, столь же удачно, как в нынешних французских водевилях маркизы де-Сенваль и виконтессы де-Жюссак на нашей сцене перерождаются Авдотьями Дмитриевнами и Марьями Семеновнами. Екатерина благоприятствовала сему обществу, видя в нём один из оплотов престола против вольнодумства, а Павел Первый даже покровительствовал его, предоставляя себе, однако же, право немилосердно тузить его членов, чего французские короли себе позволять не могли.
Не один раз придется мне говорить о сем высоком сословии, не более как с полсотни лет у нас образовавшемся, о преимуществах, коими оно пользуется, о сомнительных правах некоторых из его членов. Чтобы с некоторою подробностью изобразить его, я хочу дождаться времени, когда мне дано было почтительно приблизиться к его святилищам; сказанное теперь почитаю покамест достаточным. В малолетстве не совсем деликатно давали мне чувствовать его могущество, но оно еще являлось мне как огромный блестящий фантом, коего образ сокрыт был от меня таинственным покровом, коего не видел я слабых сторон и коего власти не знал я границ.
Барская спесь, с примесью французских предрассудков, делала самохвальство молодых Голицыных иногда несносным. Ни у одного не было дурного сердца, не было даже гордости, но губительное для них впоследствии тщеславие и легкомыслие. Им всё еще грезилась тень дедушки Потемкина; из слов их можно было узнать, что они более видят в себе побежденных сильным противником, чем караемых грозным владыкой. С своими слугами они обходились так же просто, как и с живущими у них в доме; эта ласка была такого рода, какая оказывается любимой лошади, собаке или птице. Такой ласки я снести не мог и смею похвастаться, что умел отразить покровительственный тон, который хотели взять со мной молодые люди; с родителями их было дело другое.
Прошло лето, наступила осень, и уже близилась зима; с каждым днем всё у нас в деревне становилось мрачнее и печальнее. Заграничные известия сделались менее радостны, уменьшалась быстрота полета Суворова; сколь ни славен был переход его чрез Альпы, но он отдалял нас от цели; наши французы — роялисты повесили голову, а я чуть не плакал от досады.
Мои родители из Киева отправились в Москву, чтобы быть при родах сестры моей Алексеевой, которая в октябре благополучно и разрешилась сыном Александром. Это известие меня обрадовало и возгордило: в первый раз я сделался дядей.
К концу года приготовились для меня новые перемены в жизни. Тайный иезуит, аббат Николь, завел в Петербурге аристократический пансион. Он объявил, что сыновья вельмож одни только в нём будут воспитываться; и сколько с намерением затруднить вступление в него детям небогатых состояний, столько из видов корысти положил неимоверную плату: ежегодно по 1500 рублей, нынешних шесть тысяч. Обстоятельства способствовали успехам сего заведения, которое находилось у Обухова моста, на Фонтанке, рядом с великолепным домом князя Юсупова. Супруга его, княгиня Татьяна Васильевна, отдала сына своего к аббату Николю, коего чрезвычайно поддерживала; будучи сестрою княгини Голицыной, она письменно и ее убеждала прислать туда же младших сыновей своих, на что последняя долго не изъявляла согласия. Но как невозможно было наконец не подметить безнравственности г. Ролена, так как совестились ему прямо отказать и затруднялись в приискании ему преемника, то и решились отправить мальчиков в Петербург. О сем намерении уведомили также и моих родителей, возвращавшихся тогда из Москвы.
Едва успели они воротиться, как прислали за мной доверенного слугу. Исключая Михаила Голицына и учителя Керлеро, я расстался почти без всякого сожаления с людьми, с коими, казалось, одна свычка должна уже была меня связать; не меня винить надобно, а их равнодушие даже между собою, даже друг в другу. В самое Рождество, отужинав, простился я со всеми довольно холодно и пошел к себе спать, с тем чтобы до света выехать. Странное дело! Лишь только пришел в свою комнату и стал раздеваться, как мне сделалось грустно. Так после со мною бывало и везде, особенно там, где люди не оказывали мне и не возбуждали во мне большего участия: вместо их, роднился я с местами и их только покидал, как друзей. Менее суток пробыл я в дороге и далеко за полночь, когда уже у нас все спали, приехал я в Киев.
XV
Сенатский полк. — Из Киева в Петербург. 1800. — Встреча с императором Павлом. — Первый день в Петербурге. — Генерал Бегичев. — Лабат-де-Виванс. — Н. П. Пещуров. — Офицерское чтение. — П. Г. Демидов. — Искание службы. — Граф Растопчин. 1800. — Характеристика Петербурга. — Прогулки Павла Первого. — Театр в Петербурге. 1800. — Французские актеры. — Актриса Шевалье.
Когда поутру увидели меня родители, то едва могли узнать: так много с небольшим в десять месяцев изменилась моя наружность. Они оставили меня отроком, я предстал им юношей. Я похудел, я вытянулся как спаржа; в теплице порока насильственно и быстро я созрел.
Они не знали что со мной делать: мои лета требовали еще продолжения учебных занятий, мой рост и тогдашние обычаи делали меня годным для службы. К тому же им жаль было со мной расстаться; из многочисленного семейства находился я при них тогда почти один, ибо старшая сестра и старший брат остались гостить у замужней сестры в Москве, а средний брат поехал в Петербург попытаться войти опять в службу.
В Киеве был тогда один приезжий немецкий профессор, г. Графф, человек ученый и кроткий, который не хотел заводить школы, а только для образования в науках взял к себе жить пять или шесть молодых людей. Мой отец хотел меня к нему отдать; но мать моя, которая весьма была на то согласна, выпросила меня только недели на три, чтобы мной потешиться.
В это время военным губернатором был Беклешов, но не тот, которого я оставил, а меньшой брат его, Сергей Андреевич. Старшего же император еще летом вызвал в Петербург и сделал генерал-прокурором. Выборы, кои обыкновенно он делал на удачу, были иногда весьма удачны. Заведуя всеми частями дарственного управления, Беклешов сохранил однако же военное звание и военный мундир. Император Павел, подобно отцу и наследникам, имел отвращение от гражданских чиновников и от гражданской службы, почитал подлыми её занятия, особенно в нижних должностях, и воспретил дворянству первоначально в нее вступать.
В звании военного и гражданского чиновника вместе, Беклешов, дабы в глазах государя облагородить одно звание другим, предложил ему составить новый пехотный полк, под именем Сенатского, и его назначить шефом того полка; не ограничивать числа вступающих в него подпрапорщиков из дворян, а сим последним, в одно время преподавать законоведение и учить их фронтовой службе. Сия мысль была довольно курьезна, чтобы полюбиться Павлу Первому, и она немедленно была приведена в исполнение. Брату моему, находившемуся тогда в Петербурге, поручил Беклешов написать к моим родителям, чтоб они прислали меня к нему для определения в этот полк, и не заботились потом о моей судьбе. Выгоды казались очевидны; сей новый план расстроил прежний (отдать меня к г. Граффу) и только ожидали случая, чтоб отправить меня в Петербург.
Киев оживился тогда контрактами и ярмаркой, но мы с матерью почти всё сидели дома, чтобы реже разлучаться. Во время вторичного отсутствия моего, число незнакомых мне лиц еще более в нём умножилось; должностные же успели в это время раза два перемениться, а прежние, Екатерининские, между прочим Шардон с Шардоншей, были все в отставке и тихо доживали век.
Одно поразило меня тогда в Киеве: новые костюмы. Казня в безумстве не камень, как говорит Жуковский о Наполеоне, а платье, Павел вооружился против круглых шляп, фраков, жилетов, панталон, ботинок и сапог с отворотами, строго запретил носить их и велел заменить однобортными кафтанами с стоячим воротником, треугольными шляпами, камзолами, коротким нижним платьем и ботфортами. В столицах уже давно успели привыкнуть к сей уродливости, в провинциях позже, а к нам в деревню или приказание не дошло, или оно в ней не исполнялось. И мне всё платье пришлось перекроить, ибо уже года два ходил я в галстуке и снял куртку.
В первых числах февраля княгиня Варвара Васильевна прислала к нам в дом двух сыновей своих, Павла и Александра, чтобы всем нужным запастись для дальнейшего пути. Сих законных сыновей князя Голицына привез в Киев незаконный сын его Таманский, о коем в предыдущей главе я, кажется, что-то сказал; он должен был сопровождать их до самого Петербурга. Вот и удобный случай меня отправить; им воспользовались, наскоро меня снарядили и поручили попечениям и надзору г. Таманского.
Этот раз поехал я уже без всякого восторга, с одним только чувством горести. В чужбине так мало испытал я радостей, что в будущем ничего не смел себе приятного обещать. В виду у меня были двойные занятия и военная служба, в которой, как уверяли, дворяне не имеющие офицерского чина не избавлялись тогда от телесных наказаний. Зима была ужасная и продолжительная; мы сидели закутанные в крытых кибитках и света Божьего не видели. Но нас было четыре мальчика сорвавшихся с узды: двое Голицыных, англичанин Лич и я, а над нами Таманский, которого никто не слушался, на которого никто из нас не хотел глядеть. В такой веселой компании скоро можно было забыть горе; Таманский рассчитывался, расплачивался, суетился, а мы, без забот, даже без замечаний, скакали день и ночь, меняли лошадей, а на станциях только что проказничали и резвились: последний раз в жизни был я ребенком!
В одном только Витебске чрезвычайная стужа заставила нас остановиться на сутки, чтоб отдохнуть и обогреться. В Порхове узнали мы от одного проезжего, что Беклешов отставлен и уже уехал из Петербурга: «Что же Сенатский полк?» спросил я у проезжего. — «Переименован в Литовский, отвечал он, у Сената нет уже гвардии: один государь может ее иметь». — «Что же со мной будет?» подумал я и тяжко вздохнул.
Наконец, 18 февраля 1800 года, поутру в Гатчине едва выпив чашку чаю второпях, к полдню в первый раз я увидел Петербург. Спустившись с Пулковой горы, наши извозчики остановились, чтобы поправить лошадей; я этим воспользовался, чтобы в находившейся тут каменной лавочке купить пряничных орехов на последние десять копеек медью, которые у меня в кармане оставалась; деньги же на прогоны и другие потребности были моими родителями отданы в распоряжение г. Таманского, который их все уже издержал.
У самой заставы объявил мне он, вероятно наскучив мною дорогой, что мне открыты все четыре стороны, что он взялся меня только довезти, но отнюдь не намерен заботиться обо мне в столице, и сам с молодыми людьми отправился прямо к княгине Юсуповой. Что мне было делать? Из писем знал я, что брат мой живет у одного киевского приятеля нашего семейства, артиллерийского генерала Бегичева; но где? Я думал, что об этом знает на заставе караульный офицер; он улыбнулся моему вопросу и советовал мне узнать о том в Ордонанс-Гаузе. Он находился в Миллионной, на углу Мошкова переулка; туда я и отправился. Там ничего мне не могли сказать, а полагали, что мне надобно искать его на Литейной, где живут все артиллеристы, и что квартиру его мне, вероятно, укажет первый попавшийся мне артиллерийский солдат.
Когда я объявил о том своему ямщику, то он наморщился, однако же повез меня далее. Это был последний день масленицы; не знаю, хотелось ли ему погулять, или действительно лошади были измучены, но он беспрестанно с нетерпением оборачивался ко мне, спрашивая: скоро ли кончатся наши странствования? Я молчал; вдруг он вновь поворотился ко мне с вопросом, много ли я ему дам на водку? Мы уже были на Литейной, против Арсенала. Я имел нескромность отвечать ему, что у меня нет ни копейки; тогда он остановился и самым грубым образом объявил мне, что он отпрягает лошадей и бросает меня на улице. Со мною, для прислуги, был только глупый деревенский мальчик Лёвка, мой ровесник. Я обомлел; он, кажется, испугался еще более меня.
Пусть представят себе положение провинциального недоросля, брошенного среди улиц, которых он не знает, в столице, где ему никто не знаком, и без гроша денег. Но этим беда еще не кончается. Вдруг налетает полицейский офицер, и кричит нам: «Шапки долой, становись за кибитку!» Только успел я безмолвно исполнить сие приказание, как вижу, что от Литейного двора несутся сани, запряженные парой красивых, лихих лошадей, покрытых огромными белыми фартуками. Я в них узнал самого государя, которого один раз уже в жизни видел. Он сидел с императрицей и ехал кататься на горы, которые тогда устроены были близ Смольного монастыря. Лишь только промчался царь, полицейский грозно возопил ко мне: как смею я быть в запрещенном наряде? Но, вероятно, тронутый моими летами, неведением, советовал скорее куда-нибудь убраться, чтобы меня не взяли на съезжий двор. На мне была черная шапка с длинными ушами, и они недавно перед тем были запрещены в столице.
Между тем наш ямщик медлил откладывать лошадей, может быть и не посмел бы сего сделать; но я не знал своих прав, и лишь только опомнился от испуга, то вместе с Лёвкой прибегнул к мольбам. Проходящий в это время солдат сказал нам, что генерал Бегичев живет на конце Кирочной улицы, у самого Таврического сада, в деревянном угольном доме. Берег был виден, хотя еще в отдалении, и жестокий ямщик сел опять на место и поехал далее, но во время переезда поминутно осыпал нас ужасными ругательствами, из коих название нищих было еще самое сносное.
Вот, наконец, мы въехали на двор; но что же? Новое горе: ни Бегичева, ни брата, ни их людей не было дома; все гуляли на масленице или были в гостях; остались какие-то два денщика, которые не только не соглашались пустить меня в комнату, но даже хотели прогнать со двора, принимая Бог весть за кого. На беду и на счастье мое, ямщик наш был человек отчаянный, дерзкий: он прикрикнул на них, их не послушался, проворно отпряг лошадей и опрометью ускакал.
Мне оставалось только сидеть в кибитке и ожидать возвращения брата. Я то и сделал, но мне было скучно и холодно. Я решился оставить Лёвку, а сам пошел ходить по улице, не отдаляясь однако же от жилища своего, то есть кибитки. Попавшиеся мне какие-то люди, с коими завязал я разговор, сказали мне, что если пойду вдоль Таврического сада и потом поворочу влево, то выйду к самым горам и увижу увеселения русского народа. Любопытство, юношеская ветренность и надежда встретить, может быть, брата, заставили меня пойти. Нынешний Преображенский плац был тогда бесконечное поле, занесенное снегом, на краю которого едва виднелись низкие лачужки; я держался той стороны, которою он примыкает к саду, шел медленно, ибо вязнул беспрестанно в глубоком снегу и был отягчен дорожным платьем. Дорогой я никого не встретил, и мне казалось, что я иду степью. Когда, пройдя сад, заворотил я налево, то заметил, что начинает смеркаться и вспомнил несчастную свою черную шапку; измученный, истомленный, голодный, ибо ничего этот день не ел, кроме пряничных орехов, еще медленнее потянулся я назад. Когда я воротился, то почти уже смерклось, но я нашел счастливую перемену в моих делах: слуга моего брата пришел домой и помогал уже Лёвке перетаскивать мои пожитки.
Мне ужасно хотелось есть. К несчастью, люди г. Бегичева не возвращались; без них всё было заперто, а избавитель мой в этот день прогулял свои деньги. В комнате, которую брат мой занимал, кое-как устроили и мне кровать. Я бросился на нее; за недостатком пищи, спешил укрепить себя сном и без просыпа полсутки проспал. В эту ночь, не знаю, видел ли я что во сне; но если мне снилось, то верно уж съестное. Случайное сие негостеприимство Петербурга оставило во мне неприязненное к нему впечатление, которое две трети жизни в нём проведенные не могли совершенно изгладить.
На другой день брат меня разбудил и неодетого повел к нашему хозяину. Он был самый почтенный, самый добродетельный чудак, умен, благороден, но непреклонен и дик, не любил большего общества. При виде малознакомых, сердце его как будто замерзало, и он обдавал их холодом, за то оно совершенно таяло с ближними и приятелями; наконец, страсть его к трубке довершала сходство его с одним государственным человеком, которого я после знал. Он меня расцеловал и скорее велел накормить завтраком. После того отправились мы с братом по лавкам и к портному, дабы заказать мне наряд, в коем бы согласованы были законы моды с государственными постановлениями. Тут только мог я полюбоваться зданиями Петербурга; накануне мне не до того было.
Я был привезен в Петербург для определения в службу; но куда, теперь сделалось неизвестно. Надобно было брату подумать, что из меня сделать: продолжать ли меня занимать учением, или просто отдать в какой-нибудь полк. Он ни на что не смел решиться, не спросясь наперед родителей, и завел о том с ними переписку. Пока он получил их согласие, а впоследствии и полномочие располагать моею судьбой, пока он хлопотал об определении меня в Пажеский корпус, пока ему это обещали и водили его, пока, убедясь, что ожидания его тщетны, он начал приискивать для меня другой род службы, — прошло пять месяцев. По истечении их, наши родители, не видя никакого успеха, полагая, что забавы Петербурга удерживают в нём брата столько же, как и хлопоты (в чём и не совсем ошибались), к тому же не в состоянии будучи продолжать издержек на наше содержание, приказали нам немедленно отправиться в Москву и там ожидать новых приказаний.
В продолжении сих пяти месяцев сделал я несколько новых знакомств, впрочем не весьма интересных; о самых занимательных не могу оставить читателя в неведении.
Мой брат не был знаком в аристократическом кругу, который в Петербурге тогда и не очень был обширен: большая часть вельмож жили в Москве, или в удалении, в деревне; небольшое число из них имели дозволение путешествовать за границей. Первое знакомство, доставленное мне братом, было в доме одного старого француза, шевалье де-Лабат де-Виванса[42], который, вследствие какого-то поединка, должен был оставить Францию гораздо прежде революции и эмиграции. Вступив у нас в военную службу, он Гасконскою оригинальностью скоро понравился начальникам и сделался наконец любимцем самого князя Потемкина, который, причислив его к своему штату, назначил смотрителем собственных дворца и сада, нынешних Таврических. По смерти Потемкина, они поступили в казну, а его место из партикулярного обратилось в придворное. При Павле Таврический дворец превращен в казармы лейб-гусарского полка, а г. Лабат, который и его смешил, сделан кастеланом строившегося Михайловского замка, и император еще более полюбил в нём титул рыцарских времен, для него им выдуманный.
Оставив в отечестве дворянские предрассудки, Лабат в России женился на дочери известного в свое время французского парикмахера Мармиона. Его супруга хотела играть роль знатной дамы, никогда не теряла важности и строгим взором часто останавливала неприличные, по мнению её, порывы веселости своего мужа. Она, к счастью, редко показывалась; а гостей принимали две дочери её, добрые, милые, весьма уже зрелые, но еще не пожилые девы, с которыми мне было чрезвычайно приятно и весело.
Он когда-то был один из проезжих, бесчисленных посетителей нашего дома в Киеве и за гостеприимство желал заплатить услугой. Он вызвался брату хлопотать об определении меня в Пажеский корпус у двух вельмож, обер-камергера графа Шереметева и обер-гофмаршала Нарышкина, с которыми он был на короткой ноге. Но иное, видно, вышучивать трудно: бояре забавникам обещают, водят их, отшучиваются, и всё дело наконец обращается в шутку. Впрочем, главным препятствием к моему определению был мой рост: тогда обыкновенно принимали мальчиков двенадцати лет, а я казался семнадцати.
Еще были мы вхожи в дом одного приятеля наших родителей, если только Никита Иванович Пещуров мог быть кому-нибудь приятелем. Он веровал в одно только могущество при дворе; любимцы царей, любимцы вельмож и их любимцы составляли его Олимп, небесную иерархию, которой он униженно кланялся. Что всего страннее, он не был честолюбив, не искал власти, а любил ее в других; ему нужно было молиться, и как праздные женщины, которые в Москве всякое утро таскаются от часовен к соборам и от приходских церквей к монастырям, так и он, прежде нежели отправится к должности, любил возить набожность свою по приемным. За других он никогда не хотел просить, а за себя очень редко. Он ездил без всякой нужды; просто приедет, подождет; выйдет боярин, скажет «здравствуй, братец Никита Иванович, каков ты?» а он с благодарностью поклонится, слава-мол Богу, и потом на целый день доволен, а когда пригласят откушать, то и совершенно счастлив. Говоря всегда с восхищением о сильных, он никогда не позволял себе злословить падших, в ожидании, что они когда-нибудь восстанут; он не шел против них, а почтительно и молчаливо их убегал: это была в одно время и врожденная, и систематическая, и самая откровенная, и самая утонченная подлость. Генеральский чин нашего отца, который в то время предполагал некоторые важные связи, давал нам право на его улыбку, по крайней мере на ласковый, рассеянно-покровительственный его прием.
Бывало, мы по праздникам делаем ему утренние посещения. Мне памятны: простыня разостланная посреди комнаты, на ней стоящий стул и Никита Иванович, на нём сидящий в пудрамантеле. Мы и некоторые другие, не весьма высокие, однако же привилегированные особы, сидели вдоль стены в почтительном расстоянии, в котором впрочем держали нас и облака пудры, летевшие на тупей г. Пещурова; те, которые стояли сзади его, конечно играли в мире весьма скромные роли. Обычай принимать людей ниже себя за туалетом был, кажется, введен императрицей Екатериной; у неё переняли его вельможи, а от них, видно, перешел он и к подчиненным их. Никита Иванович был тогда статский советник и советник Ассигнационного Банка; теперь это менее чем ничто, а тогда, о блаженное время! это было что-то, так сказать, полугенеральство, и маленькое его чванство казалось весьма естественным, нимало не смешным. В течение долголетней службы своей он не имел случая оказать великих услуг государству, две трети жизни своей он подписывал ассигнации, он начал и кончил свое поприще в этом банке и умер в чине тайного советника, управляя оным. Он всегда слыл самым добрым человеком в Петербурге; но, вспоминая его, я никогда не завидовал его репутации.
О жене его говорить мне не хочется; низкие пороки между женщинами худо образованными в это время встречались нередко; вино согревало и веселило тогда женские сердца чаще, чем любовь. С двумя сыновьями его, тогда офицерами Семеновского полка[43], я сблизился, несмотря на разность наших лет. Как все молодые люди того времени, они были образованы для света и для военной службы, но и в этом не имели ничего блестящего. Они были со всеми отменно вежливы, а ко мне особенно внимательны. Я много им обязан тем, что не совсем праздно провел тогда время в Петербурге: они ссудили меня новыми Новостями Флориана, и я перевел их на русский язык, но уже как? Это бы мне любопытно было теперь знать. Я полагаю, что этот перевод не существует; ибо мой брат, который был невеликий литератор, хотя любил чтение, нашел, что он достоин быть напечатан и с этим намерением взял его к себе, а потом затерял.
Странный был состав маленькой библиотеки молодых Пещуровых, особливо для офицеров: полное собрание сочинений Флориана, все творения Дората, маленький том Буффлера, Театр Мариво, Письма к Эмилии о мифологии г. Демутье, Шольё и Лафар, Бернис и Жанти Бернар; всё легкое, розовое, амурное, ни одной военной, ни одной русской книги. Вместе с версальскими предрассудками вошла у нас в моду и французская литература; в высшем обществе знали наизусть классических её авторов, и век Людовика XIV ставили выше веков Августа и Перикла: знатные дамы с восхищением читали Массильона и Бурдалу, и некоторые из них аббатами приготовлялись уже к восприятию католицизма; полупросвещенные повесы проповедовали безбожие и клялись Вольтером и Дидеротом; чувствительные юноши, женщины принадлежащие ко второстепенным обществам и молодые литераторы, также чуждые высшему кругу, пленялись нежностями, мадригалами, гримасными улыбками мелких французских писателей. Духом сего времени созданы Измайловы и Шаликовы с их отвратительною чувствительностью.
Третий дом нами посещаемый был полуаристократический, не по знатности, не по тону, а по богатству, по связям, а еще более по претензиям. Мой брат учился в пансионе вместе с одним молодым Демидовым, свел и сохранил с ним дружбу и сделался домашним у его родителей. Потомки знаменитого кузнеца, во дни Петра Великого открытием руд и усовершенствованием железных работ стяжавшего столь великое богатство, что каждая из раздробленных между многочисленными его правнуками частиц составляет еще миллионы, потомки сии почти все отличаются железным упрямством и удивительными причудами. Внук сего Акинфия Демидова, Петр Григорьевич, отец товарища моего брата, тот самый, к которому мы ездили, если всех их не превосходил странностями, то никому и не уступал. Я скажу только о тех, кои в глазах света казались смешными, а по моему мнению, ему делают честь.
Около тридцати лет был он тогда уже женат. Заведенный им порядок с тех пор ни на волос не изменялся, и сей порядок, кажется, существовал еще в доме его отца и деда. В убранстве комнат, в обычаях, в распределении времени, во всём было заметно нечто голландско-немецкое. Сверх нижнего жилья, одноэтажный каменный дом его в Большой Мещанской сохранил еще и поныне старинный свой фасад. Несколько узких длинных комнат сего дома были назначены для приема гостей; гораздо же большее число внутренних, как сердце г. Демидова, открывалось только задушевным его друзьям. Все они были с прочными сводами, украшены лепными изображениями; стены одних были завешаны множеством хороших и дурных картин, в других они были составлены из изразцов, в иных видна была дубовая резная работа; столовые и стенные часы, люстры, все мебели одни другим соответствовали: везде встречались опрятность и роскошь Монплезира и маленького Екатерингофского дворца. Одна из комнат была убрана китайскими шелковыми обоями; она называлась чайною, и в шесть часов вечера, не позже, разливали в ней сей горячий напиток, разводили огонь в камине, и гостям мужеского пола подавали каждому по маленькой белой трубке с табаком: обычай, который конечно ни в одном порядочном петербургском доме тогда встретить было невозможно.
Из сего можно видеть, что Петр Григорьевич чрезвычайно любил старину[44]. Одни седины и морщины давали право на его приветливость; на молодых людей, даже на молодых женщин, он не обращал ни малейшего внимания. Ими с большею любезностью занималась супруга его, Екатерина Алексеевна, урожденная Жеребцова.
Родной брат её был женат на известной некогда в Петербурге Ольге Александровне, родной сестре князя Зубова, любимца Екатерины; родная же племянница г. Демидова была замужем за одним графом Головкиным, а родной племянник, также Демидов, женат на княжне Лопухиной, родной сестре княгини Гагариной, любимицы Павла Первого. Столь знатное родство, посещавшее сей дом, давало ему некоторый блеск; но странности в нём встречаемые всегда удаляли от него цвет тогдашнего лучшего общества.
Странная мысль вошла тогда брату моему в голову. Он никогда не бывал в доме у Григория Александровича, племянника г. Демидова, а с молодою, прекрасною, меланхолическою женой его, которую муж ревновал к целому свету, редко имел случай разговаривать. Ему показалось, впрочем весьма неосновательно, будто она к нему неравнодушна. Желая казаться более интересным и воспользоваться мнимым её хорошим расположением, он стал описывать ей братскую ко мне любовь и нежные попечения о моей участи. Женское ли самолюбие, которое дало угадать сильное впечатление сделанное на человека, хотя не красивого, но молодого, смелого и пылкого, просто ли доброта женского сердца возбудили в ней сострадание к бедному мальчику; но она сама вызвалась говорить обо мне графу Растопчину, министру иностранных дел, и сдержала слово. Трудно было тогда отказать в чём-нибудь сестре княгини Гагариной, и министр через нее велел мне подать просьбу об определении в службу.
Запрещение принимать в гражданскую службу молодых дворян всё еще существовало, но из сего правила сделано было изъятие для дипломатической части. Дозволено было при Иностранной Коллегии иметь двадцать человек юнкеров 14 класса и десять при Московском её архиве, дабы таким образом ограничить число привилегированных юношей. Легко себе можно представить, как много было желающих занять такие места и какое нужно было покровительство, чтобы получить их.
Вместе с двором находился тогда граф Растопчин в Петергофе. Надобно было лично подать ему просьбу, и одним утром мы отправились туда с братом в наемных дрожках. Этой поездки я век не забуду. Страх был во мне сильнее радости. Я видел много вельмож, ласкавших мое отрочество, робеть мне, казалось, было нечего; но во всех официальных действиях и отношениях при Павле был сокрыт какой-то тайный ужас, и приближенные его, подобно ему, прослыли грозными. День был прекрасный, воздух жаркий, но беспрестанно прохлаждаемый ветерком, дующим со взморья. Петергофская дорога, по которой ехал я в первый раз, была тогда, в окрестностях столицы, единственное место, где богачи всех сословий проводили лето, люди же других состояний такой прихоти себе не дозволяли и жили все в городе. Двадцать шесть верст почти беспрерывно тянулась предо мною двойная цепь красивых дач, ныне в развалинах или обращенных в фабрики, дворцы, барские палаты, киоски и пагоды, монументы, местами каскады и фонтаны, каналы и затейливые через них мостики; целые рощи цветов, украшающие крыльца и балконы, попеременно мелькали передо мною, и я с жадным вниманием смотрел на всё то, чем искусства и произведения чуждых нам климатов так удачно прикрывают уродливую Петербургскую природу. Я был очарован, переходил от изумления к изумлению, и во всю дорогу забыл и горе свое, и свои надежды.
На заставе у Петергофа должен был я о том вспомнить. Караульный офицер посмотрел на нас с видом подозрительным, спросил наши имена, зачем мы приехали и долго ли пробудем; и записав всё это, потребовал, чтобы мы долее назначенного нами времени не оставались. Растопчин жил в деревянных, так называемых кавалерских домиках, близко от дворца, и чтобы сколь возможно миновать сие место ужаса, мы, оставя дрожки наши где-то в поле, старались пробраться оконечностью нижнего сада. Когда мы пришли, то нас ввели в небольшую комнату и, оставя в ней одних, тотчас пошли об нас докладывать. Мы дожидались недолго: отворилась дверь, и вышел граф Растопчин, с видом довольно угрюмым. Зверообразное, калмыковатое лицо его и свирепый взгляд, когда он бывал невесел, должны были в каждом производить страх. Врат мой назвал госпожу Демидову, а у меня чуть не подкосились ноги, когда я безмолвно подал просьбу. Приняв ее, министр сказал только: «хорошо, посмотрим»; и мы, поклонясь, тем же путем отправились обратно в Петербург.
Не прошло двух дней после того, как мы получили грозное письмо от родителей. Пятимесячное пребывание наше в столице становилось для них тягостно; они делали всевозможные пожертвования, чтобы содержать нас прилично, но брат мой, как сказал я где-то выше, был более чем нерасчетлив и наделал долгов. Не видя никакого успеха в моем определении, наш отец решился приказать нам немедленно оставить Петербург и отправиться в Москву к зятю и сестре, чтоб отдать меня там в Екатеринославский кирасирский полк, тогда называвшийся именем шефа своего, фельдмаршала графа Салтыкова. Делать было нечего: малейшее отлагательство в исполнении родительской воли казалось делом невозможным, а согласие, изъявленное графом Растопчиным, весьма походило на отказ. Сборы наши были недолги; несколько дней спустя, с двумя слугами, сели мы в две телеги и на перекладных поскакали в Москву.
Я было и забыл сказать, что в это время мы жили в Коломне, близ Никольского рынка, у доброго дяди нашего Якова Лаврентьевича, в тесной, но уютной и чистенькой квартире его и разделяли почти ежедневно скромную его трапезу. Ни одной из жен его тогда при нём не было, а хозяйством его и его старостью управляла некая Авдотья, служанка-госпожа или кухарка-сударка, как иные таких женщин называют. Он меня чрезвычайно любил и часто бывал моим защитником от брата, с коим житье поистине было несносное. От родителей он был надо мною уполномочен и действительно не щадил стараний, чтобы выгодным образом меня пристроить; сие дало ему высокую мысль о неограниченности его прав, кои не весьма охотно я соглашался признавать. Он был восемью годами меня старее, но всё-таки, по мнению моему, равный мне брат, и мне всё казалось, что в незрелом мозгу моем более идей и соображений, чем в зрелом уме его. Безрассудная его взыскательность была в беспрестанном столкновении с моим упрямством, с моим самолюбием; ибо тогда, как и ныне, почитал я унизительным не только виниться, но даже и оправдываться. Мое сердитое молчание приводило его в бешенство; восставали сильные бури, и один лишь старый дядя наш умел их усмирять. Греха таить нечего: дело иногда доходило и до побоев.
Прежде нежели оставлю я Петербург, молодой город, который тогда не праздновал еще и первого своего юбилея, мне хочется вкратце описать его и дать понятие о тогдашнем его состоянии; читатели не только простят мне сие, но может быть и поблагодарят за то. Все уверяют, будто, после двадцатилетнего или даже десятилетнего отсутствия, никто не может узнать Петербурга. Сие могло быть справедливо при Екатерине; но при ней сделано в нём нее основное; перемены же, которые с тех пор последовали, суть только прибавления к целому (accessoires). К несчастью, она усвоила себе гибельную мысль Петра Великого, развила ее и, так сказать, осуществила. Все творения её носят печать вечности, и город сей, который тридцатипятилетними её стараниями возвысился и распространился, город, которым щеголяет Россия, забывая, что кости сотен тысяч наших братий, погибших при ископании сей бездны, служат ему основанием, сей город простоит в велелепии столь же долго, как и слава царства Русского. Без Екатерины он скоро потонул бы в болоте, среди коего возник. В моих глазах он как здание, которое, близ сорока лет тому назад, увидел я в первый раз совсем оконченным, но коего некоторые только части не были совсем отделаны и из коих многие потом изукрасились. Главные примечательнейшие строения тогда уже существовали и почти в таком же виде, в каком находятся и поныне: дворцы — Зимний, Аничковский, Мраморный, Таврический, три академии, Большой театр; кадетские корпуса, церкви — Спаса на Сенной и Николы Морского; стены Петропавловской крепости и берега Невы, Фонтанки и Екатерининского канала были уже выложены гранитом, решетка Летнего сада уже изумляла красотой. Михайловский, что ныне Инженерный, замок тогда достраивался.
Число и самая величина частных каменных домов в Петербурге, с умножением народонаселения, конечно, с тех пор утроились. Последний год жизни Екатерины в нём жителей, говорят, было до полутораста тысяч; при Павле число сие значительно уменьшилось, с тем, чтобы при наследнике его опять быстро увеличиться. В Большой Коломне можно встретить теперь более экипажей и народу, чем тогда на Невском проспекте; но сие происходило не столько от недостатка народонаселения, как от ежедневных верховых прогулок императора. В сопровождении Кутайсова император всякий день объезжал обе набережные, обе Морские, все главные улицы столицы своей; плохо бывало тем, коих наряд или физиономия ему не полюбятся. Все едущие в каретах обязаны были, поровнявшись с ним, останавливаться и, не исключая даже престарелых дам, выходить из них, несмотря ни на какую погоду; мужчины же в таких случаях должны были сбрасывать плащи и шубы[45]. Завидев его издали, иные пешеходы спасались бегством, бросались в первые открытые ворога; но если зоркий взгляд его замечал таковых, то полицейские драгуны скакали, чтобы схватить их и привести к нему. Он не позволял даже бояться; подобно туркам, ему хотелось, чтобы мы сделались фаталисты и видели в нём неизбежную судьбу свою.
Одна только часть Петербурга была в 1800 году еще в совершенном запустении. Невские острова были тогда острова необитаемые. На Крестовском — ветхий дом, на Каменном — пустой, невысокий дворец и маленькая церковь являли тогда только следы человеческого присутствия. Мосты еще не существовали, сообщения между островов не было; везде дичь, везде непроходимый лес и болото. Один раз брат возил меня туда кататься на шлюпке; дедал протоков, густая зелень сих островов, отражаемая зеркалом Невы, меня восхищали; самое глубокое молчание, которое вокруг нас царствовало и было только прерываемо шумом наших весел, имело что-то величественное. Изредка попадались нам ялики, нагруженные купеческою семьей и самоваром; они приставали к влажным берегам, и гуляющие, выбрав какое-нибудь маленькое возвышение, располагались на нём почайничать. Но песен мы не слыхали; оглашать сию пустыню звуками заунывного русского удальства не было дозволено: они как будто выражают тоску по свободе.
Ничто так меня не прельстило в Петербурге, как театр, который увидел я первый раз в жизни; ибо в Киеве его не было, а в Москве меня туда еще не пускали. Несколько о том слов будут здесь не лишние. Русской труппы я тогда не видал или, лучше сказать, о ней и не слыхал, и название ни одного из актеров мне не было известно; знающих по-французски в сравнении с нынешним временем не было и десятой доли, и отличающимся знанием сего языка было бы стыдно, если б их увидели в русском театре: он был оставлен толпе приезжих помещиков, купцов и разночинцев. Тощий наш репертуар ей казался неистощим; без скуки и утомления слушала она беспрестанно повторяемые перед ней трагедии Сумарокова и Княжнина; национальные оперы: Мельник, Сбитенщик, Розана и Любим, Добрый Солдат, Федул с детьми, Иван Царевич лет двадцать сряду имели ежегодно от двадцати до тридцати преставлений. В это же время переведенные с итальянского оперы придворного капельмейстера Мартини Редкая Вещь и Дианино Древо начали знакомить нашу публику с хорошею музыкой, а комедии Фон-Визина чистить вкус и нравы. Сей вкус, однако же, был угрожаем порчей от драматических произведений Коцебу, коими переводчики наводнили тогда наш театр.
Когда брат бывал мною доволен, что случалось весьма редко, то брал с собою во французский театр. Так как кресел было тогда не более двух рядов, то обыкновенно все ходили в партер, куда за вход платили только по одному рублю. Всего удалось мне видеть спектакль три раза, и следственно награды мне за хорошее поведение стоили не более трех рублей медью. В первый раз играли комедию Le Vieux Célibataire, как бы в предзнаменование моей будущей судьбы. Я не в состоянии был судить об искусстве, и потому-то, вероятно, чудесная игра г-жи Вальвиль не могла примирить меня с её безобразием; старый Офрен играл старого холостяка и для этой роли мне показался слишком стар; он был знаменитый трагический актер: комедия была не его дело. Несмотря на всё это, я не дышал во время представления, боялся проронить слово; новое удовольствие, которое ощутил я тогда, было столь сильно, что в этот вечер дал я себе слово не пропускать спектакля, коль скоро позволено мне будет располагать собою и своим карманом.
От второго представления, которое я видел, я было совсем сошел с ума. Давали оперу Гретри Прекрасную Арсену, коей музыка и тогда была не весьма новая, но всех еще восхищала. Оркестр, богатые костюмы, декорации, превращения, всё меня очаровало, но более всего мадам Шевалье — красавица, столь же славная певица, как и актриса. Когда она запела: et je régnerai dans les cieux, мне казалось, что она меня туда за собою увлекала. В последний раз видел я вторично эту сирену в маленькой опере Le Prisonnier, ничего не могло быть милее, и ни одна актриса меня с тех пор так не пленяла. После оперы был балет или дивертисмент, утвердительно сказать не могу; помню, что были пастухи и пастушки, гирлянды и амуры. Были две молодые танцовщицы, которые в то время друг у друга оспаривали пальму первенства, и на которых смотрел я с большим удовольствием, даже тотчас после Шевалье. Одна из них француженка, Роза Колинет, вышла потом замуж за известного балетмейстера Дидло и, кажется, еще и поныне находится в живых; другая — русская, Берилова, более известная под простым, нежным названием Настеньки, воплощенная грация, которая через год или два после того увяла цветком. Я никогда не был великий охотник до балетов и всегда полагал, что лишь язык может говорить уму и сердцу, а одни прыжки и телодвижения говорят только чувственности, и сего рода наслаждения я никогда не искал на сцене. Привязанность графа Кутайсова[46], женатого человека и отца семейства, к г-же Шевалье и щедрость его к ней казались многим весьма извинительными; но влияние её на дела посредством сего временщика, продажное её покровительство, раздача мест за деньги всех возмущали. Уверяли, будто Кутайсов её любовью делился с господином своим, будто она была прислана сюда с секретными поручениями от Бонапарте, что подвержено сомнению, ибо он был еще в Египте, когда она в Россию приехала; но впоследствии, будучи уже первым консулом республики, мог он употребить ее, как тайного агента. Как бы то ни было, но она почиталась одною из сильных властей государственных; царедворцы старались ей угождать, а об ней, о муже её, плохом балетмейстере, и о брате её, танцовщике Огюсте, говорили как о знатном семействе; а когда она в гордости своей воспротивилась браку сего Огюста с дочерью актера Фрожера, то находили сие весьма естественным. Она всё реже и реже стала являться публике, как бы гнушаясь городским обществом и сберегая прелести лица своего и таланта для одного Двора, на театре Эрмитажа. Следующей зимою пожаловали мужа ее прямо коллежским асессором; тогда её высокоблагородие, говорят, совсем перестала показываться.
В Петербурге был тогда один только театр, Большой или Каменный, близ Коломны; ибо манеж, отведенный для немцев в доме Ланского, что ныне главного штаба, на Дворцовой площади, сего имени не заслуживает. Русские, французы и итальянцы играли попеременно на Большом театре; первые обыкновенно по воскресеньям и праздничным дням, когда торговый народ, который весь почти у нас русский, ничего не делает, и он-то поддерживал национальные представления. Ремесленный же класс, всегда состоящий здесь из расчётливых немцев, охотно, за весьма умеренную цену, ходил слушать на сцене Ифланда и Коцебу; общество и образованные иностранцы наполняли французский театр. Но откуда брались слушатели для итальянской оперы, когда и теперь еще у нас так мало дилетантства? И что всего удивительнее, первая итальянская труппа была выписана при Елизавете Петровне, когда еще не существовало ни французского, ни немецкого здесь театра, а русский был еще в пеленках. Как тогда, так и теперь, музыка у нас роскошь, в Италии — потребность, в Германии — наука. Представления итальянских опер были весьма редки; со всем тем, как уверяли, чудесный голос Павла Мандини гремел, и волшебные звуки Маджиорлетти раздавались часто в пустой почти зале.
Я хотел сказать несколько слов о театре и написал три страницы о любимом предмете. Кто, не посвящая себя литературе и музыке, подобно мне, страстно их любит и имел много праздного времени, тот в хорошем театре находит свое блаженство. Я тогда едва хлебнул только от чаши наслаждений, которая потом так упоила мою молодость.
Но пора оставить Петербург; я слишком долго прощаюсь с ним, хотя и не на долгое время.
XVI
Езда на телеге. — Опять в Москве. — Покровительство графини Д. П. Салтыковой. — Московский Архив Иностранных Дел. — В. Н. Бантыш-Каменский. — Служба в Московском Архиве. — Л. Ф. Малиновский. — Архивные юноши. — Братья Булгаковы. — А. И. Тургенев. — Д. Н. Блудов. — Занятие в архиве. — Обер-полицеймейстер Эртель. — Характер москвичей. — Барство. — На своих ногах. — Театр в Москве. — Московское Благородное Собрание. — Московские Собрания. — Князь П. Б. Козловский. — М. Н. Макаров.
Первая молодость сливается с телегой в воспоминаниях всех русских моих современников; ни дорожного, ни домашнего комфорта мы столько не знали, как нынешние молодые люди. Недавно остроумнейший из наших стихотворцев[47] украсил тележную езду всею прелестью поэзии; трогательная шутка его расшевелила мне сердце до самой глубины. Улыбаясь, сквозь слезы, читал я прекрасные его стихи к Орловскому о былом мучении, которое мы так весело выносили. Мне казалось, он описывал первую поездку мою из Петербурга в Москву. Всё нашел я тут: и вихрю подобный бег тройки, и ловкость ухарского ямщика, и шляпу его, украшенную даровою лентой, и руку его, вооруженную вдохновительным кнутом, и русокосых красоток, коими любовался, несмотря на боль моих ребер. Ни я, ни он, хотя меня моложе, добровольно не согласились бы теперь без памяти и скакать, и прыгать по крупным камням и мелким бревешкам тогдашней мостовой, а вспоминать о том, право, приятно!
Первую ночь я никак не мог уснуть от быстроты и силы движения, в коем находился; на другую ночь довольно крепко заснул, а третий день, при беспрестанных толчках, почти весь проспал преспокойно. Конечно, я с нетерпением ожидал конца того, что почитал моею пыткой; однако же, любопытство, коим я одарен или одержим, как угодно, не дозволяло мне ни единого предмета пропустить без особого внимания: ни башен и куполов древнего Новгорода, ни Валдайских гор, ни девок и баранок, ни Вышневолоцких шлюзов, ни сафьянных изделий Торжка, ни улиц Твери, по указу и шнурку выстроенных.
Мы спешили приехать в Москву 20 июля, день именин нашего зятя, а прибыли только 21-го перед рассветом, и ни его, ни сестры не нашли в городе: они были это время в подмосковной графа Салтыкова. Я и забыл сказать, что зятя моего произвели в полковники и что вслед за тем не без причины он был отставлен от службы. Государь прогневался на графа Салтыкова, который младшую дочь свою выдал за графа Орлова, родного племянника ненавистных ему Орловых. Он без церемонии отставил бы его, но был удержан уважением к графине, которая, как одна из пожилых дам, внушала ему к себе почтение и которая приезжала в Петербург ходатайствовать за мужа. Но чтобы каким-нибудь образом показать ему свою немилость, отставил он его адъютантов. Итак бедный Алексеев несколько времени должен был жить одною помощью своего бывшего начальника.
Я увидел Москву с великим удовольствием, как старую знакомку; один Киев тогда почитал я родным местом. Мы въехали на квартиру зятя и сестры, которые сохранили ее, по милости главноначальствовавшего в Москве, в том же самом загнутом флигеле казенного Тверского дома, где жили и прежде. Узнав о приезде нашем, они дня через два поспешили воротиться. Как положение их, так и склонности заставили их жить в тесном, неблестящем кругу знакомства. Удовольствие быть вместе было одно, которым могли мы тогда пользоваться.
Надобно было приготовить меня к кавалерийской службе. Главное было тотчас сделано: надели на меня ботфорты, которых потом при Павле уже я более не снимал. Я отвык от верховой езды, ни в Казацком, ни в Петербурге не имев случая в ней упражняться. Послали меня опять в тот же манеж графа Салтыкова; близ месяца по шести раз в неделю я учился ездить, и усилия мои, вероятно, были успешны, ибо заготовлена уже была просьба к полковому командиру того полка, куда я должен был вступить. Мне теперь самому странно о том подумать; но ведь я русский по матери, а из русского человека можно сделать всё, чем ему велят быть: он ко всему пригодится. Кто знает, что б из меня вышло; нимало не было бы удивительно, если б я сделался хороший наездник и воин. Судьба расположила иначе.
Время и опыт дали узнать графине Салтыковой милые и почтенные свойства моей сестры; она ее душевно уважала, а жалкое состояние, в котором находились тогда супруги, заставляло ее принимать самое искреннее участие в их делах. Сестра посещала ее гораздо чаще. В один вечер, между разговорами, она не скрыла от неё опасений своих насчет моей участи, находя, что незаметно было во мне ни охоты, ни способностей к тому роду службы, который принуждены были для меня избрать, и упомянула о неудачной попытке у графа Растопчина. Услышав его имя, графиня воскликнула: «Зачем же вы мне прежде не сказали! Ведь мы с ним большие друзья; он мне ни в чём отказать не может; завтра же пишу к нему».
Разумеется, что с просьбою к полковому командиру мы приостановились. Ответ графа Растопчина не заставил себя долго ждать: мы получили его не с большим через неделю. Вот содержание его письма: «покровительствуемый-де вами давным давно определен в число юнкеров при коллегии положенных, но доселе неизвестно было, куда он девался; если вам непременно угодно его иметь в Москве, то хотя в архиве комплект уже наполнен, я беру на свою ответственность перевести его туда сверх штата».
Служба теперь в России есть жизнь; почти все у нас идут в отставку, как живые в могилу, в которой им тесно и душно, и из которой, при первом удобном случае, они вырываются. В старину, на этот счет, были благоразумнее. Были, однако же, семейства, и мое в том числе, которые в отставке видели уничижение, потерю всех надежд, лишение всех удовольствий самолюбия. Все члены моего семейства, один за другим, были удалены от службы; самый младший из них вступал в нее, и прямо офицерским чином. Можно себе представить, по тогдашним понятиям, какую радость сие происшествие произвело между нами!
В самый день именин сестры моей, 26 августа, графиня Салтыкова прислала ей письмо министра, вместо подарка; лучшего она ей сделать не могла. Повезли меня к обедне, отслужили молебен, послали за портным, заказали мне мундир, созвали кого успели из приятелей и в два часа пополудни сели пировать. На другой день поручили господину Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня господину Бантышу-Каменскому, его старинному знакомому, а моему новому и первому начальнику. Бумага обо мне еще не была получена, и только в первых числах сентября начал являться я на службу в Московский Архив Коллегии Иностранных Дел.
Эти две недели был я в беспрерывном восторге: я пользовался всеми выгодами службы, не подозревая ни одной из её неприятностей. Мне принесли мундир. Я не знал что делать; прежде нежели облекся я в сию одежду мужа, robe virile, мне хотелось расцеловать ее[48]. Я пошел благодарить графиню Салтыкову, которую в первый раз увидел и вблизи; она обласкала меня и даже поцеловала с чувством содеянного благодеяния, а на другой день, уже как юношу, прислала пригласить обедать. Дома в шутку величали меня благородием, а я не шутя тем гордился. Не один только чин 14 класса возвышал так меня в глазах моих; всякое звание имеет только ту цену, которую дает ему общее мнение; а молоденькие децемвиры архива, коллегии юнкера, казались существами привилегированными. В московских обществах, на московских балах, архивные юноши долго, очень долго заступали место Екатерининских гвардий сержантов и уступили его, наконец, только числу нынешних камер-юнкеров.
Никакая эпоха так живо не осталась в моей памяти, как первые месяцы по вступлении моем на службу. Никогда еще, ни прежде, ни после, не встречал я сближения таких противоположностей, соединения таких странностей, как в первом месте моего служения. Рассказ мой о том будет длинен, но для читателя, если в половину столь занимателен, как для меня самого, то мне нечего у него просить прощения.
В одном из отдаленных кварталов Москвы, в глухом и кривом переулке, за Покровкой, старинное, каменное здание возвышается на пригорке, коего отлогость, местами усеянная кустарником, служит ему двором. Темные подвалы нижнего его этажа, узкие окна, стены чрезмерной толщины и низкие своды верхнего жилья показывают, что оно было жилищем одного из древних бояр, которые, во время Петра Великого, держались еще обычаев старины. Для хранения древних хартий, копий с договоров, ничего нельзя было приискать безопаснее и приличнее сего старинного каменного шкафа, с железными дверьми, ставнями и кровлею. Всё строение было наполнено, завалено кипами частью разобранных, частью неразобранных старых дел: только три комнаты оставлены были для присутствующих и канцелярских.
В мрачном сентябре, предстал я в мрачной храмине пред мрачного старца, всегда сердитого и озабоченного. Он позвал какого-то худощавого, безобразного человека, с отвислою, распухшею нижней губою в нарывах, и указал ему на меня. Тот меня усадил в той же комнате против самого брюзги-начальника и зачем-то ушел. Прежде нежели он воротился, сделался я, как новичок, предметом любопытного, но непродолжительного внимания моих новых товарищей. Скоро притащил безобразный человек тетрадь чистой бумаги и огромный пук полуистлевших столбцов, наполненных мертвыми для меня буквами, в чистых обертках с номерами и надписями о их содержании, и велел надписи сии переписывать в тетрадь. Работа нетрудная, но всякий день это делать и видеть то что я увидел, мне показалось тяжело. Тоска уже мной овладела, как вдруг легкий, но внятный шёпот начал пробегать по всей комнате. Я стал прислушиваться; отрывистый, шутливый, довольно умный разговор окружавшей меня молодежи оживил меня и изумил. С первого взгляда все лица мне показались печальны, и в таком месте я не ожидал ни встретить улыбки, ни услышать веселого слова. Тихие вокруг меня звуки голосов мне были столь же приятны, как бы шум живого, игривого ручейка, среди могильного молчания. Но я скоро заметил, что разговаривающие не смеют ни поднять головы, ни возвысить голоса.
Наш начальник имел несчастье лишиться слуха от побоев разъяренной черни, когда она, во время чумы, вломившись в комнаты родного дяди его, Московского архиепископа Амвросия Зертыс-Каменского, убила мудрого своего пастыря. Из уважения к памяти сего мученика, приложил он русское фамильное его имя к своему молдавскому прозванию. Дед его, Константин Бантыш, при Петре Великом, прибыл в Россию в свите князя Кантемира, а отец вступил в службу и женился на его матери, священнической дочери Каменской, сестре убитого архиерея.
Итак он был глух. Люди одержимые сим недугом бывают обыкновенно подозрительны, в каждом движении губ видят они предательство. Вот почему Николай Николаевич, управлявший архивом, не любил, чтобы при нём разговаривали: прилежание к делу, которого было так мало, служило ему предлогом требовать всеобщего молчания. Сейчас мы видели, как исполнялись, в этом случае, его приказания.
Наше высшее духовенство, до архиерейского сана, обыкновенно ничего не видело кроме родительской хижины, семинарии и келий монастырских. Сначала богословские диспуты, потом уединенная жизнь и молчание, среди коего без всякого противоречия образуются их мысли и правила, наконец неограниченная власть, к которой переходят они вдруг от беспредельной покорности, дают характеру сих людей непреклонность, упрямство, кои, вместе с незнанием приличий общежития, делают часто сношения с ними весьма неприятными. Мужи строгой нравственности, великие витии встречаются между ними не редко; но как мирские испытания не смягчили их сердце, то весьма немногие из них знают христианскую кротость, которая, я уверен в том, между новейшими народами есть основание учтивости, неизвестной древним.
Г. Каменский, который вырос при дяде и воспитан в Славяно-греко-латинской академии, еще с молода, физическим недостатком и склонностью к кабинетной жизни, был удален от общественной. Лицо примечательное, которое решительно не принадлежало ни к одному из двух состояний: это был старый семинарист, белый монах, светский архиерей. Со всеми преосвященными вел он обширную и частую переписку и был советником и поверенным во всех их делах; он умственно жил в духовном мире сем, и, так сказать, был цепью его с грешным нашим светом. После того ничего нет удивительного в грубом его с нами обращении: как архимандрит, он в ветреных мальчиках видел только послушников, коих надлежит держать под искусом.
Одни робкие его страшились, другие бесились на него, а иные, благоразумнейшие, оставались весьма равнодушны и очень искусно, почти в глаза, ему смеялись. Впрочем, бояться было нечего: далее ругательств и брани тиранство его не простиралось; но для щекотливых самолюбий такое наказание, кажется, довольно жестокое. Я принадлежал ко всем трем разрядам, а как лишение одного из пяти чувств заменяется у людей изощрением другого, и зрение у него было рысье, то в глазах моих читал он попеременно и страх, и досаду, и насмешку и от того терпеть меня не мог. Я был как обреченная жертва постоянно дурного расположения его духа, ибо сидел прямо против него и был беспрестанно под молнией его взглядов, которая из-под тучи бровей сверкала мне как меч Дамоклеса. Спросят, что могло так часто приводить его в гнев? Да так: если перестанешь писать, заглядишься в сторону, сделаешь ошибку, или встанешь с места, чтоб идти куда-нибудь.
Молодые дворяне, как известно, при Екатерине и до неё, вступали единственно в военную службу, более блестящую, веселую и тогда менее трудную чем гражданская; если в продолжении оной переходили в штатскую, чтобы занять выгодные места, то собственно званием канцелярского гнушались, и оно оставлено было детям священно- и церковнослужителей и разночинцев. При Павле жестокости военной дисциплины победили неодолимое отвращение молодых русских к подьяческой службе, как они ее называли, до того что, наконец, запретили им в нее входить. Следственно до того времени московская молодежь едва ли знала о существовании Московского архива.
Три члена с равными правами и властью, управляли им, разделив между собою занятия. Двое из них, некто Соколовский и ученый Стриттер, в глубокой уже старости, и третий Бантыш-Каменский, немного помоложе их, почти всю жизнь, вдали от света, в пыльной атмосфере, перебирали, пересматривали и отряхали бесчисленные рукописи, их хранению вверенные. Несколько несчастных, довольно знающих грамоту, чтобы читать и переписывать, из скудного жалованья, без всякой надежды на повышение, более в виде слуг чем служителей канцелярских ими употреблялись и старились с ними в машинальных трудах. Вдруг нарушается тишина сего мирного убежища; одна волна недорослей-франтов гонит на архив другую; напрасно полный комплект юнкеров на время затворяет в него вход: скоро производство в переводчики опять его отпирает. Старики спешат удалиться; один из них остается, чувствуя в себе довольно силы, чтоб укротить ярость бурных волн, смешав их с землею, с старыми подчиненными.
Вот в каком положении нашел я этот архив. По разным возрастам служивших в нём юношей и ребят, можно было видеть в нём и университет, и гимназию, и приходское училище; он был вместе и канцелярия, и кунсткамера. Самая ранняя заря жизни встречалась в нём с поздним её вечером; семидесятилетний надворный советник Иванов сидел близко от одиннадцатилетнего переводчика Васильцовского; манерные, раздушенные Евреиновы и Курбатовы писали вместе с Большаковыми и Щученковыми, которые сморкались в руку. Подле князя Гагарина и графа Мусина-Пушкина, молодых людей принадлежавших к знатнейшим, богатейшим фамилиям в Москве, вы бы увидели Тархова, в старом фризовом сюртуке, того урода, который наделял нас работой и, во мзду своей снисходительности, выпрашивал у нас старое исподнее платье и камзолы. Конечно, и теперь молодые люди хороших фамилий во множестве занимаются, по канцеляриям разных ведомств, с людьми разных состояний; но теперь это вошло уже в обыкновение, а тогда было ново; к тому же сослуживцы их, к какому бы сословию ни принадлежали, и летами, и образованностью, и приличием одеяния мало, а часто и ничем, ныне от них не разнствуют.
В помощь к г. Бантышу-Каменскому, управлявшему архивом, дан был г. Малиновский, в звании канцелярии советника или младшего члена. Лет двадцать моложе его, сей последний был у нас представителем новейших времен. Он был, уже без примеси, русского и духовного происхождения: ибо протоиерей, отец его, находился тогда законоучителем в Московском университете. Контраст между нашими двумя начальниками был разителен. Г. Малиновский, кисло-сладкий, как прозвание его, чуждался всего, что напоминало его левитизм, гонялся за ученостью, но еще более имел притязаний на светскую любезность. Один обижал нас краткими, энергическими, бранными словами; другой всех казнил бесконечными, поучительными, изысканными фразами. Он заседал во второй комнате, немного поменее первой, где всегда копался или ворчал г. Каменский; а в третьей находился секретарь архива г. Ждановский, тихий человек, который ни перед кем никнуть не смел. Таким образом, на столь малом пространстве можно было найти три разные формы правления: в первой комнате деспотизм со всеми его ужасами, во второй нечто конституционное, в третьей совершенное безначалие. Я не попал туда; слепой случай располагал местами нашего сидения, и он мне не благоприятствовал.
Из сослуживцев моих одни часто будут встречаться мне в жизни, с другими, оставив архив, я мало имел сношений. Говорить о первых буду иметь много случаев, а изображение последних представит мало занимательного. По большей части, все они, закоренелые Москвичи, редко покидали обширное и великолепное гнездо свое и преспокойно тонут или потонули в неизвестности. Ни высокими добродетелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имели некоторые странности, то общие своему времени и месту своего жительства. Мне однако же весьма памятны сильные впечатления, которые оставили во мне некоторые из моих товарищей, и я не могу упустить, чтобы не описать их.
К старшему сыну моего главного начальника, уже надворному советнику и весьма зрелому молодому человеку, я почувствовал омерзение, при первых словах, которые обратил он ко мне. Не краснея, нельзя говорить об нём; более ничего я не скажу: его глупостью, его низостью и пороками не стану пачкать сих страниц. Меньшой сын, Димитрий, едва выходил из детства; между нами он прослыл дурачком. С тех пор он сделался и литератором, и компилятором, и губернатором: но многие еще и поныне разделяют ребячье наше мнение об нём.
Двое братьев Евреиновых, взрослые молодые люди, о коих я уже упомянул, жили в большом свете, ко всем знатным ездили на балы. Голова вскружилась у них от сего счастья; они бредили им и часто, с самодовольным состраданием, рассказывали мне о том, стараясь, но тщетно, возбудить во мне зависть.
Что не могли братья Евреиновы, то сделали братья Булгаковы. И было чему позавидовать! Два красавца, лет по двадцати, сыновья знаменитого и чиновного человека, неоднократно прославившегося в посольствах, Якова Ивановича Булгакова, пред всеми своими сослуживцами брали неоспоримое первенство как в архиве, так и в обществах. Они родились в Константинополе от чужестранной матери, которая, к несчастью их, не имела тогда мужа. И они носили на себе отпечаток Востока. Старший, Александр, имел лицо более нежное и веселое, выражавшее одну чувственность сладострастия, что на молодом лице весьма не противно; меньшой, Константин, был одарен красотою мужественною и тогда уже смотрел на женщин с видом скромного победителя, как бы приглашая их к безопасному падению. С самой колыбели сии братья были связаны теснейшею дружбой: одно прекрасное чувство, коим могли они хвалиться. Действуя за одно, к достижению желаемого употребляли двойные силы и каждым успехом вдвойне наслаждались. Но старший должен был чаще заимствовать помощь у младшего, который в высшей степени владел искусством, немногим тогда известным: он имел то, что французы называют à plomb и что по-русски не иначе можно перевести как смешение наглости с пристойностью и приличием. И ум, и любезность, и знание, и добродушие, все им приписывалось и старыми, и молодыми, и мужчинами, и женщинами; а они имели одну только наружную красоту. Сколько раз потом, в продолжении жизни моей, готов я был, глядя на них, воскликнуть, как Ипполит о Федре: «Боги, кои знаете их и награждаете, неужели за добродетели!» Но бог любви незаконной не награждает, а только всегда покровительствует родившихся под его владычеством и беззаконный их путь усевает успехами. По неопытности моей, и я некогда веровал в их совершенства.
Другой юноша, о коем похвалы не гремели в московских гостиных, цвел тогда уединенно в семейном кругу и украшал собою молодое ваше архивное сословие. Андрей Тургенев, со всею скромностью великих достоинств, стоял тогда на распутий всех дорог ведущих к славе: какую ни избрал бы он, можно утвердительно сказать, что он далеко бы по ней ушел. Но из отличных людей Провидение сохраняет только нужное число для Его благотворных видов; остальные гибнут рано, и старший Тургенев не долго оставался на свете. Ему завидовать я не смел; несмотря на свое самолюбие, я чувствовал, что успехов, какие сулит ему будущность, я обещать себе не мог. Меньшой брат его Александр был совсем не то, чем мы его после видели: тоненький, жиденький, румяный, ласковый мальчик, чрезвычайно застенчивый.
Этого нельзя было сказать о другом молодом мальчике, которого всякий с первого взгляда в нашей толпе мог бы заметить. Чрезвычайная живость его, необыкновенная смелость слова и взгляда неприятным образом меня поразили, и я избегал с ним разговоров; а между тем, когда он вел речь с другими, я заслушивался. В идеях, кои выражал он, всё мне казалось так ново, так внезапно, и, всегда лакомый до ума, я невольным образом начал с ним сближаться. Непонятно мне было чувство, которое он во мне производил: всё меня отталкивало от него, и всё меня к нему привлекало. Не доказывает ли это, что между людьми, как и между небесными телами, есть также законы тяготения, гравитации? Маленький Блудов был тогда блуждающая комета, которая, как бы без цели быстро несясь в пространство миров, могла в нём встретить разрушение. Я не мог тогда предвидеть, что скоро ход её сделается столь правильным, но уже как будто предчувствовал, что мне суждено долго обращаться вокруг неё и даже сделаться одним из её спутников, когда, достигнув созвездия министерства, она будет сиять в нём столь тихим, чистым и благотворным светом.
Жеманство, которое встречалось тогда в литературе, можно было также найти в манерах и обращении некоторых молодых людей. Женоподобие не совсем почитаюсь стыдом, и ужимки, которые противно было бы видеть и в женщинах, казались утонченностями светского образования. Те, которые этим промышляли, выказывали какую-то изнеженность, неприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнее, не совсем были смешны. Между нами были также два молодца, или лучше сказать, две девочки, которые в этом роде дошли до совершенства, Колычев и Ижорин. Время их наружность и всё вокруг них изменило, но не изменило их склонностей и характера; теперь обе уже старушки, а последняя весьма добрая и почтенная. Истребляя между нашими молодыми людьми наружные формы, столь поносные, особенно для русских, нынешний век перенес их в другую крайность и мужественности их часто придает мужиковатость.
Последствия прежнего французского воспитания сильно между нами обнаруживались: почти все мои товарищи не могли ступить без французского языка. Говоря на нём, хотя многие делали часто ошибки, но с русскою переимчивостью весьма удачно умели перенять голос и манеры французов, живших у их родителей. Никто однако же не успел столько в том, как молодой Ефимович; он был вылитый француз: маленький рост, тоненькие ножки, увертки его и самое безобразное его старообразие, делали его настоящим маркизом. Для многих из нас был он предметом уважения и подражания. Впрочем он был не без ума, хорошо занимался литературой и принадлежал к числу тех людей, которые берутся за всё, обещают много и из которых, наконец, не выходит ничего.
Исключая двух Тургеневых и Блудова, едва ли кто знал из моих товарищей, что есть уже русская словесность. Живши в одном городе с Дмитриевым и Карамзиным, они слыхали об них, может быть, встречались с ними, знали, что они что-то пишут, но читать их? этого не приходило им в голову. Честь и хвала малому числу избранных юношей-отроков, которые, пленяясь и заграничным просвещение, не заражались однако же окружавшими их примерами. Гений России с ранних лет вдохнул в сердца их чувство её величия, а уму их дал способность постигать красоты благозвучного языка нашего и искусство выражаться на нём. Увы, сих похвал я не заслуживал. В доме Голицыных положено основание моей галломании, которая так быстро усилилась в кругу архивных юношей. Они снабжали меня французскими книгами, по большей части романами, и я воображал, что занимаюсь полезным чтением, когда пожирал их по ночам; часто бывал я вне себя от ужасов г-жи Радклиф, кои мучительно приятным образом действовали на раздражительные нервы моих товарищей.
В продолжении зимы занимали нас переводами с французского. Не знаю были ли они хороши, по крайней мере не мои; а впрочем, как мне кажется, г. Малиновский, руководитель наш в сем деле, не весьма был в состоянии о том судить. Потом г. Бантыш-Каменский заставлял нас в один формат переписывать начисто древние грамоты и договоры, с намерением отдать собрание их потом в печать. Впоследствии я сделался с ним гораздо смелее, а он ко мне снисходительнее. Одна только беда: мой почерк ему не нравился; в угождение ему я начал прямить свои литеры по старинному до того, что пишу теперь как церковник.
Я напрасно хвалюсь иногда твердостью: я всегда был довольно человекоугодлив; старшим, равным и даже подчиненным всегда готов был сказать или сделать что-нибудь приятное; когда же поступки их лично против меня, а еще более против совести или закона, заставляют меня делать противное, они мне становятся ненавистны, ибо лишают меня величайшего удовольствия. В нежном возрасте, кто не чувствовал влияния людей и обстоятельств, среди коих жил? Но ни на кого они столь сильно не действовали как на меня: мне кажется, я был восковой. Всякое впечатление сглаживалось, но не совсем изглаживалось новым; каждое положение, в коем я находился, каждое общество, чрез кое проходил, оставляли на мне следы, и так-то в описываемые мною последние два-три года образовались все странности моего характера. К счастью, посреди сего сохранилось во мне чувство справедливости и чести, данное мне природой и первым воспитанием и никогда меня не покидавшее.
Месяца через полтора по вступлении моем в службу, вновь был принят в нее и зять мой, отставной полковник Алексеев. Причины сего обстоятельства, по-видимому маловажного, заслуживают, однако же, чтоб их объяснить. В царях вернейший признак высокого дара господствовать над людьми есть искусство открывать способнейших и вверять им именно те только места, где они могут быть полезны. С таким искусством цари бывают редки, им принадлежит название великих; но иногда и слепой случай подсовывает под царскую руку таких людей, коих для некоторых должностей и с величайшими усилиями трудно было бы отыскать. Между гатчинскими офицерами был пруссак Эртель, которого сама природа создала начальником полиции: он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. С конца 1798 года был он обер-полицеймейстером в Москве. Граф Салтыков сначала никак не мог догадаться, что к нему приставлен дядька, а когда убедился в том, то начал искать средств от него избавиться. Сделать это было нелегко: Эртель пользовался особою доверенностью Павла I-го, жил вдали от него и от неожиданных его вспышек, и сохранял тесные связи с самыми приближенными ему людьми. Не прошло года, и он едва не успел свергнуть самого графа Салтыкова; тот покорился необходимости, оставил себе весь блеск представительности, оставил себе гражданскую часть по губернии и военную по гарнизону, сделался, так сказать, гражданским генерал-губернатором и обер-комендантом, а полицейскую часть столицы предоставил совершенно распоряжениям обер-полицмейстера. Эртель был человек живой, веселый, деятельный и совсем немстительный; он сим разделом остался совершенно доволен, стал любезничать с начальником, угождать ему и, чтобы скрепить с ним союз, испросил у него позволения представить отставного, любимого его адъютанта к должности полицеймейстера, что он и сделал прямо от себя.
Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться, и потому должен я еще несколько об нём поговорить. Москва весьма его не любила, потому что не любила Павла и никогда не любила большего порядка. Все знали, сверх того, что он часто делал тайные донесения о состоянии умов в старой столице; всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы. Но они не могли однако же не согласиться, что цель хорошей полиции, спокойствие их, была совершенно при нём достигнута. В нём была врожденная страсть настигать и хватать разбойников и плутов, столь же сильная как в кошке ловить крыс и мышей. Никакой вор, никакое воровство не могли от него укрыться; можно везде было наконец держать двери на отперти; ни один большой съезд, ни одно народное увеселение не ознаменовались при нём несчастным приключением; на пожарах пламень как будто гаснул от его приближения. — Он был совсем не спесив, в обхождении нецеремонен и негруб, но только жесток с людьми, хотя бы дворянами, коих мошенничество было доказано.
Главная, непростительная вина его в глазах москвичей было строгое наблюдение за сохранением странных форм одеяния, предписанных императором. Москва разнообразна, пестра и причудлива как сама природа: гнуть и теснить ее столь же трудно, как и бесполезно. В ней выдуманы слова приволье, раздолье, разгулье, выражающие наклонности её жителей. Как в старину, так и ныне, никто почти из них не мечтал о политической свободе; за то всякий любил совершенную независимость как в общественной, так и в домашней жизни. Между ними и западными вольнодумцами та же разница, что между поэтом, составившим себе идеал совершенства, которого всю жизнь он проищет напрасно, и простым человеком, который скоро найдет любимую женщину, без великих затруднений женится на ней, и преспокойно в любви и совете проведет с нею век. Только не касайся их вседневных привычек, их безвинных предрассудков, и москвичи предовольны. Но коль скоро самодержавие вздумает слишком распрямлять своевольную старушку, она закричит голосами тысячи вралей своих, тысячи своих болтуний, и правительство, если без уважения, то не совсем однако же без внимания может оставить бессмысленный сей шум. Даже в царствование Павла, удары его самовластия, которые так метко, так разительно на всех упадали в Петербурге и в целой России, смягчались над царственной Москвой. Капуа для всех немцев, она, в недрах своих, разогревала их холодность, развеселяла их угрюмость, ослабляла их строгость, уменьшала их расчётливость и сам Эртель должен был по времени восчувствовать всесильное её действие. Но в нём оставалось еще довольно немецкого, чтобы не спастись от её проклятий. Голубушка-Москва любит маленький беспорядок; она почитает себя заключенною в монастыре, коль скоро видит вокруг себя порядок, слишком строго соблюдаемый. Хорошо ли это? Худо ли это? Бог знает! Бирон с Анной Ивановной бежали из неё, Елизавета Петровна проводила в ней половину жизни; первые терзали Россию, при последней она блаженствовала.
Зять мой, человек недостаточный, поневоле принужден был принять должность полицеймейстера и сделался весьма полезным сотрудником Эртеля, хотя не имел ничего с ним общего ни в правилах, ни в нраве. Странное дело, он с такою же неутомимою деятельностью, как и начальник его, начал преследовать беспорядки, а был столько же любим, особливо простым народом, сколько тот был ненавидим. Не от того ли, что он был русский? Не от того ли, что в самой строгости русского есть что-то добродушное? Не от того ли, что в нашем народе чувство справедливости сильнее, чем в высших классах, и что простолюдин, пойманный в преступлении столь же мало видит врага в исполнителе над ним законов, как в камне, о который он ушибся, неосторожно на него падая?
Обычай не дозволял в старину русским боярам входить в подряды и откупа, ни в какие торговые дела, а еще менее отдавать в наймы палаты свои по частям или в целости. Как бы долго ни продолжалось их отсутствие, жилища их должны были без них вдовствовать и в безмолвии ожидать их возвращения, как дворцы царские. Друзья и родственники имели часто, однако же, право без платы и даже без позволения в них останавливаться. Барыши, золото, одно золото оставлено было людям средних состояний взамен блестящих преимуществ, коими пользовались одни только знаменитые роды. Заслуги, щедроты монархов и бережливость могли только умножать достояние бояр. Почтенному сему предрассудку следовали еще более на Западе, пока герцог Орлеанский не обратил жилища своего в базар и под именем Королевского Дворца не стали разуметь средоточия парижской торговли. Чтобы разбогатеть, князья и графы теперь у нас, даже самые богатые, употребляют одинаковые средства с мещанами, строят пивоварни, торгуют в кабаках и всё-таки пред последними кичатся своими громкими именами; возможно ли, чтоб их уважали? Поклонение златому тельцу равняет все состояния. Не так было при Павле, лет сорок тому назад. У графа Салтыкова было в Москве три дома; в одном, на Дмитровке, жила дочь его, г-жа Мятлева с семейством; другой, загородный, служил ему для прогулок, а третий, маленький каменный у Тверских ворот, подле церкви Димитрия Селунского, стоял совсем пустой. При новой должности Алексеева не было положено казенной квартиры; желая избавить его от убытков наемной, графиня Салтыкова, которой принадлежал собственно последний из сих домов, предложила ему поместиться в нём, и мы переехали в него около половины ноября.
Я тогда вблизи увидел полицейскую жизнь и чиновников полиции. В Москве в то время, когда не было столько роскоши, столько потребностей и следственно такой жадности к прибыли, полицейские чиновники, обеспеченные доходами, которые почитались почти законными, не прибегали к ужасным, притеснительным средствам, чтоб у бедных обывателей выжимать деньги. Частные пристава жили роскошнее полицеймейстеров, и никто не ставил им этого в вину. То что называется ныне красть, называлось тогда брать и было действительно более добровольным даром, чем грабежом. От лиц, как слышал я, они ничего не принимали; а только общества торговцев, мастеровых, в их части живущих, делали между собою умеренные складки и по большим праздникам подносили им в виде почтительных приношений. Почитая себя некоторым образом честными людьми, они с успокоенною совестью могли беспристрастно исполнять свои обязанности; общее же мнение в Москве никогда их не клеймило, и бедные дворяне, армейские офицеры, с честью служившие, могли без стыда принимать полицейские должности.
Имея офицерское звание, мне казалось, что я в праве почитать себя совершеннолетним. Отец мой, который определением меня в службу более всех был обрадован, в письмах своих переменил со мною тон и из Филиппушек произвел меня в Филиппы Филипповичи; только в письмах и устах матери моей долго сохранял я еще детское свое имя. Первый раз в жизни получил я деньги на собственные, безотчетные издержки; мне прислали сто рублей, огромную сумму, из которой употребление я не скоро начал делать, желая всё приобрести и не умея решиться в выборе. После того прискорбно мне было заметить, что узда только опущена, а не совсем снята еще с меня: я всё еще оставался под строгим надзором сестры и брата. Впрочем, важный шаг сделан: мне позволено ходить по улицам без сопровождения слуги, чего дотоле не было; от дурной привычки страх вместе с радостью ощутил я, когда в первый раз увидел себя таким образом на свободе.
Отлучаясь, должен я был однако же всякий раз спрашиваться и сказывать, куда иду. Три раза в продолжении зимы воспользовался я такими позволениями, чтобы видеть московский театр, не знаю зачем названный Петровским, ибо во всём городе был он тогда один[49]. Играли на нём одни только русские актеры. Из них чета Сандуновых более всех приманивала публику; муж играл лакейские роли в комедиях, а жена была примадонной в опере; ни тот, ни другой мне что-то не понравились. Думая искусно подражать природе, Сандунов был чрезвычайно подл на сцене; а жена, лет двадцати пяти, не более, почитаемая красавицей, казалась гораздо старее, ибо имела большие, правильные черты, черные глаза и волосы, римский нос, и была чрезвычайно дородна. Играя почти всегда роли молодых девочек, она была довольно отвратительна; сверх того, имела привычку часто хохотать самым непристойным образом. Голос её был силен, чист, но не имел для меня ни малейшей приятности.
В комедиях, драмах и трагедиях замечательны были Плавильщиков и Померанцев. Первый — литератор и актер, занимал главные роли и по моему был очень дурен, хотя ему и рукоплескали. Последний превосходно играл стариков; он имел благородную осанку, нежный и трогательный голос и, если можно так сказать, всю прелесть маститости, настоящей или искусственной. Главная трагическая актриса была госпожа Сахарова. Пусть представят себе Дидоной рязанскую или симбирскую помещицу, уже пожилых лет, мало знакомую с столицей и великую охотницу декламировать стихи: это была Сахарова. Как в дочери госпожи Синявской, первой женщины, которая у нас в России согласилась выступить на сцену и некогда блистала в Хореве, в Синаве и Труворе, в ней особенно уважалась кулисная её знатность.
Более из тщеславия чем из охоты, многие богатые помещики составляли из крепостных людей своих оркестры и заводили целые труппы актеров, которые, как говорили тогда в насмешку, ломали перед ними камедь. Когда дела их расстраивались, они слуг своих заставляли в губернских городах играть за деньги; один между ними, г. Столыпин, нашел, что выгоднее отдать свою группу внаймы на московский театр, который тогда не находился в казенном управлении. Содержатель его был некто Медокс — жид, вероятно, крещеный Умеренная плата сим лицедеям, жалкое одеяние, в коем являлись они перед зрителями, соответствовали их талантам. Всё это было ниже посредственности. Жид, видно, был не очень расчётлив; и как было ему не разориться? Все три раза, что зимой я был в театре, видел я почти пустой партер. Когда я слышу строгие замечания критиков на нынешний московский театр, мне всегда досадно; я вспомню прежний и нахожу, что одного столетия мало, чтобы произвести удивительную между ними разницу.
В эту зиму увидел я и московские балы; два раза был я в Благородном Собрании. Здание его построено близ Кремля, в центре Москвы, которая сама почитается средоточием нашего отечества. Не одно московское дворянство, но и дворяне всех почти великороссийских губерний, стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселить в нём жен и дочерей. В огромной его зале, как в величественном храме, как в сердце России, поставлен был кумир Екатерины, и никакая зависть к ее памяти не могла его исторгнуть. Чертог в три яруса, весь белый, весь в колоннах, от яркого освещения весь как в огне горящий, тысячи толпящихся в нём посетителей и посетительниц, в лучших нарядах, гремящие в нём хоры музыки, и в конце его, на некотором возвышении, улыбающийся всеобщему веселью мраморный лик Екатерины, как во дни её жизни и нашего блаженства! Сим чудесным зрелищем я был поражен, очарован. Когда первое удивление прошло, я начал пристальнее рассматривать бесчисленное общество, в коем находился; сколько прекрасных лиц, сколько важных фигур и сколько блестящих нарядов! Но еще более, сколько странных рож и одеяний!
Помещики соседственных губерний почитали обязанностью каждый год, в декабре, со всем семейством отправляться из деревни, на собственных лошадях, и приезжать в Москву около Рождества, а на первой неделе поста возвращаться опять в деревню. Сии поездки им недорого стоили. Им предшествовали обыкновенно на крестьянских лошадях длинные обозы с замороженными поросятами, гусями и курами, с крупою, мукою и маслом, со всеми жизненными припасами. Каждого ожидал собственный деревянный дом, неприхотливо убранный, с широким двором и садом без дорожек, заглохшим крапивой, но где можно было, однако же, найти дюжину диких яблонь и сотню кустов малины и смородины. Всё Замоскворечье было застроено сими помещичьими домами. В короткое время их пребывания в Москве, они не успевали делать новых знакомств и жили между собою в обществе приезжих, деревенских соседей: каждая губерния имела свой особый круг. Но по четвергам все они соединялись в большом кругу Благородного Собрания; тут увидят они статс-дам с портретами, фрейлин с вензелями, а сколько лент, сколько крестов, сколько богатых одежд и алмазов! Есть про что целые девять месяцев рассказывать в уезде, и всё это с удивлением, без зависти: недосягаемою для них высотою знати они любовались, как путешественник блестящею вершиной Эльбруса.
Не одно маленькое тщеславие проводить вечера вместе с высшими представителями Российского дворянства привлекало их в Собрание. Нет почти русской семьи, в которой бы не было полдюжины дочерей: авось ли Дунюшка или Параша приглянутся какому-нибудь хорошему человеку! Но если хороший человек не знаком никому из их знакомых, как быть? И на это есть средство. В старину (не знаю, может быть и теперь) существовало в Москве целое сословие свах; им сообщались лета невест, описи приданого и брачные условия; к ним можно было прямо адресоваться, и они договаривали родителям всё то, что в Собрании не могли высказать девице одни только взгляды жениха. Пусть другие смеются, а в простоте сих дедовских нравов я вижу что-то трогательное. Для любопытных наблюдателей было много пищи в сих собраниях; они могли легко заметить озабоченных матерей, идущих об руку с дочерьми, и прочитать в глазах их беспокойную мысль, что может быть в сию минуту решается их участь; по веселому добродушию на лицах провинциалов легко можно было отличить их от постоянных жителей Москвы.
Московское Благородное Собрание существует и поныне; зала его удивляет по-прежнему простотою величия, по прежнему украшается единственно изображением Екатерины, но увы! она уже не Форум русского дворянства: почти весь год стоить она пустая; только раз или два, но случаю приезда царя, или другого какого торжества, наполняется она опять людьми, но уже не в таком числе, в каком прежде собирались они в нее еженедельно. Двенадцатый год более всего сему Собранию нанес решительный удар.
Если Москва не изобильна была публичными увеселениями для образованного класса людей, то зато ни в одном городе не было столько партикулярных балов. Ни одного я не видал, меня никуда не звали, а я не имел ни воли, ни желания куда-либо сам называться. Партикулярным балом нельзя почитать тот, на который и я был приглашен и который дан был графом Салтыковым 6 ноября, последний день, в который праздновали восшествие на престол императора Павла. Тут было нечто официальное; неявка на сей бал, особенно для знатных и чиновных людей, могла бы почесться неуважением к особе царя. А никогда еще Москва, как в это время, не была наполнена такими людьми, коих у нас называют вельможами, то есть тех, кои с высоким чином соединяют знаменитость заслуг, блестящий титул и огромное состояние, и живут соответственно своему сану. Одни, обремененные летами, при Екатерине еще сошли с поприща, чтоб успокоиться в граде бояр; другие, при Павле, или сами поспешили оставить службу, или были отставлены с позволением жить, где пожелают. Все они предстали тут, сии некогда мужи войны и совета, с своими сединами и Андреевскими лентами. Тут увидел я фельдмаршала Каменского, бывшего канцлера Остермана с братом, Еропкина, избавителя Москвы от чумы, и прежнего её начальника Юрия Долгорукого, обер-камергера князя Голицына, обоих братьев Куракиных, бывших вице-канцлера и генерал-прокурора, и многих других. Не принимая участия в игре, почти все они сели полукружием, и я с почтительным вниманием смотрел на сонм опальных бояр, как на галерею исторических портретов. Если бы не было пляски, то можно было бы вообразить себе, что они собрались в думу для совещаний о делах государственных.
Девятнадцатое столетие началось для меня довольно счастливо. В январе 1801 года произвели меня в переводчики коллегии, то есть в 10-й класс, без заслуг, без покровительства, а только для того, чтоб очистить место желающим поступить в определенное число юнкеров. Из новонабранных двое имели довольно оригинальности, чтобы найти место в сих Записках.
Молва уже говорила нам об одном князе Козловском, молодом мудреце, который имел намерение определиться к нам в товарищи, и мы с любопытством ожидали обещанное нам чудо. Вместо чуда увидели мы просто чудака. Правда, толщина не по летам, в голосе и походке натуральная важность, а на лице удивительное сходство с портретами Бурбонов старшей линии, заставили сначала самого г. Бантыша-Каменского принять его с некоторым уважением; разглядев же его пристальнее, узнали мы в нём совсем не педанта, но доброго малого, сообщительного, веселого и даже легкомысленного. Способностей в нём было много, учености никакой, даже познаний весьма мало; но он славно говорил по-французски и порядочно писал русские стихи. Откормленный, румяный, он всегда смеялся и смешил, имел, однако же, искусство, не давать себя осмеивать, несмотря на свое обжорство и умышленный цинизм в наряде, коим прикрывал он бедность или скупость родителей.
Оставаясь в России, добросовестно, усердно посвящая себя занятиям по какой-либо части управления, князь Козловский мог бы, наконец, быть одним из полезных людей государства. Но он в первой молодости получил место за границей, находился при разных миссиях и несколько лет в Сардинии разделял ссылку Сардинского короля, при коем быль посланником. Впоследствии, когда он был в Штутгардте, неосновательность его поступков заставила правительство отозвать его; но, сделавшись совершенно чужд своему отечеству, он не захотел в него возвратиться. Несчастный, но не первый пример, встречаемый между нашими земляками, для коих навыки заграничной жизни дороже родины, священнее всех обязанностей. На это смотрели у нас доселе с преступным равнодушием. Пользуясь во Франции приличным содержанием, которое оставило ему правительство, князь Козловский казался жертвой, про слыл чуть ли не гением, коему не умеют отдавать справедливость. У кого хороша память и кто много читает, тому куда как легко быть гением в наше время, когда говорится и пишется так много умного! Необходимость принудила недавно Козловского посетить Петербург, и ему дивились, как всему заграничному. Мне казалось, что я вижу пред собой густую массу, которая более тридцати лет каталась по Европе, получила почти шарообразный вид и, как иероглифами, вся испещрена идеями, для нас уже не новыми, и множеством несогласных между собою чужих мнений, которые по клейкости её так удобно к ней приставали. Теперь масса сия в совершенном бездействии остановилась в Варшаве (всё-таки как будто не в России) и сохраняется там благодеяниями презираемого ей отечества.
Другой новобранник был Макаров, человек смирный, но не спокойный, ибо тогда уже был мучим желанием прославиться в литературе. Он, Данаида нашей словесности, более тридцати пяти лет льет чернила, наполняет журналы и ни на шаг не подвигается ни в искусстве, ни в знаменитости. Вообще между тогдашними архивными юношами было довольно талантов в зерне; от чего, не созрев, они гибли? Бог весть, обстоятельства ли и недостатки воспитания препятствовали их развитию? Обещали многие, а один только сдержал слово.
Скоро узнали мы весть неприятную для нашего чинолюбия: далее мы ничего не видели. К концу февраля граф Растопчин был отставлен, а на его место первоприсутствующим в Иностранной Коллегии и начальствующим над почтовою частью был назначен граф Пален, который вместе с тем сохранял и должность Петербургского военного губернатора. Внезапные немилости Павла давно уже перестали удивлять; но удаление вернейшего, из преданных ему, человека, который в продолжение всего царствования его ни на минуту не переставал пользоваться его доверенностью, опытным людям казалось худым предзнаменованием для самого царя; эта перемена, по мнению их, должна была повлечь за собою другие важнейшие перемены. И они не ошиблись, как это теперь всем известно.
XVII
Воцарение Александра I-го. — Марфино. — П. И. Мятлева. — Карамзин. — В. Л. Пушкин. — Князь А. Б. Куракин.
Опять вступает Россия в новую блистательную эпоху, в новый мир, сначала столь очаровательный. С обыкновенным любопытством и необычайным страхом ожидала Москва видеть императора в половине мая, на больших маневрах, которые к тому времени приготовлялись в её окрестностях…
Необыкновенно раннее открытие весны предшествовало раннему Светлому воскресению: еще до половины марта снег начал исчезать, и наступила ясная, совершенно теплая погода. В пятницу на Вербной неделе, 15 марта, был я в архиве; становилось поздно, многие уже разошлись по домам; из начальников оставался один только г. Бантыш-Каменский, разбирая какие-то рукописи. Вдруг вбегает меньшой Тургенев в радостном изумлении, краснея, только не от застенчивости, и прерывающимся голосом объявляет нам, что Павла нет уже на свете и что царствует Александр. «Что ты говоришь!» воскликнул Каменский и с ужасом перекрестился. Тот продолжает рассказывать нижеследующее.
Проезжая через Кремль, он увидел толпу народа вокруг Успенского собора; желая узнать причину такого стечения, он втиснулся во храм и нашел в нём графа Салтыкова с другими главными должностными лицами, которые присягают новому императору. Более всего он заметил двух генералов в Анненских лентах, неумытых, невыбритых, забрызганных грязью. Ему сказали, что один из них князь Сергий Долгоруков, который привез манифест о кончине Павла и о воцарении Александра, а другой бывший обер-полицеймейстер Каверин, присланный сменить Эртеля и вступить в прежнюю должность. К тому прибавили, что видели их вместе на одной перекладной телеге скачущими от Тверской заставы до дому главнокомандующего, и что всех встречающихся они как будто взорами поздравляли и приветствовали.
Никакого не осталось сомнения. Но как это случилось? Он даже не был болен! Всё это надеялся узнать я дома и поспешил уйти. От Покровки до Тверских ворот путь не близок; я должен был сделать его пешком, ибо денег на извозчика у меня не было, и вероятно в тревоге забыли прислать за мною лошадь. Я более бежал, чем шел; однако же внимательно смотрел на всех попадавшихся мне в простых армяках, равно как и на людей порядочно-одетых. Заметно было, что важная весть разнесена по всем частям города и уже не тайна для самого простого народа. Это одно из тех воспоминаний, которых время никогда истребить не может: немая, всеобщая радость, освещаемая ярким весенним солнцем. Возвратившись домой, я никак не мог добиться толку: знакомые беспрестанно приезжали и уезжали, все говорили в одно время, все обнимались, как в день Светлого воскресения; ни слова о покойном, чтобы и минутно не помрачить сердечного веселия, которое горело во всех глазах; ни слова о прошедшем, всё о настоящем и будущем. Сей день, столь вожделенный для всех, казался вестовщикам и вестовщицам особенно благополучным: везде принимали их с отверстыми объятиями.
Кто бы мог поверить? На восторги, коими наполнена была древняя столица, смотрел я с чувством неизъяснимой грусти. Я не знал еще…, что вся Россия, торжествующая сие событие, принимает за него на себя ответственность; но тайный голос как будто нашептывал мне, что будущее мне и моим мало сулит радости и что в нём бедствия и успехи, слава и унижение равно ожидают мое отечество. Я вспомнил, что из наград и милостей, кои бросал покойный без счету и без меры на известных и неизвестных ему, по заслугам или без заслуг, упали на меня два чина, а благодарность — ярмо, от которого я никогда не умел и не хотел освобождаться, и я, признаюсь, вздохнул о Павле. Сообщить моих мыслей, разумеется, было никак невозможно: во мне бы увидели сумасшедшего или общего врага.
На другой день, 16 числа, к вечеру, накануне Вербного воскресения, в Охотном ряду, вокруг Кремля и Китая, где продавали вербы, не доставало только качелей, чтобы увидеть гулянье, которое бывает на Святой неделе: народ веселился, а от карет, колясок и дрожек целой Москвы заперлись соседние улицы…
…Время, всё истребляющее, всё более и более покрывает забвением странности сего несчастного царствования; последние памятники его — укрепления Михайловского замка и шутовской наряд Брызгалова[50] — недавно исчезли. Стариков, которые были свидетелями происшествий и могли основательно судить об них, остается мало. Для нас, тогда несовершеннолетних, воспоминание о сем времени тоже что о кратком, удушливом сне, о кошмаре, который мы забыли, коль скоро перестал он давить нас. Новые же поколения, внимая рассказам, видят более смешную, чем ужасную сторону сей эпохи, чрез которую прошло их отечество…
Итак, вдали от причин ненависти и любви, можно, кажется, беспристрастно судить теперь о человеке, который… был наш Людовик XIV-й. Слово сего последнего, которое ныне всех возмущает — l’état c’est moi — принял он в точном смысле…
Подобно Людовику XI-му имел он своего любимца-брадобрея, своего Olivier le Daim; но если далеко стоит он от него в жестокостях, то еще гораздо далее в искусстве правительственном. Какая цель была у Павла Первого? Какие препятствия встречал он? Внутри государства, где были могущественные враги, коих надлежало ему сокрушить для собственной безопасности? Благоустроенное, спокойное, сильное, великое государство получил он в наследство от той, коей обязан был жизнью; не терновый, а самый блестящий венец оставила ему Екатерина. Что если бы об жил во времена Людовика XI-го и был в подобных ему обстоятельствах!..
В наружной политике тоже что и во внутреннем управлении: никакой предусмотрительности, никаких видов, никакой осторожности; одни только царские его личности. Он зол на революцию и посылает Суворова в Италию, рассердился на Австрию и приказывает армии воротиться, прогневался на Англию и преждевременно грозит ей, а она, как уверяют, без угроз его губит. Действуя без всяких правил, без всякого плана, по одним внезапным побуждениям… знаменитому изгнаннику по праву рождения, королю французскому, которому дал он убежище в Митаве, без всякой политической причины велит безжалостно в одни сутки оставить свои владения; посетившего его гостя, короля шведского Густава IV-го, по одному капризу, высылает из Петербурга. Он жил славою и силою Екатерины. Она их стяжала; а он, как расточительный наследник, скоро умел бы их утратить…
…Сострадание, признательность, а пуще всего всегдашняя наклонность не покоряться безусловно общему мнению заставляли меня некоторое время быть его защитником. В четыре года с половиною детского возраста привык я к треволнениям его царствования; всякий мог почитать себя накануне гибели или быстрого повышения, а эта живость, это лихорадочное состояние юношеству не совсем бывает противно. Но теперь, как начну припоминать бесчисленные, несносные обиды, как общие, так и частные, нанесенные России и русским, то трудно бывает мне воздержаться от глубокого негодования.
Сии поминки Павлу Первому суть последние, которые я себе позволю. Гораздо приятнее мне будет говорить о восторгах, коими приветствовали зарю, весну нового царствования.
После четырех лет, воскресает Екатерина от гроба, в прекрасном юноше. Чадо фа сердца, милый внук её, возвещает манифестом, что возвратит нам её времена. Увидим после, как сдержал он сие обещание.
Но нет: даже и при ней не знали того чувства благосостояния, коим объята была вся Россия в первые шесть месяцев владычества Александра. Любовь ею управляла, и свобода вместе с порядком водворялись в ней. Не знаю как описать то, что происходило тогда; все чувствовали какой-то нравственный простор, взгляды сделались у всех благосклоннее, поступь смелее, дыхание свободнее.
Приписать сие должно отчасти хорошему выбору людей, коими всемогущий тогда граф Пален окружил молодого императора. Все они были употребляемы и уважаемы его бабкою. Беклешов, Мордвинов, Трощинский, благонамеренные, умные и опытные люди заняли тогда важнейшие места в государстве. Только три человека принесены в жертву общему негодованию: Обольянинов, Кутайсов и Эртель. Они уволены от службы без всяких преследований; первые два никогда в нее более не вступали, последний не один раз потом правительству пригождался.
Первое употребление, которое сделали молодые люди из данной им воли, была перемена костюма: не прошло двух дней после известия о кончине Павла, круглые шляпы явились на улицах; дня через четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещение с них не было снято; впрочем, и в Петербурге все перерядились в несколько дней. К концу апреля кое-где еще встречались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людях самых бедных.
В военном наряде сделаны перемены гораздо примечательнейшие, широкие и длинные мундиры перешиты в узкие и через меру короткие, едва покрывающие грудь; низкие отложные воротники сделались стоячими и до того возвысились, что голова казалась в ящике, и трудно было ее поворачивать. Перешли из одной крайности в другую, и все восхищались новою обмундировкой, которая теперь показалась бы весьма странною. Со времен Петра Великого зеленый цвет был национальным в русской армии, но до Павла употреблялся один только светлый; преемник сохранил введенный им темно-зеленый цвет.
Траура в Москве под разными предлогами почти никто не носил. Да и лучше сказать, в траурном платье я помню одну только вдову генерал-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпен, одну из наших киевских знакомок, которая в первом замужестве была за московским купцом Дудышкиным и оттого чрезвычайно гордилась потом своим чином. Несмотря на необъятную толщину свою, она всё лето прела под черною байкой, для того чтоб иметь удовольствие показывать шлейф чрезмерной длины.
В апреле всё пришло в движение. Несмотря на распутицу, на разлитие рек, на время самое неблагоприятное для путешествий, все дороги покрылись путешественниками: изгнанники спешили возвращаться из мест заточения, отставные или выключенные потянулись толпами, чтобы проситься в службу, весьма многие поскакали за тем только в Петербург, чтобы полюбоваться царем. Исключая действительно порочных и виновных, все желавшие вступить в службу были без затруднения в нее принимаемы. Сотням нажалованных и потом выброшенных генералов невозможно было дать мест по чину: им велено числиться по армии с жалованьем, в ожидании назначения; во всех полках удвоился и утроился комплект штаб- и обер-офицеров. Сначала средний брат мой поступил в Малороссийский кирасирский полк, а потом месяца два спустя и старший определен в провиантский штат. Он было пытался проситься в армию, хотя состояние здоровья его не позволяло тогда думать ему о фронте; но ему отказали, ибо число просящихся под конец так увеличилось, что не было возможности удовлетворять их желаний. По молодости лет ему хотелось однако же носить военный мундир, который тогда был присвоен провиантскому ведомству; итак, несмотря на худую славу его, решился он в него вступить.
К числу наших семейных происшествий в сем году принадлежит и маленькое приращение его: сестра моя Алексеева в апреле родила второго и последнего сына своего Николая.
Первые три месяца после кончины Павла граф Пален… хотел быть главою государства; старый, преступный временщик был однако же обманут притворною скромностью молодого царя и в один миг с высоты могущества низринут в ссылку. Сей первый пример искусства и решимости нового государя, боготворимого и угрожаемого в одно время и коего положение было не без затруднений, мог бы удивить и при Павле, когда такие известия почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россия утопали тогда в веселии; сие важное происшествие едва было замечено людьми еще хмельными от радости. Вице-канцлер князь Александр Борисович Куракин сделался тогда нашим единственным начальником в Иностранной Коллегии.
Мы почти не видали, как прошло лето. Некоторую оного часть провел я за городом, в Марфине, деревне графа Салтыкова. Отец и дед его, Петр Семенович и Семен Андреевич, так же как и он долго начальствовавшие в старой столице, всегда живали летом в сем наследственном поместье, которое находится в тридцати верстах от Москвы по Дмитровской дороге[51]. Необширный, двухэтажный каменный дом, кудрявой архитектуры возрождения, стоял там тогда на высоте над широким прудом с островами. Два флигеля, одинаковой вышины и в одну линию с ним построенные, соединялись с ним галереями и террасами, что, растягивая фасад его, давало ему вид довольно огромный. С одной стороны был длинный, регулярный сад с бесконечными, прямыми, липовыми аллеями, а с другой примыкала к нему прекрасная, густая, молодая роща, идущая вниз по скату горы, до самого пруда или озера. Приемным комнатам нижнего этажа служило украшением многочисленное собрание старинных фамильных портретов; большая же часть верхнего, под именем оружейной, обращена была в хранилище не только воинских доспехов, принадлежавших предкам, но и всякой домашней утвари, даже платья их и посуды, серебряной и фарфоровой, вышедшей из употребления.
Приятности сего летнего местопребывания умножались еще любезностью двух хозяек, самой графини Салтыковой и старшей дочери её, Прасковьи Ивановны Мятлевой. Не знаю, откуда могли они взять совершенство неподражаемого своего тона, всю важность русских боярынь вместе с непринужденною учтивостью, с точностью приличий, которыми отличались дюшесы прежних времен. Если б они были гораздо старее, то можно бы было подумать, что часть молодости своей провели они в палатах царя Алексея Михайловича, с сестрами и дочерьми его, а другую при дворе Людовика XIV. Ни развратно-грубая Россия от Петра до Екатерины, ни гнусно-развратная Франция от регентства до революции, не могли показать им образцов достойных их подражания. Из предания обеих земель составили они себе благороднейший характер аристократии, смешав гостеприимство русской старины с образованностью времен просвещеннейших.
Великую страсть имела г-жа Мятлева являться на сцене в домашнем театре, разумеется, во французских пьесах. Белосельские и Чернышовы, молодые путешественники, возвратившиеся с клеймом Версаля и Фернея, Кобенцели и Сегюры, чужестранные посланники, отличавшиеся любезностью, ввели представления сии в употребление при дворе Екатерины. Избраннейшее общество участвовало в сих просвещенных забавах, и Эрмитаж был одним из каналов, чрез кои начало вливаться к нам могущество Франции. Сюрпризы именинникам были тогда также новостью и принадлежностью одного высшего общества. Большие затеи приготовлялись тогда в Марфине к 23 и 24-му июня, дням рождения и именин фельдмаршала.
Вероятно лицо мое выражало страсть к театру, ибо намерение завербовать меня в число актеров заставило пригласить меня в Марфино. Но как не только мне самому никогда не случалось играть, я всего не более семи или восьми раз бывал в театре: то легко можно себе представить, как при первой попытке исчезли надежды на удачное мое соучастие в предпринимаемом важном деле. Мне, однако же, не показали ни малейшего неудовольствия; это было бы уже слишком жестоко: напротив, первую робость, застенчивость мальчика, взброшенного в едва знакомый ему круг, дня через два приветствиями, вниманием умели превратить в смелое, свободное обхождение; и как мне всё нравилось, то, кажется, я и сам полюбился. Я не помню, чтобы где-нибудь потом я так живо, так искренно, так безвинно всем наслаждался, как тогда в деревне гр. Салтыкова. Начиналась только весна моей жизни, и это было в первые месяцы владычества Александра, когда в воображении подданных он был еще прекраснее чем в существе, когда все стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда и, возлюбив друг друга, в единомыслии все русские мечтали только о добре… В первый раз был я совершенно свободен, в самое благоприятное время года, в прекрасном поместье, где жили непринужденно, и одни веселости сменялись другими. Может быть (кто не без греха, даже и дети), любезность ко мне семейства, которое уважалось в Петербурге и коему поклонялась вся Москва, льстила моему самолюбию; может быть, очарование маленького двора, к коему начинал я принадлежать, сильно на меня подействовало; но всё вместе исполнило меня чувством такого благосостояния, что оно выражалось у меня в словах, во взглядах, во всех движениях. И потому-то, как было всем не улыбаться моей юности и моему счастью!
Графиня Салтыкова с каждым днем становилась ко мне милостивее. Поощряемый возрастающим её снисхождением, я решился раз сказать ей со всею откровенностью, что в Марфине я вижу убежище, которое равно спасает меня как от весьма нетягостной власти сестры моей, так и от тяжкого ига г. Бантыша-Каменского, и она обещалась у обоих испросить мне дозволение еще на некоторое время не расставаться с моим эдемом[52].
Общество наше было многочисленное. Всякий день приезжали гости из Москвы; постоянными же жителями Марфина были все те, кои должны были участвовать в сюрпризах и представлениях: музыканты, певуны, дамы и девицы, взявшие роли. Между сими последними встретил я прежних своих знакомок, трех молоденьких книжен Хованских, дочерей бывшего Киевского вице-губернатора, который при Павле был обер-прокурором Синода, а потом отставлен и сослан в Симбирск, откуда только что воротился. Сильно забилось во мне сердце при сей встрече, и они, кажется, не без удовольствия увидели товарища своего детства; но взаимные отношения наши совсем уже переменились. В меньших я нашел еще простодушие и невинность первого возраста, но в старшей, Наталии, ничего уже не оставалось детского. В шестнадцать лет, смелые её взоры уже искали высоких жертв и, к счастью, почти на мне не останавливались. Пленительный голос её всех удивлял, и она готовилась восхищать им в опере Паэзиелло La Servante Maîtresse.
Сверх того, еще две оперы: одна старинная французская, Два охотника, и русская Мельник, да две прескучные комедии Мариво были представлены в три дня, что продолжались марфинские увеселения. Исключая г-жи Мятлевой, которая игрой напоминала мадам Вальвиль, и княжны Хованской, которая пела и играла как записная артистка, все прочие мне показались довольно плохи; особенно же мужчины, с своим Нижегородско-французским выговором, совсем не за свое дело взялись. Всего примечательнее была пьеса, интермедия, пролог или маленький русский водевиль под названием: Только для Марфина, сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу припомнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствуют союзу любовников, и нетерпеливо ожидаемый приезд из армии доброго господина, графа Петра Семеновича, который их соединяет; потом великая радость, песни и куплеты оканчивают пьесу. Так как все роли были коротенькие, то одну из них, роль бурмистра, мне поручили. Я надел русский кафтан, привязал себе бороду и старался говорить грубым голосом. Как нарочно пришлось спеть мне следующий куплет:
Будем жить, друзья, с женами. Как живали в старину. Худо быть вам их рабами, Воля портит лишь жену. Дома им не посидится, Всё бы, всё бы по гостям. Это право не годится, Приберемте их к рукам.Вахмистр.
Наш бурмистр несет пустое. Не указ нам старина. Воля дело золотое, и проч.Другие представления даны были в небольшом деревянном театре, построенном в саду; но мы играли днем, на открытом воздухе. В двух верстах от господского дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна, состоящая из двух противоположно-идущих отлогостей, образовала природный театр; сцена заключалась в правильном продолговатом полукружии: тут первый раз в жизни, чуть ли не в последний, являлся я перед публикой.
Сам Карамзин приехал накануне представления, учил нас и даже играл с нами графа Петра Семеновича Салтыкова. Я обомлел, когда невзначай пришлось ему сказать мне несколько слов: власти и заслуженные почести всегда вселяли во мне уважение, но этот благоговейный страх могли произвести только добродетели и высокий талант. Встретившись с сим необычайным человеком, я бросаю на время марфинские забавы, чтобы предаться наслаждению говорить об нём.
Уже был он известен, уже был он славен, уже зависть и клевета в страшное царствование Павла восставали, чтоб его погубить. Но Бог России хранил его; под Его щитом, с кротостью улыбаясь самим врагам своим, шел он спокойно, смиренно, прекрасною, цветущею стезею, ведущею его к цели, которую, вероятно, тогда еще сам он не предугадывал. До него не было у нас иного слога, кроме высокопарного или площадного; он изобрел новый, благородный и простой, и написал им путешествие свое за границу и пленительные повести, кои своею новостью так приятно изумили Россию. Можно сказать, что он же создал и разговорный у нас язык и был основателем новой школы, долго поддерживавшей лучшие правила в литературе. Казалось, чего бы более для обыкновенного авторского самолюбия? Но он не знал его, а творениями своими, как врожденным добром, делился с читателями. Скоро почувствовал он еще другое, высшее призвание; скоро лавры должны были заступить место роз, блиставших на молодом челе его. Не тщетно получил он от природы трудолюбие и жажду к познаниям, не даром даны ему были пламенное сердце, высокий ум и чистые уста; ими предназначено ему было вещать современникам и потомству о древней, почти забытой славе предков. Он должен был дать новую бесконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову и Скопину-Шуйскому и грозно судить грозного царя. Промыслу угодно было, как в чистейшем сосуде, воспалить в нём жар просвещенной любви к отечеству, угасавший между высшими сословиями от безрассудной страсти к иноземному, — не грубый, самохвальный патриотизм провинциалов и невежд. Следуя за духом века, напрасно завистливые соперники хотят затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, им распространенный; от времени до времени он более умножается и усиливается.
Такие люди посылаются на землю, чтобы производить в умах великие и счастливые перевороты, и он был в Москве кумиром всех благородно-мыслящих юношей и всех женщин истинно-чувствительных. В тогдашнее еще чинопочитательное время, было даже несколько странно видеть стариков-вельмож, почти как с равным, в обхождении с тридцатилетним отставным поручиком. Мне не нужно описывать его наружность; портреты его чрезвычайно схожи; они очень верно выражают глубокие думы на его челе и добродушие во взорах его; конечно, изображения его сохраняются у всех просвещенных россиян.
Из тьмы марфинских посетителей выбираю я для описания одних только литераторов. Тут был еще один поэт, весьма известный в свое время, более по странностям своим, чем по числу и изяществу произведений. Пушкин (не племянник, а дядя) Василий Львович почитался в некоторых московских обществах, а еще более почитал сам себя, образцом хорошего тона, любезности и щегольства. Екатерининский офицер гвардии, которая по малочисленности своей и отсутствию дисциплины могла считаться более двором чем войском, он совсем не имел мужественного вида. Он казался сначала не тем чем был действительно, а тем чем ему хотелось быть; за важною его поступью и довольно гордым взглядом скрывались легкомыслие и добродушие; в восемнадцать лет на званых вечерах читал он длинные тирады из трагедий Расина и Вольтера, авторов мало известных в России, и таким образом знакомил ее с ними; двадцати лет на домашних театрах играл уже он Оросмана в Заире и писал французские куплеты. Как мало тогда надобно было для приобретения знаменитости! Блестящее существование его в свете умножалось еще женитьбой на красавице, Капитолине Михайловне.
Сам он был весьма не красив. Рыхлое, толстеющее туловище на жидких ногах, косое брюхо, кривой нос, лицо треугольником, рот и подбородок à la Charles-Quint, а более всего редеющие волосы не с большим в тридцать лет его старообразили. К тому же беззубие увлаживало разговор его, и друзья внимали ему хотя с удовольствием, но в некотором от него отдалении. Вообще дурнота его не имела ничего отвратительного, а была только забавна.
Как сверстник и сослуживец Дмитриева по гвардии и как ровесник Карамзина, шел он несколько времени как будто равным с ними шагом в обществах и на Парнасе, и оба дозволяли ему называться их другом. Но вскоре первый прибрал его в руки, обратив в бессменные свои потешники. Карамзин же, глядя на него, не мог иногда не улыбнуться, но с видом тайного, обидного сожаления: не только на преступления и пороки, даже на странности и слабости людей смотрел он с грустью и, казалось, рад бы был всё человечество поднять до себя. Дмитриев верно в шутку посоветовал ему приняться за русские стихи, а он и в правду сделался весьма неплохим поэтом. Он писал и басни, и коротенькие послания, и всякого рода мелочи, и из всего этого, под конец его жизни, составился небольшой том, не богатый идеями, но изобильный приятными звуками и плавными стихами. Главным его недостатком было удивительное его легковерие, проистекавшее, впрочем, от весьма похвальных свойств, добросердечия и доверчивости к людям; никакие беспрестанно повторяемые мистификации не могли его от сей слабости излечить. Он был у нас то, что во Франции Poinsinet de Sivry, также автор, который несколько месяцев жарился перед камином, чтобы приучить себя к обещанной ему должности королевского экрана.
В это время завязывались у нас первые сношения с французскою республикой. Еще до кончины Павла отправлены были в Париж сначала граф Спренгпортен, для размена пленных, а потом Колычев, для переговоров. В мае прибыл в Петербург от первого консула Бонапарте молодой друг его Дюрок, дипломатическим агентом и картинкой модного журнала. Василий Львович мало заботился о политике, но после стихов мода была важнейшим для него делом. От её поклонения близ четырех лет были мы удерживаемы полицейскими мерами; прихотливое божество вновь показалось в Петербурге, и он устремился туда, дабы, приняв её новые законы, первому привезти их в Москву. Он оставался там столько времени, сколько нужно ему было, чтобы с ног до головы перерядиться. Едва успел он воротиться, как явился в Марфине и всех изумил толстым и длинным жабо, коротким фрачком и головою в мелких, курчавых завитках, как баранья шерсть, что называлось тогда à la Дюрок. Мы скоро с ним познакомились. В глазах моих был он человек пожилой, хотя и модник; вдруг сближается он с мальчишкой, берет его за руку, потом под руку, гуляет с ним, рассказывает ему разного рода неблагопристойности про любовные свои успехи, одним словом, братается со мной. Мне это чрезвычайно полюбилось: тогда почитали чин чина и год года; вдруг я повысился десятью годами, увидел в нём товарища, почти ровесника, а потом начал смотреть на него как на шалунишку, и если бы знакомство наше на некоторое время тогда не прервалось, то скоро стал бы унимать его и журить.
Шумная осень должна была сменить веселое, урожайное, благословенное лето, в продолжении коего, казалось, и в сердцах была одна радость. С первых чисел августа начали через день, один после другого, вступать батальоны гвардейских полков, коих против нынешнего не было тогда и третьей доли. Все царедворцы и все помещики Московской губернии, жители Петербурга и дворяне из отдаленных провинций, в августе же стали съезжаться на коронацию. Никогда еще такого стечения не было; трудно было приезжему сыскать себе уголок в обширной Москве, и с 1-го сентября она совершенно закипела многолюдством и веселием. Общая радость умножалась еще тысячью частных, маленьких благополучий: друзья, укрывшиеся в тишине деревни, не чаявшие когда-либо увидеться, встречались тут после долгой разлуки; просто знакомые обнимались с восторгом, рассказывая о горестях, перенесенных ими или в крепости или в Сибири; а сколько семейных свиданий! О своих чувствах я говорить не буду: мои родители приехали также из Киева с старшею сострой и у нас остановились. Едва ли не в первый раз отец так крепко прижал меня к груди, а мать дня два почти не спускала с меня глаз.
Толпы народа бросились 5 сентября за заставу, к Петровскому подъездному дворцу; туда после обеда прибыл государь с молодою супругой. Удовлетворенное любопытство простого народа, шумные его восклицания часто бывают похожи на восторг; лишь бы ему не мешали, он ура прокричать готов и тирану. Тут, говорят, было иначе: при виде венценосной, юной, красивой четы, все онемели от радости и удивления; одни лишь взоры высказывали благоговейную любовь. Я помню, что к зятю моему приехал в этот день другой полицеймейстер Ивашкин, чтобы вместе отправиться в Петровское, для сохранения порядка. Они собирались как на пир: не было и тени того страха, той суетливости, с которою ожидают прибытия даже обыкновенного начальника.
На другой день, возвращаясь пешком из архива и выходя на Тверскую улицу, увидел я группы людей, разговаривающих между собою с живостью; прислушавшись к их рассказам, я узнал следующее. Государю вздумалось прогуляться, одному, верхом по московским улицам; его узнали, к нему кинулись, его окружили, его, так сказать, стиснули, но не заслоняя ему пути и не замедляя его. Он был прижат народом так сильно и осторожно, как страстная мать сжимает в объятиях младенца своего. Ни крику, ни шуму; но сквозь легкий шепот услышал он вокруг себя и «батюшка», и «родимый», и «красное наше солнышко», и всё что в простонародном нашем языке есть нежно — выразительного. Царский конь, сбруя и одежда, всё в глазах народа, освящалось его прикосновением; целовали его лошадь, его сапоги, ко всему прикладывались с набожностью. Пред владыками Востока народ в ужасе падает ниц, на Западе смотрели некогда на королей в почтительном молчании; на одной только Руси цари бывают иногда так смело и явно обожаемы. Какое доказательство, что в нравах сей части света совершенная разница с двумя другими!
На протяжении нескольких верст от Тверской заставы до Кремля и оттуда до дворца в Немецкой Слободе устроены были перед всеми домами подмостки, в три и более ярусов, чтобы смотреть на торжественный въезд императора, который назначен был 8 сентября. С подмостков перед нашею квартирой глядел я на сие шествие. Ни одного облачка не было на небе; этот день был почти жаркий, также как и предшествовавшие ему и последующие. На позлащенные кареты, на великолепные цуги, на шитьем и галунами покрытые мундиры и ливреи, на весь блеск сей обыкновенной, хотя к счастью редко возобновляемой, церемонии, смотрели почти рассеянно. Все нетерпеливо ожидали одного человека, все взоры в него вперились, когда он появился, и далеко за ним следовали. О как он был чудесен! В сорок лет знали мы его еще молодцом и красавцем; что же был он в двадцать три? Он почти всё время ехал с обнаженною (еще не от волос) головою: ибо у каждой церкви, коих в Москве так много, встречаем был с хоругвями и иконами и должен был останавливаться и молиться. Никто так прекрасно и верно не выразил того что мы тогда видели и чувствовали, как Жуковский в известном своем к нему послании:
Свет утешительный окрест тебя сиял, Наш обреченный вождь ко счастью и славе!Через два дня потом было после обеда гулянье в Слободском дворцовом саду. Вечер был летний, теплый; теснота и давка чрезвычайные, так что иным по неволе приходилось коснуться самого императора, и многие, как говорили, насладились сим осязанием.
Только накануне дня коронации, 14 числа, погода к вечеру несколько изменилась. Мне этот день чрезвычайно памятен. Подле Ивановской колокольни, против дворца и соборов, сделаны были места, куда по билетам пускались по большей части одни только дамы; по чрезвычайной молодости моей, по тесноте и темноте можно было принять меня за женщину, и я получил дамский билет. В три или четыре часа по полуночи отправились мы в карете с матерью и двумя сестрами; отец же мой по чину своему имел место в соборе. Странная была эта ночь; сырая мгла лежала на небе и на земле; стук карет останавливался у въезда в Кремль, а он наполнялся войском и разного звания людьми, и несмотря на то, царствовали в нём глубокий мрак и совершенная тишина. Мало-помалу начали увеличиваться глухой гул и невнятный говор. Когда стало светать, туман рассеялся; но солнце еще не показывалось. Мы могли видеть только то, что происходило вне храма. Когда император из дверей его выступила в короне, то солнечный блеск внезапно осветил ее и всю величественную процессию, которая довольно близко мимо нас потянулась. В тоже мгновение громогласное ура, гром пушек и звон в тысячи колоколов раздались в воздухе; всё было ослепительно и оглушительно в эти четверть часа, всё было радостно, трогательно и восхитительно.
Солнце скрылось опять вместе с государем, когда он вошел во внутренность дворца, облака сгустились, и к вечеру стал накрапывать дождик; но при пасмурном небе, на утомленных лицах, в усталых взорах, не переставало блистать веселие. Влага, наполнявшая воздух, отражала чудесно великолепную иллюминацию, которая ночью зажглась из края в край Москвы, и восторг при виде сего бесконечного зарева мог только равняться ужасу, с коим, одиннадцать лет спустя, бегущие жители смотрели на её пожар.
Никто не обиделся, никто не удивился бережливости царя при раздаче милостей в сей памятный день. Все были напуганы столько же жестокостью, как и расточительностью его родителя[53]. И действительно, искусство награждать есть великое искусство. Всё, что бросается, сыплется без осмотрительности, без расчёту, теряет цену, унижается в глазах получающих, а еще более в глазах получивших; итак, некоторым образом, то что дается одним отнимается у других. Средства к удовлетворению честолюбия уменьшаются по мере как возрастает его алчность. Рождается зависть, желание таких наград, коих получение перестает уже быть лестным. В день коронации розданы были две Андреевские ленты и пять или шесть Александровских, менее чем ныне иногда в обыкновенный праздник. Зять мой ожидал креста, а получил перстень с вензелем и остался предоволен. Страсть к формам и униформам, кажется, в это царствование еще более увеличилась. Один смелый и весьма чиновный человек, отставленный при Павле без мундира, получил при Александре, как милость, дозволение носить его, но принял оное не иначе, как с условием в обыкновенные дни пользоваться правом надевать так называемое партикулярное платье, чего дотоле никак допускаемо не было. Изъявленное на то согласие необходимо было распространить и на других военных, с мундиром отставленных, и доставило им возможность покойно одеваться.
Смельчак этот был никто иной, как князь Сергий Федорович Голицын, у которого год я прожил в деревне. Он вслед затем назначен был генерал-губернатором Остзейских провинций. С семейством своим и женою, прибывшею из Казацкого, встретился он в Москве перед коронацией. Все старшие сыновья его были приняты опять в службу, и дом его (у Арбатских ворот) сделался в это время одним из самых приятнейших, по крайней мере для меня.
Сколько старых знакомых встретили мои родители! Из знатных или случайных людей три человека особенно благоволили к отцу моему. Один из них, граф Николай Петрович Румянцев, из почтения к памяти своего отца; другой, князь Александр Борисович Куракин, по давнишнему знакомству и соседству в Пензенской губернии; оба они были отличаемы и любимы вдовствующею императрицей. О приязни генерал-прокурора Беклешова я не один раз имел уже случай упоминать.
Новые любимцы, по большей части молодые, смотрели на них как на людей прошедшего времени, с обветшалыми идеями, и готовились скоро затмить их и устранить от дел; но первый год сохраняли они еще некоторую силу и вес.
Желая по возможности восстановить созданное Екатериной, Беклешов предложил открыть вновь несколько губерний, упраздненных при Павле, и между прочим Пензенскую. Нужны были губернаторы; охотников явилось много. Граф Румянцев сказал о том отцу моему, спросив, не пожелаете ли он еще несколько лет жизни посвятить царской службе? Он отклонил было сие предложение; но, услышав, что Пенза делается опять губернским городом (любезная сердцу его Пенза, где провел он молодость, где два раза был счастливым супругом, где прах детей и первой жены его, где всё его имущество) к несчастью, не мог устоять против желания в ней начальствовать. Беклешов не хотел сначала тому верить, полагая, что должность гражданского губернатора (хотя и почиталась тогда важнее чем ныне) не могла отцу моему казаться лестною, когда все сверстники его давно уже занимали места генерал-губернаторов, убедившись, однако же, в противном, с своей стороны способствовал его назначению. Сие случилось перед самым отбытием двора из Москвы, около половины октября. Отцу моему не оставили даже военного чина, а переименовали в тайные советники.
В продолжение шестинедельного пребывания императорской фамилии, цепь празднеств и увеселений в Москве почти не прерывалась. Бояре, то есть богатые, чиновные и знатные люди, живущие в Петербурге, придерживались еще тогда обыкновения иметь и в старой столице огромные городские и славные загородные дома; им удобно было и в ней угощать царя. Но никто не превзошел в великолепии богатейшего из них, графа Шереметева. От заставы, называемой у Креста, до селения его Останкина на три версты путь ярко был освещен. Роскошное убранство дома, в прежнем виде и доселе сохранившееся, теперь никого не удивляет, а тогда казалось волшебством. Мои родители получали приглашения отовсюду; но мне случилось быть только на одном из таких праздников, у начальника моего, вице-канцлера князя Куракина.
Сему вельможе был я перед тем представлен, и особенно ласковый прием его останется мне навсегда памятным. Это одно из тех лиц, мимо коих в воспоминаниях, не останавливаясь, никак пройти невозможно: его достохвальные свойства и извинительные слабости равно заслуживают быть известными читателям. Князь Александр Борисович, правнук того князя Бориса Ивановича, свояка Петра Великого, который при нём был первым посланником в Париже, выполнил в их семействе наследственную с тех пор обязанность образовать свою молодость в сей так называемой столице просвещения; но до того, как внук сестры графа Никиты Ивановича Панина, главного наставника Павла Первого, вместе с ним воспитывался. Чистосердечная, бескорыстная, беспредельная его преданность к наследнику престола была весьма неприятна не столько императрице Екатерине, сколько окружающим ее. Он долго был как бы в опале и, в звании отставного камергера, жил в богатом поместье своем Надеждине, в Саратовской и на самой границе Пензенской губернии. Тут он познакомился с отцом моим, посещал его и по нескольку дней иногда живал у нас в деревне.
В великолепном уединении своем сотворил он себе, на подобие посещенных им дворов (не знаю, Дармштадтского или Веймарского, но верно уже не Кобургского) также нечто похожее на двор. Совершенно бедные дворяне за большую плату принимали у него должности главных дворецких, управителей, даже шталмейстеров и церемониймейстеров; потом секретарь, медик, капельмейстер и библиотекарь и множество любезников без должностей составляли свиту его и оживляли его пустыню. Всякий день, даже в будни, за столом гремела у него музыка, а по воскресным и праздничным дням были большие выходы; разделение времени, дела, как и забавы, всё было подчинено строгому порядку и этикету. Изображения великого князя Павла Петровича находились у него во всех комнатах; в саду и роще, там-сям встречались не весьма изящные памятники знаменитым друзьям и родственникам… Он наслаждался и мучился воспоминаниями Трианона и Марии Антуанеты, посвятил ей деревянный храм и назвал её именем длинную, ведущую к нему аллею. В глуши, изобилие и пышность, сквозь кои являлись такие державные затеи, отнимали у них смешную их сторону. Что сделалось теперь с памятниками и храмами? Что сделалось теперь с самим Надеждиным? О горе!..[54]
Смолоду князь Куракин был очень красив и получил от природы крепкое, даже атлетическое сложение. Но роскошь, которую он так любил и среди коей всегда жил, и сладострастие, к коему имел всегдашнюю наклонность, размягчили телесную и душевную его энергию, и эпикуреизм был виден во всех его движениях. Когда он начал служебное свое поприще и долго в продолжении оного, честолюбие в России умерялось удовольствиями наружного тщеславия; никто более князя Куракина не увлекался ими, никто более его не любил наряжаться. Легкомысленно и раболепно он не хотел, однако же, подчиняться моде: он хотел казаться не модником, а великим господином и всегда в бархате или парче, всегда с алмазными пряжками и пуговицами, перстнями и табакерками. Лучезарное тихонравие его долго пленяло и уважалось; но в новое царствование, с новыми идеями, кои постараюсь объяснить я далее, оно дало повод сравнивать его с павлином.
При вступлении на престол Павел Первый пожаловал его вице-канцлером, осыпал богатствами, обвешал орденами. Года через два он отставил его от службы, сослал в Надеждино; потом позволил ему жить в Москве, и незадолго до смерти своей вновь сделал его вице-канцлером. Осторожная, довольно плавная, хотя с некоторыми расстановками, речь его заставляла в нём видеть дипломата; а между тем, надобно сказать правду, бесчисленные фразы, затверженные им некогда во Франции, где на них такое изобилие, и отчасти переведенные им даже по-русски, составляли всю политическую его мудрость. За то, какою искусною представительностью, каким благородством, каким постоянством и нежностью в дружбе, заменял он все недостатки свои!
Мне предстояла завидная участь служить при нём, и он сам вызвался определить меня в свою канцелярию; обстоятельства того не позволили. С первых чисел октября напала на меня странная и ужасная болезнь: я всегда был на ногах, мог даже выезжать, но вдруг начал худеть, сон и аппетит меня совершенно покинули, неизъяснимая тоска мною овладела; в одно время чувствовал я озноб и жар, я весь горел, а спина и ноги были как лед; память, которой иногда я сам дивился, внезапно притупела; я сохнул, я таял, и врачи объявили, что в одну минуту могу угаснуть. Всё это было следствие невоздержности еще не юношеской, а ребячьей. О французы, о шевалье де-Ролен, как мне не проклинать вас!
Не было возможности и подумать в таком состоянии отправить меня в Петербург. Сестра моя, Алексеева, скрыла от родителей причину и опасность моей болезни и уговорила их, выпросив мне отпуск, взять меня с собою. Они обратились прямо к князю Куракину, который, щедрый на всё, приказал Бантышу-Каменскому отпустить меня на шесть месяцев. Когда к сему последнему, полумертвый, приехал я за паспортом, то, вероятно, недовольный тем, что дело без него сделалось, а может быть и по врожденной и привычной вместе грубости, сказал он мне: «Что, зачем едешь? Что будешь делать? Голубей гонять!» Я ничего не умел ему отвечать. Жестокий! С этой минуты, право, кажется, я стал его ненавидеть.
Отцу моему должно было спешить, чтобы всё приготовить к открытию новой губернии; для него был бы я только настоящее бремя. Итак мне оставались нежные попечения моей бесценной матери, которая собиралась обратно в Киев. Там были у родителей моих обширный, новопостроенный дом и хорошенький хутор за городом; там была большая дворня, экипажи, лошади, многочисленные пожитки, всё, что копилось и заводилось в течении тринадцати лет; там были и долги. Одно надобно было заплатить, другое продать и движимость поднять с места: много забот и горя ей предстояло. В сумерки 27 октября, посадили или, лучше сказать, положили меня в четвероместную карету и, при холодном дожде, пополам с снегом, выехали мы печально из Москвы.
XVIII
Из Киева в Пензу. — Старина Пензенского края. — Значение губернатора. — Симонов монастырь. — Отъезд в Петербург (1802).
Нас было в карете четверо: мы с матерью и старшею сестрой Елизаветой, да девица Турчанинова, которую, взамен услуги, оказанной её матерью, отвозили мы в Киев к родителям. Это была та самая ученая и засаленная Анна Александровна, о которой уже имел я случай говорить, магнитизерка, целомудренная естествоиспытательница. За нами следовали две или три кибитки, загроможденные горничными и тюфяками: тогда еще в России странствовали по-авраамовски, с рабынями, рабами и навьюченными верблюдами.
Я сидел рядом с матерью, а сестра и Турчанинова насупротив теснились в углу, чтобы дать место ногам моим. Как мучительно для всех нас было начало этой дороги! Особенно же положение бедной сестры моей было ужасное. При отъезде вручили ей медики для меня лекарство, объявив ей одной, что если до назначенного им времени оно не подействует, то смерть моя неизбежна. Нет, этой заботливости, которая, по расстройству нерв моих, меня иногда даже сердила, я в век не забуду. Лицо её отражало беспрестанно выражение моего: когда что-то похожее на улыбку показывалось на нём, она как будто на минуту отдыхала от страданий. Более двух суток продолжалось для неё сие жестокое волнение; мы приехали в Тулу, когда, по мнению её, наступила решительная минута, и мать моя не могла понять причины неотступных её молений, чтобы там остановиться. Перелом совершился, молодость свое взяла, и сестра ожила вместе со мною.
Чем далее подвигались мы на Юг, тем воздух становился чище и теплее. Запас жизненных сил в тогдашние мои лета бывает столь изобилен, что возвращение их, без преувеличения, можно уподобить быстроте потока. Еще несколько дней, и уже я в состоянии был ощутить радость, вступая в Малороссию и предчувствуя Киев.
Когда мы к нему подъехали, горы его зеленелись новою травой, и золотые его купола горели от лучей еще яркого, но уже не знойного солнца. От одного взгляда на святой город как бы чудесно довершилось мое исцеление. Это было в самый Михайлов день. Прежде всего остановились мы у Печерской лавры, чтоб отслужить благодарственный молебен за благополучное окончание путешествия, начатого в столь мрачном расположении.
Почти два года не был я в Киеве: в это время сколько перемен со мною и с ним! Старики и старушки, которые потихоньку доживали в нём век, питаясь скудным казенным содержанием, лишившись его при Павле, скоро переселились на тот свет и оставили нищие семейства. Он дождил на моря, на вельмож своих, а бедные нивы гибли неорошенные ни каплей его щедрот. Помещики малороссийские, из коих одни служили, другие приезжали пожить в Киеве, удалились из него почти до единого. Преобладание Польши с каждым годом увеличивалось; но и сами поляки, служившие по выборам, жили в нём с семействами своими только два месяца в году, во время контрактов, а остальное время навещали их иногда в деревнях. Два полка, стоявшие в нём на квартирах, несколько оживляли пустынный вид его.
Представительницей прежнего, согласного, благополучного киевского общества оставалась одна почтенная, умная, добрая и даже еще красивая старушка, о которой не понимаю как я забыл прежде говорить. Впрочем, весьма кстати она мне здесь пригодилась. Иульяна Константиновна Веселицкая, по первому мужу Белуха-Кохановская, имела решительно пристрастие к Киеву; не только власть поляков, нашествие татар не могло бы заставить ее из него выехать, тем более что она долго жила с ними: второй муж её был последним русским посланником при предпоследнем хане Крымском; но он дани ему не платил, а по состоянию вдовы его, по драгоценным вещам, коими она владела, заметно было, что дани он сам от него принимал.
От обоих браков госпожа Веселицкая имела по нескольку сыновей и по нескольку дочерей; одни были давно женаты, другие за мужем. Посреди нежно подобострастного, многочисленного потомства, коим она кротко повелевала, казалась она в доме своем какою-то царицей. В это время выдавала она замуж одну из своих внучек, и в день свадьбы нарумянилась, принарядилась, право, хоть бы самой к венцу. Когда я к ней явился, по старой привычке, погладила она меня по голове, взяла за подбородок и поцеловала в уста, называя своим «гарным хлопцем». Вообще постоянное её веселонравие, приличная её летам шутливость и Украинский её язык делали ее для всех приятно-оригинальною.
Дом госпожи Веселицкой был столь же веселый, как название её и она сама. Хлебосольство в старину имело свою худую сторону: неучтиво было не потчевать, неучтиво было не есть, а кушанье было прескверное. У Иульяны Константиновны была другая крайность; потчивание шло своим порядком, но и без него можно было объесться: всё было свежее, хорошее, хотя и не весьма затейливое. В изящных художествах, как и в поваренном деле, конечно, вкус должен образоваться; но иногда бывает он и врожденный, как у моей милой старушки. Её советам и приказаниям повара её были обязаны своим искусством; она заимствовала у Москалей блины, ватрушки и кулебяки, усвоила их себе, усовершенствовала их приготовление и умела сочетать их с малороссийскими блюдами, варениками и галушками. За её столом сливались обычаи и нравы обеих Россий, Восточной и Западной, Великой и Малой. В детстве меня редко брали к ней; теперь никто не осмеливался препятствовать ей меня кормить, а аппетит у меня был преужасный.
Нельзя себе представить, как эта женщина была любима и уважаема своими знакомыми. Родственники её зятей и невесток и её собственные, Иваненки, Гудимы, Масюковы и другие, да и просто знакомые, беспрестанно приезжали из-за Днепра, единственно за тем, чтобы с нею видеться; одни останавливались у неё, другие нанимали квартирки; они никуда не выезжали: в её доме видели весь Киев и, пробыв некоторое время, возвращались к себе. Ни одного поляка нельзя было у неё встретить, зато русские бывали всякий кто хотел.
А хотели того многие; ибо не было тогда ни одного русского дома, куда бы ежедневно запросто можно было ездить. Гражданский губернатор, г. Коробьин, старый артиллерист, хороший дворянин, добрый и честный человек и не без состояния, любил приглашать иногда к себе земляков на обед или на вечер, но большую часть времени проводил в уединении. Вице-губернатор Четвериков и другие русские чиновники жили все про себя; а в Киеве, казенном городе, как я сказал и прежде, общество только и поддерживается что служащими людьми.
Поляки же, как видели выше, даже семейные, жили на холостую ногу. Один только из них, весьма почтенный человек, богатый вдовец, губернский маршал, тайный советник Козловский, имел, что называлось, открытый дом. Когда судьба отечества его решилась, не прежде, чистосердечно сделался он предан России и двух сыновей своих определил в гвардию[55]. Он, без различия, принимал поляков и русских, и как с теми, так и с другими, обходился вежливо и ласково.
Всего охотнее собирались поляки не у соотечественника своего, а у англичанина, который тогда был военным или генерал-губернатором Киевским. Вследствие какой-то несчастной истории, господин Феньш или Феньша (Fenshaw) должен был навсегда оставить свое отечество; он приехал в Россию и вступил в военную службу. Ни в особе, ни в заслугах его не было ничего блистательного, он всегда служил в армии, полегоньку подвигался в чинах и кое-как перебивался, чтобы содержать жену и семейство. Когда его произвели в полковники, то дали ему Елецкий пехотный полк и Московский, вместе с генеральским чином. При Павле, оставаясь не более как шефом этого полка, он успел в короткое время получить по старшинству чин генерала от инфантерии, и когда предместник его, Повало-Швыйковский, восьмой в четырехлетнее царствование Павла Киевский военный губернатор, чем-то перед императором провинился, то сей последний, заглянув в список, назначил на его место неизвестного ему Феньша. Он за что-то ожидал также себе отставки, когда пришло известие о кончине царя.
Про него говорили, что в военном деле он смыслит очень мало, в гражданском же ровно ничего, а попал в начальники двух или трех губерний! Такие примеры теперь уже не редки, и никого более не удивляют. Самая наружность его не могла вселить к нему уважение: коротенький, толстенький человечек, не имеющий ни одной оригинальной черты англичан, с самыми бесцветными характером и физиономией, не умный и не глупый, не добрый и не злой, не приветливый и не грубый. Находили, однако же, что он имеет некоторую ученость, потому что хорошо умеет говорить по-английски и знает что такое парламент, о котором немногие у нас тогда слыхали. Жена его, Софья Карловна, была, по крайней мере, похожа на что-нибудь: она напоминала собою нянек и ключниц своей нации, и по-французски английским наречием говорила очень забавно.
Чета сия забилась в уголок просторного деревянного дворца, построенного Елизаветой Петровной, во вкусе всех публичных зданий её времени. Чтоб отыскать их, надобно было проходить ряд нетопленных комнат, из коих две были обиты атласом в позолоченных, отчасти облупившихся рамах: роскошь, которую, по крайней мере в Киеве, можно было тогда найти в одном только царском жилище. Сии две комнаты изредка отоплялись и освещались, и в них давали они не балы, а балики, на которые приглашаемо было самое отборное общество, то есть поляки, иностранцы, да из русских те только, которые знали не один свой отечественный язык. Так как французским языком промышлял я тогда уже очень порядочно и готов был плясать до упаду, то на сих балах не только был я не лишним, но даже желаемым гостем. Всех моложе и лучше бывала тут недавно вышедшая замуж Мошковская, урожденная Ворцель; всех старее и страшнее овдовевшая, всё еще полная жизни, Шардонша.
Вот в каких отношениях находились друг к другу члены разнородного тогдашнего киевского общества. Упрямые, милые мои хохлы показывали твердость, непреклонность, которые во многих случаях нам бы не худо было перенимать: они жили особняком, удалялись от поляков, но с русскими обходились как с братьями; дом г-жи Веселицкой, как сказал я, был их сборным местом. Наши же любезные русаки, столь забывчивые, слишком сообщительные, готовы были водиться со всеми; некоторые, однако же, и самые почтенные, недовольные военным губернатором и явно его презирающие, собирались иногда у гражданского, который с ним не совсем был в ладах. Поляки, чуя уже близкое могущество свое в Петербурге, с каждым днем становились более наглы и надменны. Главный приют их был у Феньша.
Их дерзость обнаружилась еще более, когда перед Новым Годом начались контракты и ярмарка. Из всех юго-западных губерний стекались их земляки, и сильные числом, они позволяли себе в обществе разные неблагопристойности, а в городе даже бесчинства и неистовства, вламываясь ночью насильно в хижины убогих вдов, матерей сирот-красавиц, но соседями и работниками всегда с побоями и стыдом были прогоняемы. На балах, которые два раза в неделю давались за деньги в контрактовом доме, то есть в биржевой зале, многие из них вздумали являться в народном костюме и даже танцевать мазурку в шапках, напивались пьяны, делали обиды и думали, что настало опять время их грубой вольницы. Молодые армейские офицеры, которые с воцарением Александра также чувствовали себя более свободными, начали вступаться за себя, за дам и за знакомых; от того заводились ужасные ссоры, оканчивавшиеся обыкновенно толчками и пинками, с коими выпроваживали поляков. К счастью, до поединков никогда не доходило. Феньш, разумеется, держал их сторону и офицеров сажал под караул. Но их было множество, и разгневанные поляки, объявив, что перестанут ездить на контрактовые балы, если тех не прогонят, сдержали свое слово; не могли однако же удержать жен и дочерей своих, которые ни за что бы не отказались от удовольствия танцевать с ловкими москаликами. Итак поле сражения и тут осталось за русскими. К стыду моему, должен признаться, что внутренне был я за поляков, во-первых, как за побежденных, а во-вторых, как за людей, по мнению моему, более образованных.
Жизнь моя вообще текла весьма приятно, со всеми был я хорош и на тайные и явные несогласия смотрел довольно равнодушно; только пользовался свободой менее чем в Москве: я даже не имел права без слуги ходить пешком по улице. В этом не было никакой стеснительной меры; но, по старому баловству, матушка всё опасалась, чтоб я не ушибся, или не был кем обижен. Из молодых людей моего возраста, всего чаще бывал я с прежним моим товарищем Индусом и с старшим сыном Феньша, его адъютантом, малым весьма добрым и веселым[56].
Для матери моей житье было хлопотливое; она никуда почти не выезжала, стараясь сколь можно скорее окончить свои домашние дела, и едва к концу января успела с ними управиться. Известия из Пензы были самые радостные: отец мой прибыл в нее благополучно и был встречен с восторгом; не говоря уже о долголетних любви и уважении, коими он там пользовался, он явился ту — да как милостивая грамота, возвращающая прежнее достоинство разжалованному городу. Дворяне, желая угодить правительству, на первом съезде сделали большие пожертвования для основания училища, и сумма из того составившаяся обращена впоследствии на учреждение губернской гимназии. После тьмы, в которую четыре года старались погрузить Россию, все с рвением начали искать в ней света наук. Во время выборов помещики беспрестанно пировали, объедались и опивались, опаивали и окармливали друг друга.
Наконец, пришла и нам пора туда отправиться. Хотя я всегда чрезвычайно любил Киев, хотя маленькая, сердечная, но совсем безвинная связь, о которой, впрочем, не стоило бы и говорить, умножала тогда в глазах моих его прелесть, я не без удовольствия помышлял о сей дороге. Мне казалось, что в Киеве я как принц путешествующий инкогнито, а туда еду как бы на царство. К тому же я — возбуждаем был и любопытством увидеть сторону, которую никогда не видал и о которой так много слышал. Я всегда живал на оконечностях России, бывал и в сердце её, Москве, но во внутренние, нечистые, так сказать пищеварительные её части, Симбирск, Пензу, Саратов и Тамбов, никогда не заглядывал.
Итак 31 января, выехав из Киева не без грусти, я однако же свою страстишку, свой любовный хмель проспал на первом ночлеге.
Зима была непостоянная: два раза в Малороссии выпадал снег и замерзали реки, и два раза он пропадал и они вскрывались. По тонкому льду перешли мы через Днепр пешком и с опасностью и трудом переправили повозки. На другой стороне ожидало нас новое горе: замерзшая, голая земля, по которой в четвероместном возке не знаю как дотащились мы до первой станции на лошадях. Желая выиграть время, мать моя разочла, что для сокращения пути лучше всего ехать почти проселочными дорогами, на местечко Басань, на Прилуки, Ромен и Сумы. Лошадей везде было мало, но и полсотни их с трудом могли бы нас везти на полозьях без крохи снегу. К счастью, Украина, как и Молдавия, отчизна волов; на них, шаг за шагом, должны мы были проехать 250 верст. Покрывая всё небо, густые снежные облака висели над нами и как будто нас дразнили: это было несносно. За пределами Малороссии перешли мы в другую крайность: мы тонули в снегах. Но что рассказывать о бедствиях, столь обыкновенных во время зимних странствований по России? Мы проехали Курск и приехали в Воронеж.
Там находился на квартирах Малороссийский кирасирский полк, в коем служил средний брат мой Николай, и у него мы остановились. Накануне, сбившись с дороги в сильную метель, мы плутали половину ночи и измученные приехали часу в десятом утра. Матушка с сестрами, старшею и маленькою, целый день посвятили отдохновению; а меня тотчас брат повез смотреть город и представлять главным оного лицам. Всё это было как на лету, и я их всех перезабыл, кроме двух: шефа братнина полка, генерала князя Ромодановского, и главного Воронежского откупщика, который садился с гостями за жирный и званый обед и нас убедительно пригласил остаться. Про него несколько слов.
Это был дворянин в купечестве, отставной гвардии полковник Федор Николаевич П…-С…, праправнук древних бояр, из столбовых первый у нас, который, сбросив предрассудки старины, прозрел будущность России. Муж дальновидный, по ходу дел и по направлению умов, он предусмотрел, что скоро не чины, не заслуги, не добродетели будут в России доставлять уважение и вести к знатности, а богатство, единое богатство; он не погнушался предводительствовать целовальниками и собирать дань с порока и один попятился, дабы с потомством и семейством (коего еще не имел)[57] далеко скакнуть потом вперед.
После убийственно-сытного обеда, на часок завернули мы домой, чтобы навестить матушку, а в пять часов были уже в театре. Изо всех русских городов в одном только Воронеже была тогда вольная труппа, составившаяся из охотников и отпущенных на волю крепостных актеров. Она не совсем плохо играла Ненависть к людям и Раскаяние, Коцебу. В восемь часов был я на бале у богатого фабриканта Горденина (который почти накануне выдал дочь за дипломата Муратова, впоследствии Харьковского губернатора) и проплясал до второго часа ночи, имея в виду со светом отправиться далее в путь. Подвиги неимоверные даже в тридцать лет, и весьма естественные в пятнадцать или шестнадцать, когда скука более всего утомляет, и забавы служат отдохновением.
Врат поехал провожать нас, получив от князя Ромодановского отпуск на две недели. Опять пустились мы по ухабам, как по замершим волнам и, минуя Тамбов, без дальних приключений проехали степные места, на Юг от него лежащие. Вот, наконец, въезжаем мы в Пензенскую губернию; это было за полночь. Ужаснейшая вьюга, какую могу только запомнить, как бы предвестие всех неприятностей, ожидающих моих родителей, нас тут встретила. Мы потеряли дорогу, ехали целиком, люди и лошади выбились из сил, и мы готовы были остановиться и, лишь бы не замерзнуть, кое-как укутавшись, ожидать дневного света, как вдруг завидели вблизи небольшую деревню. Скорее туда, и в избе, довольно опрятной, согрелись и отдохнули. На другой день всё было тихо и ясно; крестьяне, узнав, что у них ночевала губернаторша, привалили толпой, чтобы помочь нам, посмотреть на нас и выпроводить на большую дорогу, которая недалеко оттуда пролегала; староста или волостной голова также явился с хлебом и солью. Я полюбопытствовал спросить название сей деревни; мне отвечали Чембар. Проезжая по улице, я видел одни только соломенные кровли и ветхую, большую, деревянную церковь; мне никак не могло прийти тогда в голову, что скоро тут будет уездный город, что учредителем его будет мой отец, что в нём построится несколько каменных зданий, и что лет через тридцать русский царь проживет в нём две недели, ожидая исцеления.
Еще оставалось нам сделать 120 верст. Несмотря на наше губернаторство, на военный мундир и крики моего брата, несмотря на покорность и всеусердие смотрителей и ямщиков, должны мы были иметь еще один ночлег и пробыть более суток в дороге.
Остановившись в 13-ти верстах от Пензы, в деревне нашей Симбухине, месте рождения моего, отправили мы брата с известием о нашем приезде. За несколько дней до того, прибыли из Москвы сестра Алексеева с маленьким сыном и провиантский брат наш Павел из Казани, куда он быль послан по какой-то комиссии. Вместе с ними покойный отец не замедлил прискакать к нам. Сделался общий съезд. Давно уже члены согласного нашего семейства не бывали все вместе; тут, исключая зятя, соединились все, можно сказать, живые и мертвые, ибо в нескольких шагах лежали усопшие мои братья и сестры. В семействе нашем любили мы друг друга по старине, долго не знали твое и мое, всё было общее; можно посудить о нашей радости, сколько рассказов, сколько ответов, прерываемых новыми вопросами, сколько ласк и даже сколько поцелуев! Сладостные часы мелькнули как минута, и когда совсем почти смерклось, пустились мы в Пензу.
При имени сего города что-то чудное во мне происходит: я чувствую умиление и негодование вместе. Там принял я жизнь, там отец мой долго вкушал верховное в мире блаженство, там лежит он с обеими своими супругами, там единственная моя собственность. Но там же горестями и страданиями, сократившими дни его, заплатил он за прошедшие радости; там каждый из нас испытал множество неприятностей, оскорбительных для самолюбия.
Совсем было темно, когда мы въехали в этот город. Красивые виды его были скрыты от глаз; я не мог даже заметить, что он стоит на горе; чернея, мелькнули передо мною избы, домики и дома его. Мне стало грустно, сам не знаю от чего. Ни почетный прием, сделанный матери моей у самого подъезда, где дожидались её несколько чиновников и городничий[58], ни обширный, теплый и ярко на этот случай освещенный дом, куда вошли мы, ни радости протекшего дня, ничто меня не веселило. Сие было 19 февраля, в среду на масленице; четыре дня увеселений предстояли мне, и это меня более пугало: я бы хотел провести их с семейством в Симбухине. Никого не знал я из жителей, и заранее все они мне не нравились.
Посещениям мужским и дамским и разного рода приглашениям на другое утро не было конца, так что матери моей не оставалось времени ни порядочно отдохнуть, ни сделать визиты, и она поневоле должна была казаться неучтивою. В двадцать, в тридцать домов, один неизвестнее мне другого, повезли меня. Всякий день, в 10 часов утра, бывали где-нибудь завтрак и блины, а потом катанье за город, волчья травля, садка или бег; после того званый обед, за которым обыкновенно следовало при фонарях катанье с гор; наконец, в третьем месте бал и ужин. Так продолжалось четыре дня до самого чистого понедельника, и это отчаянное веселие, этот шум несколько заглушили непонятную во мне тоску. Я бы более насладился, если бы сквозь учтивости и ласки, мне оказанные, проглянуло сколько-нибудь добродушия: его я ни в ком не заметил. Ни живого, сердечного веселия прежних киевских балов, ни пристойности столичных собраний не нашел я тут; казалось
После ужасов набега Татарин буйный пировал.Как праздник встретил я Великий пост. Противоположность сырной недели и первой поста была в провинции, если возможно, еще более резкая, чем ныне. Мы вновь уединились и, как бы предвидя, что никогда уже, все без изъятия, не будем соединены, почти не расставались. В день Сборного воскресения, в день православия, после обедни, сестра и брат не отлучены были от семейства, а разлучились с ним: одна отправилась обратно в Москву, а другой в Воронеж, не с проклятиями, а с благословением родительским.
Прежде нежели я примусь описывать Пензу, её жителей, дух её общества, попрошу у читателя дозволения на страну, ее окружающую, бросить взгляд в историческом отношении. Нет никакого сомнения, что некогда пролегал тут главный путь из России в Орду. Сколько князей и бояр тут проехало! Баскаки спешили чрез сии места, чтобы грабить нашу землю; великие князья и митрополиты Московские раскидывали тут свои шатры, и в них горестно молили Бога о защите. Монгольское племя, более всех других привязанное к кочевой жизни, могло основаться только среди необозримости степей и покидало их тогда только, когда стремилось за добычей. Татары, народ от монголов совершенно отличный и им подвластный, давший им свое имя и переживший их владычество, не столько чуждались оседлости. По всем вероятиям, татары, как передовое войско монголов, заняли опушку русской земли, пространство между Волгой и Мокшей, но по малочисленности своей могли на нём жить только рассеянно. Для них гористые и плодородные места, изобильные водой и лесом, представляли удобства, о коих монголы не могли помышлять. Названия мест и рек, в Пензенской и соседних с нею губерниях, показывают, что тут сделалась настоящая Татария: Ардым, Кевда, Мелсита, Кучюк, Пор, Анзыбей, Инсара, Селикса, Чембар, самая Пенза и множество других, коих и не перечтешь и в коих не сыщешь и следов славянского корня[59].
После завоевания Казани, русские без опасения и без спросу стали захватывать земли, занятые их врагами. Тогда всё что было народное было царское, и всё что было царское было народное; в древние варварские времена, как у нас, так и в Европе, главы народов делились славою и богатством с теми кто разделял их опасности, с верными своими сподвижниками, кои за них и с ними проливали кровь свою. В новейшее же время человеколюбие и просвещение государей… судят о том иначе: они усыновляют новых подданных, не только равняют в правах побежденных с победителями, но даже первым перед последними дают несчетные преимущества; орудия бросают с презрением и обнимают с любовью приобретения, ими добытые. Теперь Боже спаси от завоеваний! Они суть только тягость, а не сила государства.
Но не о том речь. Итак русские селились между татарами. Как предки их, подвигаясь на Северо-восток, гнали перед собою мерю, весь и финские племена, и строили Муром, Ростов и Суздаль, так и они, расширяясь на Юго-востоке, теснили потомство своих властителей и поглощали самое их народонаселение. Уверяют, что при Борисе Годунове поток до того усилился, что начали опасаться, чтобы не иссякнул самый источник его, и что сие заставило укрепить за помещиками живущих на земле их людей. Кажется, прилив всего сильнее был около Пензы, равно как и число встреченных им татар, и оттого сие место сделалось средоточием русско-татарской помеси.
Всякий, кто едет из Москвы, проехав Арзамас, может легко в том убедиться: всё изменяется вдруг, природа и люди; горы становятся всё выше и круче, леса тенистее, избы ниже и неопрятнее, лица смуглее, физиономии выразительнее и суровее. Переселившиеся туда русские дворяне переженились на дочерях бесчисленных татарских мурз или князей, Маматказиных, Мамлеевых, Колунчаковых, Девлеткильдеевых, Чегодаевых, Мансыревых, коих потомство встречается во всех городах и селах и во многих местах пашет ныне землю. Следственно, и высший класс в том краю не совсем уже русский.
На берегу речки Пензы, близ втока её в Суру, стояло самое большое из новых селений. По негостеприимному, неуживчивому, бранчивому нраву его жителей, обрусевших татар, или отатарившихся русских, дано ему было название Облай-Слобода. В 1666 году (апокалипсическое число) царю Алексею Михайловичу угодно было возвести его в звание города и дать ему другое имя по реке, на которой оно было построено. С тех пор постоянно управляли им воеводы, до самого учреждения губерний при Екатерине.
Когда-то отцу моему, как Орфею, удавалось пленять сих лютых зверей; по его советам, как по голосу Амфиона, когда-то поднимались камни и, стройно ложась друг на друга, образовывали стены и дома. Но сие время прошло; с тех пор простота оставила их черствые души, а просвещение не успело еще смягчить их. Я где-то говорил уже о Пензе и сказал, что помещики с своею прислугою составляют большую часть, а купцы и мещане едва треть её населения. В таком уездном городе, стоящем вдали от губернских, вне главных путей сообщения, городничий не мог быть важным лицом, а напротив должен был стараться всем угождать; обществом же управляли одни предрассудки и партии. Самые ужасы Павловых времен не заглядывали в сию глушь. Это была республика в забытом углу, как Сан-Марино в Италии. Так продолжалось пять лет, и после того во всяком начальнике, поступающем по законам и соблюдающем порядок, должны были сии люди видеть тирана.
Надобно знать, какое мнение сами губернаторы и вообще все жители имели прежде о высоком их звании. Губернатор был луч сияния царского, хозяин губернии, защитник её прав, ходатай у престола. Не обремененные тысячью мелочей, как ныне, не стесняемые бесчисленными формами, не обязанные беспрестанно отправлять срочные ведомости, коих никто не читает, не окруженные лазутчиками, не устрашаемые ответственностью за всякую безделицу, не видящие равносильных управлений других ведомств, от них вовсе не зависящих, спокойные, уважаемые, могли они беспрепятственно творить добро и в благе вверенного им края видеть собственное. Но и к достижению сего завидного положения, охотно сохраняемого большую часть жизни, были также нужны права, зрелый ум и зрелые лета, опытность в делах, несомнительная нравственность, сотворенное себе честное имя, уважение приобретенное собственными поступками. После выбора первых сановников государства, самым труднейшим почитался выбор губернаторов. Несмотря на беспорядки Павлова правления, пусть вспомнят, кого нашел император Александр и кого сначала определил в сии должности. Имена Львова, Панкратьева, Руновского, Миклашевского, Рунича и других поныне произносимы с душевным уважением и благословляемы в тех местах, коими они управляли. Если поверят мне в изображении отца моего, то кто более его мог надеяться украсить собою место начальника губернии? А едва прошел март месяц, как появились уже неудовольствия и несогласия. Я должен объяснить здесь начало и причину их.
В Пензенской губернии было тогда семейство ***, безобразных гигантов, величающихся, высящихся, яко кедры ливанские; и прошел век мой, и увы! не мог я сказать: се не бе! И кто взыщет место их, тот обретет еще нечестивое их высокомерие в Симбирске и Саратове. Там живут еще старшие члены семейства ***. Глава его был человек неглупый, с большим состоянием: он имел труппу актеров и музыкантов, имел каменный дом в Москве, и давал балы, каких тогда можно было найти в ней по двадцати каждый день. В чине отставного поручика (дело дотоле неслыханное) был он раз выбран губернским предводителем; если прибавить к тому чрезвычайно высокий его рост, то сколько причин, чтобы почитать себя выше обыкновенных смертных! В нём и в пяти гайдуках, им порожденных, была странная наклонность не искать власти, но сколько возможно противиться ей, в чьих бы руках она ни находилась.
Огромнейший из его детищ, А, служил при Павле в генерал-прокурорской канцелярии; там сошелся, сблизился он с человеком самого необыкновенного ума, о коем преждевременно говорить здесь не хочу. От него заимствовал он фразы, мысли, правила, кои к представляющимся случаям прилагал потом вкривь и вкось. Известно, как быстро при Павле везде шло производство: в двадцать два года был он уже надворный советник и назначен губернским прокурором в Пензу. Природа, делая лишние усилия, часто истощает себя, и чрез меру вытягивая великанов, отнимает у них телесные силы. Так то было с этим ***. Глядя на его рост, на его плеча, внимая его грубому и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря; но согнутый хребет обличал его хилость, и в двадцать лет не с большим одолевающие его хирагра и подагра заставляли его часто носить плисовые сапоги и перчатки. Бессилие его ума также подавляемо было тяжестью идей, кои почерпнул он в разговорах с знаменитым другом своим и кои составляли всё его знание… Первые месяцы оставался он спокоен, принимая участие в общем веселии и не расстраивая общего согласия. Одно происшествие подало ему повод себя обнаружить. Шатающийся в Пензе отставной офицер, по имени Чудаковский, пьяный, дерзкий и развратный, сделал одно из тех преступлений, которые в России были тогда почти не слыханы: насильственно был он причиною смерти одной несовершеннолетней девочки. По принесенной о том жалобе, отец мой велел его засадить и предать уголовному суду. *** немедленно вошел с протестом, в коем, самым неприличным образом порицая злоупотребление власти, старается оправдывать виновного, увлеченного якобы силою любви. Это было в начале Страстной недели; всё что было порядочных людей, пришло в ужас, а в других сначала сие возбудило одно только любопытство. Бумагу сию можно почитать манифестом зла против добра. Безнаказанность такой наглости, несколько времени спустя, ободрила всех врагов порядка: знамя было поднято, они спешили к нему… Наконец, малейшее неудовольствие на губернатора, за всякую безделицу, за невнимание, за рассеянность (чего бы прежде не смели и заметить) бросало в составившуюся оппозицию многих помещиков, впрочем, не весьма дурных людей, но необразованных и щекотливых).
Нескоро отец мой мог всё это понять; служивши долго при Екатерине, когда власть уважали и любили, и несколько времени при Павле, когда трепетали перед нею, ему не верилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безрассудно и нахально восставать против неё. Он не скрывал своего негодования и жаловался старому другу своему Беклешову; а тот с одной стороны успокаивал его конфиденциальными, совершенно приязненными письмами, а с другой грозил официально ***, что выкинет его из службы, если он не уймется. Но сей последний умел скрывать получаемые им бумаги, коих содержание сделалось известно только по оставлении им должности: казался весел, покоен и каждый день затевал новые протесты. Отец мой был в отчаянии, не зная что подумать о генерал-прокуроре, а *** ничего не страшился: он знал что происходит в Петербурге и ничего так не желал, как, наделав шуму, явиться туда жертвою двух староверов. Наконец, действительно велено ему подать в отставку, и он послал просьбу; но она пришла уже к преемнику Беклешова, который, с честью его уволив, причислил к себе. Я не знаю ничего позорнее этой краткой борьбы между умным, пылким и благородным старцем и бессмысленным, бесстрастным и безнравственным юношей.
В поступках этого человека можно было видеть нечто отчаянно-смелое и можно было в нём предполагать необычайную силу духа; напротив, трудно было сыскать человека более его трусливого. Старшие братья мои и иные молодые люди говорили ему в глаза жестокие истины, от коих всякого другого бы взорвало; мне случилось видеть, как один граф Толстой в бешенстве взял его за ворот, но он остался непоколебим, понюхивал табак и, величественно улыбаясь, старался всё обратить в шутку. Мне сказывали потом, как при всех объявлял он, что не согласится ни за что в мире на поединок. Подобно одному глупцу нынешнего времени, он любил твердить о своей магистратуре; ею, по словам его, как священною мантией, прикрывался он от ножа или кинжала убийцы (чего опасаться, кажется, было трудно), но никогда не упоминал о шпаге или пуле противника, который однако же мог бы явиться.
Я видел только самое начало этой брани, ибо шестимесячный срок моего отпуска миновался, и далее мая месяца мне в Пензе нельзя было оставаться.
Но и после ***, война не прекращалась. Перед отъездом моим мне хотелось бы показать главные лица, в ней подвизавшиеся. Жители Петербурга, привыкшие с таким презрением смотреть на всё что происходит в провинциях, улыбнутся при чтении описываемого мною и назовут это бурею в стакане воды. Но в этом стакане считается до миллиона жителей, и он заключает в себе не менее десяти немецких герцогств с их дворами, министрами и войсками. Не беда, если легкомысленный и праздный столичный народ почитает недостойным своего внимания благосостояние целой области; но правительству необходимо заботиться о её спокойствии и быть осмотрительным в выборе людей, туда посылаемых. В изображении пензенских беспорядков оно могло бы увидеть те, которые происходили или происходят и ныне в других губерниях.
Мне было очень больно, что земляки мои по сердцу, малороссияне, сделались первыми нашими врагами. Из советников Черниговского губернского правления, Иван Андреевич Войцехович назначен был председателем Пензенской Гражданской Палаты. Его почитали тонким и хитрым, а он по природе был только человек скрытный, но не злой и не коварный. Кажется, к чему бы ему было хитрить, зачем бы интриговать? Он не был ни честолюбив, ни алчен к деньгам, и честность его в делах могла бы обратиться в пословицу[60]. Но у него была жена, гораздо моложе его, Прасковья Акимовна, из фамилии Сулимов, самолюбивая и завистливая. Губернаторство моей матери ее мучило, и она к чему-то придралась, чтобы поссориться и, как говорится в провинциях, разъехаться домами. Тогда разъехавшийся дом её сделался прибежищем всех недовольных. Между ними первые явились два единоземца ее, один, Данилевский (был после директором гимназии), а другой… видно был лицо не весьма примечательное, потому что имя его ускользнуло от моей памяти. С нею ли в одно время они приехали или прежде? Зачем они приехали, и за что прогневались на нас? Кажется, нет никакой нужды знать, даже мне самому, а кольми паче другим: довольно, что они были очень злы. В кругу семейства и соотчичей, нам столь враждебных, мог ли Иван Андреевич оставаться совершенно беспристрастным? По крайней мере он никогда не переставал быть скромен в речах, учтив во встречах, не переставал также до некоторой степени, как греческий мудрец, покоряться неукротимой своей Ксантиппе. В тридцать лет, госпожа Войцеховичева могла бы быть довольно недурна собою. Но внутренняя ярость, часто выступавшая на лицо её, успела рано провести на нём несколько морщинок; улыбка, всегда язвительная, не придавала никакой приятности устам, которые, как уверяют, открывались для одной только хулы; над самым челом её, среди черных волос, являлся уединенно целый густой клок седых. Итак она была не красавица; не в состоянии будучи воспалять любовь, она, искусно проповедуя независимость и равенство, умела возбуждать вражду и мщение. Я бы назвал ее пензенскою мадам Roland, если бы не было у неё приятельницы, необузданностью и дерзостью ее превосходящей.
Низенькая, толстенькая, почти четвероугольная крикунья, Степанида Андреевна Кек, была женщина умная, воспитанная в Смольном монастыре, украшенная золотым вензелем Екатерины Второй. В ней можно было видеть разницу между просвещением и образованностью. Занятия её жизни были новостью для пензенских барынь: она любила много читать и даже переводить книги, сама учила детей, украшала свой сад, выписывала редкие растения, разводила их и прекрасными цветами могла бы снабдить весь город. За то всякая баба, торгующая на базаре, всякий мужик был её вежливее и пристойнее; даже ныне, когда приличия света всё более и более почитаются предрассудками, ее манеры были бы нестерпимы. Чистосердечная грубость предполагает обыкновенно доброе сердце, а у этой толстушки весь жир разведен был желчью. Её муж, из немцев, где-то служил, когда-то получил какой-то чин, военный или статский, и разбогател, отдавая деньги в рост. Года за два до нашего приезда, купил он имение неподалеку от Пензы и поселился в ней с супругою своёю и тещей, также немками. Про него ничего не говорили, его никогда не видели и знали токмо под именем мужа Кекши. Кажется, он помаленьку занимался прежним ремеслом и в уединенной тишине любовался только звонким металлом, умножающим невыносимое громогласие жены его, которая за него разъезжала, действовала, а говорила за десятерых. Мать моя никак не умела или не хотела скрывать, сколь посещения этой женщины ей неприятны; она должна была знать, что в провинции изъявленная холодность, хотя впрочем без малейшей неучтивости, разрывает знакомство, и что разрыв знакомства возжигает непримиримую вражду; она боялась оглохнуть и на всё решилась.
К сим двум приятельницам начали приставать все горделивые жены Пензы. Ни малейшей причины к неудовольствию им не было подаваемо; они искали предлогов. Им казалось тягостным обыкновение, искони, заведенное в губернских городах, съезжаться по воскресеньям на вечер к губернаторше; к тому их никто не приневоливал, а они требовали невозможного: чтобы в продолжении недели всем им отданы были визиты. Они поудержались и ожидали упреков, кои не оставили бы назвать взыскательностью; но их отсутствия не заметили, они продлили его и, наконец, объявили, что видно общество их не нужно. Целый легион демонов в женском образе ополчился тогда против моих родителей, и еще более против доброй моей матери. В сем полчище особенно примечательны были только две сестры, старые, кислонравные девки, недавно запасшиеся послушными мужьями — Бровцына и Есипова; они были ехиднее самой Войцеховичевой и бешенее Кекши.
Дам, хотя и не совсем достойных сего названия, пустил я вперед, во-первых из учтивости и во-вторых потому, что непосредственно после *** они первые повели атаку; да еще по тому уважению, что женская злость, равно как и женская доброта, всегда далеко превосходят мужскую. Столь же ничтожные причины подвигли против отца моего и некоторых помещиков, живущих в Пензе. Могли выйти неприятности по делам, по службе; можно было жаловаться на несправедливости, претерпеваемые от подчиненных, но этого ничего не было; наговоры, сплетни, косой взгляд, вот чего достаточно было, чтобы породить ненависть. Отъявленным, главным врагом нашим почитался некто ст. с. П.А.Г., семидесятилетний старик, утопавший в постыдном любострастии. Владея хорошим родовым имением, он чрезвычайно умножил его экономическими средствами, будучи экономии директором и потом вице-губернатором в Вятской губернии, населенной как известно, почти одними только казенными крестьянами; его экономическая система что-то не понравилась; нашли, что она накладна для казны и не совсем учтиво отказали ему от должности. Он приехал на житье в уездный тогда город Пензу, где всех он был богаче, всех старее летами и чином, где не весьма строго смотрели на средства к обогащению и охотно разделяли удовольствия ими доставляемые. Старость его, которую называли маститою, была отменно уважаема: ибо за дешевый, хотя множеством блюд обремененный, стол его садилось ежедневно человек по тридцати. Только что за обоняние, вкус и желудки были у гостей его! Кашами с горьким маслом, ветчиной со ржавчиной, разными похлебками, вареными часто в нелуженой посуде, потчевал их этот человек, в коем тщеславие спорило с ужасною скупостью. Одним обыкновенным хлебосольством не ограничивалось его великолепие; длинный ряд комнат довольно низкого, одноэтажного, деревянного дома его был убран с большими претензиями; но всё там было неопрятно, нечисто как совесть хозяина. В огромном мезонине, подавлявшем сей низенький дом, помещался театр, где играли доморощенные его актеры и музыканты[61]. Официальная сила отца моего не могла нравиться народности пензенского гранда; к тому же самая противоположность характеров не допускала их сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отец мой воздерживался однако от всего, что могло произвесть короткость, и один раз, захворав от его обеда, старательно отклонял потом новые его приглашения. Чего же более для совершенного разрыва?
Тот о коем кончил я рассказ, может почитаться добродетельным в сравнении с тем, о ком я стану говорить и о ком без омерзения не могу я вспомнить Нравом, сердцем, правилами и поступками, равно как и лицом, фигурой, взглядом и голосом, я не знавал человека хуже Семена Алексеевича ***… В нём одно совершенно отвечало другому и равно было гнусно и отвратительно. Распространяться об нём я много не буду, опасаясь, чтобы не стошнилось, а скажу только о необыкновенном способе, который употреблял он для стяжания себе богатства. Он заводил тяжбы со всеми соседями, преимущественно же с мелкими дворянами; когда он приводил их в отчаяние, то мирился с ними не иначе как с условием уступить ему их малые участки на низкую цену, которую он сполна не выплачивал, и они отступались от неё, чтобы от него как-нибудь отвязаться. Когда у других шел спор об имении, то с предложениями о покупке его он обращался единственно к тем, кои лишались надежды выиграть дело и таким образом, за самую умеренную цену приобретал поместье и процесс. Этот ябедник действовал не подкупом, а страхом; он во всех судах был ужас и бич присутствующих, секретарей и повытчиков. Когда мы приехали в Пензу, говорили, что у него в одно время было тридцать два процесса. Такие люди редко бывают щекотливы, а этот еще требовал уважения: дело невозможное для человека с честью, каков был отец мой; а вот еще и новый злодей!
Многочисленное семейство его было примечательно родовым, наследственным свинообразием. Жена его никуда не показывалась: какая-то ужасная болезнь, коей начало приписывали сожитию её с мужем, до того изуродовала лицо её, и так уже весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Из его детей мне особенно памятна одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличенным пропорциям тела её, сами родители прозвали Дунаем, и у которой была удивительная страсть ловить мух и глотать их. Со взором дикого зверя, имела она туловище коровы и птичий вкус: ламайские язычники могли бы почесть ее божеством.
На другой дочери его женился несколько лет потом спустя, один из глав коалиции, игрок О… Выгнанный сперва из столиц, потом из губернских городов, сей смелый, но видно не довольно искусный человек, неоднократно изобличенный в мошенничестве и воровстве, избрал убежищем свободную тогда Пензу. Довольно уже неопытных юношей, довольно неосторожных мужей прошло чрез хищные его руки, чтобы дать ему средства завести хороший дом и жить в нём прилично. Некоторая роскошь есть одна из приманок, одно из необходимых условий для промышленников такого рода и обращается им под конец в привычку и потребность; она дом его сделала привлекательным. Меры при отце моем принятые полицией к прекращению публичных заседаний в сем доме ожесточили г. О…, хотя никто не мог воспретить ему действовать тайно, и хотя для ловитвы его открыто широкое поле на всех окрестных ярмарках.
Не высчитывать же мне всех пакостников, вошедших в сообщничество с вышесказанными людьми, всех подлых их приверженцев! Не без труда и с частыми позывами ко рвоте мог изобразить я змей, а до ядовитых насекомых уже не спущусь. Сии нечистые стихии образовали не тучу, как говорит пословица, а навозную кучу, из которой однако же гром не переставал греметь во время управления отца моего. Она составилась, разумеется, не в один день. *** положил её начало, но обстоятельства, в коих находилась тогда вся Россия ее умножили и усилили.
Спросят, может быть, как человек с умом и твердостью, каким представлен мой отец, мог не пренебречь дерзостью и происками людей запятнанных, по большей части столь ничтожных? Как не умел он обуздать их? Я уже сказал выше, что при Павле невинно-гонимые прятались по деревням, а множество справедливо преследуемых наполнило Пензу. Число — весьма важное дело, там где начальник, без подпоры в столице, должен вооружаться против всякого рода зла одною своею правотою и благонамеренностью. И действительно, он долго сражался и часто побеждал; но чего ему это стоило! Времена были необыкновенные: грубое свободомыслие, которое при Екатерине допустили разойтись по России, притеснениями Павла получило некоторую сущность и благостью Александра думало утвердиться. Как вскоре после изобретения пороха и огнестрельных орудий, в эту минуту открыт новый образ войны против начальств и правителей, и первый опыт сделан в Пензе. Старому рыцарю, отцу моему, мало помогали сначала щит его и копье, добродетель и честь; но он образумился и убедился под конец, что и одною храбростью можно иногда одолевать число и искусство, Стратегические правила этой войны усовершенствовались ныне, когда не только губернаторы, но и сами министры, по вверяемым им частям, идут как на бой; тогда же люди, облекаемые высокою доверенностью царскою, спокойно садились на места свои, на коих по долгу совести и присяги бесспорно творили суд и расправу.
Пусть смеются надо мной, а в низких и глупых беспорядках Пензы я и доселе вижу глухой, невнятный отголосок 1789-го года. Только после двоекратного посещения нами Парижа в 1814 и 1815 годах, страшные звуки его начали становиться у нас понятнее и яснее. Но как либерализм и безверие так рано забрались в такое захолустье, когда ни в Киеве, ни в Петербурге и Москве я, по крайней мере, об них и не слыхивал? Киев от заблуждений Запада был защищаем ненавистью и презрением к Польше, откуда могли они в него проникнуть; в Петербурге и в Москве видал я только людей, напуганных ужасами революции. В нечестивой Пензе услышал я в первый раз насмешки над религией, хулы на Бога, эпиграммы на Богородицу от таких людей, которые были совершенные неучи; впрочем, они толковали уже о Нонотте, о Фрероне и об аббате Рене, и топтали их в грязь, превознося похвалами Кандида и Белого Быка: авторы и сочинения мне были тогда вовсе неизвестны. Я не хочу быть пророком; но, судя о будущем по прошедшему и настоящему, и теперь уверен в душе моей, что если б когда-нибудь (помилуй нас Боже) до дна расколыхалась Россия, если б западные ветры надули на нее свирепую бурю, то первые её валы воздыматься будут в Пензе[62]. Во время Пугачевского бунта вероломством и жестокостью никто не превзошел её жителей; в 1812 году, изо всех ополчений одно только Пензенское возмутилось в самую минуту выступления против неприятеля.
Да, так: почти сорокалетнее негодование мое и поднесь не истощилось; неугасимая ненависть к Пензе и поныне наполняет мое сердце. Пусть люди добрые, но не знающие глубоких ощущений, равнодушные к добру и злу, в шуме светских увеселений или в заботах службы теряющие память о иных обязанностях, пусть подозревают они меня в клевете, пусть обвиняют в жестокосердии, в ужаснейшей злобе! Я не ропщу на них: им не понять меня. Не всякому дано священное, небесное чувство беспредельной сыновней любви, не у всякого отец был праведник, не у всякого распинали его, как у меня.
Я назвал главных злодеев наших, не сказав, в чём состояли их нападения и какой имели они успех. Всё это так тесно связано с тем, что я видел потом в Петербурге, что отделить от того почти невозможно, и я предоставляю себе рассказать о том в следующих главах.
Но и везде не без добрых же людей; их было довольно и в Пензе. Не знаю, показались ли бы они такими в другом месте, но там их общество было услаждением: нравственности были они не строгой, любезностью ума не пленяли, о просвещении уже и не спрашивай, более или менее заражены были невежественною спесью; но многие из них были забавны своими странностями и не были чужды понятиям об обязанностях и достоинстве человека. Частые поездки мои в Пензу доставят мне много случаев говорить о них, и потому ограничусь я теперь описанием вообще их образа жизни.
На самом темени высокой горы, на которой построена Пенза, выше главной площади, где собор, губернаторский дом и присутственные места, идет улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческого дома в ней не находилось. Не весьма высокие, деревянные строения, обыкновенно в девять окошек, довольно в дальнем друг от друга расстоянии, жилища аристократии, украшали ее. Здесь жили помещики точно также, как летом в деревне, где господские хоромы их также широким и длинным двором отделялись от регулярного сада, где вход в него также находился между конюшнями, сараями и коровником и затрудняем был сором, навозом и помоями. Можно из сего посудить, как редко сады сии были посещаемы: невинных, тихих наслаждений там еще не знали, в чистом воздухе не имели потребности, восхищаться природой не умели.
Описав расположение одного из сих домов, городских или деревенских, могу я дать понятие о прочих: так велико было их единообразие. Невысокая лестница обыкновенно сделана была в пристройке из досок, коей целая половина делилась еще надвое, для двух отхожих мест: господского и лакейского. Зажав нос, скорее, иду мимо и вступаю в переднюю, где встречает меня другого рода зловоние. Толпа дворовых людей наполняет ее; все ощипаны, все оборваны; одни лежа на прилавке, другие сидя или стоя говорят вздор, то смеются, то зевают. В одном углу поставлен стол, на коем разложены или камзол, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается; в другом подшиваются подметки под сапоги, кои иногда намазываются дегтем. Запах лука, чеснока и капусты мешается тут с другими испарениями сего ленивого и ветреного народа. За сим следует анфилада, состоящая из трех комнат: залы (она же и столовая) в четыре окошка, гостиной в три, и диванной в два; они составляют лицевую сторону, и воздух в них чище. Спальная, уборная и девичья смотрели на двор, а детские помещались в антресоле. Кабинет, поставленный рядом с буфетом, уступал ему в величине и, несмотря на свою укромность, казался еще слишком просторным для ученых занятий хозяина и хранилища его книг.
Внутреннее убранство было также везде почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальною люстрой и в простенках двумя зеркалами с подстольниками из крашеного дерева; вдоль стены, просто выкрашенной, стояло в середине такого же дерева большое канапе, по бокам два маленьких, а между ними чинно расставлены были кресла; в диванной угольной, разумеется, диван. В сохранении мебелей видна была только бережливость пензенцев; обивка ситцевая, или из полинялого сафьяна, оберегалась чехлами из толстого полотна. Ни воображения, ни вкуса, ни денег на украшение комнат тогда много не тратилось.
Когда бывал званый обед, то мужчины теснились в зале, вокруг накрытого стола; дамы, люди пожилые и почетные и те, кои садились в карты, занимали гостиную, девицы укрывались в гинекее, в диванной. Всякая приезжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налево стоящим мужчинам и целуя их в щеку; всякий мужчина обязан был сперва войти в гостиную и обойти всех сидящих дам, подходя к ручке каждой из них. За столом сначала несколько холодных, потом несколько горячих, несколько жаренных и несколько хлебных являлись по очереди, а между ними неизбежные два белых и два красных соуса делили обед надвое. Странное обыкновение состояло в обязанности слуг, подавая кушанье и напитки, называть каждого гостя по имени.
Вообще Пенза была, как Китай, не весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикет в ней бывал иногда мучителен. Барыни не садились в кареты свои или колымаги, не имея двух лакеев сзади; чиновники штаб-офицерского чина отменно дорожили правом ездить в четыре лошади; а статский советник не выезжал без шести кляч, коих называл он цугом. Случалось, когда ворота его стояли рядом с соседними, то передний форейтор подъезжал уже к чужому крыльцу, а он не выезжал еще с своего двора. С воцарением Александра дамы везде перестали пудриться, только в Пензе многие их них не кидали обычая носить пудру. Щеголеватостью ни форм, ни нарядов прекрасный пол в Пензе не отличался, ни даже приятною наружностью. Только в первые дни пребывания моего там, на Масляной, две красавицы мелькнули предо мною, как мимолетные видения: одна генеральша Львова, урожденная Колокольцева, была тут проездом; другая госпожа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила в Саратовской деревне, и скромная добродетель её часто походила на суровость.
Один почтенный, степенный и богатый человек, Николай Васильевич Смирнов, жил в Пензе прилично и благородно. При малолетнем сыне его был гувернером меньшой брат известного уже шевалье де-Ролена. Не имея ни любезности, ни ума старшего брата, он был гораздо его нравственнее. До революции стоял он с полком в Аяччио, где хорошо знал семейство Бонапарте и выучился по-итальянски. Чтобы не совсем праздно проводить мне время, пригласили его посещать меня и давать мне французские и итальянские уроки; в последнем я не имел времени сделать больших успехов, достаточно, однако же, чтобы впоследствии понимать слова в операх; а мне только и было нужно. Из Москвы сделаны были ее гению Ролену выгоднейшие предложения, и он оставил дом г. Смирнова. Давно уже срок моего отпуска прошел, но не знали с кем меня отправить, а одного, по глупости моей, не решались; и потому воспользовались отъездом г. Ролена.
Как мне ни жаль было расстаться с родителями, но я сделал сие не без удовольствия, покидая вместе с ним неприятную и неприязненную Пензу. Мы выехали, помнится, 29-го мая, в одной из широких и глубоких кибиток, которые употреблялись тогда для дальних дорог. Путевые издержки, разумеется, были на счет моих родителей. Погода была чудесная, дорога как скатерть, я лежал как в колыбели, и хотя сухощавый француз, у которого пересчитать можно было косточки, иногда и морщился от езды, не совсем для него покойной, но только на минуту, а потом опять начинал смеяться и шутить. Рассказам его, и весьма занимательным, не было конца, и мне кажется, ни одного путешествия я так скоро не совершил. До Саранска и далее, до самой границы Пензенской губернии, проворно закладывали нам лошадей, услуживали нам и, как перед дофином Пензенским, снимали передо мной шапки. Подъезжая к Арзамасу, пренебрежение к проезжим, мальчику и французу, сделалось очень приметно; я гневался, а француз хохотал, рассуждая о превратностях мира и падении царств. По дороге от Пензы до Москвы, на Муром и Владимир я столько раз потом проезжал, что описание её мне кажется столь же мало любопытно, как рассказ о путешествии с Невского проспекта на Крестовский остров.
В Москве нашел я сестру и зятя, поселившихся почти за городом. Не всё же было хорошо при обожаемой мною Екатерине: не довольствуясь отнятием имений у монастырей (чем уменьшились, едва ли не уничтожились власть и влияние духовенства, а следственно уважение к нему), князь Потемкин нанес при ней святотатственную руку на самое существование многих из обителей; в том числе упразднены были в Москве знаменитый ныне Симонов, и прежде Крутицкий монастыри. Сей последний долго был местопребыванием епархиального архиерея, коему вместе с епархией давал даже свое имя[63]. Опустевшие кельи его обращены были в казармы полицейских драгун. Из них сформировал Алексеев два эскадрона и был назначен их командиром. Они служили менее для пользы, чем для украшения полиции, и были потехой для их начальника, который от полицейских забот отдыхал, научая их кавалерийской службе. Очень порядочные дворяне соглашались вступить в сии эскадроны и носить белый султан, коим украшались офицеры; промотавшиеся, буйные, молодые купчики пленялись также высокими касками, и многие входили в них рядовыми. Алексеев баловал их, приголубливал, иных производил в унтер-офицеры, всячески приманивал и составил из того что-то весьма красивое.
Помещения внутри монастыря для него самого не было: архиерейские кельи отдал он офицерам. Но летом как можно менее хотел он расставаться с своими любезными эскадронами, и потому близко от них занял он пустой, невысокий, деревянный дом, с обширным садом, принадлежащий отсутствующему его приятелю князя Жевахову. Туда перевез он жену и детей, и там нашел я их.
Там же провел я всё лето, могу сказать, в недрах природы и полиции. Оно прошло для меня быстро, следственно чрезвычайно приятно: я полюбил долгие уединенные прогулки, которые мне уже не возбранялись. Крутицы находятся между Новоспасским монастырем и Симоновым, в равном почти расстоянии как от того, так и от другого; в сем пространстве обыкновенно заключались мои прогулки. Во мне родились новые чувства, которым не было имени; я любил без предмета, желал без цели, наслаждался без всякой чувственности, думал без мыслей, столь же мало как птица, которая летает по ясному небу. Как назвать это, сумасшествием или мечтательностью? Знаю только, что мне было очень хорошо и что ничего подобного никогда уже после я не ощущал. Я полагаю, что это было лихорадочное состояние самой первой молодости, какой то избыток жизни, без всякой причины, без всякого потрясения готовый на всё изливаться. Не в состоянии будучи выразить того, что я чувствовал тогда, пусть позволено мне будет сказать несколько слов о местах, кои были свидетелями моего странного блаженства.
Пространство, занимаемое бывшим Крутицким монастырем, очень велико; монахи насадили внутри стен его прекрасную липовую рощу, а затем остается еще, также внутри ограды, довольно обширная площадь, чтобы делать на ней кавалерийское ученье. Двойные ворота, служившие ему входом, с маленькою церковью над ними, украшены и поныне множеством каменных столбчиков, на коих искусно высечены ветви, листья и птицы, покрытые зеленою и другими красками. Новая, большая церковь стоит у самого входа и обращена в приходскую; старая же соединялась с бывшими архиерейскими кельями посредством открытой галереи или переходов, также поддержанных кручеными столбчиками, с навислыми между ими сосульками; но всё это не каменное, а муравленное, облитое разноцветною глазурью[64]. Чудо как это было хорошо! Но без всякого присмотра всё это билось, ломалось, портилось. В самой же церкви сделан был цейхгауз. Я полюбопытствовал раз заглянуть туда и, несмотря на мою молодость, смутился духом: от верху до низу стены сохраняли еще изображения святых угодников, а внутренность завалена сукнами и кожами; на сохранившемся каменном алтаре, о срам, о ужас! лежали седла и уздечки. Такой вандализм, что право хоть бы в революционной Франции.
С Новоспасским монастырем почти соединяется бывший Крутицкий примыкающею к нему слободкою, а от Симонова отделялся тогда длинным полем, ныне частью застроенным. Симоновская обитель едва начинала тогда вновь подыматься; она всё еще казалась опустевшею: так мало иноков еще в ней собралось. Как часто, среди тишины её, даже в сумерки, бродил я между могильными камнями, без робости и печали, а с каким-то душевным спокойствием! Самая смерть в глазах моих не имела тогда ничего угрюмого. Мне неизвестны были исторические лица двух героев-отшельников, Осляби и Пересвета, похороненных в старом Симонове, во ста саженях от нового; но кто в Москве не знал вымышленного лица Бедной Лизы? И я не редко посещал Лизин пруд. Повесть Карамзина привлекала чувствительных к нему на поклонение; она первая указала на красоту Симоновских видов, открыла вновь дорогу к забытым стенам его и, вероятно, подала мысль о его воскресении.
Впрочем, не всегда мечтательным, но иногда и положительным, грубым наслаждениям я предавался. Получив не задолго перед тем, за открытие большего заведения фальшивых ассигнаций, Аннинский крест на шею, зять мой праздновал сие важное, но тогдашним понятиям, для него событие веселым пиршеством, и жалел, что не мог угостить начальника своего, графа Салтыкова, который с своею графиней и семейством уехал на всё лето в Петербург. Случалось, что полиция с нами любезничала, делая маленькие иллюминации в роще и маленькие фейерверки в поле. Иногда песельники, балалаешники, плясуны, такого рода потехи, Которые приятны только летом на открытом воздухе, забавляли нас. Иногда в след за этими самыми песельниками, в темную ночь, спускались мы к Москве-реке и слушали, как, с рожками разъезжая в лодках, они оглашали берега её. В день Преображения Господня и Успения Богоматери, вся Москва пешком, верхом, в каретах и телегах, подымалась на гулянье вокруг соседних с нами монастырей.
Просрочив и опасаясь грубостей Бантыша-Каменского, я не спешил к нему явиться; но он принял меня, о диво! как бы ни в чём не бывало. Умный старик сметил, наконец, что взыскательность с мальчиками, кои на год или на два записываются в его архив для получения чина, совсем неуместна, когда всё гласит о снисходительности.
Но вместе с уменьшением его строгости, архив лишился многих приятностей. Никто уже (и я в том числе) так часто в него не ходил: скука была ужасная, не с кем почти было слова вымолвить. Куда девались все наши молодцы? Одни переселились в спокойный уже Петербург под покровительство к родным; другие получили места при миссиях; одни путешествовали за границей, другие доучивались в иностранных университетах; а иные, не покидая архива, выпросились на лето в деревню. Единственною для меня отрадой были встречи с двумя сослуживцами, прежним Блудовым, и новым Губаревым. Я нашел, что первый чрезвычайно вырос, потерял немного прежней живости (чему причины я тогда не знал), за то, кажется, еще более поумнел; другой был добрый, остроумный весельчак, который потом деревенскую жизнь предпочел исканию почестей.
Многие из жителей Москвы и оставшихся моих товарищей всё твердили о Петербурге, жилище светозарного ангела, земном рае, где люди свободны, блаженствуют и трудятся единственно только для добра. Очарование всё еще длилось. Венчанный юноша уже хладел в пламенных объятиях России, уже неверные взоры его с любовью обращались к Западу; а её восторги не истощились. Все завидовали тем счастливцам, кои, служа в столице, могли участвовать в великих гражданских подвигах, преднамереваемых царем. Увы, несчастный! Зачем увлекся я общею молвою! Зачем послушали меня родители! Зачем вице-канцлер исполнил их желание! Около половины августа причислен я к делам коллегии, с тем чтобы, по прибытии в Петербург, поступить в канцелярию князя Куракина.
Я бы мог спокойно жить в беспечной Москве; изредка повышаемый в чинах, я бы до седых волос мог оставаться архивным юношей. В старике Каменском привычка обращалась в чувство; я бы стал копаться с ним в древних рукописях и мог бы сделаться полезным ему сотрудником. А если бы недостаточное состояние понудило меня искать содержания более выгодного, то сколько мест в Москве, где служба — продолжительный, приятный сон! Кремлевская Экспедиция, Почтамт, Опекунский Совет и другие. Нет, всею будущностью, спокойствием всей жизни пожертвовал я честолюбию, которое велели мне иметь и которого даже во мне не было. Кто знает? Не столь разборчивый, я мог бы встретить скромную, тихую деву, без причуд и шумихи Петербургского воспитания; я был бы ею счастлив, а она мною. В благорастворенном климате, ближе к природе, может быть я полюбил бы сельскую жизнь, малый достаток жены соединив с собственным; врожденною моею бережливостью я мог бы их умножить; семейство, научаемое мною умеренности, наследовало бы моему скромному счастью, и ныне ясный день тихо догорал бы для меня. Но нет! На путь жестоких испытаний круто своротила меня судьба с той мирной стези, которую указывали мне и природные наклонности, и положение, в коем я находился.
И что же? Много ли я выиграл перед теми, кои никогда не знали Петербургской службы? То я прыгал, то должен был на время останавливаться; а они спокойно шли ровным, тихим шагом, и от меня не отставали. И что за жизнь моя была, о Боже! Почти вся она протекла среди болот Петрограда, где воздух физически столь же заразителен, как нравственно. Сколько нужд перенес я в сем городе! Как постоянно рвался я из него! И в преклонных летах еще осужден я влачить в нём тяжелые оковы службы.
Но мне ли роптать? Ах, нет! Благодарю Тебя, Господи: по воле Твоей, необыкновенный, не низкий жребий мне выпал. Во тьме заблуждений, в кою ввергнута была моя неопытная, праздная молодость, никогда не переставали светить мне честь и вера, и голос совести моей, иногда мучительный, никогда не умолкал. Близ четверти столетия поставлен я в беспрерывных сношениях с врагами моей отчизны: то с иностранцами, коих она обогащает и коих ненависть возрастает по мере её благодеяний, то с неблагодарными единоверцами, для коих она должна быть светилом и упованием; то с единокровными её злодеями, некогда случайно отторгнувшими её области и насильственно водворившими в них чуждую ей веру, но более всего с безрассудными ее сынами, не постигающими истинных её и собственных своих пользы и славы. Почти с первого шага осмелился я вступить не в скрытый, но в явный с ними бой; Часто, часто изнемогал я под их ударами; иногда должен был бежать от одних и вдруг являлся перед другими. Благонамеренное, благотворное мне начальство само скучало иногда неблагоразумным моим рвением, готово было отступиться от меня и предать на произвол обстоятельств, но чем-то было удерживаемо. Недостаток в знании, расстроенное здоровье, часто следствие его — недостаток в деятельности, хитрость и сила врагов, ничто не изумляло меня, ничто не пугало. Нет сомнения, что падение мое близко; но я еще не погиб, но я всё еще стою, один, цел и невредим. Кто же сиял мне в пропасти? Кто говорил мне языком совести моей? Кто спасал меня от видимых и невидимых сил? Тот, Которого всегда осмеливаюсь называть я русским.
Пусть услышит Он мольбу благодарного и утомленного существа! Буди Его воля, если мне суждено до конца дней моих мучительно бороться! Но умилосердись, о Боже, пошли конец моим страданиям! Как одержимым тяжкими болезнями, дай вкусить мне предсмертное спокойствие хотя на малое время; дай окончить мне жизнь и уснуть вечным сном в недрах праотца или праматери городов Российских, в Москве или в Киеве, в виду священного Кремля или лавры Печерской, вдали от татарской, ненавистной мне Пензы, от финского, постылого мне Петербурга!
В нём начинается совершенно новая для меня эпоха жизни, чрезвычайно важная для самой России, эпоха нововведений, всё перепортивших улучшений. Я намерен описать ее в следующих уже не главах, а томах, если достанет у меня на то времени, здоровья и терпения. Мне нетрудно было изобразить первые годы моей жизни. Переносясь в сие отдаленное время, я начинал вновь существовать, живость воспоминаний оживляла мой рассказ; но отселе смех и шутка должны реже показываться в моем повествовании. Я перестаю уже быть мальчиком, живу в одиночестве, имею собственную волю, действую по собственному рассудку, смотрю внимательнее на ход общественных дел, одним словом становлюсь гражданином. В описании предметов более важных, не знаю, будет ли мне столько удачи?
В последний раз сопровождаем я был спасительным обо мне попечением моего семейства; мне не дозволили ехать одному. Старший брат мой Павел, за болезнью, опять оставил службу; его прислали из Пензы в Москву, чтоб отвезти меня и устроить на новом жительстве. Мы отправились 31 августа, а 4 сентября 1802 года прибыли в Петербург.
Часть вторая
I
Министерства. — Сперанский.
Мы остановились в «Лондоне», в одном из двух только известных тогда трактиров и заезжих домов, из коих другой, Демутов, принадлежащий к малому числу древностей столетнего Петербурга, один еще не тронут с места и не перестроен.
Большой живости не было заметно. Город только через десять лет начал так быстро наполняться жителями; тогда еще населением он не был столь богат; обычай же проводить лето на дачах в два года между всеми классами уже распространился: с них не успели еще переехать, и Петербург казался пуст.
Но если по наружности не было заметно большего движения, то в правительственных местах и канцеляриях была тогда большая деятельность; ибо 8 сентября издан достопамятный указ об учреждении министерств.
Двор находился тогда в Гатчине, и потому-то мы не нашли ни генерал-прокурора Беклешова, к которому брат имел поручение от отца, ни вице-канцлера князя Куракина, к которому я ходил являться. По странному стечению обстоятельств, приезд мой был вторично как будто сигналом удаления для Беклешова; меня же другой раз встретили в Петербурге обманутые надежды.
С учреждением министерств можно сказать уничтожался весь прежний ход дел в государстве и установлялся совершенно новый. Упрямство ли или дальновидность стариков заставляла их всеми силами противиться опасным, по мнению их, переменам. Их представили как людей, правда, опытных, но искусных только на практике, без единой государственной, созидательной мысли. Все они поспорили и покорились необходимости; один Беклешов вышел в отставку. Князя Куракина, кажется, не спросясь уволили от управления Иностранною Коллегией и утешили его тщеславие званием канцлера Российских орденов, что почиталось тогда в гражданской службе самым высшим местом[65].
О неудобствах, о вредных последствиях сего важного события, по крайней мере по моему мнению пагубного для России, должен я буду часто, почти беспрестанно, говорить в сих Записках. Здесь ограничусь объяснением, как умею, в чём состояла разница между старым и новым порядком вещей.
Кажется, простой рассудок в самодержавных государствах указывает на необходимость коллегиального управления. Там, где верховная, неограниченная власть находится в одних руках, и глас народа, чрез представителей его, не может до неё доходить, власть главных правительственных лиц должна быть умеряема совещательными сословиями, составленными из мужей более или менее опытных. Если суждения их, споры, даже несогласия несколько замедляют ход дел: за то перед государем они одни только обнажают истину, выказывают ему способных людей для каждого места и таким образом облегчают ему выборы. Так было в России до Петра Великого. Приказы, думы, суды превратились при нём в коллегии; число их умножилось: переменились названия, но не изменился существовавший порядок. Пред обновленною им древностью благоговели все его преемники до Александра.
Молодость сего государя, по образу мыслей, данному ему воспитанием и по внушениям почти столь же юных советников, пренебрегла опытом веков… Необходимо будет кратко и резко изобразить новые лица, которые выступают на сцену.
Всех старее если не летами, то чином, был граф Кочубей, родной племянник умершего канцлера князя Безбородки. Чтобы составить гений одного человека, натура часто принуждена бывает отобрать умственные способности у всего рода его. Так поступила она с великим Суворовым и славным Безбородкой. Окинув взором всех ближних и дальних родственников, покойный канцлер в одном только из них заметил необыкновенный ум, то-есть что-то на него самого похожее: сметливость, чудесную память и гордую таинственность; и племянника своего, Виктора Павловича, предназначил быть преемником счастья своего и знаменитости. Ничего не пощадив на его воспитание, в самых молодых летах отправил он его в Лондонскую миссию, к искусному дипломату, посланнику нашему графу Воронцову, на выучку. Оттуда прямо, через несколько лет, нашел он средство, с чином камергера, перевести его самого посланником в Константинополь. До смерти своей сохранив при Павле неограниченный кредит, он сначала вызвал его оттуда членом Иностранной Коллегии, а потом, в короткое время, успел доставить ему графское достоинство и звание вице-канцлера. Один, без дяди, при Павле, Кочубей долго не мог оставаться и, как многие другие, был сослан в деревню.
В царствование Александра надобно уже было ему жить собственным умом; ему было тогда не с большим тридцать лет. Он пренебрег обыкновенными ничтожными занятиями дипломатов, но большей части сплетнями хорошего тона, и хотел посвятить себя внутреннему преобразованию государства. Перед соотечественниками ему было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов и, как львенок Крыловой басни, собирался учить зверей вить гнезда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость — были блестящие завесы, за кои искусно прятал он свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил.
Другой сообщник в важном предприятии был тайный, непримиримый враг России, слишком известный потом, изменник Чарторыжский. Исступленным патриотизмом его мать заслужила от поляков название матки ойчизны; в объятиях этой матки, польской Юдифи, русский Олоферн наш, князь Репнин, не потерял, однако же, головы, и ойчизну её, когда был послом в Варшаве, заставлял трепетать перед собою. Князь Адам был плодом всем известного сего чудовищного союза. С малолетства напитанный чувствами жесточайшей ненависти к истинному своему отечеству, он посвящен был его же служению. Несколько времени находился он адъютантом при Александре Павловиче, когда тот был наследником престола, умея угодить ему, и составленную с ним связь сохранил почти всю жизнь его. При его воцарении вызван он был из Рима, где находился посланником нашим при Сардинском короле, который, лишившись Пиемонта, не очень спешил отправиться в Сардинию. Чтобы сойтись с другими любимцами царя, надобно было ему притвориться англоманом, что ему небольшого стоило. Кроме зла, не мог он желать России, и участие его в замышляемом её преобразовании, но крайней мере, показывает в нём много ума.
Третий соучастник был двадцатидевятилетний Павел Строганов, единственный сын графа Александра Сергеевича, известного покровителя художеств и Муз. Совершенным мальчиком видел он в Париже ужасы революции и был в восхищении от сего родного вулкана. С трудом могли его извлечь оттуда и перевести в Лондон, где глазам его представилось другое зрелище. Там увидел он блестящий призрак свободы, коим искусный деспотизм лордов тешил народ, и еще более пленился; и молодой русский лорд долго еще потом бредил Англией. Приятное лицо и любезный ум жены его сблизили с ним императора Александра, а её добродетель не могла его после разлучить с ним. Ума самого посредственного, он мог только именем и Фортуною усилить свою партию.
Весьма еще нестарый моряк был тогда уже контр-адмиралом. Он сим обязан был не собственным заслугам, а славе отца, одержавшего над Шведами знаменитую морскую победу. Имя Чичагова, прославленное отцом, впоследствии осквернено было сыном. Он также в душе был англичанин, в Англии учился мореплаванию и женат был на англичанке. В последние дни царствования Павла, смелые, даже дерзкие ответы его нетерпеливому деспоту, за которые засажен был он в крепость, приобрели ему общее уважение, которое сохранил он, пока другой известности не имел. Суровость моряка, в соединении с надменностью англичанина, сделала его потом ненавистным для русских; последний же его подвиг заставил их всех презирать его. Проклиная Россию, оставил он ее навсегда и с лихвою платит ей за ненависть и презрение, коими она его обременяет. Он был в числе затейников, которые думали устроить счастье её на прочном основании.
Всех старее летами и, конечно, всех выше умом был Николай Николаевич Новосильцов. Будучи сыном побочной сестры старого графа Строганова, он-то в Париж ездил выручать молодого, и сей услугой еще более скрепил родственные связи с дядей. Это было не одно путешествие, которое на его счет делал он за границу. Англия совершенно обворожила его; в ней только могла утолиться жажда его к познаниям, как и всякого другого рода его жажда. Там увидел он, что великий разврат не мешает быть великим человеком и, кажется, Фокса взял он себе за образец. Отчизну портера и эля, где не родятся, а льются мадера и портвейн, где опрятность и роскошь у самых грубых наслаждений отнимают всё что есть в них отвратительного, сию землю в тайне сердца избрал он своим отечеством. Он числился в армии подполковником и оставил службу вслед за смертью Екатерины. При Александре, который прежде его знал, сделан он был тотчас камергером и статс-секретарем. Молодой царь видел в нём умного, способного и сведущего сотрудника, веселого и приятного собеседника, преданного и откровенного друга, паче всех других полюбил его и поместил у себя во дворце. Его друзья держались им более всего и чрез его посредство только могли действовать на Государя.
И вот люди, которые, едва достигнув зрелости, хотели быть опекунами России и брались ее перевоспитывать. Нет сомнения, что они не могли бы иметь такого успеха, если б сам Царь не имел склонности подражать всему английскому. Его воспитание было одною из великих ошибок Екатерины Образование его ума поручила она женевцу Лагарпу, который, оставляя Россию, столь же мало знал ее, как и в день своего приезда и который карманную республику свою поставил образцом правления будущему самодержцу величайшей империи в мире. Идеями, которые едва могут развиться и созреть в голове двадцатилетнего юноши, начинили мозг ребенка, которого женили ранее шестнадцати лет. Не разжевавши их, можно сказать, не переваривши их, призвал он их себе на память в тот день, в который начал царствовать. Иногда у себя спрашиваешь: что было бы с красотою его души, если б любовь к отечеству сохранила ее, если б её не исказило безотчетное пристрастие к иноземному? И где бы тогда в летописях найти подобного ему царя?
Со времен Петра Великого судьба велит России покорствовать которому-нибудь из государств или народов европейских и поклоняться ему, как идолу. Чтоб угодить Петру, надобно было сделаться голландцем; Германия владычествовала над нами при Анне Иоанновне и Бироне; при Елизавете Петровне появился Лашетарди, и начались соблазны Франции; они умножились и усилились страстью Екатерины Второй к французской литературе и дружбою её с философами восемнадцатого века. Петр III-й и Павел I-й хотели сделать нас прусаками; в первые годы Александрова царствования Англия была нашею патроншей. Уж не Польша ли становится нашим кумиром?
Из-за пентархии, мною описанной, как будто скрываясь, выглядывал Сперанский. Сие ненавистное имя в первый раз еще является в сих Записках. Человек сей быстро возник из ничтожества. Сын сельского священника, возросший под сенью алтарей, он воспитывался сперва во Владимирской семинарии и учился потом в Александроневской Духовной Академии. Дух гордыни рано им овладел; как падшие ангелы, тайно восставал он против самого Бога и в первой молодости уже отвергал бытие Его. А между тем неверующий сей делал удивительные успехи в богословских науках, и враг церкви приготовлялся быть её служителем. В лета непорочности и чистосердечия приучал он таким образом лживые уста свои выражать то, чего он не думал. Может быть, оставаясь в духовном звании, келейная жизнь дала бы другое направление его мыслям, и демон, вынужденный хвалить Господа, убедился бы, наконец, в истинах, кои обязан был вседневно возвещать. Но случайно он был перенесен на сцену мирской жизни.
Меньшой брат князя Куракина, Алексей Борисович, хотел единственного сына своего воспитанием приготовить к занятию со временем одного из высших мест в государстве и для того просил митрополита Гавриила выбрать ему наставника из студентов или магистров Духовной Академии. Он прислал ему двух, из коих предпочтен Сперанский[66]. В сей новой сфере угождал он отцу, нравился матери, баловал сына и прельщениями очищал себе дорогу к будущим успехам. Он причислен к экспедиции казначейства, коею управлял князь Куракин; когда же сей последний при Павле сделан генерал-прокурором и пробыл им два года, то можно себе представить, как побежал он по ступеням почестей. При трех преемниках Куракина, князе Лопухине, Беклешове и Обольянинове, был он также деятельно употреблен и награждаем, но не имел главного влияния на дела.
Фортуну его сделал граф Пален, человек столь же мало, как и он, проникнутый светом христианской морали. Находясь в канцелярии генерал-прокурорской, он в тоже время был правителем канцелярии какой-то комиссии о снабжении резиденции припасами, коей Пален был президентом, по званию военного губернатора. Им был он представлен молодому императору, который тотчас же сделал его своим статс-секретарем. Заметив склонность Александра к нововведением, он предложил, как первый опыт, разделение дел тогдашнего Императорского Совета на экспедиции и взял одну из них в свое управление.
Никто из пяти преобразователей не умел ничего написать. Сперанский предложил им искусное перо свое и, принимая вид, как будто собирает их мнения, соглашает их, приводит в порядок, действительно один составил проект учреждения министерств. Тут увидел он всю пустоту претензий людей, почитавших себя у нас государственными, узнал всё их ничтожество, опытность старцев и зрелых мужей презирал, уважал одну только ученость, в этом отношении на гражданском поприще равных себе не видел и с тех пор приучился ставить себя выше всех.
В высоких, блестящих качествах ума никто, даже его враги, ему никогда не отказывали. Несмотря на безнравственность его правил (хотя и не поведения), в других обстоятельствах, в другое время, он мог бы оказать чрезвычайные услуги государству и пользоваться чистою славой. Он был еще молод, спешил блеснуть, и второпях не нашел ничего лучшего, как списать точь-в-точь учреждение министерств, коим Французская Директория надеялась поболее людей привязать к своему существованию, со всем преувеличенным его содержанием, со всем излишеством должностей. В нём признали творца, точно также как предки наши, не знавшие Корнеля и Расина, дивились изобретательности Сумарокова и Княжнина. Потомство будет уметь оценить создания Сперанского.
Хотя он (пусть простят мне сие простонародное выражение) и корчил иностранца, но в нём заметна была отличительная черта истинно русского человека: он не знал мести, не умел ненавидеть. Но за то никто из его соотечественников, даже сам Потемкин, так глубоко не умел всё презирать, с тою только разницей, что он умел делать сие неприметно. Я полагаю, что это происходило от совершенного равнодушия ко всему, кроме самого себя и своих творений. Он не любил дворянства, коего презрение испытал он к прежнему своему состоянию; он не любил религии, коей правила стесняли его действия и противились его обширным замыслам; он не любил монархического правления, которое заслоняло ему путь на самую высоту; он не любил своего отечества, ибо почитал его не довольно просвещенным и его недостойным. Тайный недруг православия, самодержавия и Руси, и в ней особенно одного сословия, он однако же их не ненавидел, в будущем довольствуясь мысленно их падением, не истреблением. Никто никогда ни в чём не мог его уличить; но кто знал его характер и правила, тот из действий его мог вывести достоверное заключение, что все они направлены к сей отдаленной цели. Когда сей зловещий дух показался на нашем горизонте, никто его не понял; все любили, ласкали его, дивились ему, даже гордились им, для всех был он надежа-Сперанский. Неблагодарный! И он мог не любить своего отечества? Только впоследствии, когда воспарил он гораздо выше и заключился в самом тесном кругу, когда он окружил себя какою-то таинственною, непроницаемою атмосферой, тогда только открылось поле для догадок и невыгодных об нём толков.
Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись, но, медленно поворачиваясь в сторону, как будто избегали встречи с другими взорами[67]; голос его был тих и несколько протяжен, улыбка принужденно-ласковая. В одеянии, в образе жизни старался он прилаживаться к господствовавшему вкусу. К счастью его, был он женат на девице Стивенс, дочери бывшей английской гувернантки в доме графини Шуваловой; он её лишился, но сохранил много из навыков её земли. Например, тогда уже завтракал он в одиннадцать часов, и завтрак его состоял из крепкого чая, хлеба с маслом, тонких ломтей ветчины и вареных яиц. Он не знал по-английски; умел однако же говорить маленькой дочери своей, нынешней Толстой-Багреевой: my dear, my pretty child, my sweet girl. Летом думал он ездить верхом, едва держась на кляче с отрубленным хвостом. Вот единственно сметная его сторона, которую неохотно я представил: мне не хотелось бы ничего в нём видеть сметного, а одно удивляющее, ужасающее. Впрочем, может быть, и это было притворство, а не претензия.
Читатель увидит далее, что мне случилось быть с ним, если не в близких, то в частых отношениях. Я разделял всеобщее в нему уважение; по и тогда близ него мне всё казалось, что я слышу серный запах и в голубых очах ого вижу синеватое пламя подземного мира.
Невозможно было вдруг разрушить старое, вековое здание; надобно было наперед вывести новые стены. Три министерства, иностранных дел, военное и морское, действительно, всегда существовали под названием государственных коллегий: с другими коллегиями их смешивать не должно. Президенты трех коллегий были фельдмаршальского чина и ходили прямо с докладом к царю; члены же их, иногда второго класса, никогда менее четвертого, управляли экспедициями (нынешними департаментами), на кои были разделены дела их. Прочие коллегий не имели ни одинаковой с ними важности, ни равных с ними прав. Их президенты, обыкновенно тайные советники, часто и выше, посылали доклады их чрез статс-секретарей, действовали, однако же, совершенно от них независимо и чрез прокуроров состояли только под наблюдением генерал-прокурора. Из них одна только медицинская переделана тогда в экспедицию; прочие же коллегии, оставаясь пока в прежнем составе и с прежними названиями, подчинены были ведомству пяти вновь учрежденных министерств.
Слово министерство было мало употребляемо: их знали более под названием департаментов, ибо при каждом министре находилось их первоначально не более, как по одному. Только впоследствии, с некоторым уменьшением, превратились иные в канцелярии, а подведомственные министрам коллегии образовались в департаменты. Иные читатели полюбопытствуют, может быть, знать состав первого министерства в России.
Министром иностранных дел и государственным канцлером назначен был престарелый граф Александр Романович Воронцов. Последняя должность, которую занимал он при Екатерине, было место президента коммерц-коллегии, где до того прославился он бесстыдным грабительством, что она принуждена была его выгнать, а Павел Первый никогда не хотел его употребить. К брату ого, Семену Романовичу, почти двадцать лет сряду послу нашему в Лондоне, любимцы государя имели сыновнее уважение; он же сам был известен угодливостью молодым людям. Причины гонения на него были забыты, он казался жертвой, был умен, сговорчив, на всё согласен и, несмотря на внутреннее и наружное его безобразие, на его неопрятность, на столь же запачканное платье, как и репутацию, занял он первое место в государстве. Товарищем его назначен князь Адам Чарторыжский.
Президенты военной и адмиралтейств-коллегий, фельдмаршалы граф Николай Иванович Салтыков и Иван Логинович Голенищев-Кутузов уволены от упраздняемых должностей, а вице-президенты сих коллегий, Вязмитинов и Мордвинов, назначены министрами. Покорность к предержащей власти была девизом старика Сергея Кузьмича Его доброта и честность были столь же известны, как ум его и деятельность: трудолюбием и долговременною беспорочною службой единственно попал он, наконец, в люди. К сожалению, нахождение его в малых чинах при лицах строгих и не весьма вежливых начальников оставило в нём какое-то раболепство, не согласное с достоинством, которое необходимо для человека, поставленного на высокую степень. Ни английского, ни какого другого иностранного, в нём решительно ничего не было; в нём также никто не мог бы узнать и древнего русского боярина, а старинного, честного, верного и проданного русского холопа. Это был не Беклешов, и такой человек должен был пригодиться при составлении министерства. Товарища ему не дали, и оттого он долее мог усидеть на месте; ибо генерал-адъютант граф Ливен, управляющий Военною Канцелярией при Государе, чаще его видел и не имел нужды быть министром.
Известный своими добрыми намерениями, обширными сведениями, живым воображением и притязаниями на прямодушие, Николай Семенович Мордвинов более нежели когда кипел в это время проектами. Он почитался нашим Сократом, Цицероном, Катоном и Сенекой. Политический сей мечтатель, с превыспренными идеями, с ложными понятиями о России и её пользах, должен был естественным образом сойтись в мыслях с молодыми законодателями. К тому же и он был женат на англичанке Кобле, говорил и жил совершенно по-английски. Но не более трех месяцев пробыл он морским министром. Он вообразил себе, что у нас подлинно парламент; мнения, им подаваемые, были столь смелы, что через два года после Павла показались даже мятежными, и он должен был оставить место товарищу своему Чичагову.
Державин, гений и дитя, поэт и пророк, как Давид, видя на троне воспетого им при рождении порфирородного отрока, увлекался сладчайшими мечтами. Всё что происходило в глазах его слишком отзывалось поэзией, чтоб ему не нравиться, и он с благодарностью принял звание министра юстиции и всё что уцелело от генерал-прокурорской должности. Год спустя после учреждения министерств, всесильный Новосильцов имел скромность не отвергнуть названия товарища министра юстиции.
Вышеописанные мною граф Кочубей и граф Строганов сделались: первый министром внутренних дел, последний его товарищем.
Столь благосклонный к отцу моему, граф Румянцев был президентом коммерц-коллегии, с званием министра, еще до учреждения министерств. В новом порядке другой перемены для него не последовало, кроме умножения власти и прав. С ним началось и прекратилось министерство коммерции.
Между министрами, наконец, встречаем лицо, сохранившее физиономию прежних времен. Необходимость заставила молодежь приобщить графа Васильева к своим предприятиям; а он, не в силах будучи остановить потока, решился, по крайней мере, пустив огромную ладью свою по его течению, стараться, сколько возможно, спасать ее от бурь. Финансовая наука была не столь трудна и многосложна, как ныне; однако же, кроме его, некому было часть сию поручить. Он с самых молодых лет и малых чинов всегда прилежно занимался ею, и хотя в звании государственного казначея и подчинен был генерал-прокурору, но действовал почти независимо. В нём была вся скромность великих истинных достоинств; он был в отношении к Мордвинову, как мудрец к софисту. Простота его жизни была не притязание на оригинальность, не следствие расчётов, а умеренности желаний и давнишних привычек. Будучи происхождения незнатного, едва ли дворянского, он не ослеплялся счастьем, никогда не забывался среди успехов. Сам Сперанский рассказывал при мне, как даже он был тронут патриархальностью, которою всё дышало в его доме. Вероятно для контраста дали ему Гурьева в товарищи; но о сем последнем пока ни слова.
Человек, который некогда красотою столько же славился как и умом и не одним последним умел нравиться Екатерине, который, не зная опалы, видел множество перемен при её дворе и, без всяких для себя неприятностей, осторожно и спокойно прошел бурные года царствования Павла, при Александре принимает участие в новообразуемом министерстве. Граф Завадовский, украинская умная голова, когда-то любимый секретарь Румянцева-Задунайского, всегда умел пользоваться жизнью и обстоятельствами. Исключая Сперанского, он один только знал по-латыни, а ведь это ученость: кому же приличнее его поручить министерство просвещения? Правда, его было весьма мало, по сначала нужно было только известное имя, под которым Сперанский брался распространить его. Товарищем к сему министру назначен Михайло Никитич Муравьев, муж ученый, кроткий и добросердечный, умный и приятный писатель, один из наставников Императора, к сожалению не довольно пылкий и твердый, чтобы сделаться одним из доверенных его советников. Он везде и во всём видел добро и столь же страстно любил его, как и искренно в него веровал.
Назначением пожилых людей в должности министров правительство хотело сообразоваться с тогдашним общественным мнением, которое, видя у кормила государственного одну только юность, неохотно бы ей вверялось. Сим назначением молодые претенденты хотели прикрыть свои намерения, которые состояли в том, чтобы, приложив практику к теории политических наук, кою думали они иметь, приобрести чрез то некоторую опытность, чтобы приучить публику видеть в них правителей и при первом удобном случае, без всяких усилий, спихнуть стариков. Все эти предосторожности были напрасны: ни один голос не поднялся против столь крутого переворота, все ему рукоплескали. Если б Государь составил совет свой из пятнадцатилетних мальчиков, то и его постановления были бы приняты как плоды высокой мудрости. Молодая Россия была без памяти влюблена в молодого Александра. А когда любовь бывает не слепа?
Утверждают, что в это время благонамеренный и неопытный Царь, подстрекаемый письмами из Женевы от учителя своего Лагарпа (кои после имел я случай читать и даже переписывать), хотел без всякого приготовления, единым махом, издать для России какую-то конституцию. Уверяют, будто приближенные его, несмотря на свое неведение и англоманию, столько еще смыслили, чтобы знать великую разницу между Англией и Россией, что они убедили его на время отложить свое намерение и взамен предложили учреждения министерств, как первый к тому шаг. Хороши бы мы тогда были! Родившись в России и никогда дотоле её не покидавши, напитанный русским воздухом самодержавия, Александр любил свободу, как забаву ума. В этом отношении был он совершенно русской человек: в жилах его вместе с кровью текло властолюбие, умеряемое только леностью и беспечностью. Дай русскому народу немецкое прилежание и терпеливость, и он владыка целого мира. Сейчас мы видели, как, пренебрегая общим мнением, столь выгодным для Мордвинова, за несколько смелых его выражений, Император внезапно удалил его. С другой стороны, невежественный наш народ и непросвещенное наше дворянство и теперь еще в свободе видят лишь право своевольничать. Что бы произошло от столкновения властей? Бог знает. А может быть, мы бы мигом прошли кровавое время беспорядков, и давным давно из хаоса образовались бы устройство и народность. Но всё-таки лучше, чтоб наши правнуки собирали плоды понесенных ими опасностей.
Итак министерства были первым из тех бесчисленных опытов, кои мы видим в течение почти сорока лет. Долго ли еще нам будет пытаться? Страшно подумать, что эти беспрестанные пробы могут довести нас, наконец, до какого-нибудь ужасного представления.
Я должен был посвятить изображению сего важного события, имевшего неисчислимое влияние на судьбу моего отечества, моего семейства и мою собственную, всю первую главу второй части сих Записок. Теперь пора мне возвратиться к самому себе и представить читателю первые шаги малоумного мальчика, брошенного без всякой подпоры в опасный для каждого столичный мир.
II
Петербургская знать. — Магницкий.
Узнав о великих переменах, кои занимали весь город, в недоумении что мне делать, я пошел отыскивать архивского своего знакомца, князя Козловского, служившего в канцелярии князя Куракина. Имея весьма скудное состояние, он на его иждивении жил в самом верхнем этаже занимаемого им дома. К удивлению моему нашел я его в десятом часу поутру на постели, хотя здорового; он дружески протянул мне руку, но воскликнул: как ты здесь, зачем ты приехал? Я сказал ему причину и приезда моего, и посещения, сказал, что пришел к нему разведать о всём по обстоятельнее и требовать его добрых советов. Он заговорил со мной непонятным для меня тогда языком Петербургских гостиных. Я увидел, что он попал в большой свет, им только и бредит, и вне его всё кажется ему ничтожным. Легкомысленный толстяк очень равнодушно говорил о перемене, последовавшей с его начальником, как будто она не должна была иметь никакого влияния на его участь; он оставался в том же кругу, не переставал ездить в те же общества. Из вздора, который он мне наговорил, мог я заключить только одно, что, зная мой нрав, мои привычки, судя по моим манерам, он предсказывал мне, что я никогда не буду блистать в Петербургском свете, и что лучше было бы оставаться в Москве. Дело шло совсем не о том, и я вышел от него очень недоволен. По крайней мере взялся он предупредить обо мне Куракина и сказал время, в которое он принимает. Всё это было совершенно не нужно; но почему мне было это знать?
Бывший вице-канцлер принял меня по обыкновению своему чрезвычайно ласково, расспросил о родителях, о службе ни слова, и пригласил на другой день на вечер. Действительно, вот всё, что он мог для меня сделать; а я по неведению моему полагал, что найду случай просить его о рекомендации, чего при всех сделать не осмелился. Вместо того очутился я в ярко освещенных гостиных, наполненных мужчинами и дамами самого высшего круга, мне вовсе незнакомыми. Князь сидел за бостоном и назвал меня тем, кои близко его находились. Козловский подошел ко мне с видом половину-дружеским, половину-покровительственным, поговорил немного и пожал руку, как будто поздравляя с первым успехом, который, может быть, он же и приготовил. Мне от того было не легче, я прижался в угол. К счастью, сын никогда неженатого хозяина, Сердобин имел человеколюбие подойти ко мне и немного заняться мною. Всего несноснее, всего досаднее показался мне один весьма красивый мальчик, самонадеянный, заносчивый, многоречивый, который громогласно, без всякого милосердия, рассуждал о французской литературе и театре: это был нынешний министр Уваров. Те, кои от самолюбия застенчивы, поймут, как мучителен для меня был этот вечер. Чрез несколько дней князь Куракин уехал в Москву.
Итак мне ничего не оставалось как потащиться в коллегию и представиться обер-секретарю её, Илье Карловичу Вестману, человеку очень приятному, совсем не похожему на Бантыша и Малиновского. Он мне сказал, что по возможности будут занимать меня и пригласил, а не приказал явиться в коллегию в такой день, в который она осчастливлена будет посещением канцлера графа Воронцова, товарища его и других ее членов. Сии последние, исключая столь важных случаев, не знали как отворяются в нее двери.
В это утро, обыкновенно почти пустые, чертоги коллегии наполнились чиновниками. Можно было ужаснуться собравшегося полчища. Прежние барьеры при Александре были сняты, число определяемых без жалованья ничем не было ограничено, мода влекла к сему роду службы, и добрый князь Куракин не любил никому отказывать. Исключая дежурства, весь этот народ не знал никакой другой службы; самолюбие у многих ограничивалось желанием схватить даром чина два-три. Тут в один раз увидел я всю праздную Петербургскую молодежь; с удовольствием встретил я и возобновил знакомство с архивскими товарищами, Колычевым и Ефимовичем: в первые дни пребывания в столице, всякую знакомую встречу можно почитать находкой.
Я следовал общему примеру, бывал как можно реже в коллегии, где мне нечего было делать и не с кем слова молвить. Не имея штаб-офицерского чина, я не был в числе дежурных, а только дневальных, и в этом звании должен был чрез каждые две — три недели ночевать в коллегии, в ожидании будто бы курьеров из-за границы, которые приезжали прямо в канцелярию министерства. Ко концу октября пришла графу Воронцову счастливая идея: он велел разделить между молодыми чиновниками, показывающими некоторую способность, дела Петербургского архива, и под руководством действительного статского советника Топоркова, дипломата старинного покроя, заставить их делать выписки, чтобы по ним судить о знании и талантах каждого. Мне достались на долю сношения России с Венецианскою республикой. Труда своего я не успел окончить, ибо скоро потом оставил коллегию, и потому не знаю, как бы он был принят; но теперь смело могу ручаться, что он никуда не годился.
Сколь ни молод я был, но в первую зиму пребывания моего в Петербурге мог я увидеть, что в нём только две дороги — общество и служба, выводят молодых людей из безвестности, в коей погрязают из них девять десятых. Самые успехи в русской литературе, коею так мало тогда занимались, если они не были чрезвычайные, не могли спасти от забвения.
Высокое общество не совсем похоже было на нынешнее. Оно было не столько еще снимок с прежнего Парижского, сколько копия с Венского. Там Венгерские магнаты, на собственном содержании имеющие войска, там немецкие князья, из коих многие пользуются правами, присвоенными владетельным государям, имперские графы, фамилии коих обладают несколькими майоратами, польские, богемские и итальянские роды, соединяющие древность происхождений с огромными богатствами. Из них составилась плотная масса, совершенно отделенная от других сословий, заимствующая часть блеска своего от императора и его двора, но самостоятельная, совершенно от них независимая. Кому известна Россия, тот знает, на каком зыблемом основании поставлена наша, так называемая, аристократия. Казалось, подражание тут дело невозможное; однако же оно отчасти удалось: мы где что подметим, то хотя на время, а уже верно искусно переймем.
Богатые Фортуны не были еще разделены между потомками, не были еще враздробь промотаны. Они принадлежали по большей части людям, коим титул и высокий чин давали, хотя иногда новую, но настоящую знатность. Камергерство четвертого класса и камер-юнкерство пятого сыновьям их, одним в двадцать пять, другим в восемнадцать лет, открывали рано дорогу к почестям. Унизительная, убийственная обязанность переписывать в канцеляриях бумаги для них не существовала. Предшественники Екатерины, как и она сама, как и сын её, возводя кого-нибудь на высокую степень, давали ему средства не только поддержать блеск даруемого ему титула, но даже разливать его на своих потомков. Всё было в гармонии, пока неосмотрительная щедрость Павла Первого не повысила чинами людей, коих всех не в состоянии был он обогатить. В таком положении (как говорил я в другом месте) не совсем было трудно усастой княгине Голицыной, с умом, с твердым характером, без всяких женских слабостей, сделаться законодательницей и составить нечто похожее на аристократию западных государств. К тому же в ней самой оставалось еще довольно много русского, чтобы переход к новым идеям не был столь ощутителен.
К чести сего общества, коего и поныне сохранилось еще несколько образчиков, должно сказать, что оно отличалось чрезвычайною учтивостью, то-есть ласковою, нимало нецеремонною, строго соблюдаемою, взаимною внимательностью. Холодная же учтивость, без малейшего вида пренебрежения, служила ему защитой от вторжений в его собрания таких людей, коих почитало оно того недостойными. Оно вынуждено было при Павле поставить главным своим догматом, что чины суть ничто: предпочтение, сделанное тогдашнему генералитету, скоро обратило бы его в кабак. Беда только в том, что французский язык был также первым его условием и сделал его доступным людям, коих не следовало бы в нём видеть: всякого рода иностранцам, аферистам, даже актерам.
Тогдашний двор сему обществу служил также прекрасным образцом. Им правила вдовствующая императрица Мария Федоровна, пример всех семейных и общественных добродетелей, «жена сильная», о коей гласит Святое Писание, в преклонных летах еще блиставшая величественною красотой, пышность истинно-царскую умевшая сочетать с бережливостью истинно-народолюбивой. В тихом величии скромно стояла близ неё Елизавета Алексеевна, и немому бессильному божеству тем не менее усердные воссылались моления. Наконец, сам Император знанием приличий превосходил всех современных государей. Правда, желая, может быть, чтобы видели, как он храним народною любовью, один прогуливался он пешком по набережным и таким образом ежедневно царствие свое показывал на улице. Но он действительно был ненагляден; ему всегда радовались, как солнцу, которое однако же никому не в диковинку; какая-то сила, право волшебная, спасала его от неуважения, которое мы, особенно русские, невольно получаем к предметам беспрестанно и везде встречаемым. Даже во время первой молодости, в публичных местах видели его очень редко, в частных домах — почти никогда; посещение его одному из первых его вельмож почиталось историческим происшествием, ставилось выше всех оказанных им милостей. О вечерних собраниях у Императрицы, весьма немногочисленных, в публике знали очень мало; известно было только, что с одной стороны являлась там самая милостивая снисходительность, с другой — искреннейшее благоговение; фамильярства — ни с которой.
В гостиных лучшего общества также царствовала величайшая пристойность: ни слишком возвысить голоса, ни без пощады злословить там не было позволено. Такие вечера не могли быть чрезвычайно веселы, и на них иному не раз приходилось украдкой зевнуть; но в них искали не столько удовольствия, сколько чести быть принятым. Самим женщинам некоторая принужденность в манерах давала более правильности в поступках, а они в обществе всегда служат примером для мужчин. Гораздо позже, когда Кочубеи и Гурьевы, какими-то финансовыми оборотами более чем щедротами Монарха, стяжали себе великое состояние и сделались первыми вельможами, тон общества стал приметно грубеть; понятия о чести начали изменяться и уступать место всемогуществу золота. Но всё это было очень далеко от того, до чего мы ныне дожили.
Особые милости двора, кому бы они ни были оказаны, конечно и тогда служили лучшей рекомендацией в лучшее общество. Иногда прихоть старой дамы, её покровительство, иногда докучливость и наглость искателя, в него и тогда открывали вход; но эти случаи были редки, и оно почти всё составлено было из людей в нём родившихся, выросших и, так сказать, в день крестин своих получивших от него приглашение. Новое лицо, неизвестное имя человека самого образованного, всегда сначала вооружали против него. Люди средних лет, незнакомые с уставами сего общества, менее других могли надеяться в него вступить; но они впрочем о том мало и заботились. Молодость была счастливее: там где нравственность не последнее дело, робость юноши принимается за добрый знак, и все стараются поощрить его.
Принадлежать к сему обществу было верхом желаний моего тщеславия. В средствах к тому, казалось, не было недостатка. Отец мой готов был прислать мне письма, которые открыли бы мне двери двух или трех знатных домов, с хозяевами коих был он хорошо знаком. Было другое средство еще вернейшее: князь Федор Голицын, с которым провел я год в деревне отца его, одаренный изящным тактом, был одним из корифеев общества; без всякой дружбы он меня очень любил; ему казалось, что некоторою образованностью обязан я ему, и он мне предложил везде меня представить. Но тут-то и было первое затруднение: просить об определении в службу, о месте, о каком-нибудь тяжебном деле мне никогда не казалось унизительным; а мысль испрашивать, как милости, дозволения к кому-нибудь ездить, меня всегда пугала. Я всегда дожидался приглашений и почти всегда дожидался их тщетно: нерассчетливее, глупее моего самолюбия, признаюсь, я ни в ком еще не встречал.
К тому же, слова Козловского и вечер у князя Куракина сильно на меня подействовали, лишили меня всей бодрости. Главное же, неодолимое препятствие было в пустоте моего кармана: надобно было вдвое, втрое более того, что давали мне родители, чтобы сколько-нибудь с пристойностью показываться в большом свете. А между тем, к несчастью, будучи с малых лет в сообществе с ровесниками, которых Фортуна гораздо лучше меня наделила, я имел их вкусы и наклонности, и думал, что имею равные с ними права. Безрассудный, я должен был знать, что я сын почтенного, но весьма небогатого отца, и что, подобно ему, одними трудами только мне возможно прокладывать себе дорогу. Если б я мог забыть о том, то его мудрые советы каждую почту письменно мне о том напоминали. Но какого толку спрашивать у молодого человека, едва вышедшего из отрочества?
Некоторое время был я как сын разорившегося и недавно умершего богатого вельможи. Успехи в свете, столь легко приобретаемые моими товарищами, молодыми знакомыми, подробные их рассказы о том меня терзали, но, Бог свидетель, не завистью, а неизъяснимым, отчаянным унынием. Сколько раз на чердаке, или почти в подвале, в уединенной келье моей, при тусклом свете одной сальной свечи, сравнивал я участь их с моею; в эту минуту, когда дурная погода не дозволяла мне даже прогуляться, они, думал я, в позлащенных салонах танцуют, любезничают с дамами. Я не имел даже утешения нынешней безвестной молодежи — либеральных идей; я всё уважал, что другие уважали, и не умел еще, как ныне, становиться на дыбы против общего мнения. О, как тяжело мне бывало! Долго, долго не переставал я видеть в себе какое-то отверженное, падшее существо.
Такого рода несчастья могут быть только у нас в России, где нет настоящей аристократии и где между ею и другими состояниями не проведена резкая черта, как в некоторых европейских землях. В мое время подобных мне было, верно, очень мало; я, по крайней мере, никому не смел говорить о моих страданиях: меня бы осмеяли. Теперь же, когда круг так называемого большего света до невероятия расширился, когда доступ к нему сделался так свободен и законы его стали так снисходительны, не принадлежать к нему гораздо унизительнее, чем прежде, и предполагает уже или совершенную нищету, или самое дурное поведение. Число требующих в нём права гражданства должно быть неимоверно, а как нет возможности всех удовлетворить, то и досада тех, коим не удалось добиться столь ничтожного преимущества, должна быть также чрезвычайно велика.
Мнимо-несчастное положение мое было, однако же, весьма благоприятно для приобретения и умножения познаний. Я мало воспользовался этим, и это новое прегрешение в числе тех, в коих, как духовному отцу, должен я каяться читателю. Все надежды свои возлагал я на службу; а она, как увидим, что-то долго мне не давалась. Мне иногда ужасно подумать, сколько времени, и самого драгоценного, погубил я понапрасну. Я готов винить самого себя, но обстоятельства, в которых находился, еще гораздо более.
Старший брат мой, умный провинциал, отличающийся непринужденною вежливостью, отличный и в поведении армейский офицер, по исключительности, по взыскательности тогдашнего Петербургского общества, должен был казаться в нём странным. Он это знал и имел благоразумие не только не искать его, но и, сколь возможно, его чуждаться. Дело удивительное! В отношении к обществу он целым поколением казался старее отца своего. Даже второстепенные общества Петербурга были не по нём: он их убегал. Он полагал, что меньшой брат его обречен быть жертвой бонтона и всех его прихотей, а меньшой брат был совсем от того не прочь: ему не доставало только путеводителя и денег на дорогу. Еще гораздо более имел браг мой отвращения от собраний людей развратных: попойки, оргии, в то время столь обыкновенные, казались ему нестерпимы. Где же собирались умные люди без умничанья, каких бы лет они ни были, с сведениями, которые они любили сообщать в разговорах, там, где были приятные, скромные женщины, без лишних вычур моды, там только был он в своем элементе. Домашнее житье наше с сим братом было совершенно согласное; в упреках, кои редко я заслуживал, а еще реже позволял он себе, всегда щадил он мое самолюбие. Когда замечал во мне маленькую грусть, спешил развеселить меня и, сколько позволяли наши скудные средства, старался доставлять мне все возможные, безвинные удовольствия: то покупкой книжки, то билетом в театр, а иногда и обедом послаще. Разница с другим братом была совершенная; правда, со времени его владычества прошло почти три года: я сделался старее и был уже в службе.
Врат мой свел знакомство с одним весьма известным в свое время откупщиком Василием Алексеевичем Злобиным; или, лучше сказать, тот сам нашел его. Он держал винный откуп во всей Пензенской губернии, и следственно приглашения его были не совсем бескорыстны. Счастье, ум и смелость сего простого мещанина Саратовской губернии, города Вольска, способствовали ему сделаться в своем роде знаменитым: он сам рассчитывал, что имеет барыша по тысяче рублей в день, сумма в тогдашнее время необъятная. Старик Злобин был тип наших православных мужичков, то есть человек и добрый, и хитрый; он сохранил и поступь, и речи, и поговорки своего первобытного состояния, одним словом всё, даже одежду и бороду. Этим самым отличился он от братии своей, откупщиков и, как говорится ныне, создал себе позицию в свете. Никогда не хотел он чинов, когда все за ними гонялись, и довольствовался званием именитого гражданина. Золотые медали на шее давались тогда купцам еще гораздо реже, чем кресты чиновникам; их-то он и желал, и один только (полно, не первый ли?) получил таковую с алмазами. В богатом русском кафтане своем он не оставлял по большим праздникам всегда являться во дворце, и не было в Петербурге ни одного человека, который бы не знал его. С боярами, с случайными людьми употреблял он необыкновенную уловку: с видом простодушным, откровенным, в смелых будто выражениях, умел он всегда льстить их самолюбию, часто угощал их у себя и заставлял думать, что он с ними на приятельской самой короткой ноге. Чтобы поддержать сие мнение, брался он за всех хлопотать и многочисленным клиентам своим, когда выпрашивал, когда вымаливал, когда вымучивал милости, по большей части, не весьма важные. Великое достоинство бородатого мецената состояло в том, что с молящими его о помощи обходился он дружески ласково, совсем не покровительственно, что в купце было бы несносно: вообще и тогда богатству кланялись, но только с условием, чтоб и оно откланивалось. Таким образом, задабривая всех, ставил он везде себе подпоры и распространил о себе славу, которая, возвращаясь к своему началу, возвышала его в глазах тех самых, коим ею был он обязан.
В нём было видно и чувство: полжизни проведя в Петербурге, он себя и других хотел уверить, что остается в нём только для приведения дел своих к окончанию; и, действительно, ни дома, ни дачи не хотел в нём купить. Построенные им заочно каменные палаты в Вольске, разведенные без него сады, беспрестанно украшал он, посылая ежегодно разные драгоценности из столицы, где жил он как на ночлеге. При имени родины его, в которой надеялся провесть остаток жизни, навертывались у него иногда слезы.
Однако же, ночлег его был нанятый трех-этажный дом, который хотел он также сколько-нибудь поукрасить: кто-то накупил ему картин, мебелей и бронзовых вещей и всем этим без вкуса и порядка завешал стены, загородил комнаты. Но лучшим украшением сего дома была молоденькая его невестка, жена единственного его сына. Она была меньшая сестра умершей жены Сперанского и несколько времени жила у него вместе с матерью, англичанкою Стивенс, при оставшейся ему малолетней дочери. Там увидел ее молодой Злобин, не совсем похожий на отца своего, с большою образованностью, только не светскою, с плохим здоровьем, лицом печальным и нравом угрюмым. Он пленился девочкою живою, избалованною, почти бешенною, и Сперанский, для коего такое родство было тогда находкой и который, как уверяли, имел особливые причины спешить замужеством свояченицы, скоро этим делом поладил. Оно уже тем ему было полезно, что избавляло его от издержек на содержание маленького семейства его, тещи и дочери, которые совсем переселились к Злобину. Старик не воспротивился сему браку: суеты Петербургской жизни изгладили в нём следы староверства, в коем он родился, как кажется, ослабили в нём самое православие; к тому же, и свойство с Сперанским, восходящим солнцем, должно было радовать такого рода человека. Но едва прошло шесть месяцев, как молодые супруги, по совершенному несогласию в нравах, увидели невозможность дальнейшего сожития. Желая временною разлукой их примирить, ближние их выдумали госпожу Стивенс с дочерью и внукой, под предлогом какой-то болезни, отправить к Балдонским водам (за границу тогда было не так легко). Они медлили возвращением; ибо сын Злобина, не в состоянии уже будучи скрывать злобы своей к Сперанскому, решительно объявил, что оставит отчий дом, что действительно и сделал он, лишь только узнал, что они в позднее осеннее время предприняли обратный путь. Он бросил службу и ускакал в Вольск управлять делами отца. Более года еще сохраняли надежду сблизить супругов, и присутствие женского пола в доме Злобина делало его более пристойным, умножало его приятности.
В это время брат мой стал туда ездить. От него узнав обо мне, женщины просили его привезти меня с собою. Прошло несколько дней, и я расположился там, как дома. Гувернантка, очень долго жившая в знатном доме, имела аристократический тон, для меня весьма привлекательный; дочь её, о воспитании коей она не имела времени много заботиться, была другим образом привлекательна своею молодостью, не стол красивым, сколь приятным лицом и живостью, которую изобразить трудно. Около них собирался маленький круг, состоящий из Сперанского и самых коротких его приятелей. Народ деловой, обер-секретари и секретари сенатские, откупщики, которые толковали только о барышах, и даже молодые офицеры, которые приходили попить и поесть, а поговорить умели только о параде и мундирных формах, не могли быть очень приятны сим дамам и держались от них поодаль.
Явное предпочтение, оказанное мне перед сими людьми, сначала только польстило моему самолюбию. Брат мой, будучи сам еще молод, но гораздо более меня опытен, первый заметил, что тут не одно простое предпочтение, а нечто более нежное и пылкое. Находя, что пришла уже для меня пора любви и надеясь, что воспитание её предохранит меня от разврата, он видел в этом самый счастливый к тому случай. Что сказать мне более? В столь отдаленном времени мне кажется говорю я не о себе, а совсем о другом человеке, и потому не краснея могу признаться, что он был любим и что сам был более чем неравнодушен. Всё это так мало скрывалось от посторонних глаз, что я, право, не знаю, как это сходило нам с рук. Над нашим добрым согласием, маленькими ссорами, потом примирениями все еще смеялись и смотрели на то, как на ребячество.
Сперанский также ничего не видел тут серьезного, не думал ревновать и, напротив, был со мною чрезмерно любезен. Он был завален делом и тогда уже довольно недоступен; последнее извиняется первым. Для человека, как говорится, в ходу приглашениям не бывает конца, а удаление от светских забав придает какую-то важность занятиям государственного человека. Самое положение Сперанского заставляло его уединиться. Он имел всё право почитать себя выше родовых дворян без заслуг; до равенства с знатными еще он не дошел, а известность его, быстрые успехи, высокое просвещение вывели его из ряду других гражданских чиновников, обыкновенными трудами по службе приобретающих себе чины и состояние. Сначала имел я право приходить к нему во всякое время, но не употреблял его во зло. Он даже любил иногда слегка пошутить, потом переходил к предметам довольно важным, мне (должен признаться) тогда мало понятным. Несмотря на всю его снисходительность, я чувствовал при нём какой-то страх: всё в нём меня дивило, ничто не увлекало. Кажется, из молодых людей, случаем ему насылаемых, хотел он делать своих Сеидов. Чистота правил вместе с моим невежеством сделали попытку его со мною неудачною. Заметив сие, он не вдруг переменился, а мало-помалу отдалил меня от себя, стал менее говорить, реже принимать, а я стал реже являться к нему.
Так было месяца три или четыре, в продолжение коих не раз случалось мне видеть его среди малого числа избранных им друзей или приверженцев. Их было до пяти или до шести; они одни беспрепятственно могли посещать его, и некоторые довольно замечательны, чтобы об них здесь упомянуть.
С одним из них *** читатель мой уже знаком. Возвратясь из Пензы, ему не совсем приятно было встретить меня у Сперанского; появление его однако же не имело никакого влияния на обращение со мною сего последнего. Другой, слишком известный Магницкий, всегда ругался дерзко над общим мнением, дорожа единственно благосклонностью предержащих властей. Это один из чудеснейших феноменов нравственного мира. Как младенцы, которые выходят в свет без рук или без ног, так и он родился совсем без стыда и без совести. Он крещен во имя архангела Михаила; но, кажется, вырастая, он еще гораздо более, чем соименный ему Сперанский, предпочел покровительство побежденного Архистратигом противника. От сего бесплотного получил воплощенный враг рода человеческого сладкоречие, дар убеждения, искусство принимать все виды. Если верить аду, то нельзя сомневаться, что он послан был из него, дабы довершить совращение могущего умом Сперанского, и вероятно сего другого демона, не совсем лишенного человеческих чувств, что-то похожее на раскаяние заставило под конец жизни от него отдалиться. В действиях же, в речах Магницкого, всё носило на себе печать отвержения: как он не веровал добру, как он тешился слабостями, глупостями людей, как он радовался их порокам, как он восхищался их преступлениями! Как часто он должен был проклинать судьбу свою, избравшую Россию ему отечеством, Россию не знавшую ни революций, ни гонений на веру, где так мало средств соблазнять и терзать целые народонаселения, столь бесплодную землю для террориста или инквизитора!
Он был воспитан в Московском Университетском Пансионе, писал изрядно русские стихи и старее двадцати лет оставил Россию. Пробыв года два или три за границей при миссиях Венской, а потом Парижской, возвратясь, он стал коверкать русский язык и никогда уже не мог отвыкнуть от дурного выговора, к которому себя насильно приучил. Когда я начал знать его, он был франт, нахальный безбожник и выдавал себя за дуэлиста; но был вежлив, блистателен, отменно приятен и изо всего этого общества мне более всех полюбился. Много еще можно говорить об нём, но я берегу его для продолжения сих Записок, когда мне придется рассказывать последние деяния сего апостола зла. — Лубяновский был чинный, осторожный, любостяжательный Магницкий, не имел ни его хамелеонизма, ни его смелого полета, никогда так высоко, как он, не подымался, никогда так низко не упадал. Он всех реже бывал у Сперанского, но был не менее в тесных с ним связях; об нём также еще речь впереди. Маленький, чванный, тщедушный сиделец из Нюрнбергской лавки, Цейер, был также действительным, хотя довольно безгласным, членом сего общества; это, как говорят французы, был бедный чёрт, добрый чёрт. Он славился знанием французского языка, потому он сделался нужен Сперанскому, который взял его почти мальчиком жить к себе в дом; он оставался потом почти целый век при нём вроде адъютанта, секретаря или собеседника, и на хвосте орла паук сей взлетел, наконец, до превосходительного звания. Других еще (Жерве, Словцова) я не видел: их верно тогда не было в Петербурге, и я только слышал об них, как об отсутствующих членах.
В кабинете Сперанского, в его гостиной, в его обществе, в это самое время зародилось совсем новое сословие, дотоле неизвестное, которое, беспрестанно умножаясь, можно сказать, как сеткой покрывает ныне всю Россию, — сословие бюрократов. Все высшие места президентов и вице-президентов коллегий, губернаторов, обер-прокуроров береглись для дворян, в военной или гражданской службе или и при дворе показывающих способности и знания: не закон или правило какое, а обычай, какой-то предрассудок редко подпускал к ним людей других состояний, для коих места советников в губерниях, обер-секретарей или и членов коллегий, были метою, достижением коей удовлетворялось честолюбие их после долговременной службы. Однако же между ними те, которые одарены были умом государственным, имели все средства его выказывать и скоро были отличаемы от других, которые были только нужными, просто-деловыми людьми. Для первых всюду была открыта дорога, на их возвышение смотрело дворянство без зависти, охотно подчинялось им, и они сами, дорожа приобретенными правами, делались новыми и от того еще более усердными членами благородного сословия. В последних ограниченность их горизонта удерживала стремление к почестям; но необходимое для безостановочного течения дел, полезное их трудолюбие должно же было чем-нибудь вознаграждаться? Из дневного пропитания своего что могли отделять они для успокоения своей старости? Беззаконные, обычаем если не освящаемые, то извиняемые средства, оставались единственным их утешением. За то от мирских крупиц как смиренно собирали они свое малое благосостояние! Повторяя, что всякое даяние благо, они действительно довольствовались немногим. Там, где не было адвокатов, судьи и секретари должны были некоторым образом заступать их место, и тайное чувство справедливости не допускало помещиков роптать против такого рода поборов, обыкновенно весьма умеренных. Они никак не думали спесивиться, с просителями были ласковы, вежливы, дары их принимали с благодарностью; не делая из них никакого употребления, они сохраняли их до окончания процесса и в случае его потери возвращали их проигравшему. К ним приступали смело, и они действовали довольно откровенно[68]. Их образ жизни, предметы их разговоров, странность нарядов их жен и дочерей, всегда запоздалых в моде, отделяли их даже в провинции от других обществ, приближая их однако же более к купеческому. Их всё-таки клеймили названием подьячих, прежде ненавистным, тогда унизительным. Это было не совсем несправедливо, ибо в них можно было видеть потомков или преемников тех бессовестных, бесчеловечных, ненасытных вампиров, коих Капнист так верно изобразил в комедии своей Ябеде, конечно более по воспоминаниям, чем по примерам, которые имел перед глазами. Век Екатерины преобразил их в пиявок, высасывающих лишнюю кровь, и тем составилось второе поколение сего сословия.
Нельзя винить Сперанского в умысле, умножив их силу, дать им более средств воровать; его намерения конечно были чище, возвышеннее. Как все честолюбивые люди, любил он власть более чем деньги, и состояние, совсем не огромное, которое оставил он дочери, имело (нет в том сомнения) источником расчётливость его и испрашиваемые большие пособия у царей. В клеврете его, ***, говорила еще дворянская кровь и торжествовали старинные дворянские правила: в мздоимстве не только уличаем, ни даже подозреваем он никогда не был. Они оба, может быть, как и я, смотрели на сии беспорядки, как на следствие несчастной необходимости и извиняли их уже верно гораздо более чем я. Желая облагородить гражданскую службу, Сперанский думал сделать сие посредством просвещения. По нужде в добром согласии с закоренелыми в лихоимстве умными людьми, Голиковым, Позняком и другими, он в тоже время хотел в иных правилах воспитывать новое поколение чиновников, которое мысленно составлял он из людей неизвестного происхождения. Но на них действовать мог он не сам, а чрез приятелей своих, подчиненных и сотрудников, Магницкого, Лубяновского, потом Кавелина и других приверженцев, кои вместе с европейским образованием проповедовали и европейскую безнравственность.
Канцелярии министерств должны были сделаться нормами и рассадниками для присутственных мест в губерниях. И действительно, молодые люди, преимущественно воспитанники духовных академий или студенты единственного Московского Университета, принесли в них сначала все мечты юности о благе, об общей пользе. Жестокие строгости военной службы при Павле заставили недорослей из дворян искать спасения в штатской, а запрещение вступать в нее еще более их к тому возбудило; но по прежним предрассудкам все почти кинулись в Иностранную Коллегию; тут вдруг, при учреждении министерств, явилась мода в них из неё переходить. Казалось, всё способствовало возвышению в мнении света презираемого дотоле звания канцелярских чиновников, особенно же приличное содержание, которое дано было бедным, малочиновным людям и которое давало им средства чисто одеваться и в свободное время дозволительные, не разорительные, не грубые удовольствия.
Таким образом для нашего сословия начался третий период. Несколько лет всё шло как нельзя лучше, и те, которые веруют в усовершенствование рода человеческого, должны были на то смотреть с удовольствием. Столь прекрасные начала стали мало-помалу изменяться; духом нечестия, коим исполнены были преобразователи, заразилось зреющее в делах юношество; сохранявшие прежние предрассудки, по большей части из дворян, были тщательно устраняемы от должностей и принуждены были удаляться. Когда в 1807 году курс на звонкую монету стал вдруг упадать, и служащие начали получать только четвертую долю против прежнего, тогда бедность сделалась вновь предлогом и извинением их жадности. Либерализм и неверие развратили их умы и сердца, и цитаты из Священного Писания, коими прежние подьячие любили приправлять свои разговоры, заменились в устах их изречениями философов восемнадцатого века и революционных ораторов. С распространением просвещения, с умножением роскоши, усовершенствовалось и искусство неправедным образом добывать деньги; далее нынешнего оно, кажется, идти не может.
Записавшись, я нарушаю порядок, принятый мною для повествования и нечувствительно перехожу в настоящее время. Для избежания сего, довольствуюсь изображением бюрократического типа, каким я знал его лет двадцать тому назад. Бюрократ, коль скоро получит место сколько нибудь видное, думает быть министром. Он делается горд, в обращении холоден и в тоже время словоохотлив, но только с теми, которые в молчании по целым часам готовы его слушать. Он одет щегольски, имеет хорошего повара, жену-модницу и фортепиано в гостиной; живет же не очень открыто, принимая только тех, кто в нём имеет нужду или в ком он имеет нужду. Он знает иностранные языки и иметь столько начитанности, чтобы с видом ученым рассуждать о предметах, которые менее всего его занимают; о делах службы в обществе говорит мало: на то есть кабинет и департамент. Государственная польза, польза человечества никогда не приходили ему в голову; он не унизит себя даже упоминать об них и в их ревнителях видит ребяческое слабоумие. Кроме страсти властвовать и наживаться, он не имеет ни слабостей, ни пороков, но любит и поощряет их в других, ибо уважать ему несносно, презирать усладительно. Как бы ни мало было занимаемое им место, он заставляет просителей дожидаться в передней, обходится с ними свысока, и даже берет взятки, как будто собирает дань с побежденных. Сострадания он никогда не знал, ничего священного в мире для него не было: это был просвещенный и для большой дороги не довольно смелый грабитель[69]. Я представил здесь один образец совершенства бюрократического; не все могут с ним равняться, но более или менее к нему приближаются.
Судьба ко мне жестокая и вместе милосердая, во дни самой первой молодости, ввергла меня в сию пучину, и потом всю жизнь мою, как Аретузу, провела чистою струей сквозь океан низких пороков, с тем, чтобы к истоку дней моих сберечь мне смешанные с горестными, сладчайшие воспоминания.
Внимание ко мне Сперанского, нежное расположение его свояченицы брату моему подало мысль, что под его руководством и начальством откроется для меня самое блестящее поприще. Едва ли не сам он это предложил; я хорошенько не помню, так это всё ладилось, клеилось само собою. Министерство Внутренних Дел, коего Сперанский был настоящий создатель, тогда только что начало образоваться. Оно состояло первоначально из одного департамента, деленного на три экспедиции: государственного хозяйства (что ныне хозяйственный департамент), государственного благоустройства (впоследствии департамент полиции исполнительной) и медицинскую. Управляющим первою из них назначен был тайный советник Таблиц, последней барон Кампенгаузен, а вторую взял сам Сперанский. В мои лета, с малым моим смыслом и знанием, какое место можно мне было дать, если не писца? Год-два переписывая бумаги, неужели я не довольно бы мог познакомиться с делами, чтобы самому не в состоянии быть заняться редакцией? Я уже сказал, что с величайшим смирением готов был жертвовать покоем и самолюбием, в надежде далеко подвинуться на избранном для меня пути; но лучшие намерения мои остались тщетны. При второй экспедиции положено было учредить статистическое отделение, составив его, под управлением ученого Вирста, из десяти образованных молодых людей, в число коих должен был и я попасть. Верно, тогда в Петербурге, и едва ли в целой России было десять человек, которые знали что такое статистика, которые слыхали об этой науке, и к числу их уже, конечно, я не принадлежал. Когда мне сказали о том, я со всею самонадеянностью невежества подумал: Что за нужда! Увижу, так и узнаю.
Тут представилось одно обстоятельство, по-видимому, весьма благоприятное для моей службы, но которое впоследствии чрезвычайно ей повредило. Не было еще тогда постановления, чтобы чин, получаемый при отставке, снимался при поступлении вновь на службу. Кто-то посоветовал нам, при переходе из Иностранной Коллегии в департамент внутренних дел, сим воспользоваться, и в январе 1803 года при увольнении произведен я коллежским асессором. Я очень обрадовался случаю, как говорилось, даром схватить чин, и какой же чин? Штаб-офицерский, высокоблагородный, который равнял меня с братьями, семь и восемь лет меня старее! Родные мои также обрадовались, но не отец, который, с обыкновенным своим благоразумием во всех делах, сим огорчился и бранил нас за то. И действительно, возвышение без заслуг (как опыт то жестоко мне доказал) обращается в постоянное препятствие к получению мест и может только быть полезно богатым и знатным людям.
Что потом со мной случилось, того уже верно никогда ни с кем ни бывало: мистификация, которая более двух лет продолжалась. Мне объявил Сперанский, что я могу почитать себя причисленным к департаменту, что он дал о том приказание, но что ходить в него мне нет никакой надобности; ибо ближе шести месяцев статистическое отделение образоваться не может. Не знаю, хотел ли он меня обманывать, или пренебрегал формами, или по множеству важных дел забыл о том, как бы то ни было, я ему поверил и два года был в отставке, когда все и я сам себя считал в службе. Что всего страннее, я летом начал ходить в экспедицию, кое-чем занимался там, как увидят далее, и никто не сыскался, кто бы предупредил меня, что я дурачусь.
В уверенности, что он устроил будущую судьбу мою, брат мой полагал, что ему ничего не остается более делать, как возвратиться в Пензу. Он нанял мне квартирку, приказал купить на толкучем рынке и поставить в ней не весьма дорогую, не весьма прочную и не весьма красивую мебель, оставил мне небольшое количество денег, небольшой запас дров и не без грусти расстался со мною около половины февраля.
III
Французы-эмигранты. — Голубцовы. — Арбеневы.
С самого основания своего, Петербург, главное звено пристегнувшее Россию к Европе, представлял Вавилонское столпотворение, являл в себе ужасное смешение языков, обычаев и нарядов. Но могущество народа, коего послушным усилиям был он обязан своим вынужденным, почти противоестественным существованием, более всего в нём выказывалось: русский дух не переставал в нём преобладать. В наружной архитектуре домов своих, как и во внутреннем их украшении, богатые и знатные люди старались подражать отелям Сен-Жерменского предместья; но всё это было гораздо в большем размере, как сама Россия. Заморские вина подавались за столом, но в небольшом еще количестве и для отборных лишь гостей, а наливки, мед и квас обременяли еще сии столы. Французские блюда почитались как бы необходимым церемониалом званых обедов, а русские кушанья, пироги, студни, ботвиньи, оставались привычною, любимою пищей. По примеру Москвы, в известные храмовые праздники, лучшее общество не гнушалось еще, в длинных рядах экипажей, являться на так называемых гуляньях; оживляемое каким-то сочувствием, оно с чрезвычайным удовольствием смотрело на народные увеселения. В образе жизни самих царедворцев и вельмож, а тем паче чиновников и купечества, даже в Петербурге, всё еще отзывалось русскою стариной. При Петре Великом Европа начала учить нас, при Анне Ивановне она нас мучила; но царствование Александра есть эпоха совершенного нашего ей покорения. Двадцатипятилетние постоянные его старания, если не во всей России, то по крайней мере в Петербурге, загнали чувство народности в последний, самый низший класс.
Я не хвалю и не порицаю, а только рассказываю. Начало решительного перехода от прежней русской жизни к европеанизму было для меня чрезвычайно полезно. Все еще гнушались площадною, уличною, трактирною жизнью; особенно молодым людям благородно рожденным и воспитанным она ставилась в преступление. Обедать за свои деньги в ресторациях едва ли не почиталось развратом; а обедать даром у дядюшек, у тетушек, даже у приятелей родительских, или их коротко — знакомых, было обязанностью[70]. С другой стороны, для приличия, дотоле необходимо было иметь экипаж; даже на приезжающих в дрожках смотрели не так-то приветливо, и тот, который на чердаке своем не имел иногда чашки чаю, часто разъезжал в карете. При Александре вдруг пешеходство вошло в моду: сам Царь подавал тому пример. Все стали гоняться за какою-то простотой, ордена и звезды спрятались, и штатские мундиры можно было встретить только во дворце. Нельзя себе представить, какое было ребячество в этом цивизме, в этом мнимом английском свободолюбии. Но для меня, сказал я, всё это вместе было весьма выгодно. Я мог без угрызения совести ходить пешком обедать к знакомым, а как таковых домов набралось у меня более десяти, то посещая каждый из них недели в две не более одного раза, ни в котором нельзя было почитать меня нахлебником; таким образом сберегались и тощий мой карман, и только что прозябающая моя репутация.
На моем месте всякий другой мог бы почитать себя счастливым: самая первая молодость, цветущее здоровье, совершенная независимость и удовлетворение всех первых потребностей жизни! В семнадцать лет чего же более для наслаждений? Я уже сознался в грехе своем, меня мучило самолюбие; но сколько припомню, ничто не должно было его тревожить. Со мной обходились, может быть, лучше, чем я того заслуживал; меня отличали от десятков молодых людей, подобно мне, ничем не замечательных. Многие находили, что я пригож и что неловкость в манерах заменяется во мне сметливостью и живостью ума, пристойностью и занимательностью разговоров. Я повторяю чужое, а не свое; сам же каюсь в глупости и неблагодарности своей: я брезгал обществом и почтенными домами, в кои был вхож, потому что они не принадлежали к самому высшему кругу.
Во время первого пребывания моего в Петербурге ввел я читателя в два дома: в полуаристократический голландский Демидова и французский, несколько обрусевший, Лабата. В обоих ту зиму давались балы и собиралось почти одно и тоже общество; разница была в том, что в первом из них более сияло звезд и чаще повторялось слово превосходительство, а в последнем изобиловали маркизы, виконты и шевалье, всё старые эмигранты, которые однако же балам предпочитали обеды.
Между ними были большие чудаки: например, один лионский каноник, граф Монфокон, одной из самых знатных фамилий во Франции, который никогда не говорил о религии, всякий день бывал в театре, был весьма безграмотен, но в литературных спорах иногда доходил до исступления, когда не хотели согласиться с его мнением, особливо когда трагика Кребильона не хотели признавать первым писателем в мире. Другой, некто шевалье де-Ламотт был ростом очень мал, тщедушен, чрезвычайно кос, лицо имел самое отвратительное и на довольно большом пространстве жестоко поражал всякое чувствительное обоняние, а между тем уверял, что во вступлению в отборный полк, в котором до революции служил он капитаном, первыми условиями были молодечество и красота. Как духовное, так и светское лицо, как священник, так и кавалер, оба они торговали тогда винами, выписываемыми из Бордо.
Молодых эмигрантов, служивших тогда у нас в гвардии, с которыми я тут познакомился, можно было почитать цветом Франции. Сии школьники несчастья были скромны, вежливы, приличны, хорошо учились и во всех суждениях, исключая о революции своей, были или основательны, или остроумны. В них было нечто девственно-религиозно-мужественное; видно было, что они хотели осуществить собою тот идеал совершенства древних рыцарей, который представляли романы, но который история так жестоко заставляет исчезать. Тут были: Сен-При, славный после русский генерал, который в наших рядах пал при Реймсе; Броглио, также убитый в войне нашей с французами; Дамас, бывший при Карле X министром иностранных дел; Лагард, при нём же посланником в Гишпании. Еще были другие, между коими один только Растиньяк был ветрен, болтлив и заносчив.
Старые грешники, с поношенными ленточками и поломанными крестиками Св. Людовика, были смешны, следственно забавны; молодые люди были достойны уважения, любезны и привлекательны. Одни меня тешили, и я их за то любил; другие казались мне неподражаемым примером, и я их сердечно уважал. Всё это рождало во мне пристрастие, которое прежде имел я ко всему французскому. В это же время начал я упитываться злостью против Бонапарта, офицеришка, который не дерзал еще тогда воссесть на престоле великого Людовика Четыренадесятого, но уже шел к нему большими шагами.
О других домах, с коими в это время я случайно познакомился, не стоит много говорить, не потому чтоб я дозволял себе ныне пренебрегать их хозяевами, но от того, что они не имели никакого влияния ни на службу мою, ни на образ моих мыслей. Один только требует исключения. В предшествовавшее лето, проведенное мною в Москве, Федор Александрович Голубцов был в Пензе, для покупки большего имения, Пыркина. Там познакомился он с моим отцом, то-есть полюбил его и стал уважать, то есть он сам был умный и почтенный человек. Он с меньшим братом Иваном Александровичем были родные племянники графа Васильева, под начальством и руководством коего они начали службу при князе Вяземском: канцелярия генерал-прокурора сего была рассадником полезных для государства людей. Оба они были тайными советниками и управляли экспедициями казначейства, как в сентябре 1802 года меньшой умер, а старший, по случаю назначения графа Васильева министром Финансов, сделан государственным казначеем на его место, но под его же начальством. Немногосложность тогдашней финансовой науки делала из него самого искусного человека по сей части, и общее мнение предназначало его преемником дяди, как сие впоследствии и случилось.
От отца имел я к нему письмо, которое непременно должен был ему отдать, чего мне не весьма хотелось. У него всё было по-министерски; передняя, где дожидались, чиновники, которые ходили докладывать о приходящих: всё это меня несколько смущало. Но когда вышел хилый, желтенький, опрятненький этот человек, приветствовал меня добродушною улыбкой и обошелся так ласково, как никто из должностных в Петербурге людей, то, кажется, я согласился бы и часто его навещать. К несчастью, я ему очень полюбился; он нашел меня столь образованным, что служба в подведомственной ему части казалась ему для меня неприличною; и когда узнал, что я попал под крыло гения-Сперанского, то поздравил меня с тем и хотел его просить за меня, как за родного. Он был полуженат; впоследствии сама церковь, но тогда одно только время освящало давнишний союз его с какой-то Меланией Ивановной. И потому он у себя не охотно принимал, исключая самых коротких, и едва ли случилось мне три раза в жизни у него обедать. Чтобы меня чаще видеть (сказал он мне), желал бы он познакомить меня с овдовевшею своею невесткой, но она тогда была в самом глубоком трауре.
Сие сделалось без него. Спустя несколько времени, к неутешной вдове Голубцовой из пензенской деревни приехали родители её, Огаревы, поселились у нее и сделались хозяевами её дома. О Богдане Ильиче упомянул уже я в самом начале сих Записок. Как задушевный друг моего отца, потребовал он меня к себе и объявил, что если у них я буду иначе как у себя дома, то он будет на меня жаловаться. Когда вспомнишь старину и начнешь об ней беспристрастно судить, то, право, только о потере эдаких людей в ней пожалеешь.
С Марьей Богдановной Голубцовой жил единственный брат её, Платон Богданович Огарев, человек чрезвычайно добродушный. Вот всё что могу об нём сказать. К сожалению, отец его оставил ему только большое состояние; кажется, он мог бы дать ему и много ума. Как родительское наследство, предложил он мне свою дружбу, и хотя он был меня гораздо старее, я охотно принял ее, умея ценить качества сердца. В следующее лето, когда все родные его уехали в деревню, воспользовался я другим его предложением, жить у него на квартире, и должен сознаться, что не одна приязнь к нему, но и нужда заставила меня на сие согласиться.
Приязненное расположение ко мне сестры его, когда прошло время первой супружеской горести, мне показалось еще сильнее и нежнее. Как чувств её не мог я разделять, то мне пришлось притворяться, что я их не понимаю, и до сих пор дивлюсь, как могла она мне сие простить. Это объясняется необыкновенною её добротою; миновав любовь, она даже после не отказывала мне в дружбе. Она была тогда лет тридцати, чрезвычайно смугла, нехороша собою, отменно слаба умом и сердцем и часто влюблялась. А как, по правилам строгого целомудрия, в коих она была воспитана, она искала более мужа чем любовника, то могла сделать весьма худой выбор, попасть за мальчика или за какого-нибудь сорванца. Она довольно счастливо сие избежала, хотя второе супружество её и нельзя назвать совершенно выгодным. Несколько лет спустя, она вышла за поляка Сосновского, весьма хорошей и известной фамилии, не столь молодого, сколь моложавого красавчика, который весьма долго, искусно и удачно спасал лицо свое от действий всесокрушающего времени. После полумертвой княгини Шуйской, у которой в Киеве, во время малолетства моего, видел я его наемным ласкателем, соединение с Марьей Богдановной должно было ему казаться весьма приятным.
Фамилия Голубцовых, по близкому родству с графом Васильевым, женатым на княжне Урусовой, родственнице княгини Вяземской, вдовы генерал-прокурора, была в свойстве и с сею последнею. В доме этой княгини, которая одну дочь выдала за неаполитанского посланника дюка-де-Серра-Каприола, а другую за датского Розенкранца, собирался весь дипломатический корпус, следственно и высший круг Петербурга. И потому-то отблески его часто мелькали и у Марьи Богдановны, и если б она умела быть столь же любезна как и добра, то гостиную свою сделала бы одною из самых приятных в столице[71].
В большой связи с Голубцовыми был сенатор Петр Иванович Новосильцов, также старинный друг моего отца, о котором также упомянул я в начале сих Записок и в которому также я должен был явиться. Сначала меня пугала жена его, Катерина Александровна; ничего страшнее её взгляда и голоса, ничего добрее её сердца. Когда первый страх во мне прошел, я сделался у неё в доме как свой. С старшим сыном их, моим ровесником, я очень сошелся, чтобы не сказать подружился; и, право, не знаю от чего, разве потому, что его никто терпеть не мог, что он сам, кажется, никого не любил, а мне одному оказывал ласку и приязнь. Он был наружности непривлекательной, имел желто-красные щеки, всегда недовольный вид и весьма спесиво вздернутый к верху крючком не нос, а подбородок. Надобно полагать, что замеченное им всеобщее недоброжелательство дало такое странное расположение его лицу, выражающему всегдашнюю готовность отразить насмешку или грубость. Нашли, что он похож на продаваемых тогда деревянных раскрашенных мужичков для щелкания орехов, и прозвание касноазета сохранил он до смерти и даже после. Гораздо позже отдалился я от него, когда узнал, что правила и поступки его не красивее его фигуры. Единственный брат госпожи Новосильцовой, Ардалион Александрович Торсуков, был обер-гофмейстером при дворе и женат на племяннице и наследнице знаменитой при Екатерине Марьи Савишны Перекусихиной. Он был в большой дружбе с сестрою, и их два дома составляли почти один; потому-то между всякой всячиной встречался в них и народ придворный, и люди хорошего тона.
Одно семейство, которое встречал я везде, с некоторыми членами коего был знаком и о житье коего я так наслышался, как будто сам бывал у них в доме, было тогда весьма примечательно. Теперь в Петербурге едва ли кто знает, что такое были Арбеневы, а тогда, бывало, лишь назовешь Асафа Ивелича и Марфу Ивановну, знакомые и незнакомые люди всех состояний, всякий знает, о ком идет речь. Сии супруги прославились своими странностями, а смертью своею несколько времени оставили в обществе пустоту. Честный и добрый старик был служакой при Екатерине, когда их было так мало, и от того долго командовал при ней Измайловским полком; манеры его несколько отзывались фронтом и от того должны были казаться странными в гостиных. Примечательно в жизни Иоасафа Иевлевича и то, что он — из малого числа людей, кои при Павле оставили службу с честью и миром, с пенсией и мундиром; даже при отставке получил он чин полного генерала и остался на житье в Петербурге. В Марфе же Ивановне смешным казалось то, что, наперекор природе, она хотела оставаться молодою в шестьдесят лет и для того всё у себя красила и перекрашивала, и всё это для того только, чтобы лучше понравиться мужу, с которым они жили, как голубки. Их дом, собственный, на Малой Морской, был единственное место, где самый высший петербургский круг встречался с второстепенным и даже с третьекласным обществом. В извинение себе знатные говорили, что ездят посмеяться, а если бы сказали правду, то для того, чтобы повеселиться. Говорят, действительно, радушие было старинное, гостеприимство тогдашнее московское. Всякий вечер что хозяева не на званом бале, у них самих незваный бал: наедет молодежь, дом набьется битком, всё засмеется, всё запляшет. Правда, говорят, зажгутся сальные свечи, для прохлады разнесется квас; уже ничего прихотливого не спрашивай в угощении; но зато веселие, самое живое веселие, которое, право, лучше одной роскоши, заменившей его в настоящее время. Однако же, и с таким житьем, когда принимаешь у себя весь город, небольшому состоянию трудно то выдержать и, кажется, Арбеневы не оставили много средств жить так же весело своему семейству, которое с тех пор удалилось в провинцию. Как ни говори, но чтоб уметь постоянно собирать у себя разнородные общества, необходима в хозяине или хозяйке особливая приманчивость.
В домах, где видел я сию странную и почтенную чету, у Лабатовых, у тогдашней красавицы Воеводской, которая давала балы, везде играла она самую важную роль: ей принадлежало первое место на канапе, рука хозяев к столу и лучшие куски за ужином. Тот круг, где на вечерах председательствовала сия чета, был довольно обширен; к нему принадлежал и дом Танеевых, о коем после буду говорить, и дом Морелли-де-Розетти, отставного полковника, французского музыканта, который принял итальянское прозвание, прибавив к нему своевольно графский титул, вышел при Потемкине в чины и женился на достаточной вдове генерала Байкова, и еще многие другие. У меня иногда спрашивали, как умел я сделать, чтобы не попасть к Арбеневым, на что я отвечал, что никогда и ни к кому не любил напрашиваться.
Теперь несколько слов о тогдашних нарядах мужских и женских. Мода, которой престол в Париже и которая, по-видимому, так своенравно властвует над людьми, сама в свою очередь слепо повинуется господствующему мнению в отчизне своей, Франции, и служит, так сказать, ему выражением. При Людовике XIV, когда он Францию поставил с собой на ходули, необъятные парики покрывали головы, люди как бы росли на высоких каблуках, и огромные банты с длинными, как полотенца из кружева, висящими концами, прикреплялись к галстукам; женщины тонули в обширных вертюгаденах, с тяжелыми накладками, с фижмами и шлейфами; везде было преувеличение, всё топорщилось, гигантствовало, фанфаронило. При Людовике XV, когда забавы и амуры сменили славу, платья начали коротеть и суживаться, парики понижаться и наконец исчезать; их заменили чопорные тупеи, головы осенились голубиными крылышками, ailes de pigeon. При несчастном Людовике XVI, когда философизм и Американская война заставили мечтать о свободе, Франция от свободной соседки своей Англии перенесла к себе фраки, панталоны и круглые шляпы; между женщинами появились шпенцеры. Вспыхнула революция, престол и церковь пошатнулись и рухнули, все прежние власти ниспровергнуты, сама мода некоторое время потеряла свое могущество, ничего не умела изобретать, кроме красных колпаков и бесштанства, и террористы должны были в одежде придерживаться старины, причесываться и пудриться. Но новые Бруты и Тимолеоны захотели, наконец, восстановить у себя образцовую для них древность: пудра брошена с презрением, головы завились а-ла-Титюс и а-ла-Каракала, и если бы республика не скоро начала дохнуть в руках Бонапарте, то показались бы тоги, сандалии и латиклавы. Что касается до женщин, то все они хотели казаться древними статуями, с пьедестала сошедшими: которая оделась Корнелией, которая Аспазией. Итак французы одеваются, как думают; но зачем же другим нациям, особливо же нашей отдаленной России, не понимая значения их нарядов, бессмысленно подражать им, носить на себе их бредни и, так сказать, их ливрею? Как бы то ни было, но костюмы, коих память одно ваяние сохранило на берегах Эгейского моря и Тибра, возобновлены на Сене и переняты на Неве. Если бы не мундиры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядеть как на древние барельефы и на этрусские вазы. И право, было недурно: на молодых женщинах и девицах всё было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело. Не страшась ужасов зимы[72], они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам? Им не так выгодно было выказывать формы; ну что ж, и они также из русских Матрен перешли в римские матроны.
После расхищения гардемёбля, по увезении эмигрантами всех легковесных драгоценностей, кажется, не оставалось во Франции ни одного камушка. Фортуны раздробились, сравнялись; новые, кои война и торговля потом так быстро создали, не успели еще составиться, и женщины, вместо алмазов, принуждены были украшаться камнями и мозаиками, их мужьями и родственниками награбленными в Италии. Нам и тут надобно было подражать. Бриллианты, коими наши дамы были так богаты, все попрятаны и предоставлены для ношения царской фамилии и купчихам. За неимоверную цену стали доставать резные камни, оправлять золотом и вставлять в браслеты и ожерелья. Это было гораздо античнее.
О мужском платье говорить много нечего. С тех нор как я себя помню, умы портных и франтов вертятся около вечных, несносных, кургузых и непристойных фраков: то подымется, то опустится лиф или воротник, рукава сделаются то уже, то шире, то длиннее, то короче. Никак не могут дойти, чтобы чем нибудь более живописным заменить сей неблагообразный костюм.
Вообще мода не что иное как вкус, дурной или хороший, который по временам меняется, как и всё на свете. Следственно как о вкусах, так и о модах судить мудрено: невозможно с математическою точностью определить, в чём красота, в чём безобразие. Например, я слышал прежде, что всё то, где простота, правильность линий и округлостей, всё что легко, не обременено лишними украшениями — всё это ближе к природе, и в этом только состоит изящество; я тоже думал и думаю ныне. Теперь же говорят, что сама природа пестра, прихотлива, вычурна, не знает симметрии и иногда прекрасна в самых ужасах своих. И это правда, я не спорю и не соглашаюсь; но вероятно по привычке всё прежнее мне лучше нравится.
В области моды и вкуса, как угодно, находится и домашнее убранство или меблировка. И по этой части законы предписывал нам Париж. Штофные обои в позолоченных рамах были изорваны, истреблены разъяренною его чернью, да и мирным его мещанам были противны, ибо напоминали им отели ненавистной для них аристократии. Когда они поразжились, повысились в должностях, то захотели жилища свои украсить богатою простотой, и для того, вместо позолоты, стали во всём употреблять красное дерево с бронзой, то есть с накладною латунью, что было довольно гадко; ткани же шелковые и бумажные заменили сафьянами разных цветов и кринолином, вытканною из лошадиной гривы. Прежде простенки покрывались огромными трюмо с позолотой кругом, с мраморными консолями снизу, а сверху с хорошенькими картинками, представляющими обыкновенно идиллии, писанными рукою Буше или в его роде. Они также свои зеркала стали обделывать в красное дерево с медными бляхами и вместо картинок вставлять над ними овальные стекла, с подложенным куском синей бумаги[73]. Шелковые занавеси также были изгнаны модою, а делались из белого коленкора или другой холщовой материи с накладкою прорезного казимира, по большой части красного, с такого же цвета бахромою и кистями. Эта мода вошла к нам в конце 1800 года и продолжалась до 1804 или 1805 годов. Павел ни к кому не ездил и если б увидел, то конечно воспретил бы ее, как якобинизм.
Консульское правление решительно восстановило во Франции общество и его пристойные увеселения: тогда родился и вкус, более тонкий, менее мещанский, и выказался в убранстве комнат. Всё делалось а л’антик (открытие Помпеи и Геркуланума чрезвычайно тому способствовало). Парижане мало заботились о Лионе и его мануфактурах, но правителю Франции надобно было поощрить их: и шелковые ткани опять явились, но уже по прежнему не натягивались на стенах, а щеголевато драпировались вокруг них и вокруг колонн, в иных местах их заменяющих. Везде показались алебастровые вазы, с иссеченными мифологическими изображениями, курительницы и столики в виде треножников, курульские кресла, длинные кушетки, где руки опирались на орлов, грифонов или сфинксов. Позолоченное или крашеное и лакированное дерево давно уже забыто, гадкая латунь тоже брошена; а красное дерево, вошедшее во всеобщее употребление, начало украшаться вызолоченными бронзовыми фигурами, прекрасной отработки, лирами, головками: медузиными, львиными и даже бараньими. Всё это пришло к нам не ранее 1805 года, и по моему, в этом роде ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувия вообразить себе, что через полторы тысячи лет из их могил весь житейский их быт вдруг перейдет в Гиперборейские страны? Одно было в этом несколько смешно: все те вещи, кои у древних были для обыкновенного, домашнего употребления, у французов и у нас служили одним украшением; например, вазы не сохраняли у нас никаких жидкостей, треножники не курились, и лампы в древнем вкусе, с своими длинными носиками, никогда не зажигались.
Теперь от внутреннего убранства перейдем к наружному, то есть к архитектуре. В ней также воскрес вкус римской и греческой древности. Когда у персидского посла в 1815 году спросили, нравится ли ему Петербург? он отвечал, что сей только что вновь строящийся город будет некогда чудесен. Это скорее можно было сказать в начале царствования императора Александра, а еще скорее в нынешние годы. Тогда в одно время начинались конно-гвардейский манеж и все, по разным частям города рассеянные, великолепные гвардейские казармы, и огромная биржевая зала, одетая в колонны, с пристанью и набережными вокруг неё, и быстро подымался Казанский собор с своею рощей из колонн и уже приметно передразнивал церковь Св. Петра в Риме; обывательские же трех и четырехэтажные каменные дома на всех улицах росли не по дням, а по часам. В тоже время чистили и делали судоходною речку Пряжку, бока Мойки выкладывали камнем и перегибали через нее чугунные мосты; по Невскому проспекту и на Васильевском острове протягивали бульвары и, наконец, от самой подошвы перестраивали заново старое, кирпичное, с земляным валом, Адмиралтейство. Так как государь единственным, любимым своим летним местопребыванием избрал небольшой Каменноостровский дворец, то вдруг прервалось угрюмое молчание окрест лежащих островов. Везде на них застучали топор и молот, и засвистела пила; болота их осушились и поросли дачами. Можно себе представить, какая строительная деятельность была тогда во всём Петербурге.
Четыре архитектора были тогда известны: двое русских, Захаров и Воронихин, итальянец Гваренги и француз Томон. Первый из них, по части зодчества, в художественной нашей истории стоит пониже поэта в архитектуре, Баженова, и наравне с Старовым и Кокориновым. Надобно было его искусство, чтобы растянутому фасаду Адмиралтейства дать тот красивый вид, ту правильность и гармонию, которыми мы поныне любуемся. Другой же, Воронихин, был холоп графа Строганова, президента Академии и мецената художеств; а как в старину баре, даже и знатные, отдавали мальчиков в учение, не справляясь с их склонностями, то, вероятно, и Воронихин, природой назначенный к сапожному ремеслу, учением попал в зодчие. И он по рекомендации своего господина построил Казанский собор, этот копиист в архитектуре, который ничего не мог сделать, как самым скверным почерком переписать нам Микель-Анджело. Старик Гваренги часто ходил пешком, и всяк знал его, ибо он был замечателен по огромной синеватой луковице, которую природа вместо носа приклеила к его лицу. Этот человек соединял всё, и знание, и вкус, и его творениями более всего красится Петербург; к сожалению, в это время, кажется, его ни на что не употребляли. Мусью Томон или Томас де-Томон, как он подписывался и печатался, был человек не без таланта, как то доказывается построенною им Биржею. Он также был известен как бешеный роялист и пламенный католик; земляки его, среднего состояния, составлявшие религиозно-легитимистскую партию, которая так бескорыстно стояла за трон и церковь, говорят, все у него собирались.
Был еще один француз, архитектор, конечно, гораздо выше других товарищей своих в искусстве, которые с тех пор к нам из Франции пожаловали. Это Камерон, построивший Царскосельскую колоннаду, который тогда был жив, здоров и находился в Петербурге. Непонятно, как, имея в своем распоряжении Гваренги и Камерона, можно было что-нибудь великое поручить Воронихину? Тут бы национальность в сторону: с такими людьми народная слава скорее теряет, чем выигрывает.
Безо всякого дела, как настоящий фланёр, часто посещал я публичные работы, которые мне как будто были приказаны. Как это занимало меня, дивило, восхищало! И возможно ли перемениться так в чувствах? Ныне без сердечной горести, без глубокого уныния не могу я видеть, как громоздятся у нас дворцы и храмы. Всякий раз, что взгляну я на них, невольно вспомню, что крытый соломою Рим покорил вселенную, а когда воздымались в нём Колизей, Нероновы бани и Адрианов мавзолей, то начали появляться варвары и отхватывать отдаленные его провинции; вспомню, что среди развалин сего самого Рима возникла папская власть, которая распространилась по всему христианству, а когда соорудился Ватикан и храм апостола Петра стал возноситься на удивление всего просвещенного христианского мира, большая его половина оторвана от него Лютером и Кальвином; вспомню, что построение Альгамбры незадолго предшествовало покорению Гренады, и с того времени, как поднялся Эскуриал, начался постепенный упадок Гишпании; вспомню также, что Святая София, Ипподром и Влахернский дворец созидались почти в виду неприятельских станов. Наконец, спрошу у себя, на чью славу простояли века́ египетские пирамиды, когда попеременно они делались добычею Камбиза, Александра Великого, Юлия Кесаря, Омара, Наполеона, и ныне, под именем Мегемета-Али, неизвестно кто владычествует над ними: турки, французы или англичане? Нет, роскошь, расточительность не есть величие царское, и огромные здания изящной архитектуры — часто одни только великолепные занавесы, закрывающие народную нищету.
IV
Граф Сухтелен. — Д. Н. Блудов.
В отдаленном времени, о коем пишу, нельзя вдруг припомнить всех замечательных и приятных знакомств, которые в это время я сделал. Я было и забыл одного почтенного человека, за непосещение коего получил я от отца выговор и строгое приказание к нему явиться. Это был голландец Сухтелен, муж ученый, кроткий и добродетельный, который при Павле на место Шардона начальствовал в Киевской крепости над инженерами; тут составилась у них с отцом моим дружба, которую одна смерть только прекратила. При Александре был он его любимцем, генерал-инженером и генерал-квартирмистром, управляя обеими частями почти независимо от Военного Министерства, и помещался в великолепных покоях оставленного Михайловского замка. В длинном ряду воспоминаний, кои так тревожат, утомляют душу, встречаются изредка такие, на коих она отдыхает, сладостно успокаивается; в числе их находится у меня и Петр Корнилович Сухтелен, которого едва ли я чувствую себя достойным изобразить. Он был росту небольшого, несколько сутуловат, имел лицо чистое, на котором еще в старости играл румянец, и голос, коему небольшой недостаток в произношении (вместо т говорил он всегда с) придавал еще более приятности. С кипящим любовью к добру сердцем, при неутомимой деятельности, наружность его сохраняла спокойствие, почти неподвижное, озаряемое легкою улыбкой. Этот человек ужасал своим знанием, но так был скромен, что не только пугать, но даже удивлять им никого не думал. Страсть к учености была в нём тихий, неугасаемый жар, его жизнь, его отрада, коею готов он был делиться со всеми, кто более или менее поклонялся светильнику наук. Тот, кто, казалось, не обидел бы мухи, в поле был неустрашимый воин, и всеведущий сей, в обществе невежд, был ласков, приветлив, не давая подозревать о своем знании. Все математические науки, все отрасли литературы, философия, богословие равно ему были знакомы; в художествах был он верный и искусный судья. Но как успевал он копить сокровище своего знания, когда половина дня поглощаема у него была занятиями по службе — это сущая загадка.
Раз в неделю должен был я у него обедать и, наконец, удостоился быть в его кабинете-библиотеке, который заслуживает быть описанным. Можно представить себе мое изумление, когда вошел я в бывшую тронную залу императора Павла. Она была в два света; на великолепно расписанном плафоне изображен был Юпитер-Громовержец и весь его Олимп; под вызолоченным карнизом видны были гербы всех княжеств Российских; место, где был трон, было заметно по сохранившимся над ним резным фигурам, и огромное зеркало в 12 или 13 аршин вышины было в числе забытых или оставленных украшений. Но стены чертога были голы, даже не покрыты краскою; вдоль оных до половины их вышины тесно поставлены были выкрашенные простого дерева шкафы без стекол и занавесок. А между тем их полки поддерживали драгоценности, коим мог позавидовать всякий библиофил: кажется, одни Эльзевиры были без счету. На середине зады стояли, один за другим, престрашные столы с ящиками до полу, которые в недрах своих хранили другие сокровища: редкие рукописи, собрания эстампов и медалей, а сверху были обременены нерасставленными еще фолиантами. Память о покойном государе была так еще свежа, что я невольно вздрогнул, и была минута, в которую мне показалось, что разгневанная тень его пронеслась по мирному кабинету мудреца. Какая противоположность! Там, где еще недавно с трепетом проходили царедворцы, там ежедневно по целым часам блаженствовал муж добра и науки.
Он был настоящий библиоман. Это такого рода роскошь, на удовлетворение коей более всего потребны время и расчетливость. Генерал Сухтелен, не бедный и не богатый, всю жизнь свою употреблял половину доходов на покупку книг и по смерти своей наследникам своим оставил такую библиотеку, которую приобрела казна, ибо ни один частный человек не в состоянии был купить ее.
В обществе его, обыкновенно составленном из знаменитых путешественников, художников и ученых, мог я тогда быть только слушателем. Однако же всегда быть лицом без речей могло бы мне, наконец, наскучить; от сей опасности был я огражден разговорами дочери его Марьи Петровны, фрейлины, весьма остроумной, оригинальной и даже курьезной девицы, некрасивой собою, чрезвычайно смешливой и немного насмешливой. Еще занимательнее был для меня брат её Павел Петрович, молоденький мальчик, в офицерском мундире квартирмейстерской части, живой, веселый, добрый, умный, но который, приглядевшись ко всему, что имеет истинное достоинство, как будто не знал ему тогда цены и пленялся единственно блестящей шумихой гвардейских мундиров, двора и света. Он не долго вздыхал о кавалергардском полку, год или полтора: с покровительством такого отца ему не слишком трудно было в него перейти. Офицеры этого полка славились тем, чему в русском языке нет имени — fatuité, что нельзя перевести названиями самодовольства, хвастовства, чванства; ибо ни которое отдельно, по все вместе входят в состав сего недостатка. Эта врожденная склонность почти всех молодых и многих старых французов у нас сделалась исключительно принадлежностью одного полка, который за то, почти не исключая женщин, все терпеть не могли. Особенно ненавидели его гвардейцы других полков, начиная с брата государева Константина Павловича; с негодованием смотрели на первенство его и вместе с тем как будто его признавали[74]. Мой Сухтелен также сначала со мною поднял нос; но он так не ловко чванился, так мило пришепетывал, что я не мог на него долго сердиться, и он сам, наконец, почувствовал, как это смешно. Когда с летами прошло его легкомыслие, остались одни его прекрасные, благородные свойства. Он был полезен как воин и как гражданин, стоял уже на высокой степени, начинал России заменять отца, как внезапная смерть похитила его у обоих, и переживший его старец осужден был несколько лет оплакивать его потерю.
Изо всех юношей-ровесников чаще всех видел я тогда Блудова, товарища моего по службе в Московском архиве. Ни в образе воспитания, ни в характере, ни в привычках, ни в склонностях, ни в чём у нас ничего не было общего; мы отправились со столь различных точек, что, казалось, никогда сойтись не можем. Единственный сын нежной, умной, попечительной и хворой матери, коей был он и единственною отрадой и упованием, он никогда еще не разлучался с нею, вырос, так сказать, в теплице её заботливости, в тесном кругу людей ею избранных. Я в Киеве получил, можно сказать, площадное воспитание; гостиная моих родителей была волшебный фонарь, где беспрестанно одни проезжие фигуры сменяли другие, был потом в публичном заведении, жил по чужим домам и изъездил уже почти половину России. Но в некоторых отношениях наше положение в Петербурге было сходно: наше одиночество, самолюбие, которое не допускало нас искательством приобретать полезные знакомства, всё это нас сблизило.
Еще и доныне благодарю я Провидение, пославшее мне наставника, едва вышедшего из отроческих лет. С самого рождения видел я в отце пример всех добродетелей; но они стояли так высоко передо мною, что я не смел надеяться до них когда-либо возвыситься; в отчаянии, в пренебрежении к самому себе, я почитал себя добычей, обреченною пороку. Если бы был я тогда в частых сношениях с угрюмым педагогом, который бы ежедневно проповедовал мне о моих обязанностях, то еще бы более утвердился в сем мнении. Но мне предстала нравственность в самом милом виде: тот, которого год или два назад знал я умненьким шалуном, ничего не утратив из веселонравия своего, живости, остроумия, словом и делом строго повиновался всем уставам чести и добродетели.
Мне предстоит подвиг трудный: изобразить этого человека. Если, увлекаясь пристрастием, умолчу я о слабостях его, то что будет с истиною, с данным мною обещанием? И как нет ничего совершенного в мире, то какое правдоподобие будет иметь мой рассказ? А говорить о его недостатках куды не хочется! Впрочем, мне бояться нечего: они так потоплены блистательными, редкими, в наше время необычайными качествами, что покажутся разве как родимое пятнышко на красивом лице.
Природа создала его порочным. Она сделала более, она открыла в нём два главных источника всех пороков: гордость и леность; но в тоже время вложила в него искру того небесного огня, от которого, рано или поздно, сии источники должны были иссякнуть, и душа его спозаранку получила удивительную способность быстро воспламеняться от малейшего прикосновения всего изящного в нравственном мире. Непорочная любовь с её чистейшими, нежнейшими восторгами, и дружба весьма немногим прежде, ныне же почти никому непонятная, и вера с её тихими неземными наслаждениями, и честь со всею строгостью её законов, и патриотизм со всею возвышенностью чувств им возбуждаемых, обхватили и проникли сию почти отроческую душу. Всё в ней сделалось поэзия, и страсть к её произведениям была главнейшею в первой молодости Блудова. Может быть, она отвлекла его от других занятий, в мнении света, более полезных; но она очаровала его юность, расцветила воображение и спасла его сердце от жестокого эгоизма, к которому, греха таить нечего, оно имело наклонность. Время не могло истребить счастливых впечатлений, сею первою эпохою жизни оставленных; их не могло совершенно подавить бремя государственных дел, и не остыли они от холода лет и высшего общества, в котором живет он. И вот почему в России, увы! он почти единственный государственный человек, который о благе её мечтает более чем о почестях.
Не надобно забыть, что восемнадцатый век едва только кончился в то время, о котором пишу. В то время неверие почиталось непременным условием просвещения, и целомудрие юноши казалось верным признаком его слабоумия. Итак Блудову предстояла борьба не только с самим собою, но и с мнением большинства людей. Он не хвастался своими чувствами, но и не скрывал их; всё это в молодом мальчике не показывает ли и силу характера и силу убеждения? Правда, на мерзости людские смотрел он не совсем по-христиански, не с братским соболезнованием, не только с гордостью и презрением, но и с постоянною досадой, и эпиграммы, коими язык и перо его были вооружены как иглами, с обоих так и сыпались. И ненависть глупцов уже почтила его в первые годы пребывания его в Петербурге; особенно невзлюбили его молодые люди, много и скверно болтавшие по-французски: они уже дали ему названия и мешана, и костика.
Всего более нрав его выказывался в беседах с молодыми друзьями. Приучив себя к какому-то первенству между ними, он часто как будто требовал исполнения воли своей и потом, как бы опомнясь, переходил к неожиданной уступчивости. Глядя со стороны, нельзя было решительно сказать, тиран ли он друзей своих, или их жертва? Это объясню я двумя словами: он властвовал над ними умом и покорялся им сердцем.
Этого человека искал я, вместе и страшился. Трусости сей я не краснею и ныне готов ею похвалиться: я боялся его как совести своей. В одном чувствовал я превосходство свое перед ним: мне жаль было видеть, как, при уме его, мог он с таким участием, иногда с восхищением, говорить о русской словесности; мне казалось, что между высокопарно-скучным церковным и стихотворным языком нашим и гадким языком простонародья неизмеримое пространство, на средине коего, как едва приметная точка, стоял Карамзин. Какой тут быть прозе, каким стихам, думал я, и стоит ли о том говорить? За то в мыслях о Франции и энтузиазме к ней были мы совершенно согласны; в этом он был мой оракул, а Лагарп его законодатель. И тут являлось его правоверие: роялизм был его политическою, а классики литературною верой.
Кажется, более всего соединяла нас в это время страсть к французской сцене, которая во мне доходила до безумия. Мне случалось не допивать, но доедать; случалось довольствоваться людскими щами и кашей, чтобы последний медный рубль нести в театр: там была вся услада, всё утешение моей жизни; там я был уверен встретить Блудова, и мы оба во всём смысле могли называться пилястрами партера, как говорят французы.
И вот тут-то примусь я описывать со всею подробностью (читай меня, иль не читай) любопытнейшее занятие праздной моей молодости. Я говорил уже о Петербургском театре при Павле Первом, когда я только что прозрел его. Вскоре после кончины сего императора, удалилась или была выслана красавица-певица Шевалье с балетмейстером мужем своим, и опера без неё осиротела. Прошел траурный год, в продолжение коего придворные актеры не могли являться на сцене, и о театре, до которого император Александр никогда не был большой охотник, как будто позабыли. Но когда весною 1802 года он опять был открыт, среди всеобщего стремления к веселостям, тогда все почувствовали необходимость его в столичном городе. Для самого Государя, тогда еще совершенно молодого, публичные увеселения имели еще некоторую заманчивость. Каменный или Большой театр, возвигнутый в Коломне при Екатерине, велено архитектору Томону перестроить заново и с большею против прежнего роскошью; а покамест, дабы не прерывать представлений, отыскан деревянный или малый театр, никому неизвестный, построенный великолепным князем Потемкиным на дворе принадлежавшего ему Аничковского дворца. Сам директор императорских театров, расточительный обер-камергер Нарышкин, отправился в примиренный с нами Париж и навербовал там два или три комплекта артистов всякого рода. Всё наехало, всё поспело в последние месяцы сего 1802 года, первые пребывания моего в Петербурге. Перестроенный Большой театр открыт 30 ноября; меня чуть не задавили при входе, и я всё-таки в него не попал. Несколько дней спустя, было воскресение французской оперы, то есть первый дебют знаменитой у нас Филис.
Незабвенная Филис! Какими я блаженными минутами ей обязан! Девять лет сряду восхищала она меня. Но не подумайте, читатель, чтоб я в нее хотя сколько-нибудь был влюблен; это было невозможно, во-первых, потому что я никогда вблизи её не видывал, и потому, во-вторых, что на самой сцене, несмотря на оптический обман, она мне казалась более дурна, чем хороша собою. Она была уроженка из Бордо и 24 лет, когда к нам приехала. Всем известно, что под жарким, южным небом всё сладчайшее, плоды и женщины, зреет гораздо ранее, чем у нас, и, несмотря на молодые свои годы, моя Филис казалась едва ли не перезрелою. У неё же был длинный нос и смуглое лицо, чего я терпеть не могу. Но всё что только может заменить свежесть и красоту, всё в ней находилось; всё было пленительно, очаровательно: и взгляд её, и поступь, и игра, и голос, когда она им говорила, и уменье владеть им, когда она пела, и уменье наряжаться со вкусом. Никто не влюблялся в нее как женщину, все обожали как певицу и актрису. В Париже прелести её ценились выше, чем у нас; они произвели страсть и гонения брата Бонапарте, Иеронима. Видно, что власть семейства первого консула была очень велика, ибо свободе Андриё (мужа или любовника Филис) угрожала опасность, и они, сделав условия с Нарышкиным, тайно бежали в Россию…
В продолжении 1803 года не проходило почти недели, чтобы не было на Французском театре дебюта и одной или двух новых пьес. В аристократическом обществе, между нашими боярами, были французы и француженки разных времен и возрастов. По их требованию, в угождение им, начали отыскивать все современные им музыкальные произведения, и стали восходить до Монсинии и Рамб; к счастью, современников Лулли никого уже не было. Глюк и Пиччини мирно встретились у нас на одной сцене, пропетые одними и теми же артистами, и одни и те же зрители, не давая одному перед другим преимущества, обоим с одинаковым равнодушием рукоплескали. Только для немногих Ифигения, Орфей и Эдип в Колоне воскрешали былое; когда хором запели Achille sera votre époux, говорят, старик граф Строганов затрепетал от восторга; когда Андриё, играя Блонделя в Рихарде Львином Сердце, несносным голосом своим затянул О Richard, о mon roi, одна престарелая княгиня, пораженная воспоминаниями, в ложе своей зарыдала. Для нашего же поколения Грётри казался уже ветх, и неистощимый Далейрак был часто несносен. Но что я говорю о нашем поколении! Поминками о Филис не похож ли я на тех, о коих сейчас говорил? С тою однако же разницей, что музыка, от коей в молодости был я вне себя, является мне ныне изредка и против воли моей, как старая, давно забытая любовница, вся в сединах и морщинах…
С Французским театром почти неразрывно связаны балеты; они чисто французские произведения. Их составлял тогда и потом блистал в них примечательный Дидло с женою своею. Уверяли, что нашим молодым русским танцовщикам и танцовщицам потом и кровью доставалось плясовое искусство: Дидло, всегда вооруженный престрашным арапником, посредством его (как некогда Пото со мною) давал им уроки. Другой танцовщик назывался Дютак, и про него кто-то сказал, что он Нетак. Тогда было не то, что ныне: давали почти одни серьезные балеты, плясовые трагедии, Медея и Язон, Апеллес и Кампаспа, Пирам и Тизбе, которые казались еще скучнее нынешних.
Двору и обществу, как ребятам, всего хотелось: всё еще им мало было забав. Прежняя итальянская труппа была распущена; им захотелось новой, а как император не был охотник до музыки, как уже сказал я, то без всякого казенного участия дозволил ее только выписать, и вместо всякой другой помощи, велел отдать ей даром, по открытии Большего театра, малый, Аничковский. Антрепренеру Казасси посчастливилось сманить славные таланты, но не удалось приобрести выгод от своего предприятия; он едва не сделался банкротом, и тогда уже убедили Государя бедную труппу взять под свое покровительство и назвать придворною. А если эта труппа не умела сделать Петербурга музыкальнее, то видно никогда ему таким не быть… Преимущественно играли они тогда музыку Чимароза, Паэзиэлло, Назолини, Фиораванти. Как изучение итальянских опер требует более времени чем водевилей, то частым повторением своим они скоро надоели, и в 1806 году совсем прекратилось их здесь существование.
Не знаю, как другим молодым людям, но мне случалось быть в немецком и в русском театре, как и в балаганах о Святой, т. е. очень редко. Я винился знакомым, что видел три немецкие оперы, именно Волшебную Флейту Моцарта, венскую народную Донаувейбхен и весьма забавный фарс die Schwestern aus Prag, и надо мной готовы были смеяться. Наша новорожденная драматическая литература стояла в глазах наших всё-таки выше немецкой; она была по крайней мере бледная копия французской, которая обществом почиталась тогда первейшею в мире. Играли, однако же, немецкие комедии и трагедии перед немецкою публикой, которая в Петербурге всегда бывает многочисленна и которая тогда бредила Шиллеровыми Разбойниками и Дон-Карлосом. В это время (да полно, не так ли и ныне?) на немецком языке всё серьёзное казалось мне нестерпимым, всё пристойно-веселое скучным, всё нежное отвратительным; нравились мне одни только фарсы. Вот отчего остались у меня в памяти только два искусные забавника, Штейнберг и Линденштейн, да еще одна молоденькая певица, демоазель Брюкль, совсем не забавная, но примечательная по огромному голосу своему, не скажу приятному, и по немецкой постоянности, с какою слушали ее в одних ролях более тридцати лет и с какою она занимала их.
Русский театр, в первые два-три года Александрова царствования, оставался еще Российским театром, созданным Сумароковым, и почти не подвигался вперед. Незадолго до приезда моего, представление одной новой пьесы, Лиза или Торжество благодарности, весьма ничтожной и давно забытой, было важным происшествием и возбудило не только внимание, но и удивление публики, и автор г. Ильин удостоился чести совершенно повой, дотоле у нас неслыханной: его вызвали на сцену. Ободренный сим примером, другой, столь же неизвестный автор г. Федоров, следующею весною, вывел свою драму, другую Лизу, взятую из Бедной Лизы Карамзина, но имел успех уже посредственный. Недолго жалкие сии люди одни владели русскою сценой, пока не явились сперва Крылов, а вскоре потом и Шаховской и продлили цепь русских комиков, прерванную смертью Княжнина и Фон-Визина и молчанием Капниста. Крылов, с которым я тогда редко и довольно сухо встречался, перестал уже жить по добрым людям и испытывал силы свои в разных литературных родах. Каждый бы ему дался, и тому служат доказательством две написанные им в это время комедии: Урок дочкам и Модная ласка. Но чтобы на этом поприще достигнуть возможного совершенства, не доставало ему одного — прилежания. Басни избрал он не потому, чтобы почитал их единственной стезей, могущей вести его к известности и славе, а потому что находил ее удобнейшей, легчайшею и прибыльнейшей[75]. О Шаховском, с которым я после так коротко был знаком, о его слабостях и достоинствах, нахожу, что здесь еще не место говорить.
Что сказать о лицедеях наших того времени? Начнем с трагических, с Яковлева и Каратыгиной. Первому искусство ничего не дало, природа всё: мужественное лицо, высокий, стройный стан, орган звучный и громкий, но всеми дарами её не умел он воспользоваться. Я не виню его. Говорят, что у Дмитревского не было образцов; напрасно: он видел их за границей и по ним образовал природный дар свой, весьма необыкновенный. Когда он воротился и показался на сцене, в Петербурге не было ни одного иностранного театра, и он имел судиями и зрителями двор, лучшее общество и много людей, которые сами образцы его видели. Яковлев играл перед многочисленною толпой, в которой самая малая часть принадлежала к среднему состоянию; остальное было ближе к простонародью, даже к черни. Как актеру не искать рукоплесканий? И как, желая нравиться такой публике, не исказить свой талант? А как в этом роде посредственности быть не может, то Яковлев был мало сказать что плох, он был скверен. От неистовых криков и частого употребления водки голос его осип, и он свирепствовал истинно карикатурно. Подруга его на сцене, и как утверждали в домашней жизни, госпожа Каратыгина, жена плохого актера, игравшего молодых людей в комедии, была довольно красива, но играла не хорошо, всё всхлипывала, и не глаза, а горло казалось у неё вечно исполненным слез.
Кто знает? Ныне, может-быть, ими бы восхищались; так мнения и вкусы переменились. Трагедий было мало; все прежние, Майковские, Николевские и даже некоторые Сумароковские брошены, а об Озерове еще не было слышно. Играли покамест плохо переведенные, чудовищные немецкие драмы, и ими обуревался, и им хлопал площадной партер.
В мире был когда-то народ, у которого чувство изящного проникло во все состояния; он давно уже исчез. Был другой народ, завоевавший богатства целого света и в числе их, как сокровище, захвативший у первого чистоту и строгость вкуса его; от него осталось его громкое имя. После столетий, этот правильный вкус явился у третьего народа, некогда второму подвластного. Ознаменованные печатью сего вкуса литературные произведения его распространили его влияние и язык по всей Европе, и прежде нежели мечом посягнул он на свободу народов, уже ему покорила их лира. Когда этот народ стал терзать себя и соседей и всё опрокидывать, еще высоко стояла среди него сия венчанная лира, и он не переставал ей поклоняться; теперь она не разбита, но валяется в прахе. Нет, классицизм и желание владеть миром не могли быть врожденным чувством у потомства легкомысленных галлов и черствых франков; первый был одно подражание и долго господствовавшая мода; другое родилось и умерло в голове единого человека, итальянца, потомка Римлян. Когда Европа уняла Францию, то несколько времени она гневалась, волновалась, но неприметным образом принимала уставы своих соседей, англичан и немцев; всё готско-тевтоническое, как нечто родное и так непринужденно, в ней возобладало и выдавило, так сказать, мечты о древнем величии Рима. Тем лучше! Я чуть было не сказал для нашей будущности, но вспомнил и наше идолопоклонство не одной уже Франции, но в совокупности с ней целой Европе.
Какое отступление! И всё это по случаю игры Яковлева, правда, не понятого и опередившего свой век. Теперь немного слов еще о тогдашнем нашем театре. Комедия шла не много лучше трагедии. Рахманова, в ролях сердитых, сварливых старух, какими были тогда в русских провинциях все старухи (от бездействия и скуки терзавшие всё им подвластное) и Пономарев, олицетворенное подъячество, были оригинально забавны. Между не выпущенными еще воспитанниками и воспитанницами тогда уже существовавшей Театральной Школы начинали в комедии являться талантики.
Певцы и певицы были достойны играемых тогда русских опер. Но между ними было нечто чрезвычайно примечательное, нечто совершенное, это буфф в русском роде, Воробьев. Он смешил когда он пел, когда он говорил, когда он стоял, смотрел, даже когда он только показывался на сцене. Жена его, толстенькая, слабоглазая и неуклюжая, занимала первые роли, обыкновенно царевен и княжон. Когда число действующих лиц того требовало, то голоски брали на прокат из Театральной Школы.
От русского театра весьма естественным образом переходишь к тогдашней русской литературе. Сжатая при Павле, омелевшая до Шаликовской приторности при Александре, она стала возвышаться и течь с быстротою. Еще должен повторить, что я совсем ею не занимался, и если что узнал о самом современном ходе её, то по изустным преданиям Блудова. Но сего достаточно, чтобы вкратце описать тогдашнее её состояние. Она, как всем известно, родилась в Петербурге; все прежние сочинители, от Ломоносова до Державина и от Тредьяковского до Хвостова, в нём образовались, жили, служили и писали. Позднее Москва сделалась её центром, и она тем обязана постоянному пребыванию двух знаменитых писателей в стихах и прозе, Дмитриева и Карамзина. С пор тех всё лучшее в нашей словесности родится и произрастает там, плоды же собирает Петербург. С воцарением Александра, после тягостного сна, всё благородное воспрянуло, и Карамзин, столь привлекательный в своих Безделках, прилежно и сильно принялся за дело. Он сделался первым издателем первого у нас журнала, достойного сего названия. Его Вестник Европы начал нас знакомить как с её произведениями, так и с нашею древностью. Какое мужество, какое терпение и какое бескорыстие были потребны Карамзину! Какая бедность в материалах! Какой недостаток в сотрудниках! Какое малое число подписчиков, и какая низкая цена за издание! Едва прикрывались издержки, а труд шел почти даром. Он принужден был почти один постоянно заниматься, сочинять, переводить. Но великий писатель достиг своей цели; он водрузил знамя, под которое стали собираться молодые таланты и развиваться под его сенью. Между тем и самый слог Карамзина, дотоле красивый, стройный, милый, как прелесть молодости, среди упорных, вседневных трудов приметным образом стал укрепляться и подниматься, и во всей мужественной красоте явился в герое-женщине, Марфе Посаднице. Вестник Европы становился слишком приманчив, чтобы быстро не умножилось число ого читателей и подписчиков; тогда только, когда Карамзин мог ожидать себе от него прибыли, предоставил он его людям, его учением образованным.
В это же время (и всё в той же Москве) сделались известны два молодые стихотворца, Мерзляков и Жуковский. Мерзляков возгремел одой молодому Императору при получении известия о кончине Павла, и она найдена лучшею из десяти или пятнадцати других, написанных по случаю сего происшествия. Далее слава его не пошла; известность его умножилась. Он был ученейший из наших литераторов и под конец профессор в Московском университете, много и правильно писал; но читали его без удовольствия. Впоследствии я тоже попытался и нашел в нём мало вкуса, много педантства.
Участь Жуковского была совсем иная. Как новый, как ясный месяц, им так часто воспетый, народился тогда Жуковский. Я раз сказал уже, что, не зная его, позавидовал золотой его медали. Потом много был о нём наслышан от друга его, Блудова, и хотя лично познакомился с ним годом или двумя позже описываемого времени, не могу отказать себе в удовольствии говорить о столь примечательном человеке.
Бездомный сирота, он вырос в Белеве, среди умного и священного семейства Буниных. Знать Жуковского и не любить его было дело невозможное, а любить ребенка и баловать его всегда почти одно и тоже; но иным детям баловство идет впрок; так, кажется, было и с нашим поэтом. Когда он был уже на своей воле, и в службе, и в летах, долго оставался он незлобивое, веселое, беспечное дитя. Любить всё близко его окружающее, даже просто знакомое, сделалось необходимою его привычкой. Но в этой всеобщей любви, разумеется, были степени, были мера и границы; ненавистного же ему человека не существовало в мире. Избыток чувств его рано начал выливаться в плавных стихах; а потом вся жизнь его, как известно будет потомству, была песнь, молитва, вечный гимн Божеству и добродетели, дружбе и любви. Какое любопытное существо был этот человек! Ни на одного из других поэтов он не был похож. Как можно всегда подражать и всегда быть оригинальным? Как можно уметь так трогательно, всею душей грустить и потом ото всего сердца смеяться? Не знаю, право, с чем бы сравнить его? С инструментом ли или с машиною какою, приводимою в движение только посторонним дуновением? Чужеязычные звуки, какие б ни были, немецкие, английские, французские, налетая на сей русский инструмент и коснувшись в нём чего-то, поэтической души, выходили из него всегда пленительнее, во сто раз нежнее. Лишь бы ему не быть подлинником: дайте ему что хотите, он всё украсит, французскую ничтожную песенку обратит вам в чудо, совершенство, в Узника и Мотылька и, мне кажется, если б он был живописец, то из Погребения Кота умел бы он сделать chef d’oeuvre.
Таким людям, как он с Блудовым, стоило только сойтись один раз, чтобы навсегда сомкнуться. Что касается до меня, то скажу без хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная, и ею только мог я прислониться и сколько нибудь прильнуть к такого рода людям. Жуковский меня любил, но не всегда и не много дорожил моею приязнью; тем приятнее мне отдавать ему справедливость. Истине всегда я жертвовал самолюбием, и это свойство, не весьма обыкновенное, есть, может быть, одно, которым позволено мне гордиться.
Но дело не обо мне, а о литературе. В Петербурге жид один человек, пожилой, чиновный, честный и почтенный, но, как писатель, состарившийся в безызвестности. Он имел славу быть первым у нас Славянофилом; в молодости пленился церковным нашим языком, его изречениями, его оборотами и целый век хлопотал о том, чтобы ввести его и в письмена, и в разговоры. Это был известный вице-адмирал Александр Семенович Шишков, еще менее моряк, чем автор. Любимый свой славянский язык искал он не только в землях, ныне или прежде обитаемых славянами, но и везде откапывал корни словес его. Предприятие важное, дело похвальное, страсть благородная! Только жаль, что к полезному удовлетворению её у него не было средств, не было точного ума и сведений. Трудясь в бесплодных изысканиях, он сделался угрюм и бранчив. Проведя всю жизнь в Петербурге и мастерски играя в карты, ему не трудно было сделать связи с знатными людьми, с знатными домами; а как наши баре не учились русской грамоте, то и поверили ему на слово, что он великий человек, коему определено исправить, переделать, очистить усовершенствовать прекрасный русский язык, как говорили они, но о коем они не имели ни малейшего понятия. На прежние успехи Карамзина смотрел он с презрением; но когда сей последний приметно начал становиться основателем школы, то он жестоко вознегодовал. В таком расположении духа издал он памфлет, под названием: О старом и новом русском слоге, где сильно и довольно грубо напал на галлицизмы, на нововведения московских писателей. Это был первый пушечный залп из собравшегося неприятельского стана, но он остался без ответа.
Странное однако же дело! Тогдашние петербургские литераторы, Львовы, Гераковы и другие, народ всё нужный, должностной, поклонники Шишкова, не следовали его учению и славянизм у себя не вводили, в угождение ему довольствуясь дурно писать. Да и сам почтенный Александр Семенович поучал более словами, чем примером.
Спустя несколько времени, другой выстрел последовал со сцены[76]. Князь Шаховской, служивший в театральной дирекции (которого берегу я для будущего) написал комедию: Новый Стерн, в которой дурачит сентиментальность каких-то небывалых писателей, шепнув всем на ухо, что он метит на Карамзина. В языке Шаховского также никогда славянского ничего не было; но Шишков охотно прощал ему, как сильному и полезному союзнику. На этот второй вызов также не было ответа; разве почитать ответом веселую эпиграмму молоденького тогда Блудова. Вот она:
Хотите ль, господа, между певцами Узнать Карамзина вы записных врагов? Вот комик Шаховской с плачевными стихами, И вот бледнеющий над святцами Шишков. Они умом равны, обоих зависть мучит; Но одного сушит она, другого пучит.[77]Однако же, эта иголка на некоторое время как будто прекратила действие тяжелых орудий. После этого долго не было явной войны. Она было возгорелась в 1810 году, но скоро остановлена происшествиями другой войны, более кровопролитной. После вторичного занятия Парижа, наша литературная война возобновилась с новою яростью; последние её жестокие сражения происходили в 1816-м. Если я останусь жив, и будет у меня время, то я неминуемо должен быть её историком.
Никто в этом не заметил необыкновенной странности. Новенький Петербург, полунемецкий город, канал, чрез который втекала к нам иностранная словесность и разливалась по всей России, воевал с старою Москвой за пренебрежение к древнему нашему языку, за порчу его, искажение, за заимствование множества слов из языков западных.
За сим довлеет мне говорить о предмете, как для меня, так я полагаю, и для других, менее занимательном: о мнимой службе моей.
V
Служба в Петербурге.
Не прежде как в июне или в июле, по приказанию Сперанского, явился я в первое отделение экспедиции государственного благоустройства, к начальнику его Димитрию Семеновичу Серебрякову. Молодые статисты[78], как мы себя называли, впредь до образования особенного для них статистического отделения, для занятий поставлены были под его начальство. Он родом был с Дону, из казаков; но никто бы не мог о том догадаться, судя по миниатюрной его фигурке, по приятному голоску, по его кротости и добродушной улыбке. Его прием меня очень ободрил, но тем всё и кончилось. Я просил у него занятия; он велел подождать, потом обещал, всё откладывал и изредка давал переписать какую-нибудь коротенькую бумажку. С другими моими товарищами было не лучше; они имели право разгуливать по комнатам канцелярии, разговаривать между собою, только не слишком громко, и мешать другим заниматься. Имеющие штатные места и канцелярские обходились с нами вежливо, но смотрели косо, как на трутней. Изредка, с досадою, но тихо произнесенные слова: баричи, белоручки, доходили до нашего слуха; иным казались обидны, другим лестны для самолюбия. Тогда уже было заметно составившееся намерение всех невоспитанных в канцеляриях, в семинариях и университете не подпускать к должностям.
Чего-то ожидая, толковать о вздоре, переливать, как говорится, из пустого в порожнее с праздными товарищами моими, весьма не занимательными, было совсем не забавно. Мне скоро всё это надоело, я перестал ходить в экспедицию, много один раз в месяц показывался в ней, и никто не думал с меня за то взыскивать.
К числу странностей моей судьбы принадлежит и то, что куда б я ни попадал, куда бы ни определялся, никогда не встречал я ни одного знакомого лица: всё были новые, мне дотоле неизвестные. Всякий раз должен был знакомиться, изучать людей, посреди коих должен был жить. Ни во время учения, ни на службе никто дважды товарищем моим не бывал. Может быть, это самое приучило меня так наблюдать характеры людей.
Из десятка, к коему я принадлежал, только двое или трое заслуживают (и то не очень) найти здесь место. Первым, важнейшим между нами, почитался Александр Михайлович Безобразов, хороший, старинный, столбовой дворянин, как часто упоминал он о том, в родственных связях с лучшими дворянскими фамилиями. Природа захотела уподобить его фамильному его имени; а Фортуна, ей наперекор, взяла к себе на колени и доселе не перестает ласкать его и тешить. Все те успехи, кои могут дать красота, любезность, высокая нравственность, обширные сведения и ум светский, и ум деловой, все сии успехи он без них получил. Как же удалось ему? Как удается глупцу, который крепко на себя надеется, ни в чём не сомневается, который смел, бесстыден, настойчив и всяким благоприятным случаем умеет пользоваться. Он был совсем необразованный человек, а в молодости камер-юнкер при дворе Александра, не то что ныне, и никто не находил это странным; он был уродливо-дурен собою, а в него влюбилась богатая красавица, вопреки воле матери, ушла с ним и обвенчалась; он едва умел грамоте, а написал и напечатал книжку; он ничего не смыслил в делах, а попеременно в трех губерниях губернатор, ставился другим в пример, давно уже сенатор и метит в Государственный Совет.
О другом моем сослуживце, Ранцове, потому только здесь упоминаю, что он был мне и земляк, пензенский помещик, и более других искал моего знакомства. Умерший отец его, Иван Романович, был побочный сын графа Романа Ларионовича Воронцова; мать и семейство его постоянно жили в Петербурге и меня часто к себе приглашали. Он был очень пристоен и скромен в обществе; но только почтением к матери был удерживаем от нетрезвой развратной жизни. После смерти её бросил службу, уехал в пензенскую деревню и там в распутстве кончил век.
Один только третий наш товарищ Вельяминов-Зернов отличался прилежанием и основательными познаниями, но был несносно скучен и неопрятен. Он после занимался законоведением, писал что-то о законах, мог быть очень полезен, но всегда имел неудачи по службе.
Экспедиция государственного благоустройства, ныне департамент полиции исполнительной, состояла из четырех отделений. Первым, как сказал я, управлял Серебряков, добрый человек, Екатерининских времен приказная строка. Начальник второго отделения был Николай Спиридонович Тихомиров; он слыл человеком самым благородным и таким казался; я его только что видел, оставался он не долго и не знаю, куда девался. Третьим отделением управлял Магницкий, а четвертым Михаил Никитич Ваккаревич, бывший профессор Московского университета, самый нестерпимый и злой педант, который с подчиненными обходился как с школьниками. Ни единого слова мы друг другу никогда не сказали, за то менялись взорами и читали в них взаимную ненависть и презрение. Чиновников других отделений я никого не знал, но в нашем примечательны были два столоначальника.
Первый, Гаврило Семенович Покровский, был в Александроневской Духовной Академии соученик Сперанского, который и заманил его в гражданскую службу. Притворство одного и скромность другого оставляли единственное между ними сходство. Покровский начал с генерал-прокурорской канцелярии; потом вместе с делами ему вверенными перенесен из неё в министерство или департамент внутренних, где при тех же делах и кончил длинное свое поприще. Есть люди, для которых стол, коим они управляют, должен быть столбы Геркулесовы; природа, на сей стол им указывая, говорит: ты далее не пойдешь; но в России какая-то могущественная сила тянет людей вверх, иногда против воли их. Таким образом и мой Гаврило Семенович, увлеченный сею силой, и даже в борении с ней, перелез через свой стол и под конец дней своих очутился над департаментом. Орлиный полет Сперанского был ему не по крыльям; он не завидовал ему, а только им любовался. Я не знавал человека менее его словоохотного: вот то-то был молчальник. Но за краткостью слов, за неподвижностью черт и взглядов видна была сильная страсть, страсть к бумагам, страсть с утра до вечера над ними сидеть, их перебирать, в них копаться, наблюдать за правильным ходом, заботясь впрочем мало о их содержании. Это была какая-то болезнь, формиазм, бумагомания, расстройство нерв, которое утихало только от бумажного осязания. В Петербурге знавал он обыкновенно только ту часть города, чрез которую лежала дорога от квартиры его к церкви и в канцелярию; в день Светлого воскресения после обедни без всякого дела сидел он один в департаменте, с приезда своего в малолетстве никогда не бывал за заставой, от роду не бывал в театрах, не посещал никаких гульбищ; долго не знал, где Летний сад и когда один раз потребовали его туда с делами к министру, жившему в малом дворце Петра Великого, то он было заплутался.
Совершенную противоположность являл в себе другой столоначальник, Петр Петрович Кильдюшевский, весельчак, говорун, добрый и умный малый. Этому бы утро хорошенько поработать, за то остальное время дня погулять, попировать, только пристойно, с хорошими и образованными людьми. Как это случилось, что он попал в Казанскую Семинарию, когда прозвание у него было татарское, лицо, фигура и выговор какие-то чувашские? Отец его из мулл не перешел ли в православные священники? Он неизменно был со мною хорош; много и часто толковал со мною, но не довольно ясно, и я долго не мог понять, что он такое, чего ему хочется? Теперь, когда Кильдюшевские так размножились, с первого слова догадался бы я, что он либерал. Это было следствием маленькой слабости: он очень хорошо учился, знал иностранные языки, даже говорил по-французски очень смешно, одним словом был созданием дел своих, и оттого почитал себя великим человеком. Он любил сердечно восхищался только теми, кто сам проложил дорогу или может ее проложить себе, в число коих делал честь и меня включать. От обеих отцовских религий, кажется, не оставалось у него ни одной, и оттого-то Бонапарте ставил он выше Бога, а Сперанского выше Бонапарте. Его живость, его нескромность, его всеприсутствие впоследствии много повредили ему в глазах правительства, и уже в чине действительного статского советника, не по доброй воле, должен был он оставить службу. К похвале его должно сказать, что от мест им занимаемых он, кроме жалованья, ничего не получал; а когда, впоследствии, положение его сделалось роскошнее, то еще в похвалу ему скажу, что он тем обязан был честной и счастливой игре. Он был самый усердный член Английского клуба, долго веселил его своими любезными странностями и опечалил только своею смертью.
Служение мое в департаменте внутренних дел имело еще одну невыгодную, можно сказать мучительную сторону. Губернаторы находились в прямой зависимости от министра и его департамента; следственно отец мой был в самых частых с ними сношениях; следственно, состоя там на службе, обязан я был находиться его поверенным, его постоянным ходатаем, если не заступником. Тогда люди ранее зрели, ранее старились; в тогдашние мои лета, ныне мне только что вступить в университет или приготовляться к вступлению в него: тогда от меня требовали опытности и деятельности. А что мог я делать? Ничьею доверенностью не мог я пользоваться. Сперанский перестал пускать меня к себе, а до Кочубея было высоко как до царя. Между тем, ***, получивший место начальника отделения в департаменте юстиции и распространявший здесь свои связи, подбивал отсюда беспрестанно пензенских негодяев к продолжению наступательной войны.
Что тогда происходило в Пензе, тому трудно поверить. Мне бы теперь самому казалось, что память меня обманывает, если бы не имел в руках письменных доказательств, копий с жалоб, посылаемых к министру. Пригласит ли кто моего отца обедать, он осмелится занемочь и пришлет извиниться, за эту грубость жалуются Кочубею; какой-нибудь мерзавец до того ли себя дурно ведет, что даже в Пензе закрываются ему все дома, он называет это гонением моего отца и приносит жалобу; побранятся ли два помещика, идут на суд к отцу моему, грозно требуя от него справедливости, и когда он им докажет, что это сущий вздор, они мирятся, а не менее того жалуются высшему начальству, что в их городе нет суда. Разумеется, здесь этому смеются, хотя ***, чрез коего подаются просьбы, и умеет всякое подобное дело выставить в дурном виде. Но снисходительное министерство, не терпя никаких жестокостей, обращается к губернатору с требованием пояснений, а к губернскому предводителю с поручением склонить просителей к оставлению дела, по-видимому не заключающему в себе большой важности. Еженедельная переписка с родителями имела предметом почти исключительно все эти неприятности. По словам брата почитали меня весьма близким к Сперанскому, дивились моей ветренности, моей беспечности и не могли понять, как возможно так мало заниматься отцовскими делами. Я не знал что отвечать, иногда даже лгал, чтобы сколько-нибудь успокоить бедного моего родителя.
Вечная эта тревога, волнение, расстроили здоровье отца моего до того, что в конце августа впал он в тяжкую болезнь, получил желчную, нервическую горячку, от которой чрез несколько недель единый Бог, а уж конечно не тогдашние пензенские врачи, его избавили. По выздоровлении его умолял я его всячески, чтобы приехал в столицу; он сам имел намерение это сделать в начале зимы, чтобы выйти наконец из несносного положения, из разговоров с Кочубеем и другими министрами усмотреть, может ли он далее продолжать службу или должен ее бросить.
Одно семейное обстоятельство тому воспрепятствовало и заставило сию поездку на некоторое время отложить. Средний брат мой Николай, как видели выше, стоял с Малороссийским кирасирским полком в Воронеже. Он влюбился там в одну молоденькую девочку. Со времен Петра Великого, два трудолюбивые купеческие семейства, Горденины и Тулиновы, водворили промышленность в Воронеже, устроили близ него первые суконные фабрики. Не знаю, что сделалось с Гордениными, об них что-то не слыхать; но Тулиновы, хотя впоследствии времени и разделились на несколько ветвей, хотя уже давно получили дворянское достоинство, и хотя ныне некоторые из них служат в гвардии, а другие имеют придворные чины, никогда не хотели удалиться от источника своей известности и богатства. Один из них, предобрейший и препочтеннейший человек, отставной от армии капитан, Иван Иванович, в числе других детей имел дочку Варвару, не столь красивую, как миловидную. В семнадцать или в восемнадцать лет, с удивительною белизною, с вечно играющим румянцем, с добротою и нежностью в голубых взорах, как не понравиться? Пылкий брат мой сделался без ума от неё. Не скоро мог он получить её руку. Зная его крутой нрав, родители колебались ее выдать; но рассудив, вероятно, что столь почтительный сын, столь нежный брат, должен быть непременно и примерным мужем, как вообще прекрасным семьянином, решились изъявить свое согласие и не ошиблись в своем предположении.
Будущий тесть моего брата не имел большего состояния: не вдали от Воронежа прекрасное поместье Рамон, да суконная фабрика, от которой в те поры прибыль была незначительная, вот всё, что он имел. Запретительная система 1808 года, как ни вредна была для России во многих отношениях, для фабрикантов была очень выгодна; с тех пор положение родных моего брата приметным образом стало улучшаться. Почти единственный пример в России: род Тулиновых, не оставляя одного дела и города в течении более полутораста лет, от поколения до поколения, всё усовершенствовал изделия своих мануфактур и умножал свое благосостояние. Тогда же Иван Иванович, кроме приличного приданого и небольшого капитала, ничего за дочерью дать не мог. А как у нас в семействе давно уже дурной обычай за богатством не гоняться, то мои родители никакого препятствия не поставили сыну, когда он начал просить их благословения. Сговору назначено быть в ноябре месяце, а свадьбе в январе 1804 года, после чего в феврале молодые с поклоном должны были явиться в Пензу. Так и случилось, и только в марте по последнему зимнему пути могли родители мои предпринять путешествие в Петербург.
Они прибыли 23-го числа и нашли меня в довольно просторных комнатах, изрядно меблированных, на Невском Проспекте, для их приезда за несколько дней перед тем нанятых, но совсем не топленных, ибо у меня было много жару в крови и ни гроша денег в кармане. Радость свидания на несколько минут могла согреть моих родителей, но потом надобно было поспешнее послать за дровами.
Точно так как я с малою опытностью моею предвидел, приезд моего отца имел на дела его самое полезное влияние. Первый прием Кочубея был обыкновенный его прием, учтивый, холодный, важный, но после двух или трех свиданий он совершенно переменился. Надобно отдать справедливость этому Кочубею: он имел одно достоинство, которое исключительно должно бы принадлежать царям. В нём была удивительная способность выбирать людей, уметь их употреблять и знать им цену. От природы беден, он был самый искусный оценщик чужих сокровищ и без собственных капиталов, одним кредитом, был целый век богат. Он увидел, сколь мнение, внушенное ему насчет отца моего, было ошибочно и всеми силами старался загладить свою ошибку. Другие министры: граф Румянцев, граф Васильев, Вязмитинов встретили отца моего дружелюбно. Только двое: полуотставной Трощинский, возбуждаемый земляками своими, пензенскими хохлами, да недавно поступивший, на место уволенного Державина, князь Лопухин, бывший при Павле генерал-прокурором, к которому *** попал в милость, не скрывали даже своего недоброжелательства.
Десять лет не бывал отец мой в Петербурге; сколько перемен нашел он в нём! Но из старых знакомых никто к нему не переменился. Самые почетнейшие из них, князь Александр Борисович Куракин, Сухтелен, Беклешов, киевский знакомый генерал Розенберг, все неоднократно его посещали. Официальные же отношения не столь были лестны. Государь при представлении не удостоил его ни единым словом. Министры почли излишним прислать ему визитные карточки, и Сперанский, только что директор департамента, сделав сие, почитал оное со стороны своей необычайною вежливостью. Не знаю, не было ли принято за правило чрез меру возвышать министров и унижать звание губернаторов? Если было, то мы видим плоды сей мудрой системы.
Пребывание моих родителей в Петербурге не могло быть продолжительно; сопряженные с тем издержки для их состояния были слишком обременительны. Весьма было заметно, что отец мой, обнесенный графу Кочубею, сим последним не с выгодной стороны был представлен самому Государю. Надеясь на время, чтобы сие исправить и выпросить ему наружный знак отличия, который бы в провинции мог произвести полезное для него действие, он покамест предложил ему представить к наградам всех чиновников, которые, по мнению его, то заслуживают, и чрез несколько дней всем без исключения оные испросил: это по тогдашнему было очень важно. После того отцу моему, обеспеченному насчет будущей защиты Кочубея, оставалось только приготовиться к отъезду.
Желание матери моей было не так скоро со мною расставаться; да и мне самому хотелось на время отдохнуть не от трудов, а от нужд мною претерпенных в столице. Итак решено было ехать я мне, но наперед испросить совсем ненужное дозволение министра. По сему случаю был я отцом лично ему представлен. Я увидел его в первый раз и не оробел от его важности; он с улыбкой сквозь зубы сказал мне что-то, кажется, приятное и ободрительное. Сперанский объявил отцу, что паспорта мне не нужно, что это в числе отброшенных формальностей; как было ему не поверить? Но уже тут видно было не забвение, а дурной умысел держать меня без службы. До сих пор не могу понять глупого стыда своего, который заставил меня это важное для меня обстоятельство утаить от родителей. Но как бы то ни было, 22-го мая мы оставили Петербург.
Эти тысячу четыреста верст между Петербургом и Пензой, это пространство, по которому в продолжении нескольких лет сновал я, как челнок у ткача, описывать мне нечего; скажу только, что меня посадили одного в препокойную, вновь купленную коляску, и что сидя в ней и вспоминая кибитки и телеги, в которых я по этой дороге катался, мне казалось, что я в раю.
По приезде в Москву, мы недели на две остановились в ней у зятя Алексеева. В это время, перед самым нашим приездом, последовала там важная перемена. Я было и забыл сказать, что графиня Дарья Петровна Салтыкова, с сопровождении супруга своего, отправившись в декабре 1802 года из Петербурга, от расстроенного желудка занемогла дорогой и скончалась на станции Хотилове. Удар этот так поразил бедного старика, что с тех пор как умственные, так и телесные его силы приметно начали слабеть. Не в состоянии будучи далее продолжать службу, он в конце апреля уволен от должности, и за несколько дней до нас прибыл назначенный на его место многореченный Беклешов, дважды генерал-прокурор.
Первый выезд в Москве отца моего был к новому военному губернатору, который тот же день пригласил его обедать, а на другой день приехал сам вечером с гражданским губернатором Барановым и киевским знакомым князем Хованским на бостон. Такие приязненные отношения были очень полезны Алексееву, который увидел, что с графом Салтыковым он не всего лишился.
Я заметил, что полицеймейстерская должность зятя моего в глазах московской публики очень упала, сам же он стал еще более любим. Полиция тогда только и уважаема, когда она страшна; а в первые годы царствования Александра, кроме настоящих преступников, кому и чего было бояться? А всё шло, как нельзя лучше. Русских надобно сколько-нибудь баловать, чтоб они не шалили: одним страхом их удержишь, может быть, а не исправишь.
Две недели, проведенные нами в тогдашней Москве, прошли как две блаженные минуты. Я не люблю этих мимолетных радостей; лучше бы их не знать, или бы они были продолжительнее.
Мы поехали не прямо в Пензу, а сделали верст триста крюку, чтоб в Воронеже познакомиться с новыми родными. До Тулы была мне знакомая дорога; Ефремов и Елец были только для меня новые города. С нами не случилось никакого важного приключения, кроме одного, которое однако же не имело несчастных последствий, коих ожидать было можно. Сделалась гроза, и мы с сестрой Елизаветой сидели закутавшись в коляске, как ужасный громовой удар, каких я не запомню, испугал лошадей, и они без памяти понесли нас вниз по прекрутой и превысокой горе над самою станцией Пальной; от проливного дождя сделавшаяся грязь могла одна удержать стремление нашего бега и спасти нашу жизнь. Сестра моя, великая трусиха, помертвела, да и я едва ли менее её испугался. Чтоб дать понятие о сей горе, скажу, что окрестные помещики верить не хотят, чтоб Альпы и Пиренеи могли быть выше и ужаснее её.
Мы нашли город пустым; все разъехались по деревням, кроме Тулиновых, которые, быв предварены, ожидали нашего приезда. Благословенная семья, патриархальные нравы, но не без просвещения. Семейство сие состояло тогда, исключая отсутствующей дочери, моей невестки[79], из мужа с женой, двадцати двух или двадцати» трехлетнего сына Алексея, другого сына Димитрия, лет четырнадцати, и маленькой двенадцатилетней дочери. Редко случаюсь мне встречать столько кротости и добродушия, вместе с умом и пристойностью, как в теще брата моего, Анне Семеновне. Старший сын был добрый малый, но принадлежал более к нынешнему, чем к своему времени: деньги предпочитал он знаниям и почестям, и до того мечтал беспрестанно о богатстве, что лишился наконец ума. Отец Тулинов, как сказал я прежде, был добрый и почтенный человек, с старинным воспитанием и старинными правилами. О двух других детях, тогда еще малолетних, кажется, говорить здесь нечего.
Семейство Тулиновых, столь известное в Воронеже по своему гостеприимству, удвоило старания, чтоб нас лучше принять; может, быть, по старой пословице: не для зятя собаки, а для милого дитяти; но кажется и родство с таким человеком, каким был мой отец, должно было для них быть лестно. Собственный дом их, каменный, двух-этажный, хорошо и прилично убранный, с большою усадьбой, находился почти за городом, и мы могли почитать себя как бы в гостях у помещика-соседа. Два раза был я в Воронеже, а не могу сказать, чтобы видел этот город; первый раз зимой в темноте и во время вьюги катался я в нём закутанный, другой раз почти в него не въезжал.
Пробыв не более двух дней в Воронеже, мы пустились далее в Тамбов, куда прибыли под вечер, ночевали у нашего знакомого почт-директора Треборна и на другой день обедали у него. Время становилось самое жаркое, и мы решились ехать ночью, своротив с большой дороги на другую, кратчайшую, через степь, по которой нам выставлены были лошади. Нельзя выразить того удовольствия, которое чувствуешь в первой молодости, когда во время ночной прохлады, в покойном экипаже, летишь по благовонной степи, по гладкой, как пол, дороге; как сладостно засыпаешь, и по временам как сладостно просыпаешься! Это испытал я в ту ночь, в которую оставили мы Тамбов.
Опять и по той же дороге приблизился я к Пензенской губернии, но уже не ночью, а днем, не в ужасную вьюгу, а среди палящего зноя. Чембар назывался уже городом и был всё еще деревней; однако же пять или шесть домиков, с крышами из досок, в полтора года в нём выросли. В одном из них мы остановились, и пока отец мой пошел по избам, в которых помещались присутственные места, нас посетила сперва нотабельная персона в городе, купчиха Коробчиха, ни дать ни взять Пошлепкина из комедии Ревизор, пустилась всех ругать, более всех городничиху Реймерс и потом как ей, так и другим судейшам, одна за другой прибывавшим, кланяться в пояс. Но что все сии уездные оригиналы, против тех, кои ожидают меня в Пензе!
VI
Театр в Пензе. — Зубриловка. — Обрезков. — Мартынов. — Злобин.
Всю злость свою на этот город излил я при первом его описании; теперь постараюсь быть умереннее, чтобы не надоесть повторениями. Я надеюсь даже быть забавен, с помощью многих чудаков, представителей образа мыслей и духа того времени. Не знаю, благорастворенный ли воздух летний на меня действовал, или, зная Пензу по опыту, я вооружился против неё терпением; как бы ни было, на этот раз прибыль я в нее с какою то тихою покорностью к воле судеб.
Дня два или три спустя после нашего приезда (однако же не по сему случаю) город вдруг наполнился и оживился: наступила Петровская ярмарка, которая начинается с Иванова дня, с 24 июня, и продолжается неделю, до 1 июля. Тут увидел я первый раз в жизни сие ежегодное, но для провинции тем не менее, важное событие[80].
Внизу под горой, на которой построена Пенза, в малонаселенной части её, среди довольно обширной площади, стоит церковь апостолов Петра и Павла. В день праздника сих святых, вокруг церкви собирался народ и происходил торг. Но как жители, покупатели, купцы и товары размножились и стало тесно, то и перенесли лавки немного поодаль, на пространное поле, которое тоже получило название площади, потому что окраено едва виднеющимися лачужками.
Тут стояли ряды, сколоченные из досок и крытые лубками; между ними была также лубками крытая дорога для проходящих. Везде сквозило, отовсюду могли проникать солнце, дождь и пыль. С утра до вечера можно было тут находить разряженных дам и девиц и услужливых кавалеров. Но покупать можно было только поутру, и то довольно рано: остальное время дня ряды делались местом всеобщего свидания. Не терпящие пешеходства, по большей части весьма тучные барыни, с дочерьми, толстенькими барышнями, преспокойно садились на широкие прилавки, не оставляя бедному торговцу ни поларшина для показа товаров. Вокруг суетились франты, и с их ужимками, вот как обыкновенно начинался разговор: «Что покупаете-с?» — «Да ничего, батюшка, ни к чему приступу нет»; а купец: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цену отдаю», и так далее. Так по нескольким часам оставались неподвижны сии массы, и часто маски в тоже время: сдвинуть их с места было совершенно невозможно; не помогли бы ни убеждения, ни самые учтивые просьбы, а начальству беда бы была в это вступаться. А между тем, это одна только в году эпоха, в которую можно было запасаться всем привозным[81]. И потому-то матери семейств, жены чиновников, бедные помещицы, в простеньких платьях, чем свет спешили делать закупки, до прибытия дурацкой аристократии.
Одна весьма важная торговля начиналась только в рядах, но условия её совершались после ярмарки. Это быль лов сердец и приданых: как на азиатских базарах, на прилавках, взрослые девки также выставлялись, как товар.
Помещикам и их семействам, съехавшимся почти изо всей губернии, можно было бы, кажется, уметь приятным образом недельку повеселиться. И было бы где: вокруг Пензы, в одной и в двух верстах от неё, есть прелестные рощицы; нет, они предпочитали грязь, пыль и духоту ярмарочную. Одно увеселение, которое похоже на что-нибудь, бывало в Петров день: это назывался воксал или бал в регулярном саду г. Горихвостова, куда в этот день платили за вход. Сад был не велик; но галдарея, как еще говорили тогда, была преогромная, правда, однако, также дощатая. Она была обита выбеленною холстиной и украшена пребольшущею жестяною люстрой; в окнах же стояли деревянные треугольники, к коим прибивались железные шандалы. Тут довершались победы красоты: статуи, кои как вкопанные сидели на ярмарке, здесь одушевлялись, приходили в сильное движение, при блеске сальных свеч и звуках громкой музыки.
Кстати об увеселениях. Кто бы мог поверить? В это время было в Пензе три театра и три труппы актеров. Такое чудо нужно объяснить. У нас всё так шло с времен Петра Великого: кроется крыша, когда нет еще фундамента; были уже университеты, академии, гимназии, когда еще не было ни учителей ни учеников; везде были театры, когда не было ни пьес, ни сколько-нибудь порядочных актеров. Право жаль, что, забыв пословицу: поспешить да людей насмешишь, мы надорвались, гоняясь за Европой. Итак в Пензе три театра, оттого что полубарские затеи, забытые в Петербурге, кое-где еще встречались в Москве, а в провинциях были еще во всей силе обычая.
Труппа г. Горихвостова посвящена была игранию опер и исключительно итальянской музыке; особенно славилась в ней какая-то Аринушка. Сия труппа играла даром для увеселения почтенной публики, собиравшейся у почтенного г. Горихвостова. Я к этому обществу не принадлежал, сих певиц не слыхах и крайне о том жалею: это в карикатурном роде должно было быть совершенство.
Григорий Васильевич Гладков[82], самый безобразный, самый безнравственный, жестокий, но довольно умный человек, с некоторыми сведениями, имел пристрастие к театру. Подле дома своего, на городской площади, построил он небольшой, однако же каменный театр, и в нём всё было, как водится, и партер, и ложи и сцена. На эту сцену выгонял он всю дворню свою от дворецкого до конюха и от горничной до портомойки. Он предпочитал трагедии и драмы, но для перемены заставлял иногда играть и комедии. Последние шли хуже, если могло быть только что-нибудь хуже первых. Всё это были какие-то страдальческие фигуры, всё как-то отзывалось побоями, и некоторые уверяли, будто на лицах, сквозь румяна и белила, были иногда заметны синие пятна. Эти представления я видел, но что сказать мне об них? Даже и вспомнить и жалко, и гадко. За деньги (которые, разумеется, получал господин) играли несчастные по зимам. Зрители принадлежали не к самому высшему состоянию.
Самого старинного покроя барин, носастый и брюхастый Василий Иванович Кожин, без всякой особой к тому склонности, из подражания, или так для препровождения времени, затеял также у себя камедь; и что удивительнее, сделал сие удачнее других. Но о труппе его потолкуем после; а теперь поговорим о том, что занимательнее, о его домашней жизни. Почти до шестидесяти лет прожил он холостой, в деревне, редко из неё выезжая, как вдруг в соседстве его появилась одна старая, на помаде, на духах и на блондах промотавшаяся сиятельная чета. Князь Василий Сергеевич и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы, в близком родстве со всеми знатнейшими фамилиями, имея сыновей генералов, при конце дней своих принуждены были поселиться в оставшейся им пензенской деревне. С ними была дочка Катерина Васильевна, сорокалетняя дева; не знаю была ли она разборчива в Москве, но в глуши, куда она попалась, рада-рада уж была, чтоб выйти… за Василия Ивановича; добрые соседи это дело как-то состряпали. Она была воспитана в Смольном монастыре, без французского языка не могла дохнуть, а на нём между соседями ей не было с кем слова молвить. Целый век с старым медведем, хотя смирным, ручным, но прожить в его берлоге! Это ужасно. Дело решено; она купила в Пензе обширный, ветхий, деревянный дом и перевезла в него мужа со всеми его театральными затеями. Благодарю за то судьбу мою: во всякий приезд мой в Пензу, они были моею отрадой.
Есть странности, коих прелесть на словах или пером никак передать невозможно: надобно было их видеть. Странности сих супругов происходили от сочетания в них всевозможных противоположностей. У обоих было добрейшее сердце, но в нём дворянская спесь чрезвычайно умножилась княжеским родством. Надобно было видеть их обхождение; слова ты они не знали между собой. Если б он был женат на великой княжне, то, кажется, более почтения он не мог бы ей оказывать; она платила ему тем же, стараясь другим дать чувствовать, что молодая жена обязана уважать старого летами мужа.
Трудно было назвать ее уродливою, а красивою еще труднее: как для красоты женской, так и для безобразия есть некоторые условия; она им всем была чуждою. Похожего на её лицо я нигде не встречал и уверен, что никто не встретит. Всё то, что у других бывает продолговато, у неё было совершенно круглое, и глаза, и нос, и рот. С брюшком несколько скривленным, она никогда не была, но вечно казалась, беременною. Цвет лица у неё был светло-медный, тело плотное, но не регулярное как у Василия Львовича Пушкина, если в сих Записках его кто припомнит. С ним имела она много сходства и в характере: была также добродушна, чрезвычайно легковерна и также хотела всех любить и всеми быть любимою. Но чего в нём не было, она была безмерно вспыльчива; гнев её бывал мгновенен, но ужасен, и казалось, что в углу её добрейшего сердца хранится для запаса злость без всякого употребления; но когда нужда потребует, она является, и тогда беда! Самые жесточайшие, язвительные истины осыпают оскорбителя Катерины Васильевны. Вообще до глубокой старости на ней оставался отпечаток первобытного смольного воспитания; она сохраняла детскую, милую откровенность. Пороки, или лучше сказать, недостатки её были малочисленны и безвредны для общества: она была неопрятна, скупа и прожорлива, любила ездить по чужим обедам и под именем ридикюля всегда носила с собою огромный мешок, куда клала фрукты, сласти, конфеты, на сих обедах собираемые, и ими же потом у себя гостей потчевала. В дополнение скажу, что она говорила голосом удушливо-перхотным и к тому же картавила.
Одно не могу я похвалить в ней: её бесчеловечный эгоизм. Со строгою супружескою верностью, с бесчувствием, с равнодушием, хотела она пленять; не разделяя их, возбуждать сильные страсти, сводить людей с ума. Многие прикидывались влюбленными: тогда поглядели бы вы, с каким гордым самодовольствием смотрела она на свои мнимые жертвы! В числе их был и я; а Василий Иванович и не думал ко мне ревновать: он знал, что полубогиня не может иметь слабостей, и даже соболезновал робкой моей любви. В его отсутствие, она делалась иногда гораздо смелее, но разумеется до известных границ, которые мы с её супругом умели ей ставить: когда она казалась встревоженною, изумленною, я становился отчаянно почтительным и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификация могла меня некоторое время занимать; я думаю, от скуки.
У таких добрых господ-содержателей труппа не могла быть иначе как веселою, прекурьезною. Кожиным удалось где-то нанять вольного актера Грузинова, который препорядочно знал свое дело; да и между девками их нашлась одна, Дуняша, у которой, невзначай, был природный талант. Катерина Васильевна, помня, как в Смольном сама госпожа Лэфон учила ее играть Гофолию, преподавала свои наставления, кои в настоящем случае, мне кажется, были бесполезны; её актеры могли играть одни только комедии с пением и без пения. Эту труппу называли губернаторскою, ибо мой отец действительно ей покровительствовал и для её представлений выпросил у предводителей пребольшую залу дворянского собрания, исключая выборов почти всегда пустую. Завелось, чтобы туда ездили (разумеется, за деньги) люди лучшего тона, какие бы ни были их политические мнения. К Гладкову же в партер ходила одна чернь, а в ложи ездила зевать злейшая оппозиция, к которой однако же он сам отнюдь не принадлежал.
Этот раз прожил я в Пензе не с большим пять месяцев, но делал из неё частые отлучки. Первая поездка моя была вскоре после Петровской ярмарки, Саратовской губернии, Балашовского уезда, в село Зубриловку, о котором было помянуто в первой части сих Записок. В проезд наш чрез Москву, обедал у нас молодой, великий господин, князь Федор Сергеевич Голицын, также читателю знакомый, и взял с моих родителей слово отпустить меня в их деревню к 5 июля, дню именин отца его. За год до того, будучи Рижским военным губернатором, князь Сергий Федорович, по какому-то небольшому неудовольствию, вышел в отставку и поехал жить на зиму, как все тогдашние бояре, в Москву, а на лето в свою Зубриловку. В Казацком мне так ее расхвалили, что я с нетерпеливым удовольствием туда отправился.
Мне надобно было сделать 180 верст проселочными дорогами, но я везде находил славных лошадей за умеренную цену. Сперва ночевал я в нашем Симбухине, а потом в тридцати верстах оттуда, в селе Бекетовке, нашел я Хопер почти ручейком, и во всю дорогу редко расставался с его берегами. Если он сам выбрал места, чрез кои начал протекать, то надобно предполагать в нём много вкуса, ибо они очаровательны; взял бы он немного левее, и он был бы в пустыне, а тут, что за виды, что за рощи, или лучше сказать, что за леса, темные, но не дремучие! Проезжая ими в летний день, дышишь какою-то жаркою, душистою влагой, подобною (но во сто раз лучше) тем парам, которые поднимаются с горячей плитки, когда льют на нее спиртовые духи. Досадно, что я никогда не умел описывать природу, ни чувств, которые она во мне производит; право жаль, ибо, любуясь её красотами, я всегда делаюсь чрезвычайно добр и вселюбителен. Между тем, по всей дороге беспрестанно находишься в нескольких верстах, иногда даже в нескольких сотнях сажень, от голой степи, которая начинается внезапно и тянется на сотни верст, как великий пост, в одну минуту прерывающий шумную масленицу. Верно последний ямщик, который вез меня к вечеру, был, как и я, обворожен прелестью воздуха и неба, что, не заметив узкого Хопра, переехал чрез него, сбился с дороги, и мы попали в степь, где, плутав несколько времени, только после полуночи, почти перед рассветом, мог я приехать в Зубриловку. Там, однако же, по заведенному славному порядку, мне тотчас отвели хорошую комнату с хорошею постелью.
Когда я проснулся и оделся, то было уже около десяти часов утра, и все, для поздравления хозяина-именинника, собирались в залу, где поставлен был завтрак. Я как будто предугадал, что взял с собою мундир; ибо все приезжие гости, соседние дворяне и даже самые сыновья князя были при мундирах, при шпагах, и кто их имел, при орденах. Кому ныне из отставных вельмож будет оказана подобная почесть? Теперь сбылась гадкая русская пословица, что от кого чают, того только и величают.
Хотя ему было не в диковинку, но князь Голицын был тронут сими знаками уважения и вообще со всеми обошелся скорее как с дорогими гостями, чем с людьми, приехавшими к нему на поклонение. Об нём говорить нечего, он ко мне всегда был очень добр; да и сама сердитая княгиня была этот раз со мною безмерно ласкова.
Зубриловка есть одно из немногих мест в России, подобных палацам и замкам, коими усеяна Польша. Там славянское племя долго и тщетно гнули под феодальные формы: ни Радзивилы, ни Сапеги, ни Чарторыйские, несмотря на несметные богатства, на многочисленные дружины, их окружавшие, никогда не могли сделаться совершенно независимыми владетелями, как высокие бароны в Германии, Франции и Италии. Их неограниченная, их необузданная власть, всё оставалась насилие, не закон. В России удельные князья являли когда-то и что-то тому подобное; с истреблением уделизма, с утверждением единодержавия, наместники государевы, начальники городов и областей, с ограниченною властью, получали поместья, вместо жалованья, и вероятно палаты для жительства. Хоромы владеющих поместьями, как и богатых вотчинников, в старинное неприхотливое время, могли отличаться от изб простолюдинов только большим размером и большею опрятностью. Мало-помалу блеск двора стал привлекать богатых владельцев в Москву, а искание мест и почестей удерживать их в ней; с улучшением вкуса, с умножением потребностей начали строиться шире и прочнее, и тогда деревянная Москва сделалась Москвою белокаменною. Как видно из истории, не одни опальные царедворцы и воеводы ссылались в свои деревни; но и другие, послужив Богу и Царю, удалялись на отдохновение в свои родовые или жалованные имения. Долго существовал сей обычай, и в отдаленных от столицы местах нередко можно было найти маститую старость вельможи, окруженную всеобщим благоговением и отражающую блеск, заимствованный ею от светлого лица государева (я говорю её языком), при коем она некогда находилась. В такого рода жизни, кажется, нет ничего феодального.
Несколько позже, привычка к солнцу не дозволяла далеко отдаляться от лучей его. Тогда, кажется, родилось название подмосковных и умножилась ценность их. Тогда, не переставая быть царедворцем, не покидая любезных ему золотых цепей, мог боярин на лето освобождаться от их тягости, так однако же, чтобы, при первом позыве царя или честолюбия своего, мог он скорее возложить их на себя. Во временных убежищах начали, наподобие царских, заводиться в малом виде дворцы и сады, а в отдаленных богатых вотчинах, ветхие здания господские стали клониться к падению и заменяться, где волостною избой, где домиком для приказчика или управителя.
Но время текло, нравы менялись, и строился Петербург. С начала однако же, в новую столицу перенесены обычаи старой, и среди окрестностей первой явилось великолепие по большей части уже новых боярских фамилий, в Гостилицах, в Славянке, в Коирове, в Мурзинке, в Мурине, в Парголове. Это было не надолго, это казалось слишком далеко от двора, и все названные места опустели. Тогда богатые, прекрасные дачи по Петербургской дороге, на царском пути, все разряженные, с обеих сторон вытянулись почтительным фрунтом. Кто бы мог прежде ожидать? И они брошены, и они распроданы под фабрики. Ныне, в самом Царском Селе, в Павловском, в Петергофе или на островах, поближе к Каменному и Елагину дворцам, русская знать, в хорошеньких, разубранных уютных дачках гнездится, жмется, как дворня в людских. И эти люди называют себя аристократами!
В старину, то-есть как говорится в России, лет сорок тому назад, все отставные вельможи полагали, что им нигде приличнее жить нельзя как в отставной столице. Некоторые из них не оставляли её во всё лето, имея в самом городе сады, в десять или в двенадцать раз более иных Каменноостровских дач; другие ездили в свои подмосковные, кои продолжали беречь и украшать; немногие, как князь Сергий Федорович, отправлялись в дальние деревни.
Итак Зубриловка его, равно и лежащее в тридцати верстах от неё, село Надеждино, князя Куракина, еще красовались тогда и славились не только во всём околотке, но и во всех соседних губерниях. Грустно теперь подумать об них. Что сделалось и с вами, Ташань, Батурин, где долго и тихо догасали два фельдмаршала, герой России и гений доброты? Где их потомство, и кому вы ныне принадлежите? А ты, Белая Церковь, место знаменитое в летописях воинственной, вольной Украины, что стало с тобою? Пятидесятилетние просвещенные старания одной русской женщины превратили степь твою в бесконечный прелестный вертоград; ты сделалась добычею горделивой, злой, неблагодарной польки, её невестки, ненавистницы имени русского, и она обрекла тебя забвению и запустению.
Как в предшествующую ночь, за Хопром, верчусь я всё около Зубриловки, и насилу могу в нее попасть. Деревня построена внизу и отделяется прудом и плотиною от горы, на которой стоит господский дом, каменный, трехэтажный. В соединении с двумя большими каменными же двухэтажными флигелями, посредством двух предлинных оранжерей и имея подле себя церковь, величиною превосходящую самый большой уездный собор, дом сей, вся эта масса зданий представляются глазу довольно поразительно. Исключая той горы, на которой находятся строения, с левой её стороны, есть еще две другие гораздо её выше; все они покрыты густым лесом, а в их промежутках долины, ущелья и пригорки чрезвычайно разнообразят местоположение и беспрестанно производят новые виды. Горы сии наполнены родниками, которые из боков их вырываются сильно бьющими ключами[83]. Легко можно поверить, после такого Эдема, какою пустыней должно было казаться, хотя и в лучшем климате, плоское Казацкое: на его равнине только что было гарцевать казакам.
Только вокруг господского дома видна рука искусства, но и тут, в этих бассейнах, каскадах, сильно помогала ей природа. Имение сие было не родовое; князь Голицын купил его и потом три года сряду стоял в нём на бессменных квартирах с двадцатичетырехэскадронным Смоленским драгунским полком, коего он был начальником. Утверждают, что все построения Зубриловки были дело рук солдатских; это извиняется дурным обычаем: полк давался тогда как аренда, и в самом Петербурге, начальники гвардии сим дешевым способом возводили себе дома.
Хотя я был в новом месте, однако же в знакомой стороне: все сыновья князя Сергея Федоровича (исключая Михаила, который служил тогда в Семеновском полку) были на лицо. Меньшие, Василий и Владимир, всё еще находились в малолетстве; двое постарее их, Павел и Александр, прежние мои соученики, только что взяты из пансиона аббата Николя, где кончили учение[84]; Федор был камергером и в отпуску, Сергей и Григорий в отставке.
Сей последний при новом Государе вступил было в службу, не генерал-адъютантом как прежде, а генерал-майором по армии; но в вслед за отцом опять ее оставил. Во время коронаций Александра, женился он на молодой девице, графине Катерине Ивановне Сологуб, дочери известной при Екатерине красавицы Натальи Львовны и племяннице Александра и Димитрия Львовичей Нарышкиных. Она была из числа тех женщин, кои, к чести прежнего времени и к стыду настоящего, встречались тогда чаще чем ныне. Их образцом была императрица Елизавета Алексеевна. Приятности лица молодой княгини Голицыной были ничто в сравнении с её скромною любезностью: не покидая земли, она всё казалась на дороге к небу, и если бы могла быть убыль в ангелах, то, я уверен, что из таких существ делали бы их новый набор.
Житье в Зубриловке мне показалось славное; оно напоминало, как богатые и знатные баре живали в старину. Нет лишних прихотей, но всего вдоволь; стол изобильный, сытный и вкусный, прислуга многочисленная, ворота настежь, соседи, мелкие дворяне, так и валят, но не обременяя собою: предовольны, когда хозяин скажет им приветливых слова два-три. Князь Федор, мой милый аристократ, будущий владелец Зубриловки, тогда уже поговаривал об vie de château, об удовольствии по временам удаляться в свой замок, среди малого, но избранного круга; толпу же соседей показывать только в важных случаях, на празднествах, как декорацию. Они с отцом имели разные понятия о деревенской жизни.
Пробыв в отсутствии четыре или пять дней, воротился я в Пензу. Она несколько присмирела после тех отзывов, которые сообщены были ей из Петербурга. *** в ней не было, и по заочности не мог бы он так сильно на нее действовать, если б, как Илия возносясь, не бросил он мантии своей, как Елисею, некоему г. Бекетову.
Преемником его был в звании прокурора г. Ламанов, человек тихий и благородный; но в нём оставался он не более полутора года, быв переведен вице-губернатором во вновь учрежденную Томскую губернию. Тогда отставной майор Бекетов, по ходатайству друга своего, ***, произведен в надворные советники и назначен на его место. В уме и познаниях этот человек отстал даже от ***, но в дерзости и безнравственности его самого превзошел.
Он был двоюродный брат знаменитого нашего поэта Дмитриева; к тому же его звали Аполлон Николаевич, поэтому почитал он себя в обязанности быть в знакомстве с музами и в праве судить о литературе. И по этой части был он оракулом в Пензе, то есть его суждения принимались слепо, почтительно, но в тоже время невнимательно, как о деле постороннем, ни до кого не касающемся, как речь на непонятном языке. А что это было за глубочайшее невежество!
Первый год своего прокурорства он был довольно умерен, пристоен; мы были тогда знакомы, и он просил меня с скромною гордостью заглянуть в оставленное им для службы его сельское убежище. На возвратном пути из Зубриловки должен я был переменить лошадей в селе его Черкасском, и в отсутствие хозяина, но по его приглашению, пошел смотреть его дом. Он был каменный, двухэтажный и поставлен совсем поперек большой дороги; с правой стороны была роща, с левой сад; малое пространство между ними и домом было еще наполнено двумя откосами или пандусами в них ведущими. Только подле самого дома, под откосами, с обеих сторон оставлено было для проезда по арке, дабы никто не мог ни проехать, ни пройти, не полюбуясь, не подивясь причудливости г. Бекетова. Внутренность дома отвечала наружности его: везде беспорядок, по моему совсем неприятный, везде претензии на странность, всё не на своем месте. Например, среди кабинета его нашел я гипсовую статую Амура (я ожидал найти Бахуса) с известною надписью, qui que tu sois, на столике визитную карточку хозяина, на которой написано: pour prendre congé; наконец на крытой соломою конюшне заметил я honny soit qui mal y pense. И что всего страннее, г. Бекетов прескверно говорил по-французски и не мог почти слова сказать без ошибки.
Описывая первый приезд мой в Пензу, упомянул уже я о госпоже Бекетовой, красоте холодной и суровой, блиставшей как солнце на снежных равнинах. Такие женщины в многочисленных обществах служат ему только наружным украшением, но в семейной жизни они её благополучие. Как бы не замечая пороков мужа и слабостей отца, Прасковья Петровна Бекетова обоих почтительно и нежно любила, как долг, для матери была утешение, Провидение для детей, и она осталась до конца жизни набожной, благотворной, любимой и всепочитаемой. Как я всякому люблю отдавать справедливость, то и о самом Бекетове должен сказать, что в поступках против жены его нечем было упрекнуть, равно как и в лихоимстве. Эти две обязанности почитал он священными.
Родители Бекетовой также находились тогда в Пензе. Отец её, Петр Михайлович Опочинин был добр и слаб характером. Он был богатый Ярославский помещик, но в первой половине жизни, чересчур любя её наслаждения, как многие другие наши дворяне, с беспечностью истинно-русскою, успел всё имение прожить[85]; под старость лет в чине статского советника, принужден он был принять должность советника Пензенской Уголовной Палаты, в те поры еще довольно уважаемую.
О жене его, Александре Федоровне, урожденной Ладыженской, скажу только, что она служила образцом дочери. При воспоминании о прежней роскоши, ни жалобы, ни упрека никогда из уст её не выходило: она имела эту тихую твердость, героизм женщин. Не знаю право, куда такие жены девались? Ныне малейшая слабость мужа служит жене предлогом его преследовать и, среди собственных беспорядков, еще казаться жертвою. В этом отношении европейские обычаи не морем, не прямо вошли к нам, а через Польшу.
Приязнь матери моей с г-жей Опочининой, подчиненность мужа её отцу моему, и увещания сына их, служившего в Петербурге, до некоторого времени удерживали буйные порывы против нас г. Бекетова. А этот шурин был ему весьма полезен, ибо находился в самом завидном положении для молодого человека. Ротмистр конной гвардии и любимый адъютант цесаревича Константина Павловича, с приятною наружностью и гибким вкрадчивым характером, он удивительно всем нравился и мужчинам, и женщинам. Он был ростом не велик, но чудесно сложен, в самом голосе имел что-то привлекательное, хотя в нём ничего не было подобного, а разве только один император Александр более его одарен был мужским кокетством. Ни перед кем не унижаясь, он однако же никому не показывал гордости, и, вероятно не любя печальных лиц, сам старался всем улыбаться. Было ли это в нём врожденное благосклонное ко всем чувство, то сие делает честь его сердцу; или в столь молодых летах это уже было следствием расчёта, тогда оно служит доказательством тонкого ума. Всякий ищет пути к возвышению; а он не ошибся в том, который избрал. Перед тем зимой я с ним познакомился; но виделся с ним не часто, или мне так казалось, потому что всякий раз обращение его и разговор были столь милы, что я бы его не наслушался.
Я обещал несколько новых портретов, некоторые уже намарал, а остается еще довольно. При представлении их я не буду, как в Киеве, следовать порядку адрес-календаря: Пенза всегда была город дворянский, а не казенный. Но как надобно какого нибудь порядка держаться, то я разделяю их на врагов, на приятелей и на преданных дому нашему.
В числе первых к сожалению находились два семейства, дотоле связанных с моими родителями узами самой тесной дружбы. Одно из них, семейство Ступишиных, состояло из четырех лиц и трех поколений. Я только что говорил об Агнии Дмитриевне, которую видел в Зубриловке; у неё была мать, у неё был муж, у неё была дочь. Сама она была женщина простая, суетливая, ни добрая ни злая и великая хлопотунья. За то мать её, Елизавета Петровна Леонтьева, была одарена необыкновенным умом, которым прикрывала все недостатки старинного воспитания; будучи малочиновная и небогатая вдова, и не самой строгой нравственности, она умела себя поставить на такую ногу, что никто не смел ей отказывать в знаках наружного уважения. Когда же она единственную дочь свою выдала за Пензенского губернатора, тогда похищенное ею право первенства обратилось в законное, неоспоримое.
Иван Алексеевич Ступишин открывал Пензенскую губернию, был первым в ней губернатором. Трудно было найти человека, у которого голова была бы пустее; а между тем он избран Екатериной и, что еще удивительнее, выбор сей нельзя было осудить. Находившись долго в военной службе, он был из числа тех строгих, точных исполнителей даваемых им предписаний, которые бывают полезны там, где умствования могли бы только запутывать дела. Как он был нрава серьёзного и весь исполнен чести, доброты и справедливости и как он попал в то счастливое время, когда правительство само поддерживало поставляемых им начальников, то, волею или неволею, все почтительно ему повиновались. К тому же и дел сначала было немного; и в них, кажется, было столь же мало отвлеченностей, как и в мыслях Ивана Алексеевича. Оставив службу, он редко показывался в Пензе, хотя и жил в тридцати верстах от неё, в деревне своей Пановке.
Полученное им довольно большое наследство после брата и пожалованное ему имение, вместе с небольшим родовым, составило ему до полутора тысяч душ; а как у него была одна только дочь, то и могла она почитаться богатою невестой, особенно в провинции.
Эта молоденькая, беленькая, полненькая дочь его, Александра Ивановна, имела самое приятное из дурных лиц. Её воспитанием занималась преимущественно умная бабка её Леонтьева, и хотела им прославиться, стараясь одарить ее всем, чего в самой недоставало, и не щадя на то денег. Внучка оправдала её ожидания: от всех других девиц в Пензе отличалась скромностью, любезностью, знала иностранные языки и по-французски выражалась, как говорили тогда на нём в большом свете; много читала, переводила и казалась чуждою даже маленьким девичьим сплетням. Голос её был приятный и в согласии с нежностью, с чувствительностью, которые, как имел я случай узнать после, были в ней не столько врожденные, как внушенные иностранными гувернантками.
Никто из молодых людей (которых, впрочем, было немного) не смел к ней подступиться, и если бы маленькое, едва заметное предпочтение не ободрило старшего брата моего Павла, которому она чрезвычайно нравилась, то он довольствовался бы любить ее в молчании. Однако же, они поняли друг друга, воспламенились и объяснились; но девица Ступишина, зная уже виды и надежды, не столько родителей, как гордой честолюбивой бабки, просила его до удобного случая хранить их взаимную страсть. И действительно, г-жа Леонтьева, выдав глупую бедную сироту свою за генерал-поручика и губернатора, могла надеяться, что такая внука будет за канцлером или за фельдмаршалом. А между тем девочке, восторженной от чтения романов, довольно приятно, в тиши уединения, наяву длить собственный роман. Один учитель, француз (эти люди всегда мешаются в любовные дела), который прежде того давал уроки, часто навещал Пановку, отвозил туда письма от брата и привозил оттуда на них ответы. Письма её были по-французски, а как брат мой на этом языке говорил нехорошо, а писал еще хуже, то тот же самый француз, более со слов, переводил русские его письма, а он уже потом списывал. Когда случилось мне после читать эти послания молодой Ступишиной, то мне казалось, что страсть и искусство выражать ее далее идти не могут; но еще позднее, когда я более начитался романов, нашел в них целые страницы, уже мною читанные. Как всё это более переписывалось чем сочинялось, то никакая любовная переписка названия сего так не заслуживает.
Прошло несколько месяцев, и оба семейства, ничего не подозревая, продолжали свои дружественные сношения и, несмотря на тридцать верст расстояния, довольно часто друг друга посещали. Наконец робкая дева осмелилась признаться во всём отцу, который одобрил её желания, и она поспешила сообщить о том моему брату.
В нетерпеливой радости своей он обратился к родителям, и они нашли всё это делом весьма обыкновенным, естественным. Партия была самая выгодная, неравенство могло только быть в одном состоянии; к тому же в провинции это могло казаться соединением двух династий. Но не так думали Леонтьева и дочь её; узнав истину от неосторожного старика, они в два-три дня успели совсем сбить его с толку, и когда мать моя приехала к ним с формальным предложением, то госпожа Леонтьева, от имени всех, не весьма искусно, но довольно учтиво сделала отказ.
Можно себе представить, что из того после произошло, видя с одной стороны женщину живую, самолюбивую как мать моя, а с другой — раздраженную, бранчивую дуру Леонтьеву и дочь её, и между ними услужливых сплетниц и переносчиц. Более года прошло после этого разрыва, когда во второй раз приехал я в Пензу, и вражда была тогда во всей силе; за то и любовь молодых людей также не угасала, и тайная переписка продолжалась еще года два.
Другое семейство, о коем я упомянул, было некоторым образом продолжением первого. Говоря о молодости отца моего и о первых связях его в Пензе, я назвал Ефима Петровича Чемесова, мужа древних времен. Более тридцати лет существовала у него с отцом моим дружба старинная, непоколебимая. Он был еще довольно молод, когда беспощадный для дворян Пугачевский бунт достигнул Пензы. Все бежали. Он остался, примером своим ободрил некоторых молодых помещиков и, пользуясь доверенностью и уважением, которые имел даже между простым народом, из господских людей, из мещан и из нескольких поселян успел собрать почти целый полк, который вооружил наскоро и назвал уланским; надобно знать, что ни сам он и никто из его сподвижников никогда не бывал в военной службе[86]. С этим войском он выступил против неприятеля, но к счастью был так умен и осторожен, что не хотел дать себя и людей своих даром зарезать. Сила мятежников была уже так велика, что при первом появлении его бы истребили; он довольствовался вести партизанскую войну, нападать врасплох на отряды вражьи, отбивать конвои, затруднять сообщения, спасать бегущих от злодеев, сохранять дух повиновения в крестьянах. Он ничего не брал у жителей, ничего не стоил казне, и содержал команду свою единственно отхваченным у мятежников. Удивительно, что такие подвиги не были награждены, но в них самих находил он уже себе награду; ибо этою эпохой, по всей справедливости, всю жизнь свою гордился. Несколько времени был он потом провинциальным прокурором и наконец воеводою (с ним и прекратилось Пензенское воеводство). Так как маленькое тщеславие всегда бывает слабая сторона добродушных людей, то и он не был его чужд: на низком каменном жилье построил он обширный деревянный дом, поныне еще существующий, и сколь возможно лучше, по тогдашнему времени, его убрал; почитая себя представителем царской власти, он назвал его дворцом, и когда в торжественные дни после молебна приглашал он к себе чиновников обедать, то всегда говорил: «Покорно прошу ко мне во дворец».
Большую страсть имел он к чтению: всё, что было писано, печатано по-русски, подлинники и переводы, по какой бы части наук, о каком бы предмете то ни было, всё он прочитал, но всё без разбора, без системы, и если б он приготовлен был образованием, то конечно был бы ученейшим тогда человеком. Страсть к наукам изобразил очень хорошо в нём Загоскин, в романе своем Искуситель. Но еще более был он падок на ум; умных людей обожал он, и потому ни мало ни удивительно особенное пристрастие его к единственной сестре своей, вышесказанной Елизавете Петровне Леонтьевой. Несмотря на то, он однако же сначала не хотел никакого принять участия в ссоре её с нашим семейством. К сожалению, вместе с честностью, с благородством души, не соединял он тех строгих, твердых правил, коими руководствовался отец мой; был снисходителен к негодяям: довольствуясь на них не походить, он выслушивал их вранье и жалобы, оспаривал их, потом молчал и, наконец, чуть ли не готов был с ними соглашаться. К тому же он старел, слабел, начинал слепнуть и с каждым днем становился подвластнее хитрой сестре своей. Он не поранился, не поссорился с отцом моим, к тому не было ни малейшего повода; но он вдруг остыл к нему и так остался до смерти своей. Впрочем с обеих сторон никто не слыхал от них ни малейшей жалобы, ни малейшего осуждения.
Когда отец мой прибыл в Пензу на губернаторство, тогда дворянство, обрадованное его приездом, желая чем нибудь ему угодить, не нашло ничего лучше, как друга его Чемесова единогласно избрать своим губернским предводителем. Те же самые люди, прибегая к нему потом, старались уверить его, что долг и беспристрастие требуют от него, чтоб он был защитником их прав против насилия; но ему не было случая за них вступаться: никто не думал нападать на них. Желая сколько нибудь сблизиться с ослепленным другом, отец мой, будучи в Петербурге, настоятельно, убедительно, чрез Кочубея выпросил ему чин статского советника. Сначала это старика было потешило; но Леонтьева скоро успела его уверить, что это сделано было с намерением его унизить, и он почитал это жесточайшею обидой. Я был крестный сын его и, следуя старому обычаю, по духовному родству обязан был его посещать. Как он, так и семейство его всегда встречали меня с распростертыми объятиями.
Семейство сие было многочисленное; у него было четыре сына и пять дочерей. Супруга его, Марфа Адриановна, имела в себе много оригинального, была типом старинной дворянской спеси и фамилии Чемесовых и Киселевых, к коим принадлежала по замужеству и происхождению, почитала выше всех других дворянских родов в России. Она вела жизнь самую праздную; ни деревенским, ни домашним хозяйством, ни воспитанием детей, ни даже угощением посещавших ее, она никогда не занималась; не понимала другой любви, кроме супружеской, не предавалась особенной набожности, не любила выезжать, не думала о нарядах, не умела играть в карты; а между тем никогда не знала скуки. Тьфу-пропасть, скажут иные, да что же она делала? А вот что: у неё была чудесная железная память, вместе (чему трудно поверить) с чрезвычайным любопытством и удивительною скромностью. Она любила собирать вести, но не разглашать их; она их копила, прятала и, не обременяя ее, наполняла ими память свою. Она была мастерица выспрашивать; всё, что от неё более или менее зависело, служанки, даже мелкие дворянки и чиновницы не смели к ней являться без короба вестей. Однако же, далее Пензенской губернии, из которой она никогда не выезжала, ни любопытство, ни сведения её не простирались. Зато уже в ней знала она решительно всё: год, месяц и день рождения каждого из дворян, у кого сколько душ, сколько земли, сколько долгу и кому он должен. Этого мало, в каждом доме известна ей была вся его подноготная, она знала имена всех дворовых людей и женщин, их родство, их поведение, милостивое или жестокое обращение с ними господ; ничего не записывая, всему вела она верный счет. В этой женщине можно было предполагать много философии, она ни к кому не имела пристрастия и никогда не чувствовала гнева, она была откровенна, правдолюбива и не терпела лжи; но сии качества были иногда бичом общества. Вообще она редко говорила о том, что знала, но иногда совсем неожиданно приходила ей фантазия при всех начинать свои допросы. «Скажите, матушка, сколько вам лет?» или: «Как велико ваше состояние?» Молодые женщины, переходящие в зрелые лета, обыкновенно от слов сих бледнели: не было возможности утаить от неё ни одной недели; обличения, доказательства были у неё тотчас готовы. «Не правда, случалось мне слышать, я помню, это было тогда-то и так-то». И все сии публичные испытания делались с убийственным хладнокровием неумолимого судьи. Имя Марфы было дано ей очень кстати, ибо ей можно было сказать, как в Св. Писании: Марфа, Марфа, печешися о мнозех.
Все четыре сына Ефима Петровича служили; один из них достиг генеральского чина, но ни который из них не возвысил его имени, ни продлил его рода. Об одной из дочерей его впоследствии должен буду говорить с подробностью.
Людей умеренных, которые не интриговали, избегали ссор с нашими неприятелями, но и не дружились с ними, в глаза и за глаза были почтительны к начальству, но и не искали с ним короткости, одним словом, держались середины, таких людей было немного; почти все они не были родом из Пензы, а находились в ней только на службе. Первого назову я вице-губернатора Сергея Яковлевича Тинькова, человека довольно пожилого, малорослого и тщедушного, доброго и честного, который при Екатерине еще был вице-губернатором в Туле[87]. Его не любили, но он как-то всегда ускользал от пензенской злости. Жену его Анфису Никаноровну, урожденную Анненкову, я бы назвал пензенской Шардоншей: она столь же широка была в объеме, также была нашею вседневною, также румянилась до самых ресниц; два ряда крепких, хотя и зеленых, зубов посредством постоянной улыбки она также всегда выставляла и также любила светские увеселения, то есть хороший, вкусный обед, наряды и бостон.
Вместе с Тиньковым заседал в Казенной Палате советник её, Афанасий Афанасиевич Докторов, двоюродный брат известного у нас генерала. Он был Орловский помещик, попромотавшийся, попроигравшийся старый франт, который служил по необходимости. Казались в нём странны не деяния его, а манеры, наряд и какой-то особенный, весьма забавный французский язык. Тогда в платье всё было просто, гладко, одноцветно; его же полосатые фраки, пестрые клетчатые жилеты, тканные, вязанные, вышитые, размалеванные отличали его ото всех; в пятьдесят лет он румянился, сурьмил брови, чернил себе волосы. Следуя старинной моде, носил он двое часов, или, по крайней мере, две цепочки от них, томпаковые, или симилоровые с брелоками, которые длинно висели из жилетных его карманов и которыми он поигрывал, побрякивал. Перед этим, был он директором училищ в Перми и Тобольске, и там имел он случай набрать множество если не драгоценных, то самоцветных каменьев и употребить их на разные мелкие предметы, табакерочки из яшмы и порфира, перстеньки бирюзовые, аметистовые, коими покрыты были его пальцы и, наконец, две цепочки из разных камешков, которые сверх жилета носил он крестообразно; всего же примечательнее в его сокровищнице был огромный лал, который при важных оказиях, в виде застежки, являлся у него на груди.
Человек этот был опасен; он смешил при первом на него взгляде, и селадонство его, его ужимочная учтивость позволяли думать, что можно смеяться над ним безнаказанно. Но беда, если он то заметит; голос его возвысится, глаза нальются кровью, он распетушится, заговорит о шпаге и заговорить серьезно. Страсть к игре его не покидала, и он в ней почти всегда был несчастлив. Любопытно было видеть, с какою учтивою улыбкою человек этот, обремененный семейством, проигрывал иногда последний свой рубль; всё заложить, всё продать готов был он, чтобы быть исправным в платеже игорного долга. Своего, кажется, у него ничего не было, и он жил помощью богатого брата глухой жены своей, Варвары Федоровны, орловского Креза, графа Степана Федоровича Толстого. О другом его ресурсе мне что-то совестно говорить; по званию советника Казенной Палаты он должен был находиться в рекрутском присутствии, и эта обязанность доставляла ему средства и жить, и проживать. Какие противоречия бывают в человеке! С весьма здравым рассудком Докторов так дурачился и с такою щекотливостью в отношении к чести прибегал к средствам столь беззаконным, можно сказать, столь бесчеловечным!
Дочери его были слегка помазаны светским образованием и чрезвычайно как ломались. В молодости они были несносны своим жеманством, а ныне, в старости почтенны твердостью, с какою умеют переносить бедность. Одна из них пошла в гувернантки и добросовестно, прилежно и с великим успехом занимается воспитанием девиц; другая всегда имела страсть к живописи, пишет портреты и тем пристойно себя содержит. Право, можно подумать, что дело идет о французских эмигрантках.
По обстоятельствам, более чем по склонности, принадлежал к умеренной партии один из почетнейших жителей Пензы, действительный статский советник Егор Михайлович Жедринский. В Петербурге провел он всю молодость свою, которую умел продлить за сорок лет. Он служил в гвардии, был только что сержантом в Семеновском полку, как нечаянный брак вывел его в люди. Начальник этого полка, генерал-аншеф и Андреевский кавалер Федор Иванович Вадковский, должен был, как говорят, поспешить замужеством старшей из своих дочерей; надобно было сыскать жениха не слишком взыскательного и потом наградить его за снисходительность. Это доставило Жедринскому не только скорое повышение, но и знакомство с людьми лучшего тогда общества в Петербурге. Когда он овдовел, из гвардии капитанов вышел в отставку бригадиром и приехал потом в Пензу председателем Гражданской Палаты, то от всех её жителей постоянно отличался неизвестною им пристойностью в разговорах и вежливостью в обращении, особенно с дамами. Хотя он был весьма уже не молод и некрасив собою, но с любезностью, которой в других тогда не было, умел еще нравиться женщинам. Читал он мало, и так называемый дух философии и правила разврата, непосредственно от него вытекающие, почерпнул он, кажется, из разговоров, а не из книг. Потому-то без малейшего угрызения совести соблазнил он одну сиротку, немку, дворянку Раутенштерн, жившую в доме Чемесовых. Когда состояние её сделалось несомненно, и стыд её стал всем известен в маленьком городе, тогда она должна была лишиться покровительства своих благодетелей и могла найти убежище только у самого похитителя её чести: вступиться за нее было некому, она была круглая сирота. К счастью её, человек без сердца, воплощенный грех, прилепился к младенцу, ею рожденному: без того он бы ее прогнал. Верно уже не ради Христа, Коего божества он не признавал, верно не из сострадания, которого никогда не знал, дал он ей уголок, обязав быть его ключницей и нянькой его ребенка; всегда обременял он ее потом своим презрением, не уважая в ней даже своей жертвы и матери своего сына.
В совершенном заточении, не смея никому показать лица своего, так провела лучшие годы своей жизни хорошенькая, скромная девушка, рожденная для добродетели, которой, раз изменив ей, всегда потом оставалась она верна. Мальчик подрастал, отец отсек первый слог фамильного своего имени и оставил ему название Дринского. По связям, которые сохранил он еще в Петербурге, незаконного сына его записали сержантом в гвардию и даже, следуя тогдашнему злоупотреблению, в малолетстве выпустили капитаном в какой-то армейский полк, стоявший в Пензе. С кончиною Екатерины, с упразднением Пензенской губернии, кончилась как его служба, так и служба несовершеннолетнего его сына.
Нежность к сему сыну, неотступные мольбы его, и участие, которое самые равнодушные люди принимали в злополучной судьбе бедной Раутенштерн, в начале царствования Александра, заставили седого Ловеласа с нею обвенчаться и более для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя. Нескоро бедная женщина решилась показаться между людьми, несмотря на свое новое превосходительство, всё искала последнего места в обществе и долго еще сидела в нём, потупя взоры, как преступница.
Старику Жедринскому было более семидесяти лет, когда жена его была полна, свежа и имела блестящие взгляды. Но он был еще приветлив, опрятен, говорил неглупо, подшучивал довольно остро и по большей части на счет добродетели, церкви, духовных лиц и обрядов. Несмотря на его ласки ко мне, я чувствовал тайное отвращение от сего повапленого гроба; я всё видел печать ада в сардонической улыбке, до ушей обнажавшей беззубый рот его, и мне казалось, что, говоря о нём совсем не в смысле брани, можно было употребить название старого чёрта. Наказанием его была страсть к игре; от неё он был весь опутан долгами, и это делало его еще искательнее, ко всем ласковее. Не надеясь много выиграть, но и не опасаясь проиграть, он с госпожою Тиньковой был ежевечерним партнером моего отца, который, не уважая его, но по сочувствию старых людей к другим старикам, жалел о нём и не один раз имел случай делать ему одолжения.
Совершенно в его духе, в его правилах был воспитан любимый сын его, Владимир Егорович; но в нём было более чувства и гораздо менее ума, чем в отце. Еще в ребячестве, сам родитель наставлял его во всех карточных играх; и в двенадцать лет сидел уже он с большими за бостоном; впоследствии ученик превзошел наставника, и его выигрыш часто заменял неудачи последнего; в обоих, кажется, недоставало решимости подняться на те смелые спекуляции, от коих единственно по сей части обогащаются. Воспитанный эмигрантом Виконтом де-Мельвиль, молодой Дринский изрядно говорил по-французски; стараясь подражать манерам отца своего, он чересчур пересластил, сделался приторен и жеманен. Он слыл красавцем, ему было осмнадцать или девятнадцать лет, когда увидел я его в первый мой приезд, и я совсем этого не нашел: черты довольно правильные, но совсем обыкновенные, ничего не выражающие, лицо бледное, несколько желтоватое, характер и разговор столь же бесцветные, как и лицо, которое одно только иногда умел он искусно расцвечивать; вот весь он. Совсем этим, как он был единственный молодой человек в Пензе, то и почитался опасным для женских сердец; и действительно, не столько из собственных злых побуждений, сколько по наущению отца, который думал оживать в нём, успел он завлечь несколько легкомысленных, чтобы хвалиться их слабостью. Прокурор Бекетов также взялся быть его вожатым; но в нём не было довольно энергии, чтобы когда либо дойти до высочайшей безнравственности.
Беспристрастие, коим я всё хвалюсь, к сожалению не дозволяет, как бы мне хотелось, превознести похвалами людей, которые постоянно показывали приверженность отцу моему. Однако же между ними одни отличались умом, другие честностью и добротою; но были и такие, или лучше сказать такой, в котором ничего этого нельзя было найти. Такого звали Дмитрий Владимирович Елагин. Также, как г. Жедринский, служил он в Семеновском полку и из капитанов вышел в отставку бригадиром и, также как он, определен был в Пензу председателем, но только Уголовной Палаты. Что-то такое похожее на воспитание оставило на нём едва заметные следы, тогда как дурная компания, посреди коей он жил, отзывалась во всех его суждениях, разговорах и даже телодвижениях. Однако же не надобно думать, чтобы он был забияка, игрок, мот, или пьяница; в нём ничего не было такого, что в старину называли гвардейское молодечество, а скорее гаерство, которое можно было находить между нижними чинами во всякой гвардейской роте. Тот, кто бы вздумал назвать его повесой, конечно захотел бы польстить ему: он просто был пакостник, лгун и пустомеля. Начиная стареть, любил он вспоминать молодость и ко всему придирался, чтобы с восхищением поговорить о царствовании Екатерины, на которую взносил величайшие нелепости, между прочим, будто она удостаивала его разговорами и называла mon enfant. Он был только дерзок на словах и чрезвычайно злоречив; это почти со всеми его поссорило; но в тоже время (чего я до сих пор не могу понять), с столь низкими пороками, человек этот был исполнен страха и обожания к отцу моему, который его презирал и даже редко с ним говорил. Отогнать его было труднее, чем верную собаку, и так терпели его, пока к нему не привыкли. Что бы мы ни делали, а всё более или менее принадлежим к своему веку: как в молодости моей матери нельзя было жить без шутов, то со всем её умом Елагин казался ей иногда забавен. Другое еще дело было со мною, когда г. председатель не был удерживаем законами благопристойности; от его россказней, от простонародных прибауток, от сквернословия его часто валялся я со смеху. Простите меня, читатель: я был так молод, а в Пензе была такая тоска! Что касается до службы его, то не знаю что сказать; а говорили, будто он на пенсии у секретаря своей палаты.
Один бедный, выслужившийся дворянин, собою очень видный, женился на доброй, глупой и богатой невесте, дочери Василия Николаевича Зубова, двоюродной сестре князя и графов Зубовых. Иван Андреевич Маленин, в звании городничего, начальствовал в Пензе, когда, при Павле, была она уездным городом, и до некоторой степени напоминал собою прежних её воевод и губернаторов. Беспечен, хотя и тщеславен, довольствовался он той порцией величия, которая в сей аристократической республике, как единственному официальному лицу, ему на долю доставалась, и с дворянами довольно ладил. При вторичном открытии губернии он уже в прежней должности остаться не хотел и сделан советником Казенной Палаты; тогда стал он в ряды других бояр, получив в городе великий вес от роли, которую перед этим играл, от знатного родства, хорошего состояния и большего хлебосольства. Он был мужик честный, правдивый, чистосердечный, но, вместе с тем и осторожный: никогда не говорил неправды, но не всегда говорил правду. Его преданность отцу моему, без малейшей подлости, свободомыслящие в Пензе именовали подобострастием, а он не хотел даже брать труда на них сердиться. Маленькое чванство, лошади, псарня, вот все его извинительные слабости. Ученостью ни он, ни жена его не могли похвастаться: домашнего маляра своего называл он в шутку Сократом, уверен будучи, что Сократ был великий живописец. Супруга его, Александра Васильевна, долго полагала, что всех медиков зовут Петерсонами, потому что первый, который ее лечил, носил сие имя.
Господин и госпожа Дубенские, Григорий Львович и Анна Егоровна, привязаны были не столько к лицу, как к месту губернатора, и от одного к другому переходили по наследству. Он был молчалив и довольно угрюм, а она добрая женщина, большая болтунья и первая вестовщица в городе. Между ними существовало странное условие, предписанное мужем: она, которая наедине трепетала от его взгляда, должна была при людях на него покрикивать, а он отмалчиваться и казаться у неё в загоне.
Некто Андрей Сергеевич Мартынов, весьма еще не старый помещик и богатейший жених в провинции, также как и Дубенские, любил без памяти власть; но светской ему было мало: он прибавил еще к ней духовную и был всегда на бессменных ординарцах как у епископа, так и у начальника губернии. В его гостиной, на первом месте, всегда висело изображение архиерея между портретами губернатора и губернаторши, разумеется, господствующими: по мере как назначаемы были новые, высылались они в залу, где, по прошествии двух десятков лет, составилась презанимательная портретная галерея.
Я бы никогда не кончил, если б захотел представить всех странных людей, коими тогда населена была Пенза. Я выбирал любопытнейших из них, а остальных берегу в запасе для будущих посещений. Но об одном человеке не могу здесь умолчать: он был мне слишком памятен.
Тяжкий, горький опыт показал мне, что в нашей России каждый честный, умный и благородно-мыслящий человек, коему вверяется начальство, должен иметь своего плута. При определении отца моего, рекомендовали ему в Москве некоего Арфалова или Арфалоса, бывшего секретарем при Курском губернаторе Бурнашеве, человеке известном и почтенном, и вместе с ним оставившего службу: это одно уже говорило в его пользу. Огромная голова, высоко поднятая, твердый голос, смелая поступь, всё, что служит вывеской честности, всё это к нему могло возбудить доверенность самых опытных людей; но гордость, злоба, хитрая месть и алчность до времени скрывались за этою личиной. Он родом был грек, не знавший, однако же, природного языка своего; но родился ли он в России или в малолетстве вывезен откуда нибудь? К какому состоянию принадлежал он, где учился и как поступил на службу? Всё это умел он задергивать непроницаемою завесой. Он был чрезвычайно умен и трудолюбив, и коварство грека, как броню, облек еще в русское подьячество. Ему нужен был один только человек, начальник его; но и с ним отвергал он обыкновенные средства уважений и лести. С ним позволял он себе иногда отрывистые возражения, но видя настойчивость, отвечал на нее неодобрительным молчанием, за которым всегда следовало быстрое исполнение приказаний. Он старался изучить характер начальника, с каждым днем становиться ему необходимее и мало-помалу успевал уверить его, что за него готов он и в огонь, и в воду. Сильнейший государственный человек в последние годы жизни Александра следовал этой же самой методе; но Арфалов может почитаться изобретателем её.
Грустно было видеть, как дерзкий этот мошенник овладел старостью бедного отца моего. По большей части он же был причиной негодования на него, а прикидывался добровольною жертвой, за верность к нему радостно выносящею от всех гонения и таким образом нечестие свое сплетал с честью почтенного моего родителя. Почти со всеми обходился он холодно, сухо; в случае же нужды всегда у него были готовы резкие обидные ответы: какое было ему дело! Будучи только секретарем губернатора, из-за него действовал он, как из-за укрепления; сменят его, что за беда? Он примется за другого. С самого начала возненавидели мы друг друга, никогда не говорили и не кланялись; и как ни молод я был, как ни робок при отце, не страшась его гнева, при первом слове об Арфалове приходила ко мне чудесная смелость, и я принимался его обвинять. Бедность, в которой жил он с своим семейством, была всегда победоносным ответом в устах моего родителя. Только при его преемнике построил он каменный дом и купил деревню.
Чтобы скорее забыть этого человека, отправимся в дорогу, на ярмарку, в Саранск. Она обыкновенно бывает в половине августа, около Успеньева дня, вскоре после Макарьевской, которая от неё была не далеко и оканчивалась тогда к 1-му августа. Все на сей последней нераспроданные товары привозились на Саранскую, где и продавались дешевле, отчего она была богаче и многолюднее Пензенской. Сверх того, в уездных городках, на небольшом пространстве, в хорошее время года, ярмарки всегда бывают живее, кипучее, чем в губернских городах; на них что-то похожее на лагерное житье, или на ту беззаботную, бесцеремонную жизнь, которую ведут на минеральных водах. Несколько дней, проведенных там с моим семейством, чрезвычайно возвеселили дух мой. Только для того, чтобы показать, как мало в это время дворяне брезгали местами, и как они еще были уважены, скажу, что городничим в Саранске был тогда человек известной фамилии, имевший тысячу душ, брат сенатора, Алексей Федорович Желтухин.
В самый день Успения был в Саранске, проездом из Петербурга в Саратов, обер-камергер Александр Львович Нарышкин и остановился в нём на целые сутки. Зачем бы, кажется, человеку, который совсем не был хозяин, предпринимать столь трудные путешествия в дальние свои деревни? Особенно тогда, как на столь великом пространстве, при каждом шаге должен был он встречать недостаток и худое качество съестных припасов? За тем-то именно он и ездил. Крепкое сложение самого русского человека он несколько порасстроил вседневною, изысканною, прихотливою пищей; впрочем, здоровье его цвело, но вкус иногда притуплялся; доктора, вместо диеты, советовали ему путешествовать по России, он должен был проголодаться; одним словом, в Саратов ездил он за аппетитом. Отец мой был с ним знаком, и я было забыл, что перед этим, в апреле, он меня ему представил, и первый раз в жизни был я у него в Петербурге на истинно-аристократическом бале.
Кому тогда в России не известны были наследственные веселость духа, ум, острота и любезность этих Нарышкиных, не столько потешников, как часто утешителей дальних родственников своих, членов императорской фамилии. Старина еще показывалась в широком их боярском житье, когда уже все удовольствия новой образованной жизни блистали в их беседах; и сия встреча, сие соединение лучшего из двух разных времен, делает их незабвенными. Особенно, говорят, был примечателен Лев Александрович, отец того, о ком пишу; у того, говорят, всё подавай на стол и всех давай за стол, и сколько бедных дворян, возвращаясь в свою провинцию, хвалились тем, что у него обедали: они могли думать, что были при дворе, ибо двор и Нарышкины всегда в совокупности тогда являлись мыслям[88]. Александр Львович был уже гораздо разборчивее, а еще более сыновья его.
Но и он сохранял еще в себе тип прежнего вельможества. Он не знал, что такое неучтивость, со всеми, с кем имел дело, не только был ласков, даже фамильярен, без малейшего, однако же, урона своего достоинства. Вообще эти люди, с пьедестала своего, как-то свободно, безбоязненно нагибались, как будто чувствуя, что упасть им никак невозможно. Будучи и в Петербурге ко всем приветлив, в провинции Нарышкин был особенно любезен с губернатором и его сыном. Тут случился один богатый помещик, Вельяшев, у которого повар почитался и был действительно лучшим во всей губернии; к нему позвал отец мой его обедать, а к себе на вечер и ужин; в дороге тем и другим остался он чрезвычайно доволен. С ним был меньшой сын его, Кирила Александрович, с которым в Петербурге пришлось мне сказать слова два-три; тут я с ним немного поболее познакомился, но гораздо короче в следующем году.
Возвратясь в Пензу, я опять недолго в ней оставался: отцу моему в сентябре нужно было объезжать губернию, и он взял меня с собою. В столь отдаленное время и в столь отдаленной провинции, проезд губернатора мог несколько походить на триумфальное шествие; везде ожидания, везде суета, везде встречи, везде толпы народа, которые стоят с почтением, смотрят с любопытством; во всех уездных городах лучшие квартиры, во всех деревнях лучшие комнаты господского дома. Обозрение судов, тюрем, дорог, мостов, переправ, множество забот, у самих губернаторов отнимали всё, что такие путешествия могли иметь для них приятного. Но губернаторскому сыну оставались одни только удовольствия: наперерыв старались угостить его, доставить ему разного рода наслаждения, разумеется самые грубые, материальные, и между ними, сказать ли правду?.. и довольно постыдные, кои юноша, менее пылкий и более целомудренный, чем я, отверг бы с презрением. Но что делать, так уж тогда водилось.
Между селами в Пензенской губернии, Екатериною произведенными в города, считались два: Мокшан и Городище, которые, если возможно, были еще хуже Чембара. Зато Краснослободск, Саранск, и Инсар, по народонаселению своему, по торговле и по числу церквей, и тогда уже были достойны названия городов. Многие и поныне смеются над бедностью и ничтожеством всех этих местечек, рассыпанных в России, именующихся городами, забывая, что каждое из них может быть зародышем большего города и не примечая великих перемен, от одного только данного им имени в них последовавших. Если бы одни только правильность линий, чистота и порядок их отличали от других казенных селений, то и тем бы они много выиграли. Как часто видим мы людей низкого состояния, мещан, даже простых крестьян, внезапно разбогатевших счастьем и оборотливостью в торговых делах; любовь к родимому месту есть замечательная черта в сих выходцах из бедности; к ней примешивается маленькое тщеславие, и они, на удивление и на зависть земляков, громоздят каменные палаты. Глядя на них и желая не совершенно от них отстать и заслужить имя настоящих горожан, другие также начинают строить опрятные домики и могут иметь надежду с некоторою выгодою отдавать их в наймы судьям и канцелярским. Раздробление имений и потребность общежития также способствуют умножению жителей в сих городках; самые мелкопоместные дворяне всё уже не прежние варвары, три времени года потрудясь в поле над хлебопашеством своим, зимой скучают в домиках своих, занесенных снегом; дороговизна губернских городов пугает их бедность, а в уездных вместе с должностными лицами могут они составить нечто похожее на общество.
Разумеется, я здесь говорю не об уездных городах, кои, будучи прибрежны большим рекам, ведут обширную торговлю, или имеют давно заведенную промышленность, которая год от году более процветает, но только о городках, кои, лишены будучи всех способов, кроме тех, на кои я указал, однако же, не падают, а помаленьку всё идут вперед. В продолжении почти сорока лет, неоднократно со вниманием проезжая через них, я утвердительно могу сказать, что все эти центрики растут и расширяются. Они порождены великою мыслью Екатерины, от неё ведут свое начало и разве тогда только погибнут, когда исчезнет об ней память. Шестидесятилетняя жизнь для города младенчество, а наши ребята-города, право, не тощают, а приметно укрепляются.
Усердствуя, если не благосостоянию, которое доставляют только время и труды, то по крайней мере украшению пензенских уездных городов, отец мой выпросил чрез министров внутренних дел и финансов двести тысяч рублей ассигнациями, с тем, чтобы, раздав их дворянам, под верные залоги, на положенные сроки, из капитала и процента, в семь лет выстроить в каждом из девяти городов большое каменное двухэтажное здание с таковыми же флигелями, для присутственных мест и жительства городничего. Мне приятно теперь вспомнить, что все сии города сохраняют поныне памятники полезной заботливости отца моего[89].
Из числа помещиков, коих посетили мы на сем пути, двое-трое жили истинно по-барски; это были братья Хрущовы, Арапов и Вельяшев. Если когда-нибудь случится мне опять встретиться с ними в моих воспоминаниях, то, может быть, скажу об них несколько слов. Теперь поговорю об одном приезжем из Петербурга барине, у которого в деревне довольно скучно (для меня по крайней мере) должны мы были пробыть почти сутки. Еще в Киеве, останавливаясь с кавалерийским полком, комм он начальствовал, Михайло Алексеевич Обрезков познакомился с моими родителями. При Павле подвергся он общей участи, был произведен генералом, украшен лентой, потом отставлен и сослан; при Александре опять был принят в службу, но сначала только числился в ней и жил, где хотел. После покойной жены его, урожденной Талызиной, досталось ему с детьми богатое наследство в Пензенской губернии, — бесконечная лесная дача, при коей устроил он обширный винокуренный завод; в это имение, которое тогда было единственным источником его доходов, приезжал он по временам хозяйничать.
Отец его был нашим посланником в Константинополе; там нашел он себе жену, в этой странной касте, в этой помеси, составленной из людей всех европейских наций, не имеющих отечества и употребляемых миссиями всех держав; от неё произошел наш Обрезков и, кажется, наследовал всей безнравственности её родственников. Есть пороки, которые вредят успехам человека, им подвластного, которые даже губят его; есть напротив другие, которые способствуют его возвышению, обогащению. Одни только последние имел г. Обрезков. От Востока, где он родился, принял он вместе с жизнью неутомимую алчность к её наслаждениям; а Европа восемнадцатого века научила его действовать осторожно, но не отступать ни от каких средств к достижению желаемого. Он получил прекрасное светское образование, имел много основательности, особенно расчетливости в уме; но ни единого похвального, благородного чувства, я уверен в том, не ощутил он ни разу в душе своей. Не знаю, чему более можно было дивиться, безумию ли его спеси, или бесстыдству его подлости? От одного к другому никто еще, как он, так быстро не умел переходить: сегодня имеет он в вас нужду, хотя не очень великую, и готов вместо ковра расстилаться под ногами вашими; но она удовлетворена, вы ему бесполезны, и завтра же станет он вас мерить глазами и обдаст презрительным, нестерпимым холодом. В Петербурге жил он в самом аристократическом кругу и (еще раз прошу позволения заимствовать у французского языка, чего нет в нашем), владея в совершенстве жаргоном большего света, постоянно в нём удерживался. Там разумеется был он умереннее, там с каждым умел он очень тонко оттенять свое обхождение; только вне его предавался он крайностям и готов был плевать на ту руку, которую вчера лизал.
Страсть его (никогда истинная любовь) к женскому полу и желание ему нравиться тогда уже начинали его делать смешным. Ему было за сорок лет; однако же, он еще очень молодил себя. Он был небольшого роста, тонок, строен и чрезвычайно ловко танцевал; искусственная белизна его лица спорила с искусственною чернотой его волос, и яркий искусственный румянец покрывал его щеки; но раннее употребление косметических средств повредило его коже: она уже тогда казалась выкрашенною подошвой. Ничто не могло быть совершеннее механизма его наряда и в изобретении его непременно должен был участвовать какой-нибудь скульптор: так было всё пропорционально, так всё хорошо пригнано, где дополнено, где убавлено; везде шнурование, там винт, там пружина; и в этой броне, в которой выступал он против спокойствия женских сердец, все телодвижения его были так свободны, что никто не мог бы подозревать тут чего-нибудь поддельного. Чтоб открыть все таинства сего туалета, нужен был зоркий, любопытный мой взгляд; по тесноте деревенского дома его, я спал с ним почти в одной комнате; он вставал очень рано, а я, притворясь спящим, в открытую дверь, полуоткрытым глазом мог прозреть весь этот снаряд и даже самую подошву лица его, к утру уже полинявшую и пожелтевшую.
Ту же самую осень посетил он нас в Пензе, остановился у нас в доме, прожил две недели и по собственному выбору помещался в занимаемых мною комнатах; но дверь уже не отворялась, и я мог его видеть только в полном блеске и устройстве. Он вставал всегда рано; иногда, когда я лежал еще в постели, заходил он ко мне и журил за леность, без церемонии садясь ко мне на кровать. Иногда необыкновенные его ласки меня смущали, но он расточал их всему семейству, всему дому и не оставлял без внимания даже любимой собачки моей матери.
Полгода спустя, сделан он генерал-кригскомиссаром. В сем звании оставался он не более двух лет; хищничество его сделалось так очевидно, что, несмотря на сильное покровительство, он удален от должности и предан суду, который однако же оправдал его. После того приискал он другое место, где более наживы и менее ответственности, место директора департамента внешней торговли, и очень долго занимал его. В звании сенатора сохранял он военный чин и мундир и продолжал в нём тянуться и пялиться; под конец с размалеванной рожей казался он даже страшен. Но когда производство в действительные тайные советники лишило его эполетов, то с отчаяния умыл он лицо, бросил шнуровки и парики, обнажил седины свои и принял человеческий вид.
Несколько лет еще в знакомстве со мною продолжал он оказывать прежнюю благосклонность; все сношения мои с ним должны были прекратиться службой отца моего. При первой встрече после того, показал он мне столь удивительное, столь наглое высокомерие, что с тех пор довольствовался я меняться с ним презрительными взглядами. Гораздо после, когда мне счастье несколько улыбнулось, встретясь со мною, вздумал он дружелюбно протянуть мне руку; я обрадовался случаю, вспомня, что у него хирагра, схватил ее и так сильно сжал, что он должен быть закричать, после чего отошел я с извинением и поклоном.
Нет, гнусен был человек, и скверна об нём память! Я говорю был, ибо в живых его не почитаю, хотя физически он не умирал. Его гордость, бесчувствие, эгоизм, сребролюбие, разврат без примеси малейшей добродетели, ныне жестоко наказаны. Там, где другие находят награду и венец долговременно понесенных трудов, там, где других ожидает уважение людей в высоком чине и глубокой старости, там подавляется он всеобщим презрением. Тот, который всю жизнь прельщениями и деньгами соблазнял невинность и кучу жертв принес своему сластолюбию, на старости пал безоружен в сети, расставленные распутницей, которая без большего искусства умела превратить их в брачные узы. Мгновенно прежний мир исчез перед ним: знакомые, родные, даже дети его оставили. Сим последним должен был он отдать родовое имение первой жены, а награбленное скоро похитила у него вторая. Недуги, телесные страдания посетили его, и на одре болезни он не утешен даже присутствием той бесстыдной женщины, которой он всем пожертвовал: она разъезжает, тешится и редко его навещает. Сколько лет таким образом он уже не живет и умереть не может! Если он сохранил рассудок и память, то ничего ужаснее сего положения я не знаю. Сим примером не хочет ли справедливое Небо устрашить ему подобных? Или в милосердии своем еще на этом свете, для очищения от грехов, не послало ли оно ему сей несчастный брак? — Я не понимаю, как столь ничтожное воспоминание могло так далеко меня увлечь. Ведь вышел целый эпизод, который, может быть я весьма некстати здесь вклеил.
Прежде нежели оставлю Пензу, должен я поговорить о родственниках, которых я в ней имел и о коих я доселе умалчивал, потому что они жили более в деревне, чем в городе. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича Мартынова, у которого их было три; следственно только дети второго брака его были довольно в близком с нами родстве. Из них находилось тогда в Пензе двое: Федор Михайлович Мартынов и Наталья Михайловна Загоскина. Первый был не последний в Пензе чудак. О нём нельзя говорить, не объяснив наперед, что такое была супруга его, последняя, как говорили, из своего роду и, кажется, последняя вроде тех женщин прежнего века, коих Фон-Визин и Капнист так верно изобразили, а Рахманова так удачно представляла на сцене. Она предпочитала деревенское житье городскому и постоянно имела пребывание, в сорока верстах от Пензы, в селении своем Кучках. Там, среди сельской тишины, почти ежедневно свирепствовали бури её гнева; там всё трепетало перед ней, там била она девок, секла мужиков и терзала словами двух взрослых падчериц. Но коль скоро завидит издали приближающуюся коляску или тележку на рессорах, спешить укротить свое бешенство и всякого приезжего, внутренне посылая к чёрту, встречает с отверстыми объятиями и словами: «Ах, батюшка, отец ты мой родной! Да как тебя Бог занес, да как разодолжил, что пожаловал». Потом, угощая дорогого гостя, выжимала она улыбку на уста и нежным голосом говорила слугам: «Друг мой, голубчик Андрюша, подай это, прими то-то», а Федя и Андрюша дрожали как лист, ибо при улыбке взоры её сверкали еще яростью.
Муж её был совсем тому противное, ни к кому не ласков, ко всем доброжелателен. В обществе иногда бывал он довольно неприятен, всех прерывал, говорил громко, хохотал во всё горло. Самый добрый и честный крикун, часто враль, а иногда и лгун по легковерию, потому что готов был повторять всякий слышанный им вздор, всякую умышленно сказанную нелепость, нужно ли к этому прибавить, что в Пензе был он первым вестовщиком? С такими склонностями и с такою женою ему не очень весело было оставаться в деревне, и от того большую часть времени проводил он в городе, где имел скромную квартиру: зачем ему большая, когда с утра до ночи разъезжал он по гостям, собирал и развозил новости? Впрочем, с сожительницею своею был он всегда в совершенном согласии, потому что злодейка любила его без памяти, берегла и тешила, потому что он был простосердечен, а она хитра, потому что он не имел большего достатка, а она весьма хорошее состояние и, наконец, потому что она одна занималась хозяйством, предоставляя ему в полное распоряжение всё время его, которое, как мы видели, он с такою пользою умел употреблять.
Глядя на сие супружество, казалось, что видишь союз петуха с кошкою.
Потомство этого Михаила Ильича Мартынова, от всех трех браков, при многих похвальных качествах, отличалось одним общим пороком — удивительным чванством, которое проявлялось в разных видах, смотря по характеру, положению или образу воспитания каждого из происходящих от него лиц. Так например, Федор Михайлович чванился тем, что остался старшим в роде Мартыновых и, на подобие сениоров в немецких княжеских домах (о существовании коих впрочем он не ведал), хотел быть главою многочисленного потомства отца своего, требуя от членов сего семейства знаков не только покорности, но и подобострастия, и тем не только не раздражал, даже потешал их тщеславие. Другое было в нём еще забавнее: это притязание на ученость, хотя в Пензе, и в то время, немногие превосходили его в невежестве. В доказательство просвещенного вкуса и любви к наукам, завел он у себя в деревне кабинет редкостей. Что это такое было, трудно себе представить! Сову ли кто убьет, ужа ли поймает, скорее несет к доброму барину; из одной велит он набить чучелу, кожу с другого натянет на палку. Приятели, родные, старались посещать его не всегда с пустыми руками, но не разорялись на покупку игрушек, коими дарили старого ребенка: кто доставит ему заржавленный кусок железа, уверяя, что это обломок секиры или бердыша, найденный на древнем поле битвы; иной привезет ему свиной клык, выдавая его за зуб какого-нибудь редкого американского дикого зверя; из Петербурга насылались ему купленные на толкучем рынке под именем картин намалеванные корки. Немногие совестились и наделяли его довольно порядочными вещицами. Для сего драгоценного собрания не было, однако же, особенного помещения; всё это громоздилось в трех низеньких приемных его комнатах, столовой и двух гостиных; поворотиться бывало трудно, и особенно неприятно обедать посреди чучел. Странно в нём и то, что он уверен был и других уверял, будто читал всех иностранных писателей, которого бы при нём ни назвали, только не помнит содержания их творений; когда же начнут ему доказывать, что они никогда не были переведены на русский язык, а другого кроме его он не знает, то других возражений, кроме грубостей, он не находит.
Сестра, гораздо моложе его, не совсем была чуждою Мартыновской спеси; но сия спесь едва была заметна среди любезности её, приветливости ко всем.
В Пензе не находилось хозяйки дома более приятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замечено, что тяжкие испытания разным образом действуют на людей: они более раздражают злых, а добрых научают терпению и снисходительности. Так было с Натальей Михайловной. Почти в ребячестве выдали ее за человека, хотя молодого, но весьма странного. С самыми кипящими страстями, Николай Михайлович Загоскин любил добродетель и исполнен был религиозных чувств; без родителей, без советов, совершенно свободный, хотел он от силы страстей оградиться неодолимым оплотом и затворился в стенах монастыря. Там более года постился он, молился и готов был принять пострижение, а плоть всё одолевала дух. Добросовестные монахи убедили его предпочесть супружество, как состояние истинно-христианское, если не столь святое, как монашество. Как он был весьма не беден, не стар и не дурен собою, то легко было найти ему невесту, и в награду за его добросердечие Небо послало ему девочку кроткую, умную и веселую. С нею обрел он счастье, а она только благоразумием и осторожностью могла наконец до него достигнуть; неприметно исправляя их, должна была она переносить кучу странностей, которые были следствием борьбы человеческих слабостей с упорною волею победить их. Проведя несколько лет с ним в добровольном заточении, она умела извлечь его из него вместе с народившимся семейством.
Сие семейство уже тогда было многочисленно. Ныне столь известный Загоскин был первым плодом сего брака, и странности, которые первые примеры и первое воспитание в нём оставили, ни временем, ни трением об людей высших сословий не могли быть изглажены. Ему было тогда лет четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя учение его не только не было кончено, мне кажется даже не было начато. Имя Миши, коим звали его, было ему весьма прилично; дюжий и неуклюжий как медвежонок, имел он довольно суровое, но свежее и красивое личико. Мне он не нравился по тем же самым причинам, по коим многие и теперь имеют несправедливость не любить его: прежде не знал он существования приличий света, а после мало об них заботился. Многие и тогда обижались слишком фамильярным его обхождением. Как истинно-русский весельчак, любил он всегда без желчи, без злости, без малейшего дурного умысла, подшучивать в глаза над слабостями людей и таким образом, задевая самые чувствительные струны их самолюбия, часто творил из них непримиримых себе врагов; потом он же удивлялся и готов был сказать: да, кажется, за что бы? Не только тогда, но и гораздо после не мог я подозревать удивительного, оригинального таланта, который так внезапно и ярко в нём развился; при всегдашней его рассеянности, которая давала ему вид легкомыслия, мог ли я предполагать в нём те постоянные, глубокие наблюдения, кои снабдили сочинения его столь живыми, верно изображенными картинами? Кто бы как ни любил перо его, но кто узнает сердце, которое им водило, тот полюбит человека, я уверен в том, еще более, чем автора. Я скажу об нём, как Иисус об Магдалине: многое должно ему простить, ибо много любил он добро, исполнение своих обязанностей, много любил Бога, отечество свое и весь род человеческий. Его отпускали в Петербург со мною, поручая его братским моим об нём попечениям. Ну, умели же найти ему наставника!
Во время наших сборов, явился в Пензе умный, богатый и бородатый Василий Алексеевич Злобин, на обратном пути в Петербург из Волжска и Саратова. Мне теперь совестно вспомнить, как тогда за ним ухаживали: лучшего приема нельзя было бы сделать вельможе; все чиновники ходили к нему являться, и у губернатора обедал он всякий день, занимая, как приезжий гость, первое место. После того, кажется, трудно новые поколения слишком упрекать в поклонении злату. Однакож не мне осуждать почести, оказанные Злобину: он в это время самым любезным образом вызвался сделать мне великое одолжение. Привыкнув к неге, он ехал один в просторной четвероместной карете; я захворал, и он предложил мне половину оной, с обещанием дорогой оберегать меня. Наши две зимние кибитки, моя и Загоскина, примкнули к его поезду, и мы 4 ноября отправились в путь.
Старики прежде не охотно входили в суждения с молодежью, и я Злобина знал только поверхностно; но тут, запершись в карете, в беспрестанных с ним разговорах, узнал я, сколько, без всякого учения, в простом русском человеке может быть природного ума: в каждом слове сколько толку, какой великий смысл! Иногда он меня ими ужасал. Порабощение у нас никогда до того не простиралось, чтобы, как у невольников древнего мира и Нового Света, оно у крепостных наших отнимало даже время» на размышление, а опасение проговориться заставляло их быть осторожными в речах и кроткими в выражениях. Из того произошли миллионы поговорок и пословиц, составляющих народную мудрость, которая из рода в род переходя, как умственное наследство, всё более обогащается новыми мыслями. В этом, мне кажется, ни один народ в мире не может сравниться с нашим.
Перед самым нашим отъездом выпал снег, стали морозы и сделалось первопутье; оттого мы не ехали, а летели, и хотя по откупным делам Злобин должен был останавливаться в Саранске и Арзамасе и промешкал в обоих более полутора суток, всё-таки приехали мы в Москву 8 числа, в самый Михайлов день. Тут мы расстались: он на другой день поехал далее, а я остался погостить у сестры.
Что сказать мне о тогдашней Москве? Трудно изобразить вихорь. С самого вступления на престол императора Александра, каждая зима походила в ней на шумную неделю масленицы. Я помню, как малолетним случилось мне быть в комнате, где из больших бутылей переливали наливки в жестяной чан, а из него разливали по бутылкам, и как, не проглотив ни капли, я опьянел от одного приятного ягодно-спиртового запаху. Тоже было со мною и в Москве: не имея ни много знакомых, ни намерения долго в ней оставаться, я подобно другим не веселился, а от одних рассказов об обедах и приготовлений на балы кружилась у меня голова. В ночи, с 28 на 29 ноября поскакал я в Петербург.
Дорогой случилось со мной нечто довольно забавное. В Твери остановился я в известном трактире итальянца Гальяни (который давно уже помер, но которого имя до сих пор сохранила заведенная им гостиница). Я проголодался, промерз и спросил поесть; тут были офицеры какого-то кавалерийского полку, которые кого-то угощали, кого-то провожали и меня очень ласково пригласили с собой обедать. Я даром наелся и, уступая потчеванию, еще более напился, потом поблагодарил их и пошел ложиться в кибитку. Я проснулся перед рассветом и когда спросил, скоро ли приедем на станцию, мне сказали, что мы проехали Валдай и что я проспал более двухсот верст. Чем свет, 1-го декабря, прибыл я в неизбежный мне Петербург, пробыв не с большим двое суток в дороге. Я не знаю, как это случилось: я не ехал на курьерских, не имел права торопить, слуга мой ничего лишнего не платил; но видно, счастье приходило ко мне во сне и приводило с собой лихие тройки и лихих ямщиков.
VII
Посольство в Китай.
Вот уже третий раз, что я приезжаю в Петербург, подумал я; неужели и ныне не более посчастливится мне в нём, как было доселе? Теперь я приехал один, никто не привозил меня, и даже я сам привез младого птенца, совсем не питомца Муз, но который впоследствии должен был сделаться одним из их отличнейших служителей. Теперь надлежало мне самому промышлять о себе.
Как неимущие провинциалы, начали мы с Ямской и оттуда, сделав несколько поисков во внутренность города и открыв довольно удобную квартирку неподалеку от Невского Проспекта, через три дня с Загоскиным в нее переехали.
Едва счел я нужным явиться к Сперанскому и, не объявляя ему о моем намерении, мимо его прямо графу Кочубею подал прошение, в коем объяснил всю странность положения моего. Определение меня в министерство не заставило себя долго дожидаться; через два дня подписана бумага, но не совсем согласно с моим желанием и требованием: ибо найдено невозможным зачислить мне в службу всё то время, в которое ничего официального обо мне не было. Я и тем остался доволен; попав раз на место, мог я из него приискивать другую, более приятную или выгодную службу. Пока я фиктивно служил, то ходил еще иногда в экспедицию, а со дня определения в нее, начал забывать, как отворяются её двери.
Веселость, царствующую в Москве, можно было также найти тогда и в Петербурге, и в той же степени, но в умереннейшем, более пристойном виде. Сколько припомню, я не видал тогда мрачных лиц, не слыхал недовольных речей. На награды были очень скупы; попасть в службу ко двору, кроме тех, коим знатный род, вместе с богатством, давал на то право, никто не смел и помышлять; доступ в большой свет был очень труден; ничто не возбуждало ни чрезмерного честолюбия, ни тщеславия, следственно и зависти, и всякий жил про себя, от всего сердца веселясь в своем кругу и не думая о лучшем. Двор отличался более величием, чем изысканностью и разорительною прихотливостью роскоши; в частных домах вместо неё было изобилие и с златою умеренностью все души были в покое.
Меня одного, может быть, терзало тогда желание чего-то лучшего, чего-то высшего. Прежняя скудость и расчётливость Петербургской моей жизни мне вдруг наскучили; я стал гораздо лучше одеваться, чаще нанимать лошадей, искать знакомств, ездить по вечерам и балам. Всё это было гораздо забавнее, но кошелек мой приметно стал тощать, и я начинал (чего дотоле никогда не было) думать о том, где бы, в случае нужды, занять мае денег? Из сих затруднений был я выведен одним представившимся к тому весьма удобным случаем.
В феврале месяце 1805 года все начали толковать о посольстве, отправляемом в Китай. В аристократическом мире только о том и было разговоров; потому что знатный барин, действительный тайный советник, обер церемониймейстер, граф Юрий Александрович Головкин назначен был чрезвычайным и полномочным послом. Столь многочисленного посольства никогда еще никуда отправляемо не было: оно должно было составиться из военных, ученых, духовных лиц и гражданских чиновников разных ведомств. Чего же лучше? сказал я себе и, много не подумав, начал проситься о причислении меня к свите сего посольства.
Пользуясь ласковым приглашением Александра Львовича Нарышкина, сделанным в Саранске и ободренный ласковым его приемом в Петербурге, раза два или три в зиму был я у него на балах, удостоился даже нескольких слов от его Марьи Алексеевны, и на вечерах сих почти успел победить гордую свою застенчивость. Граф Головкин был женат на родной сестре его, Катерине Львовне, и почти всякий день бывал у него. Какого мне пути еще искать было? Но я вспомнил, что, перед этим лет за пять, тот же самый Нарышкин всё обещал определить меня пажом и ничего не сделал. Как быть? Другого средства не было, и я приступил к нему с своею просьбой. На этот раз стоило мне только намекнуть добрейшему Александру Львовичу о моем желании, и на другой же день письмо графа Головкина к графу Кочубею испрашивало его согласия на временное увольнение меня из его ведомства. Я даже не успел еще быть представлен послу, и мне пришлось являться к нему и благодарить его в одно время.
Не польза наук, коих не было во мне положено и начального основания, заставляла меня предпринять столь отдаленное путешествие, ни даже любопытство увидеть землю, никем из русских моих современников тогда не посещенную: поездка в Германию мне показалась бы гораздо привлекательнее. Я уже признался в том, какие причины побуждали меня решиться на двухгодовое странствование: я был угрожаем совершенным безденежьем. Под именем дворянина посольства, определен я был в число его канцелярских служителей; каждому из них назначено по шестисот рублей серебром годового жалованья и, сверх прогонов, по тысяче рублей на подъем. В мои расчёты входила также и родительская помощь; ибо я уверен был, что отец, одобрив мое намерение, в сем случае не пожалеет для меня денег, в чём и не ошибся.
С какою целью было отправляемо столь великолепное посольство? Вот о чём не догадался я даже спросить. Я был матрос, который, сев на корабль, не подумает узнать, зачем он плывет в Ость-Индию, Бразилию или Канаду. При сей мысли мне право стыдно иногда бывает самого себя; но как я вспомню большую часть моих товарищей, которые, как мне кажется, также в этом предприятии видели одну продолжительную, веселую прогулку, то и нахожу себя извинительным.
Признаюсь, я и до сих пор полагаю, что само правительство в этот деле не имело никакого твердого намерения и в Китай посылало Головкина, так, на всякий случай, на удачу, на авось. Всё было так молодо, так зелено, всё делалось так необдуманно; но все побуждения были великие, прекрасные. Молодость царя имела нужду в деятельности, а продолжающийся мир с европейскими державами давал ей мало пищи; тогда в благородных порывах своих обратился он к Востоку и к другим частям света, дабы и первые мирные годы царствования своего ознаменовать какими нибудь полезными, памятными событиями. Вот почему русские корабли под начальством Крузенштерна и Лисянского сделали первое путешествие вокруг света; с ними Резанов отправлен был посланником в Японию; ему же поручено было в Америке стараться о распространении нашей торговли и наших владений; на берегах Черного и Азовского морей строились новые города, открывались новые порты; за Кавказом Цицианов вел счастливую, славную войну с персиянами; надобно было, наконец, подумать и о китайцах, отдаленнейших наших соседях. Тут явились иезуиты, с предложением усердных услуг, иезуиты, которые при Екатерине и до неё, при польском правительстве, имели столицу свою в Полоцке, а со времен Павла поселились и в Петербурге. Их предложения были чистосердечны: не зная никакой национальности, сия папская милиция готова всегда удружить правительству, коего покровительством она пользуется или от коего имеет право его ожидать. Патер Грубер, генерал Ордена, чрез миссионеров своих, имевших тогда большое влияние в Пекине, приготовил китайское правительство к благосклонному нам приему. Князь Чарторыйский управлял Коллегией Иностранных Дел и, способствуя нашим затеям, с столь великими издержками сопряженным, может быть внутренне смеялся над ними. Нет, в России не должно было ожидать благословенного окончания делу, начатому под руководством поляка и римско-католических монахов.
При Анне Иоанновне и Бироне, когда немцы так заботились о пользе и чести русских, Савва Владиславич Рагузинский, посланник их, без всякой причины, вероятно из одной учтивости, отступился от владений наших по самую реку Амур, на берегу которой наши крепостцы составляли уже целую линию и был выстроен город Албазин. Сия земля, Даурия, имеющая до полутора тысяч верст протяжения и изобилующая всеми дарами природы, до сих пор остается незаселенною и нейтральною, дабы Небесное Царство не одною каменной стеной, но и местами необитаемыми было ограждено от опасного нашего соседства. Надеялись (так меня после уверяли) посредством искусных переговоров склонить китайцев к изменению сего условия и к допущению русских в прежние их владения.
Так как китайцы самый церемонный народ в мире, то чего же приличнее как послать к ним обер-церемониймейстера? Так как сношения наши с ними более торговые, чем политические, то чего же выгоднее, как отправить к ним президента Коммерц-Коллегии? Граф Головкин был и то, и другое; а сверх того человек весьма высокого роста, величав, осанист, с большим орлиным носом, умными глазами и медоточивым языком: появление его должно было производить почтительный страх, доверенность и любовь. Забыли только об одном, о довольно важном во всяких делах: о характере человека.
Кажется, всё потомство бывшего при Петре Великом, первого графа Головкина, Гаврилы Ивановича, поселилось за границей, не отказываясь, однако же, от русского подданства и, не знаю по какому праву, продолжая владеть имениями в России и пользуясь с них доходами. Сей пагубный пример, который так распространился, и ныне заставляет только роптать, но всеобщего негодования еще произвести не может. Когда Россия к Европе станет в таковом же отношении, как Ирландия к Англии, и столицы Запада будут поглощать все плоды потовых, кровавых трудов наших поселян: тогда только против сих добровольных, вечных, преступных отчуждений от отчизны будут приняты сильные меры. Как бы то ни было, отец посла Головкина никогда не бывал в России, женился на какой-то Швейцарской аристократке и детей крестил в Реформатскую веру.
Когда сын его явился ко двору Екатерины, в нём, кроме имени, ничего русского не было. Она приняла его в гвардию, определила ко двору, женила на дочери любимого своего Нарышкина и милостивыми словами привлекла его к престолу своему, привязала и к государству. Все знатные молодые люди тогдашнего времени старались быть тем, чем их сделали судьба и воспитание: быть иностранцами с русским именем; следственно ничто не могло побудить его преобразоваться в русского. И он остался настоящим дореволюционным французом, сохранив до глубокой старости всю их любезность, их самонадеянность и легкомыслие. Одно только напоминало швейцарское его происхождение по матери: удивительная его расчётливость, которую в роскошной, мотоватой нашей России позволяли себе называть скупостью.
С поверхностными познаниями, кои он имел, мог он в обществе, где никогда не углубляются в обсуживаемые предметы и скользят по ним, казаться сведущим во всех науках. Только в делах это было всё ничтожество русских знатных господ новейших времен. За то, что за выход, что за важность, что за представительность!
И это всё было бы очень хорошо, если б по крайней мере дали ему сколько нибудь дельного и просвещенного секретаря посольства; но и тут умели сделать выбор еще хуже самого Головкина. Один нахал, по имени Лев Сергеевич Байков, служивший в конной гвардии, подбился к графу Маркову и в 1801 году в звании канцелярского служителя поехал с ним в Париж; после разрыва с Бонапарте, он последний из наших оттуда выехал. В трех годичное свое там пребывание, он исполнился не революционного духа, который при первом консуле начал исчезать, но нестерпимого, неблагопристойного тона новой Франции. Магницкий, его товарищ, в сравнении с ним казался скромным; одним словом, с ног до головы, в нём было что-то такое непотребное, что порядочной женщине, кажется, не краснея нельзя было с ним говорить. В буйной молодости цесаревич Константин Павлович охотно окружал себя подобными людьми; их наглые пороки казались ему молодечеством, и Байков был в числе его любимцев. Эта связь, смелость его и рассказы о Париже дали ему большой ход в обществе. Его пожаловали камер-юнкером, хотя ему было гораздо за тридцать лет; но это для того, чтобы доставить ему пятый класс и право на место первого секретаря посольства в Китай. К занятию сего места считали его более кого-либо способным: он умел к кому захочет подольститься, ничего не стыдился, не знал совести, лгал без милосердия. Как же ему было не провести или, попросту сказать, не надуть китайцев?
Второй секретарь был уже настоящий, природный француз граф Ламберт[90], который однако же гораздо менее им казался, чем оба предыдущие лица. Как иностранец в русской службе, старался он с ними ладить, хотя впрочем нельзя было его упрекнуть в гибкости характера; он был довольно вежлив, но холоден, осторожен, скуп на слова и до того спесив, что никому почти не кланялся, а только легким, едва заметным наклонением головы давал знать, что отвечает на поклон. Перед этим, кажется, был он употреблен при миссиях наших в Копенгагене и Мадриде; но дипломатических способностей, видно, в нём или не было, или их не умели оценить: ибо, несмотря на предпочтение, даваемое у нас иностранцам для занятия посланнического места, он впоследствии никогда его получить не мог.
Третий секретарь посольства назывался Андрей Михайлович Доброславский, который ни доброй, ни худой славы никогда заслужить не мог. Он был в числе тех людей смирных, трудолюбивых, покорных, бездарных, можно сказать удобных, коих начальство так любит и мало уважает, которые втихомолку продолжают службу и неприметно ее оставляют. Этот был уже совсем не француз, ибо ничего не знал кроме русского языка, и хотя на нём говорил чисто, а всё-таки с примесью Украинского наречия. Находясь в Коммерц-Коллегии, из которой он никогда не выходил, знал он хорошо только одну таможенную часть; там сделался он известен президенту коллегии графу Головкину, который (я было и позабыл сказать), по званию сенатора, получил поручение обозреть и ревизовать все губернии, чрез кои он должен быль проскакать. И на сей предмет взял он с собою сего великого искусника.
Вот всё почти, что составляло дипломатическую или деловую, письменную часть посольства; за тем следовала ученая часть, и наконец мы, которые молодостью, развязностью, красивым нарядом, даже самым числом, должны были служить к возвышению блеска посольства и важности посла.
И в этом отношении, без хвастовства скажу, всё было очень удовлетворительно. Из аристократических гостиных молодые люди так и ринулись в невиданное, неслыханное посольство. Семи мест кавалеров и стольких же дворян посольства не было достаточно, чтоб определить всех просившихся, и это особенно шевелило мое самолюбие: с кем ни встретишься из знакомой молодежи, всякий спрашивает с недовольным видом (по крайней мере мне так казалось), какие у нас делаются приготовления, скоро ли поедем; а как ни браним мы зависть, как ни презираем ею, а всё более из того хлопочем, чтобы произвести ее. Во время странствования успеем мы познакомиться с моими спутниками, но считаю не лишним на первый случай здесь их представить.
Между кавалерами, первыми стояли по списку два действительных камергера, Васильчиков и князь Голицын. Алексей Васильевич был один из тех четырех братьев Васильчиковых, из коих Илларион Васильевич более всех возвысился в почестях и сделался известнее. Их рыцарями назвать было не можно; имя благородных витязей им было приличнее, ибо все они были русские дворяне в душе, и давно уже Псковская губерния гордится их родом. Наш Васильчиков был не слишком высокого ума, за то высок был он сердцем, и если б одного усердия, прилежания было достаточно, чтоб сделаться искусным в делах гражданской службы, то мог бы он быть со временем лучшим из наших государственных людей. — Ни об одном Голицыне скоро нельзя будет говорить без его родословной в руке: до того они размножились. Голицына, который находился при посольстве, звали Димитрий Николаевич; он был сын одного богатого князя Николая Алексеевича и княгини Марьи Адамовны, урожденной Олсуфьевой, и с братом своим оставались они единственными потомками знаменитого Димитрия Михайловича, пережившего двух меньших братьев, фельдмаршалов, Михайлов Михайловичей и, по милости Бирона, кончившего дни в ссылке. Объяснив таким образом родословную этого Голицына, кажется более об нём сказать нечего, разве только то, что он был добрый малый, без претензий, чрезвычайно угреват и не виден собою. Он умер смертью героев на войне с французами.
За тем следуют четыре камер-юнкера: Нарышкин, Бенкендорф, Гурьев и Нелидов. Я уже сказал, что с Кирилом Александровичем познакомился я в Саранске; после того в Петербурге, в доме отца его, знакомство сие сделалось короче; во время же путешествия нашего, его приязнь, его постоянно хорошее ко мне расположение не один раз были мне весьма полезны. Он был примечателен тем, что в нём сливались и смешивались два противоположные характера его родителей: он соединял в себе Нарышкинское барство, роскошество и даже шутливость вместе с крутым нравом, благородными чувствами, бережливостью и аристократическою гордостью матери своей Марьи Алексеевны. Он был еще весьма молод, но умел брать какой-то верх над своими товарищами, к чему впрочем ему много способствовала любовь к нему посла, по жене родного его дяди.
Константин Бенкендорф был меньшой и единственный брат после всем столь известного, Александра Христофоровича. Он во мне, как и во всех знакомых своих, оставил по себе самую приятную память. Не трудно было любить его: он был чрезвычайно доброжелателен, с тем вместе умен и образован. Его мать из Германии последовала за великою княгиней, после императрицей Марией Федоровной, в Россию, вышла замуж за русского генерала, но прожила недолго на чужой стороне и четырех сирот своих завещала сей государыне. С таким покровительством и с счастливыми способностями, Константин Бенкендорф на всех путях, кои иногда менял он, встречал успехи и честь. По его веселому нраву, по его рассеянности можно было иногда принять его за француза; но немец был виден в немецком прямодушии, твердости, правдолюбии, которые, по крайней мере у нас в России, скоро останутся одним историческим воспоминанием. По чувствам привязанности к России был он истинно русский, и сие доказал он тем, что за границей в поединках стоял за честь её.
Молодой, свежий, откормленный, упитанный телец, туго начиненный словами, а не мыслями, сын будущего министра финансов Гурьева, находился между нами и думал, что делает тем великую честь посольству. Он вместе с Бенкендорфом и Нарышкиным был воспитан в пансионе аббата Николя, почти в одно время произведен с ними камер-юнкером и вместе отправлялся в Китай; в сем триумвирате конечно мог он почитаться Крассом по его жадности и златолюбию. В самой молодости, когда всё так живо представляется сердцу и уму, до одного ничто к нему не доходило, другой был окутан какою-то густою оболочкою, чрез кою с трудом проникали понятия. Когда, бывало, он просыпается и глядит во все глаза, то долго, очень долго, не может понять, что говорят; около часу ему, бывало, нужно, чтобы в мозгу своем пробудить способность мыслить. Всё в нём было тупо и тяжело; это просто был желудок, облеченный в человека. Но оставим его; судьба столько раз нос с носом сводила меня с ним, что в случаях поговорить о нём не будет недостатка.
Нелидов, Любим Иванович, был всеми любим, ибо имел сердце столь же кроткое, нежное, как и наружность. Он был флигель-адъютантом при Павле, когда старший брат его Аркадий Иванович был его молодым любимцем и генерал-адъютантом; оба они не избежали общей при нём участи, были отставлены и высланы из столицы.
Седьмой и последний из кавалеров посольства был коллежский советник Павел Петрович Караулов, перед этим полковник Преображенского полка, высокий и красивый мужчина, но отвратительный своею приторностью и жеманством. Полагая вероятно, что этим тоном можно более нравиться старым и богатым женщинам, к коим не один раз нанимался он в любовники, сохранял он его по привычке и с мужчинами. Взыскательность этих барынь провела уже несколько морщин по лбу его, и вообще он, Васильчиков и Нелидов почитались у нас стариками, потому что они были лет тридцати или без малого, а мы лет двадцати или около того.
Между нами, семью дворянами посольства, самый знатный был Николай Иванович (не знаю почему) Перовский, побочный сын графа Алексея Кириловича Разумовского; так по крайней мере думал он и показывал то! У родителя его, как у Людовика XIV-го, были такие дети от разных, не браков, а сожитий. Этот был от первого, но воспитывался не в родительском доме, а у тетки Наталии Кириловны Загряжской, где с малолетства дышал он придворной атмосферой. И надобно сказать правду, он имел всё, что отличает русского аристократа: манеры большего света, совершенное знание французского языка, а во всём прочем большое невежество. Другие братья его, рожденные от последующих сожитий, так же, как и он, получили название свое от Перовой рощи под Москвой, принадлежащей их отцу, но, кажется, были им более любимы и перед старшим имели преимущество носить отческое его имя и называться Алексеевичами. Они получили тщательное воспитание людей среднего состояния, долженствующих пробиться службой и трудами. Он теперь почти ничто; они занимают первые места в государстве. Незаконнорожденные дети находятся вообще в фальшивом положении: природа дает им права, в коих отказывают им законы; они стоят выше и ниже людей обыкновенных состояний, так сказать вне общества; они не иначе как штурмом могут в нём брать свои места. В этом случае наш Перовский был истинный герой: грудью шел он вперед, продирался, затирал слабых, обходил сильных; дивились его дерзости, смеялись над нею, но не мешали ему; и он, равный всем высшим, преспокойно стал смотреть великим барином.
Исключая сына сенатора Теплова, также ничем кроме дурацкой спеси непримечательного, да еще меня, Перовский никого из других товарищей своих не удостаивал разговорами. Сии остальные собратья мои были нижеследующие.
Франц Александрович Юни, маленький, сухощавый, старообразный, увертливый немчик, не без ума, не без способностей, не без хитрости и слегка балагур. Он высоко не лез; едва знаемый графом Головкиным, он всё увивался около Байкова и вместе с секретарем Доброславским и некоторыми другими составлял его свиту и партию.
Корнеев, коллежский асессор, лет тридцати от роду, служил в Иностранной Коллегии и не знал ни одного иностранного языка. Непонятно, как его всунули в это посольство. Он был отменно прост и толст, неопрятен, ленив и вечно заспан; он, весь как будто был налит растопленным жиром; когда шел он, то тело его трепетало как несомый на блюде картофельный кисель; когда же лежал он, то похож был на засаленный тюфяк.
Живой и веселый мальчик, Александр Хвостов, сын столь известного чрезвычайными поручениями в Константинополь, эпикуреизмом, остроумный шутками и стихами Александра Семеновича Хвостова, был одним из приятнейших для меня сотоварищей. О последнем, также весьма молодом мальчике, Клементе, решительно нечего сказать.
Столь же принужденное молчание должен я хранить и в рассуждении некоторых других лиц, о которых говорить не стоить, но о коих упомянуть я считаю обязанностью. Например, что бы я сказал о казначее посольства, надворном советнике Осипове, о комиссаре посольства, коллежском советнике Алексееве, о двух фельдъегерях офицерского чина, Штосе и Михайлове? Наконец, об аптекаре Гельме? Ибо чего не было у нас, в нашей подвижной колонии! Только из этого народа надобно изъять одного человека или, если вернее говорить, из этого стада хочется мне выхватить одну паршивую овцу.
У вышесказанного комиссара Алексеева, которому самому делать было нечего, был еще помощник Эдуард Карлович Цирлейн. Сын бедного немецкого ремесленника, он выучился немножко по-русски и по-французски и, с этим малым запасом, пустился в службу и дошел до того, чего люди с достоинствами не часто достигают. Он был маленький, гаденький, гниленький, совсем пустой и безграмотный человек и в посольстве почитался последним из последних. Головкин, у которого служил он в Церемониальном Департаменте, взял его с собою более как прислугу, чем в виде чиновника. Этот немец был еще скромнее немца Юни. Куда ему до Байкова! Он водил дружбу с камердинером посла и с его поваром и по-приятельски ходил к ним завтракать. Долго после того, из Церемониального Департамента перешел он в Петербургский Почтамт, где и поныне занимает место равное званию старшего столоначальника: выше сего по недостатку в способностях он никак стать не может. И в этом звании он превосходительный, весь в лентах и звездах, и получает огромное содержание; чем мог он заслужить сие в столь пустых должностях? Но он немец; а у нас немец, лишь попади на тропу, без заслуг, без стараний, одною силою существующего между ними согласия, так и начнет подыматься вверх. Я не из зависти сие говорю: можно ли завидовать Цирлейну? Еще менее из злобы: он малый смирный, и если бы хотел, то и мухи не умел бы обидеть; но мне досадно и стыдно за Россию.
Еще не кончено, еще не все названы и описаны, еще были при посольстве: историограф, три переводчика, профессор живописи из Академии Художеств и с ним два воспитанника, из неё выпущенных, для снятия видов и костюмов; наконец, доктор медицины, штаб-лекарь и аптекарь, которого я уже назвал.
Звание или, пожалуй, должность историографа дана была меньшому брату почтенного генерала Сухтелена. Что такое был он в Голландии, мне неизвестно; вероятно дворянин, ибо всё семейство называлось фан-Сухтелен; но какие у него там были занятия, какое место? Вот чего в самом коротком с ним знакомстве не мог я у него выведать. Видно, это место было не последнее, когда, в соответственность тому, приняли его в русскую службу прямо коллежским советником, перед самым отправлением в Китай. Ему было гораздо за пятьдесят лета, чуть ли не под шестьдесят, и ничто уже в нём не было молодо: ни завидное его здоровье, поддерживаемое однако же тщательными стараниями о его сохранении, ни самая всегдашняя веселость его, часто забавная, но никогда не живая. В нём было слишком много ума, хладнокровия и лености, чтоб иметь злое сердце; за то и чувствительности искать в нём было бы напрасно. Руф (то есть Рох) Корнилович Сухтелен, был человек нынешнего времени, наиприятнейший эгоист. Тогда еще их было у нас мало, и они почитались добрейшими людьми; и действительно, он словом никого не захотел бы обидеть, по заочности едва задел бы человека легкою шуткой (всё опасаясь сделать из него врага, не из чего другого), но уже не пошевелил бы пальцем, чтоб оказать малейшую услугу. Он всё житейское размерил по масштабу; вычислил все приятности жизни, равно как и всю тягость её, все её страдания, и нашел, что в совершенном спокойствии духа и тела можно единственно обрести блаженство в мире. Он спешил погасить в себе первые искры страстей и, размыслив, как много стоит труда сделать самого себя счастливым, счел излишним пещись не только об общем благе людей, но и кого-либо из них в особенности; всю нежную заботливость свою обращал к себе и, соблюдая сию нравственную диету, долго и спокойно прожил век.
Он тогда только оставил Голландию, когда французская революция проникла в нее с оружием и, приехав к брату в Россию, всюду потом за ним следовал. Находясь под крылом у ангела, везде должно было ему казаться раем; холостой, но окруженный почтительным к нему, любезным семейством, которого не имел он труда ни воспитывать, ни содержать, имел он всякого рода утешения, и дни его текли без забот, но не без дела. Он любил читать и проводил жизнь у обильного для того источника: в библиотеке брата своего. Чего он не знал? И что за необъятная, и с тем вместе для света бесполезная была в нём ученость! В первой молодости, когда в числе не совсем потухших страстей оставалось в нём сильное любопытство, ездил он за Океан, в Голландскую Гвиану. Этот подвиг, для него самого неимоверный, до того поразил его, что он никогда не упускал случая об нём поговорить, и я сам столько раз слышал названия Демерари, Эссеквебо и Суринами, что затвердил их. Семейство генерала Сухтелена иногда скучало сими частыми повторениями и, может быть, желая, чтобы новое впечатление изгладило старое, и свежие любопытнейшие рассказы заменили надоевшие ему, уговорило старика отправиться в Китай.
Из трех переводчиков, один был для монгольского языка, другой для китайского, третий для латинского, необходимого в сношениях наших с иезуитскими миссионерами. Первый из них, надворный советник Игумнов дожидался нас на китайской границе. Другой был коллежский асессор Владыкин, крещеный киргиз, который, не знаю каким образом, провел несколько лет в Китае, выучился трудному его языку, и потому был определен в Иностранную Коллегию и получал в ней чины. Он мало говорил, много улыбался и почитался у нас не столько человеком, как запасною вещью, необходимою только на границе и за границей. Третий был коллежский асессор Христиан Андреевич Струве, от которого не так легко отделаешься, как от двух предыдущих.
С тех пор, как завелась в России дипломатическая часть, служит в ней фамилия Струве беспрерывно, исключительно; она плодуща и многочисленна, и потому нет у нас почти миссии, к которой не был бы приткнут какой-нибудь Струве. Это целый род общих мест, всё люди самые обыкновенные, никогда выше, никогда ниже посредственности, которых употреблять не бесполезно, слишком возвышать трудно. Из них выродок, то-есть как карлик в семействе людей среднего роста, достался на долю китайскому посольству. Он был, как сухарик, тоненький и крошечный, тих нравом, нежен сердцем, пылок воображением. Путешествие, которое начинал он с нами, было для него не первое в этом роде: лет двенадцать перед этим, находился он в свите Кутузова, когда, после Ясского мира, ездил он послом в Константинополь; восточные обычаи ему уже были известны. Он был тогда еще невинный юноша и любил предаваться мечтаниям, среди коих один раз забрел он в какое-то место, далеко от жилищ, где был встречен наедине неистовым янычаром, который жестоко оскорбил его честь; сие происшествие сильно подействовало на его нервы и навсегда оставило в нём приметную робость. Он с ребячества исполнен был религиозного чувства; на беду его, явились мистические писатели, Сведенборг, Эккартсгаузен и Юнг-Штиллинг; чтение сих авторов, в которое погрузился он, иссушило и без того уже тощий мозг его. Он стал грезить наяву и всем рассказывать, как на Невском Проспекте, среди дня, видел он отца своего, давно уже умершего, в алмазных сапогах; житель другого мира не мог сообщаться с ним языком смертных, а хотел показать ему, что он на пути к вечному блаженству. В Петербурге всё предвещало, что бедный духовидец будет жертвой и забавой ветреной нашей молодежи. Мне одному был он жалок; его простодушие, его детская улыбка, когда изредка бывал он весел, даже неудовольствие, которое показывал он, как ребенок, который дуется и не смеет заплакать, всё располагало меня к состраданию, которого не понимаю как другие не разделяли.
Никакого сожаления не возбуждал во мне другой чудак, также отмеченный еще в Петербурге мелом и назначенный кандидатом в придворные шуты Головкина; этот был зубаст, громогласен и всем так и резал правду. Русский живописец, Андрей Ефимович Мартынов, действительно был чрезвычайно смешон. Он был не без таланта, и хотя он почитал себя выше Рубенса и едва ли не выше Рафаэля, имя его не блестит в художественной нашей летописи, и Академия не гордится его произведениями. Виноват и каюсь: маленькою лестью успел я овладеть им, и когда бывало рассержусь на кого из сильных, то заряжу его своею злостью и из уст его, как из отверстия пистолета, пущу выстрел. Бывало, бесясь, расхохочутся; но впоследствии, замечая, что не всегда он неудачно замахивается, а иногда довольно тяжело умеет ранить, стали реже его дразнить и более остерегаться.
Два рисовальщика, данные ему в помощь, Александров и Васильев, довольно хорошо знали свое дело, но были замечаемы тогда только, когда приносили и показывали свои рисунки. Ни который из них не прославился после в живописи.
Главным медиком при посольстве был Реман, только что прибывший из Германии. Это путешествие и знакомство, которые оно ему доставило, было первым его успехом в России; но и без того имел он всё, чтобы сделать себе в ней имя и состояние: был умен и добр, весел и осторожен, искателен и благороден, а как врач учен и искусен. К счастью, кажется, никто не имел нужды прибегать к его помощи в продолжении нашего странствования, и по окончании его почитался он только приятным собеседником. Известность приобрел он вскоре после того, жил счастливо и умер гражданским генерал-штаб-доктором.
Штаб-лекарь Гарри, англичанин, взятый прямо с корабля и посаженный в посольскую коляску, был молод, красив, молчалив, гораздо серьёзнее Ремана и, также как он, не имел у нас случая показать своего искусства. После того служил он при дворе.
Уф, как я устал, и как бы хотелось скорее кончить сию длинную номенклатуру! Но когда я упомянул даже о фельдъегере Штосе, то как же пропустить графа Ивана Потоцкого, просвещеннейшего и оригинальнейшего из поляков, который по случаю отправления нашего посольства был принят в русскую службу тайным советником? Как не говорить о людях, составлявших у нас ученую часть, которой управление или, лучше сказать, направление, поручено было сему Потоцкому? Он почти столько же, как и старший брат его, граф Северин Осипович, умел науке давать удивительную привлекательность и нас, невежд, заставлял приступать к ней не только без боязни, но и с особенным наслаждением. В исторических и других изысканиях своих был он упорно трудолюбив, как немец, а в заключениях, кои выводил он из своих открытий, легкомыслен, как поляк. Неутомимые его упражнения, беспрестанное напряжение умственных сил, вместе с игривостью самого живого воображения, кажется, были несколько вредны для его рассудка. Говорят, что жемчужины не что иное, как накипь в морских раковинах, их болезнь: так точно и легкое повреждение рассудка у Потоцкого произвело прекрасные перлы, два французские романа. Немногие, кои читали их тогда, дивились их смелой новости; в них был виден и наблюдатель, и мечтатель, и изобретатель, и светский, и ученый человек. Кажется, в них также можно видеть и тип нынешних романов; они, по крайней мере, могли бы служить им образцами: так все безобразные, отвратительные и ужасающие предметы в них скрашены искусством и пристойностью автора.
Странности его были заметны в самом наряде; он был в одно время и небрежен, и чистоплотен, совсем не заботился о покрое платья своего, но всегда был изысканно опрятен. Иногда по недосугам не имел он времени дать обрезать себе волосы, и они почти до плеч у него развевались, как вдруг, в минуту нетерпения, хватал он ножницы и сам стриг их у себя на голове и вкривь и вкось, после чего, разумеется, смешил всех своею прической. В отношении к Головкину, вел он себя отменно прилично, не подавал ему ни малейшего повода к неудовольствию, за то и не баловал излишнею почтительностью. Всегда углубленный в науку, он заслонял себя ею от наших сплетен, хотя и жил посреди их. Он был немного кривобок, и правое плечо было у него выше левого; имел лицо бледное, черты довольно приятные, глаза голубые и, нет в том сомнения, точно помешанные.
Он уже несколько лет был женат на одной из двенадцати или пятнадцати дочерей графа Потоцкого же, Феликса, которого в переводе поляки называли Щенсным, то есть Счастливым, вероятно потому, что он весьма счастливо изменил старому своему отечеству; сыновья же сего Феликса, чтобы загладить его преступление, изменяли новому, а дочери изменяли только мужьям. Ту, которая была за нашим Яном Потоцким, звали Констанция, хотя она была непостоянна, как все польки, ни более, ни менее, и муж любил ее без памяти, хотя она была хромая и хотя она его терпеть не могла, потому что почитала горбатым. Несколько лет спустя после нашего путешествия, она бежала от него с каким-то родственником; но по крайней мере не хотела, подобно другим своим соотечественницам, вмешивать религию в дела распутства, не разводилась с ним и не выходила ни за кого замуж. В отчаянии о её потере он зарезался бритвою.
Профессор астрономии, статский советник Шуберт, почитался в посольстве старшим между своими собратьями. Что мне говорить о его знании? По науке своей он давно уже у нас знаменит и препрославлен; только несколько слов о его наружности и характере. Он был длинный, сухощавый, учтивый, но иногда весьма сердитый и взыскательный старик. С самого начала не полюбился он Головкину и окружавшей его молодежи. Чтоб осадить его гордость, старался посол держать его наравне с другими профессорами, которые и по летам могли бы годиться ему в сыновья. Сам же Шуберт, забывая, что он князь звездочетов, мало дорожил своим достоинством и предпочитал ему светские отличия; он видел в себе генерала, потому что на шляпе имел плюмаж, а на шее сияющий огромный Анненский крест, еще довольно редкий, носящих который простой народ величал тогда превосходительством. При нём официально находился шестнадцатилетний его сынок, ласковый, белокуренький мальчик, ныне седовласый несносный старик, тогда по квартирмейстерской части едва произведенный подпоручик, ныне генерал-квартирмейстер.
Другие профессора, коих было четыре, немного более могли похвалиться расположением к себе посла, и если Шуберт довольно явно ненавидел его, то и они тайком не менее его презирали. И по моему это было бы несправедливо, если б сие чувство с обеих сторон не было взаимное. Презрительное негодование едва было заметно только в Клапроте, и он действительно из них более всех заслуживал уважения. Впоследствии отомстил он посольству маленькою немецкою брошюркой, в которой представил всё безрассудство главных его действующих лиц. Он занимался, кажется, частью историческою и словесною.
Для занятий по части естественной истории посланы были три профессора, Редовский по минералогии, Адамс по зоологии и Панснер по ботанике. Все четверо были ребята довольно молодые; один только Редовский перешел за тридцать лет. Он был прусский поляк, Адамс же русский немец; первый ничего не знал ни по-польски, ни по-русски, другой плохо говорил по-немецки и вообще совсем не похож был на ученого. А еще менее Панснер, невысокий, но плотный, широкоплечий, плосколицый, обжорливый здоровяк, мало говоривший и по-видимому мало думавший и мало занимавшийся до того, что многие сомневались в его знании. Трое, Клапрот, Редовский и Панснер были выписаны из Германии, один только Адамс доморощенный. Примечательнее и приятнее всех мне казался Редовский, человек кроткий, влюбленный в науку, при весьма незавидном здоровье. Он один только не воротился из китайского посольства: на обратном пути он остался в Сибири и за новыми открытиями отправился сначала по Лене в Якутск, а оттуда в Охотск, где и погиб от убийственного его климата.
Под начальством графа Потоцкого и начальником над офицерами свиты по квартирмейстерской части поставлен был полковник Федор Филиппович Довре, полуфранцуз, родом из Брабанта (когда он принадлежал еще Австрии), в первой молодости находившийся в польской службе и перешедший потом из неё в русскую. С отличным образованием и большою опытностью, он умел со всеми быть хорош. Не добр и не зол, но безобразен и не красив, а как умный и ученый, если не великий богач, то по крайней мере достаточный человек, он находился в посольстве, вероятно как и везде, не возбуждая ничего чрезвычайного и не творя ничего отменно замечательного. Никого не обгоняя и не отставая ни от кого, всю жизнь прослужил он в военной службе, бывал в сражениях, и никогда не дал молве ничего сказать о себе. Золотая посредственность, а не просто посредственность была его уделом. Он давно полный генерал, но по глубокой старости, кажется, нигде не употребляется.
Капитан Теслев и четыре подпоручика, Теннер, Иванов, Богданович и Мошинский, даны были в его распоряжение, где будет возможно, для снятия планов в Китае. Все они как будто были выточены по форме, данной генералом Сухтеленом, их начальником и образователем; им отзывалось от них: такое же как и в нём смирение без низости, и ученые сведения без педантства. Чувствительный Иванов рано кончил жизнь самоубийством, а Мошинский пропал для меня без вести. Другие же все генералы, и один из них, Теслев, исправляет должность финляндского генерал-губернатора.
Кажется, конец; но нет, еще не совсем. Какие-то еще две-три фигуры в рясах, как будто сквозь туман являются моей памяти, и между ними немного более явственное лицо двадцатипятилетнего архимандрита Аполлоса, начальника духовной миссии, отправленной с нами для смены прежней, для коей кончился положенный десятилетний срок. Архимандрита, его монахов и студентов мы редко, почти никогда не видели; наши сильные не больно уважали православие: Головкин был реформат, Потоцкий католик, а Байков не принадлежал ни к какой вере. Мне Аполлос казался что-то жалок. Ему не было более двадцати пяти лет от роду, а в отношении к свету это еще младенчество для человека, который никогда не покидал стен Духовной Академии. Если бы молодой монах, при всей неопытности своей, хотя и в другую часть света, в новый для него мир, подобно предшественникам своим, отправлен был обыкновенным путем и порядком, то после десяти лет, созрев в Пекине, он со сведениями, другим мало известными, воротился бы в отечество свое примечательным лицом. Но на его счастье он попался в вертлявое, насмешливое посольство, не был с ним принят и после меня, говорят, наделал каких-то глупостей. Дорого и долго он за них платил; ибо, как я слышал, он и поныне только что архимандритом в каком-то отдаленном монастыре.
Приготовления наши к отъезду были самые веселые и забавные. В нежном попечении о подчиненных, сам посол, разумеется, по-французски, сочинил для них длинную инструкцию, с которой до сих пор храню я копию и в которой предписывает он им разные средства к предохранению себя от великих бедствий, угрожающим им на ужасном пути, им предстоящем. Хотя бы порасспросил он немного сибиряков, чтобы не быть так смешным! Право, можно было подумать, что чрез Нубию и Абиссинию надлежит нам проникнуть во внутренность Африки. Сие творение мудрого его предведения читали мы все и даже переписывали с благоговением.
Исключая военных, всем чинам посольства, какого бы ведомства они ни были, выпросил граф Головкин мундир Иностранной Коллегии, который тогда был очень прост: зеленый с белыми пуговицами и черным бархатным воротником и обшлагами. Он сделал более: он испросил дозволение украсить его богатым серебряным шитьем, которого он тогда еще не имел и, вместо обыкновенных статских шпажек, носить нам форменные военные сабли, на черной лакированной, через плечо носимой, перевязи, с вызолоченными, бронзовыми двуглавым орлом и вензелем императора. В дополнение, вместо шляп даны нам были зеленые фуражки, похожие и на кивер, и на каску, также с прибавкой серебряного шитья. Как хотелось сим нарядом щегольнуть нам в Петербурге! Но как театральный костюм, имели мы право надеть его только при выходе на сцену, то есть при выезде за заставу.
Мои занятия в Петербурге при посольстве были довольно маловажны: они ограничивались еженедельным дежурством в зале (она же и канцелярия) посла, которая служила входом прямо в его кабинет. От переписки бумаг уклонялся я не от лени, а во-первых потому, что из моих товарищей только три плебейские фигуры, Карнеев, Юни и Клемент, были на то посвящены, и потому во-вторых, что сие поставило бы меня в зависимость или от Байкова, который мне казался нестерпим, или от Доброславского, который был мне жалко-смешон. Вместе с патрициями Перовским и Тепловым старался я всё становиться в ряд величаво-праздных камер-юнкеров и лез прямо к послу. Не знаю, худо ли, хорошо ли я делал, что не скрывал отвращения своего от Байкова. Если б я более умел владеть собою, то, может быть, он меня бы полюбил, зато сделался бы со мною фамильярен и стал бы повелевать. Но он возненавидел меня; не смею сказать, чтоб он боялся меня, но по крайней мере не позволял себе ни малейшей неучтивости; был только что холоден и тайком только против меня одного старался возбуждать посла. Что же вышло из того? Правда, я один только сделался предметом если не гонений, то частых придирок и нападок. Например, если я опоздаю на дежурство или по болезни не могу на него явиться, то именем Головкина посылается доктор Реман меня свидетельствовать; иногда какое нибудь нескромное слово мое перетолковывается Байковым. За тем обыкновенно следовали наедине личные объяснения с послом; я их не боялся: я уже знал как обходиться с французами; маленькая лесть, всунутая в оправдание, тотчас обезоруживала его, и дела мои шли потом лучше прежнего. Байкову никак не удалось тогда почать меня.
От дел посольства перейду я на несколько строк к семейным делам моим. Как будто мне на смену, прибыл брат мой Павел, старший и отставной. Он не долго им оставался, ибо следующим летом опять вступил в проклятый провиантский штат. Он остановился у меня, и нам втроем с Загоскиным было немного тесненько. Тут надобно сказать, что и с сим последним сделалось: по протекции Злобина, когда впрочем никакой протекции на то не было нужно, определили его в канцелярию государственного казначея Голубцова, и мне казалось, что канцелярские занятия и ему не совсем по сердцу.
Другой брат мой, Николай, ожидал тогда быть отцом. Женатые люди, кои не имеют высоких чинов, редко остаются в военной службе, особливо когда нет войны. Неудобные помещения в маленьких городах, иногда в бедных селениях, частые переходы делают для семейств их жизнь весьма тягостною. Брат мой подал в отставку и был уволен с чином подполковника. В тоже время (2 марта 1805 года) жена родила ему сына, которому в честь родителя моего, конечно уже не мне, дано было имя Филиппа. Супруги были довольно молоды, чтобы надеяться видеть его большим; но им не суждено было испытать великих горестей и радостей родительских. Пробыв несколько месяцев в Воронеже, они к концу лета приехали на житье в Пензу.
От сего города не слишком далеко пролегала дорога в Сибирь. Я улучил удобную минуту, чтобы, мимо Байкова, выпросить у графа Головкина дозволение отправиться сперва одному для прощания с родителями, а потом уже в Казани дожидаться прибытия посольства. В разговорах с глазу на глаз, посол всегда был ко мне весьма снисходителен. И так 21 мая, благословись, отправился я в дальний свой путь.
VIII
Москва 1805. — Казань. — Мансуровы. — Юшковы. — Есиповы.
После отъезда моего из Петербурга, несколько времени еще длилось в нём очарование, в котором близ пяти лет находилась вся земля Русская и которое неоднократно усиливался я изобразить. Но уже приближался конец блаженного времени, того незабвенного пятилетия, которое не для меня одного быстро просияло, как один только веселый, ясный, праздничный день. Пока я странствовал среди отдаленнейших населений России, происходила в ней ощутительная перемена, и наступала вторая эпоха царствования Александра. Когда, после кратковременного отсутствия, водворился я в счастливое дотоле мое отечество, то многое в нём изменилось; поколебалась вера в его несокрушимость; на долго, может быть, на всегда нарушены взаимные любовь и доверенность царя и народа.
Здесь должен я проститься с мечтами моей молодости, хотя она тогда была еще во всей силе первого цвета; здесь позволю я себе взглянут на Европу, то есть на Францию, начинавшую в ней владычествовать, на Францию, источник наших зол, на эту Францию, на которую смотрел я доселе только что с удовольствием, как на модную лавку или на книжный магазин.
Бонапарте, отныне император Наполеон, еще и без сего титула спокойно в ней царствовал. Когда ступени сооружаемого им престола обагрил он кровью Бурбона, то более всех русский двор изъявил негодование. Екатерининский Марков находился тогда в Париже; он думал, что он в Варшаве и имеет дело с польским сеймом, и поведением своим ускорил разрыв; но от разрыва до войны еще не близко. В ответ на упреки и угрозы европейских государей, надел на себя Наполеон и лавровый венец Кесарей и Августов, и железную корону Карла Великого; таким образом всемирно объявлял он притязания свои на равное им владычество и, несмотря на тысячелетнюю давность, во второй раз хотел воскресить Западную империю.
Между тем Англия хотела в этом видеть одно только неосторожное его тщеславие и, замечая сколь жестоко тем оскорбляются права Австрийской империи, так смирно и не страшно носящей название Римской, она старалась возбудить не только ее одну к войне, но посредством преданных ей министров и отдаленную Россию. Все эти тайны кабинетов были неизвестны публике, мне кажется более от того, что она ими мало занималась, и при отъезде моем ничто не предвещало еще скорого поднятия оружия.
С беспечностью силы (как столь удачно выразился певец двенадцатого года) смотрела Россия на грозные тучи, собирающиеся на Западе. Она измеряла пространство, от бурных мест ее отделяющее, помнила Суворова и Нови, помнила, как один её батальон восстановлял Неаполитанское королевство, и думала, что всегда будет время унять затейника. Но когда блеснуло перед ней кровавое солнце Аустерлица, она изумилась, не скрыла своего неудовольствия и тем возбудила его и без того уже в охладевшей, к ней душе Императора.
От величественного и печального зрелища, на которое указал я здесь, скорее перекидываюсь в телегу, в которой так радостно мчался я по Московской дороге. Много мне было с нею хлопот, от необыкновенной её постройки более из прутьев, чем из дерева. Это была просто польская бричка, за дешевую цену добытая мною в Петербурге, длинная, укладистая и легкая. К несчастью, я первый показал такого рода экипаж; она новостью своею удивляла ямщиков и огромностью пугала их; называли ее то баней, то амбаром; они верить не хотели, чтобы, не уморив тройки, можно было ее везти. Тщетно в их присутствии, вместе с слугою моим, употребляя легкое усилие, приводил я ее в движение: они предполагали тут особенную какую нибудь уловку или колдовство, и я уверен в том, что если б я не имел подорожной по казенной надобности, то мне решительно отказали бы в требуемом мною числе лошадей.
Москву нашел я столь же полною жителей как и зимой. В конце мая дворяне не слишком торопились в свои подмосковные: любили тогда повеселиться и от столичного шума не очень спешили к сельской тишине. К тому же, большая часть помещиков, в Москве живущих, мало была знакома с мелочною роскошью и долгами: им не нужно было две трети года жить нищенски в деревне, чтобы три месяца поблистать в ней зимой наравне с другими.
Одевшись в нарядный свой костюм, спешил я в нём явиться к начальнику столицы, Беклешову, и когда он не обратил на него никакого внимания, то мне стало очень обидно. «Мне теперь некогда с тобой много толковать, — сказал мне сей старый друг отца моего, — а приезжай-ка сегодня обедать: тогда поговорим». Я надеялся, что за столом будет что-нибудь более лестное для моего самолюбия; но и тут ошибся: старики мало удостаивали молодых своими разговорами, и всё ограничилось двумя-тремя маловажными вопросами. Мне было предосадно, и разумеется, после того я его не видел: видно, что я начинал уже идти за веком.
Несмотря на то, я не оставил однако же, чтобы не побывать у других довольно важных лиц и был счастливее. Москвичи на всё курьезное смотрят с любопытством и удовольствием и меня не оставили без замечания. Между прочим, посетил я и прежнего своего начальника, Бантыш-Каменского, который принял меня очень ласково, пригласил обедать и предложил мне наведываться в архив для прочтения весьма важных документов, относящихся к прежним китайским посольствам. Мне было не до того, мне хотелось нагуляться в Москве; впрочем если б и была охота заняться, то не достало бы на то времени. Раза два побывал я в архиве и довольно рассеянно пробежал данные мне бумаги, что весьма не полюбилось Николаю Николаевичу и, кажется, не возвысило меня в его мнении.
Я всего пробыл тогда с неделю в Москве и жид почти за городом, остановившись у зятя и сестры в Крутицких казармах, где для начальника выстроены были вновь прекрасные деревянные хоромы в два жилья, с прекрасным видом на Москву-реку. Добрейшая моя чета пользовалась в это время всем возможным на свете счастьем. Граф Салтыков купил для бывшего, любимого своего адъютанта хорошенькую, прибыльную подмосковную; безбедное состояние, молодость, здоровье, спокойная совесть, совершенное между собою согласие, всеобщая любовь, миленькие, подрастающие сынки, всё это делало существование их завидным, всё украшалось для них цветами. Увы, терние были впереди, и близко! И сколько таких гнезд разрушено было потом западными вихрями!
В первый раз увидел я с удовольствием Пензу. В ней никого почти не было, кроме моего семейства: исключая служащих, все разъехались по деревням, а собираться на ярмарку еще было не время. Беспокойства моей матери насчет опасностей, которые, по её мнению, мне предстояли, радость моего отца, который наконец начинал во мне видеть что-то дельное, умножали, если возможно, их нежность ко мне, а меня делали совершенно счастливым. Окруженный одними родными, приятелями и приверженцами отца моего, я вполне насладился удовольствием быть так искренно любимым и, хотя на малое время, мог обрести рай среди самого пензенского ада. Но приятное никогда не бывает продолжительно: отпраздновав самым веселым образом, в селе нашем Симбухине, день рождения отца моего, 12 июня, чрез несколько дней надобно было думать о разлуке. Медлить было невозможно, ибо с первых чисел июня посольство должно было отделениями начать отправляться в путь; а как распоряжения сделаны были после меня, то я и не знал, к которому принадлежу.
Снаряжая меня в дорогу, не одними деньгами снабдили меня родители, но и многими нужными для меня вещами; сверх того, отняли у себя необходимого почти для них крепостного человека, берейтора Гаврилу Олисова, и дали мне в услужение на всё время моего странствования. Мать и сестры со слезами расстались со мною 17 июня у заставы, а до первого уездного городка, в сорока верстах от Пензы находящегося, взялся меня проводить г. де-Руссель.
За это доброе дело и за доброе ко мне расположение обязан я, кажется, заплатить ему какою-нибудь услугой и думаю, что сделаю сие, передав имя его потомству, если только мое до него дойдет. До первого еще открытия Пензенской губернии, был он нарочно выписан из Франции, чтобы быть учителем в доме воеводы Чемесова; но как и через кого, этого я не ведаю. Нет сомнения, что из соотечественников своих он первый явился в Пензе, и потому-то не диво, что он в ней дивом казался. Кажется, он был простой селянин (как сие произношением его доказывалось), но сметливый, предприимчивый и кое-как выучившийся грамоте, и Россия своим варварством не столько испугала его, как приманила. Когда он прибыл в нее, то почти никого не нашел с кем бы говорить на природном языке, и чтоб учить по-французски, должен был сам наперед выучиться по-русски: таким образом Руссель совсем обрусел. Он был молод и дюж и, говорят, имел довольно прибыльные любовные успехи. Когда он поднакопил несколько денег, то взялся за ум, то есть принялся за торговлю; и как он был добр, честен и внушал к себе доверенность, то скоро и нажился. Только то странно, что когда он сделался русским купцом и из Жан Жозефа переименовал себя в Иваны Осиповичи, то к простому имени своему вздумал прибавить французское благородное де. Наконец, в звании приказчика управлял он винным откупом в Городище, куда он провожал меня и где он имел дом лучше и опрятнее других. Никакая русская барышня в старину не пошла бы за иностранца, учителя или купца, и потому де-Руссель должен был удовольствоваться супружеством с немкой-колонисткой, с которою и имел уже взрослых сыновей. Всё это: он сам, нажитое имение и прижитое семейство как-то вдруг исчезло, всё осталось, всё легло в земле русской.
Рано поутру оставил я Городище и простился с добрым Иваном Осиповичем, который в ном угостил и успокоил меня. Дорога из Пензы в Симбирск самая безмолвная, самая уединенная, как все дороги в России, кои, далеко от столиц и в стороне от больших трактов, служат только соединением двух губернских городов. От Городища я проехал верст полтораста, во весь день не встретив более двух или трех крестьянских телег. На всём этом протяжении, не слишком широкий путь лежал мне через лес, и я смотрел на небо сквозь продолговатое, узкое отверстие. Лишь только переедешь за Суру, начинаются вековые дубравы, через кои некогда без имени она протекала; долго, почти до половины прошедшего столетия секира не нарушала их молчания, и под тенью их пять зимних месяцев накопившиеся снега, тая три летних, питали её воды и весь год делали ее судоходною. Берега сей реки, ныне речки, начинали уже обнажаться; но когда в это время проезжал я бесконечный Засурский лес, кажется, что хищная рука форштмейстеров не проникала еще в глубину его священного мрака, не вырубался он для варения хмельного напитка, развратителя русского народа, не редел он от мотовства распутных дворянских наследников, ныне в один день целые десятины его поглощающих, и явился мне во всём своем величии.
Одни чувствуют, другие чувствуют и умеют выражаться. Я принадлежал к числу первых и потому с восторгом, года полтора спустя, прочитал я в Шатобриане описание своих ощущений. Всё, что говорит он о пустынных лесах Америки, могло относиться тогда и к Засурскому; то же шумное молчание, те же невнятные звуки, неведомо откуда выходящие, тот же благоуханной влагой умеряемый жар. Жужжание миллиардов невидимых насекомых, щебетанье и чирикание миллионов птиц, перескакивание белок, трепетанье и чоканье ветвей, хрустенье листьев и хвороста под ногами идущего зверя, всё сливалось в один тихий гул, всё бору давало голос, как говорит Шатобриан. Могли же близко тут быть волки, медведи, а мне и в голову не приходило бояться: так был я очарован, так всё окружающее меня казалось мне спокойно, торжественно, хвалебно.
Прелестное в мире всегда бывает и опасно: Засурский лес не одних лютых зверей скрывал тогда в своей чаще, но и недобрых людей. Это узнал я, когда, выехав из него в открытые места и подъезжая к одному уездному городу, заметил множество расставленных пикетов. В этом городе, который не знаю почему назван Корсунем (когда он ничего не имеет общего с Херсоном и Херсонисом) бывает одна из многолюднейших ярмарок в России, и на везущих на нее товары делались еще из сего леса частые нападения. Несмотря на средства к обогащению, Корсунь столь же мало представляет примечательного как и другой городок, Тагай, который я в тот же день проехал.
Мне не судьба была видеть Симбирск. Я подъезжал к нему ночью; перед рассветом пошел проливной дождь, от которого защитился я всеми застежками моей брички, и не смел из неё выглянуть: таким образом приехал я на весьма незавидный почтовый двор. Я спешил ехать, дождь не унимался, и я выехал из Симбирска так же укрытый, как и въехал в него.
В нескольких верстах от Симбирска погода разгулялась, и небо опять просияло, но вскоре потом сокрылось от глаз моих; крепкий сон одолел меня, и я проспал почти до самого вечера. Выехав из одной грязной деревни, где должен я был починить колесо, где поел и напился чаю, узнал я, что зовут ее город Буинск. На другой день часу в десятом утра приехал я в Услон, деревню в семи верстах от Казани, на превысоком и прекрутом берегу Волги лежащую. Тут в первый раз увидел я издали нашу татарскую столицу и у ног моих царицу рек в настоящей красе её. Я говорю в настоящей, а не в полной, ибо она возвратилась уже из ежегодного посещения, которое она делает Казани и вошла в берега свои. Но и тут переправа через нее была продолжительна и мне показалась опасна. Ровно в двенадцать часов 21 июня приехал я в Казань.
Я из Петербурга имел письмо к одному молодому человеку от отца его, богатого купца Василия Васильевича Евреинова, который в столице хлопотал по делам своим, видел мена у Злобина и предложил остановиться в собственном его казанском доме. Этот дом находился близ крепости, против Гостиного двора, на самой главной улице, которой имя я теперь забыл. Я прямо туда въехал, но мне сказали, что молодой хозяин кому-то дом свой отдал на лето, а сам живет за городом на мыльном заводе. Куда мне было деваться? Мне рядом указали на немецкий трактир.
Хозяином его был Иван Иваныч Шварц; столь же пошлое имя между немцами, как Смирнов и Попов между русскими. Мне всё в нём показалось шварц, и рожа, и душа, и я, кажется, не ошибся. Нельзя себе представить, как немцы в старину у нас бывали дерзки! По всему было видно, что этот человек из простых мужиков; он был грубиян и плут, с проезжими обходился невежливо и драл с них без милосердия, а у него останавливалось и ему покровительствовало губернское начальство; за то, разумеется, и с ним был он почтителен и угодлив. Приезжие из уездов и соседних губерний в это время скупились и стыдились жить в гостиницах; а родные и знакомые, преследуя своим гостеприимством, их до того не допускали. Одна только необходимость заставляла никому незнакомых людей, как и я, селиться в единственном заезжем доме сего большего города; и потому-то Шварц вымещал на них свои недоборы и видел в них беззащитные жертвы своей алчности. Он был не простой трактирщик, а вместе с тем и содержатель клуба или благородного собрания: оно помещалось в сем же самом доме и имело пребольшую залу, в которой по зимам танцевали.
Как от публичного лица в Казани, надеялся я от г. Шварца узнать что-нибудь на счет проезда чиновников посольства. Он мне отвечал, что мало о том заботится, но слышал однако же, что какие-то посольские обозы проходили через Казань. Устав от дороги, я после обеда лег отдохнуть, а слугу своего послал между тем поразведать о том в городе. Он ходил не даром и к вечеру пришел мне сказать, что улицы через две от нашего жилища, один купеческий, пустой, просторный, каменный дом отведен под постой для посольства, что все принадлежащие к нему в нём останавливаются и что даже в это время наполнен он приезжими.
Рано поутру на другой день пошел я туда и нашел Шуберта с сыном, Довре со всеми его офицерами и лекаря Гарри. Мы дотоле были мало знакомы, но, как будто на чужой стороне, встретились дружески. Вот что узнал я от них: чтобы не иметь затруднения в лошадях, граф Головкин разделил весь наш поезд на десять, не помню, на двенадцать отделений, отправляя их через три или четыре дня одно после другого. Граф Потоцкий с четырьмя профессорами открывал шествие; за нам следовала духовная миссия; Шуберт и Довре составляли третье отделение. В следующих за тем отделениях, каждое под управлением которого нибудь из не столь важных чиновников, Осипова, Алексеева, Корнеева и других, везены были все тяжести посольства: богатые подарки императору и его двору, палатки на всякий случай, множество дорожной складной мебели, большой казенный серебряный сервиз для нашего употребления, и мало ли чего, между прочим целый оркестр музыкантов. Всю эту истинно царскую помпу заключал посол со штатом своим и канцелярией. Меня к тому Байков не допустил, а приписал к предпоследнему отделению, коим заправлял камер-юнкер Нелидов. Следственно долго еще мне было дожидаться своей очереди, и мне предстояло довольно времени, чтоб изучить Казань и соскучиться в ней.
Любезные мои товарищи приглашали меня уместиться с ними, но сего предложения я принять не мог. Правда, дом снаружи и внутри был очень хорошо выбелен, за то более уже не спрашивай: ни зеркальца, ни занавески; две, много три дощатые кровати и несколько больших столов из простого дерева составляли всю его меблировку. Старику Шуберту отвели уголок попокойнее; прочие же жили с неприхотливостью совершенно-военною; каждая комната была в одно время и спальня, и столовая, и чертежная, ибо столы были покрыты планами и рисунками, и все спали, кажется, вповалку.
Погуляв по городу, прежде нежели возвратился я домой, зашел я в дом Евреинова, чтоб узнать, каким образом могу я сыну доставить письмо данное мне отцом. Я взошел по лестнице; не встретив никого в передней и пройдя первую большую комнату, во второй нашел я сидящих три дамы: одну старую и двух молодых; я извинился перед ними в своей нескромности и объяснил причину моего внезапного посещения; они просили меня сесть, и знакомство сделалось у нас очень скоро. Пожилая барыня была Анна Давыдовна Кикина, урожденная Панчулидзева, сестра весьма известного в наших местах Саратовского вице-губернатора; другие же две были её дочери, одна замужняя и одна девица. Муж старшей дочери, служащий в провиантском штате подполковник Шеварев, находился в каком-то свойстве с Евреиновыми и жил тут у них даром. Ничего не могло быть благосклоннее моих новых знакомок; они взяли у меня письмо к хозяину дома и, как приближался обеденный час, то есть было более двенадцати часов полудня, пригласили с собой обедать. Вскоре пришел и зять госпожи Никиной, и мы сели за стол. Анна Давыдовна должна была смолоду быть очень хороша собою: Грузинские правильные черты сочетались на лице её с белизною северных женщин; в ней виден был тот природный ум, который угадывает законы общежития; старшая дочь её. Шеварева, была хороша и глупа, меньшая дурна и ума самого приятного; о зяте не стоит говорить. Я чрезвычайно обрадовался сему первому нечаянному знакомству. Пенза, которая от Казани отделена одною только Симбирской губернией, тогда почти столь же мало имела с ней сношений, как с Гамбургом, и потому из неё я ни к кому не мог быть адресован.
Тот же день, в сумерки, приехал ко мне получивший уже письмо от отца своего, Иван Васильевич Евреинов и стал убедительно просить меня переехать к нему на завод, который хотя и находился в двух с половиною верстах от места моего жительства, но был смежен с городом. Для пешехода расстояние ужасное! Возражения мои победил он обещанием дать к полное распоряжение мое легонькие дрожки с парою борзых, отчаянных коней, которые, по моему велению, в один миг вихрем будут переносить меня куда угодно. Против этого устоять я не мог; нервы у меня не были расстроены, я не был таким трусом как ныне, и скакать мне казалось блаженством. Уже было поздно, и мы положили, что перенесение мое совершится в следующее утро.
Три чистые, покойные комнаты, которые сам он занимал, уступил мне хозяин мой и перешел на отцовскую половину. Он был человек лет двадцати пяти; высокий, сухощавый и смуглый, добрый и степенный, своею бережливостью, расчётливостью, трудами беспрестанно поправлявший дела отца своего, которого предприимчивость часто грозила им разорением. Я начал жить на всём готовом, но скучая уединением, вел себя весьма нескромно, целый день разъезжал и возвращался домой только что обедать и ночевать. А добрый мой хозяин хотя бы взглядом упрекнул меня за невнимание к нему. Не понимаю, из чего он бился? И говоря языком нынешнего века, спрашиваю у себя, на какую потребу был ему молодой человек, которого он дотоле вовсе не знал и в это время мало видел? Да так просто, представился случай одолжить, а такие люди ни за что его не пропустят. Если он ожидал благодарности, то и в этом ошибся; ибо вскоре потом забыл я одолжение его, и его самого, и только теперь с чувством о том вспоминаю. Пусть ныне поищут подобных ему людей!
Житье в Казани для свитских офицеров было еще приятнее; жители её носили их на руках; не довольствуясь каждый день звать их обедать, они посылали к ним на дом множество съестного, сухарей, кренделей, пирогов, пирожков и тому подобное. Эти господа не без сожаления расставались с сим городом, и дабы сделать меня участником и преемником изобилия, в коим они находились, полковник Довре, накануне отъезда своего, повез меня в некоторые из тех домов, с коими успел познакомиться.
Между прочим заехали мы к одному члену Военной Коллегии, генерал-майору Петру Дмитриевичу Бестужеву-Рюмину, который находился тут на следствии по одному пустому делу в провиантской комиссии; он давно его кончил, но медлил отъездом, чтобы продлить приятную для него роль ревизора. Он прежде того был адъютантом у Наследника и вместе с тем шпионом, приставленным к нему Павлом Первым, о чём Император узнал по восшествии на престол; разумеется, что он его при себе не оставил, однако же и не почел его достойным своей мести. Это был препустейший человек в мире, который тщетно силился придать себе какую-то важность: природа и обстоятельства тому препятствовали. Он нахальным образом поселился в доме у губернатора, который тогда был в отсутствии, и без его ведома, на его счет, приказывал готовить себе кушанье и даже на сии обеды звал гостей.
Пока мы с ним разговаривали, приехал губернатор из дороги, и наморщась, весь запыленный, вошел в комнату. Бестужев встретил его как ни в чём не бывало, а мы с Довре натурально ему представились. Он, как умел, нас приветствовал и пригласил на другой день обедать. Довре, поблагодари, извинился отъездом.
Этот губернатор, Борис Александрович Мансуров, был человек вдовый, довольно пожилой, отменно добрый, до губернаторства находившийся всё в военной службе. Не знаю почему искал я в нём сходства с отцом моим, но кроме доброты и честности никакого не находил; вообще он был очень любим, но мало уважаем, что происходило от вредной для власти со всеми фамильярности. Дня в два мы коротко с ним познакомились, и он успел уже мне жаловаться на бесстыдство Бестужева, который мало что без его приглашения живет в его доме, но и позволяет себе в нём хозяйничать.
Видно, я казался ему менее тягостным, ибо он признался мне, что более для того желает выжить Бестужева, чтобы меня поместить у себя. Дело было трудное, едва ли возможное, и потому губернатор придумал другое средство, чтобы приблизить меня к себе. В Казани было два брата, Порфирий и Христофор Львовичи Молоствовы, весьма богатые и уважаемые помещики, которые летом жили в деревне. С ними, и особенно с первым, жил Мансуров в тесной дружбе. Дом сего Порфирия Молоствова находился напротив губернаторского, и располагая им как собственным, он предложил мне занять в ном две-три комнаты. Он был не слишком веселого нрава, но любил веселость и молодежь, и ею окружал себя. В числе его приближенных находился, по моему, тогда не совсем молодой человек, Андрей Андреевич Нечаев, шурин Молоствова, который также жил в сем доме и которому поручил он угощать меня.
О перемещения своем гордо возвестил я Евреинову, как будто об освобождении от плена. Добродушие сего почтенного человека заставило его думать, что он чем-нибудь не угодил мне, оскорбил меня: он начал извиняться; тогда я почувствовал что-то похожее на угрызение совести и первыми ласковыми словами спешил его успокоить.
Тут началась для меня самая веселая жизнь, в холостой губернаторской компании, так что я не имел никакой нужды ездить в те дома, куда Довре возил меня знакомить и которые летом никогда, или по крайней мере на короткое время, расставались с городом. Примечательны были только два семейства, коим я был представлен и коих, в свою очередь, не излишним считаю представить здесь читателю.
Отставной сенатор, Федор Федорович Желтухин, жил тогда в Казани. При Екатерине был он вятским губернатором. Жителей сей губернии, почти всё казенных крестьян, управляющие оною, кажется, и поныне почитают своими собственными; видно, что г. Желтухин слишком сильно в том убедился, ибо его призвали к ответу в Петербург. Суд продолжался, медлил приговором, а покамест теснил обвиненного и всё высосанное им мало-помалу из него выжимал. Наступило грозное царствование Павла, и Желтухин решился на отчаянное средство. Он явился в приемный день у генерал-прокурора с запечатанным огромным пакетом в руках. В коротких словах изобразил он унижение, в котором находится, унижение, которое терпит, и при всех просил тщательно рассмотреть заключенные в пакете бумаги, которые по его уверению послужат к совершенному его оправданию. Вельможа, которого благодарность не позволяет мне назвать, довольно рассеянно приказал секретарю принять пакет из рук его и отнести к себе в кабинет. Там наедине принялся он рассматривать документы и насчитал, говорят, до ста тысяч неоспоримых доказательств в его пользу; вытребовал дело, доложил Императору, и через два дня Желтухин из подсудимого в Сенате пересел в судящие. Тут поспешил он вознаградить себя за понесенные убытки и сделал хорошо, ибо при Павле, как известно, даже на неподвижном месте сенатора никто долго усидеть не мог. Он был отставлен и выслан из столицы.
Сей почтенный человек был не любящ, не любезен и не любим. Жил он уединенно, посещали его немногие; но при встречах все оказывали ему те знаки уважения, в которых тогда летам и званию отказывать было не позволено. Когда Довре привез меня к нему, он поблагодарил и его, и меня. Брат его Алексей Федорович, о коем мимоходом я упомянул, был городничим в Саранске и находился под начальством отца моего; это одно уже располагало его быть со мною ласковым, и дня два спустя прислал он звать меня обедать. Этого обеда я не забуду. Я не говорю о столе, который мог быть очень хорош или очень дурен, я не мог судить о том, ибо всё, что у меня было перед глазами, отнимало у меня аппетит. Нас было только четверо: хозяин с женою и дочерью, да я четвертый. Никогда, ни прежде, ни после не встречал я лиц, более выражающих злобу, как лица обоих супругов, Федора Федоровича и Анны Николаевны, урожденной Мельгуновой. Между тем привычная улыбка не покидала их уст, но в ней было что-то презрительное и злорадное, (с такою улыбкою убивают врага), и она становилась нежнее, когда только взоры супругов, созданных друг для друга, встречались между собою. Разговор со мною хозяина был вежливый, совсем не глупый, но весьма обыкновенный; видно, что в приглашении меня последовал он только принятому обычаю. А я охотно бы избавил его от того. Худоба, бледность и вечный трепет слуг, глубокая печаль и страхи, изображенные на чертах замужней, разводной его дочери Каховской[91], молчание её и потупленные взоры, всё мне показывало, что я нахожусь в царстве ужаса, как городская молва вслед за тем мне подтвердила. Вставши от стола, я спешил вон, и к счастью меня не удерживали. Выходя из сего дома, мне пришла смешная мысль сравнивать себя с Даниилом, когда по милосердию Божию он исходил невредим из львиной ямы.
Другое семейство, с которым меня познакомили, также слыло немного добрее Желтухиных, но по крайней мере не посетители его могли на то жаловаться.
У Ивана Осиповича и Натальи Ипатовны Юшковых было пять сыновей и столько же дочерей, от сорока лет до пятнадцати и ниже; и это было менее половины нарожденных ими детей; большую же половину они похоронили. Только у нас в России, и то в старину, смотрели без удивления на такое плодородие семейств, коим более принадлежит название рода или племени. Никуда так охотно не стекаются гости как в те дома, где между хозяевами можно встретить оба пола и все возрасты. Вот почему дом Юшковых почитался и был действительно одним из самых веселых в Казани. Старшие сыновья служили в Преображенском полку; двое из них, один недавно вышедший в отставку, а другой по болезни в отпуску, находились тогда при родителях и помогали им принимать гостей.
Не в столь веселый, но более приятный дом повез меня губернатор Мансуров: ко вдове одного из предместников своих, князя Семена Михайловича Баратаева, матери пяти красавиц. Одну из них и, как уверяли меня, самую прелестную, я не нашел: смерть похитила ее у семейства за месяц до моего приезда. Черное платье и печальный вид делали еще трогательнее красоту четырех оставшихся. Без блестящего воспитания, без малейшего кокетства, все они были привлекательны, и как ни хороши были собою, поговорив с ними немного, можно было почувствовать, что наружность их только красивый футляр, вмещающий в себе нечто более драгоценное, ангельскую душу. Как мать, так и дочери, были приветливы и скромны, и всё в доме сем показывало благочестие и пристойность.
Как бы мне не позабыть пару добрых людей, которые сами старались со мной познакомиться: старика коменданта, генерал-майора Кастелли и жену его Софью Васильевну, урожденную Нелюбову. С итальянским прозванием, был он простой русский солдат, не знал никакого иностранного языка и даже походом Суворова в Италию, в котором находился, не умел воспользоваться, чтобы выучиться по-итальянски. Жена его имела недостаток, дурную привычку (пороком, право, назвать грешно) всё рассказываемое преувеличивать. Примечательно, что в ней это было врожденное, общее со всеми членами её семейства; братья, сестры, все без красного словца ступить не могли. Из них я помню одну, генеральшу Елизавету Васильевну Репнинскую, которую знавал я в Киеве, и артиллерийского генерала Василия Васильевича Нелюбова, которые искусство сие доводили до совершенства; и он сам, бывало, шутя говорил: «Нелюбова не слушай, а лгать не мешай». Добродушие казанцев не дозволяло им оспаривать госпожу Кастелли, ни поднимать ее на смех.
Не знаю, что мне сказать об обществе, в котором я жил. Молодых людей, служащих и не служащих, окружавших тогда губернатора, всех до одного я помню; но сделаю будто их перезабыл, потому что, право, они того стоят: ни одного порока, ни одной доблести. Каковы были они, таково было казанское общество, или по крайней мере та часть его, которую в трехнедельное пребывание успел я узнать. А между тем собирались, разговаривали без умолку, толковали, а о чём? Бог весть, хотя бы о собаках или об урожае. Ан нет! ни пересудов и злословия, ни политики, ни литературы, а так какой-нибудь вздор взбредет, не на ум, который тут не вмешивался, а на язык, и как на жернове начнет перемалываться. Однако же не худо ли я делаю, что почти с пренебрежением говорю о том, что меня самого тешило и тогда как я сам всё зря говорил? Вспоминая вечные претензии, вечную клевету, грубые, иногда язвительные шутки пензенские, я как будто успокаивался веселым, безвинным казанским пустословием.
Новорожденный Казанский Университет видел я в пеленках. Кончились первые его экзамены, и я присутствовал на торжественном акте, когда призы раздавались студентам. Строение было довольно обширно, не то что после, когда его распространили; что ныне нет ни одной гимназии, которой публичные испытания не представляли бы зрелища, более уважения возбуждающего. Чтобы дать понятие о степени младенческого его ничтожества, скажу только, что Яковкин был его ректором.
Дважды пламя пожирало Казань, после того как я был в сем городе, и он, говорят, в новой красоте подымался из развалин. С тех пор как я его видел, должен был он перемениться, и может быть теперь я не узнал бы его. Но и тогда, по населению, по числу и прочности зданий, если не по красоте, мог он действительно почитаться третьим русским городом: ибо Рига немецкий, Вильно польский, а Одесса вавилонский город. Сначала ожидал и искал я в Казани азиатской физиономии, но везде передо мной подымались купола с крестами, и только издали глаза мои открыли потом минареты. Казань, сколько могла, старалась рабски всё перенимать у победительницы своей, Москвы; в шестнадцатом и семнадцатом столетии Россия повелительно, а не всепокорно делала завоевания, как в восемнадцатом и девятнадцатом веке. Не знаю почему госпожа Сталь называла Москву татарским Римом; гораздо справедливее и основательнее можно было назвать Казань татарскою Москвой: также кремль, также древние соборы и храмы, в одном стиле и современные московским церквам, ибо новое зодчество началось у нас при обоих Иоаннах. Купцы, чиновнички и мелкие дворяне, также как в Москве за Москвой-рекой и за Яузой, жили здесь за Казанкой и за Булаком. Сплошное каменное строение было при мне только по Большой улице и вокруг так называемого Черного озера; тут были все публичные здания, торговля, и жило лучшее дворянство; в других кварталах каменное строение мешалось с деревянным.
На самых окраинах города поселены были первобытные жители Казани, побежденное племя татарское. Там только, когда я жил на заводе Евреинова, мог я часто их встречать. Я заходил в их мечети и безвозбранно смотрел на их моление. Я любил их смелый, откровенный взгляд, их доверчивый характер; одной храбрости русских они бы не уступили, но хитрость и соединенные силы их задавили. Примечательно, что хотя они народ торговый, а никто из них не богатеет подобно русским купцам, которые в глазах их делаются миллионерами; стало быть и в оборотливости наши их превзошли. Из их древностей видел я только в крепости какие-то переходы, бывшие при царице Сумбеке и носящие её имя. В окрестностях Казани посетил я один только весьма не замечательный Хижицкий монастырь, место погребения богатых людей, куда ежегодно бывает крестный ход из собора.
Внутренность виденных мною домов богатством и обширностью мало разнствовали от пензенских; только я заметил, что бумажные обои продолжали здесь быть в употреблении, когда в Москве и даже Пензе они совсем были брошены. Один только губернаторский казенный дом, не знаю у кого купленный, великолепием превосходил другие; к украшению его много послужила китайская торговля. Большая гостиная была обита шелковою материей, по которой в китайском вкусе очень пестро разрисованы были цветы и листья; в диванной стены были настоящие китайские, разноцветные, лакированные, и на них были выпуклые фигуры, как будто из финифти.
Был также в Казани и театр, пребольшущий, деревянный, посреди одной из её площадей; но летом на нём не играли. Содержатель его, Петр Васильевич Есипов, был один из тех русских дворян, ушибенных театром, которые им же потом лечились. Он жил тогда в деревне, я думаю, единственной, ему оставшейся, верстах в сорока от Казани, и с самого приезда моего слышал я всё о замышляемом на него набеге губернатора с своим обществом: в сем предприятии должен был я участвовать. Почти перед самым концом пребывания моего в Казани собрались, наконец, на сию партию удовольствия, как говорят французы. Предуведомленный о нашем нашествии, хозяин ожидал нас твердою ногой. Как эта поездка была для меня единственною в своем роде, то нет возможности не порассказать об ней.
Нас восемь человек отправилось в линейке, в том числе губернатор и Бестужев. Это было в шесть часов вечера; многие другие, в разных экипажах, пустились еще с утра. Мы ехали не шибко, переменяли лошадей и переправлялись через Волгу, а между тем не видели, как проехали более сорока верст; всю дорогу смеялись, а чему? как говорит наш простой народ, своему смеху. Генерал Бестужев, развеселясь, также хотел нас потешить; он не умел петь, но прекрасно насвистывал, даже с вариациями, все известные песни. Часу в двенадцатом могли мы только приехать, но дом горел, как в огне, и хозяин встретил нас на крыльце с музыкой и пением. Через полчаса мы были за ужином.
Господин Есипов был рано состарившийся холостяк, добрый и пустой человек, который никакого понятия не имел о порядке, не умел ни в чём себе отказывать и чувственным наслаждениям своим не знал ни меры, ни границ. Он нас употчевал по своему. Я знал, что дамы его не посещают и крайне удивился, увидев с дюжину довольно нарядных женщин, которые что-то больно почтительно обошлись с губернатором: всё это были Фени, Матреши, Ариши, крепостные актрисы Есиповской труппы. Я еще более изумился, когда они пошли с нами к столу, и когда, в противность тогдашнего обычая, чтобы женщины садились все на одной стороне, они разместились между нами, так что я очутился промеж двух красавиц. Я очень проголодался; стол был заставлен блюдами и обставлен бутылками; вне себя я думал, что всякого рода удовольствия ожидают меня. Как жестоко был я обманут! Первый кусок, который хотел я пропустить, остановился у меня в горле. Я думал голод утолить питьем: еще хуже. Не было хозяев; следственно, к счастью, некому было заставлять меня есть; за то гости и гостьи приневоливали пить. Не знаю, какое название можно было дать этим ужасным напиткам, этим отравленным помоям. Это какое-то смешение водок, вин, настоек с примесью, кажется, пива, и всё это подслащенное медом, подкрашенное сандалом. Этого мало, настойчивые приглашения сопровождались горячими лобзаниями дев с припевами: «Обнимай соседь соседа, поцелуй сосед соседа, подливай сосед соседу». Я пил, и мне был девятнадцатый год ют роду; можно себе представить, в каком расположении духа я находился! На другом конце стола сидели, можно ли поверить? актеры и музыканты Есипова, то есть слуги его, которые сменялись, вставали из-за стола, служили нам и потом опять за него садились. В Шотландии, говорят, существовал обычай, чтобы господа и служители одного клана садились за один стол; в этом можно видеть нечто патриархальное, а тут какая была патриархальность!
Сатурналии, вакханалии сии продолжались гораздо далеко за полночь. Когда кончился ужин, я с любопытством ожидал, какому новому обряду нас подвергнут. Самому простому: исключая губернатора и Бестужева, которым отвели особые комнаты, проводили нас всех в просторную горницу, род пустой залы, и пожелали нам доброй ночи. На полу лежали тюфячки, подушки и шерстяные одеяла, отнятые на время у актеров и актрис. Я нагнулся, чтобы взглянуть на подлежащую мне простыню и вздрогнул от её пестроты. Спутники мои, вероятно зная наперед обычаи сего дома, спокойно стали раздеваться и весело бросились на поганые свои ложа. Нечего было делать, я должен был последовать их примеру. Разгоряченный вином, или тем что называли сим именем, разъяренный поцелуями, я млел, я кипел. Жар крови моей и воображения может быть, наконец, бы утих, если бы темнота и молчание водворились вокруг меня; самый отвратительный запах коровьего тухлого масла, коим напитано было мое изголовье, не помешал бы мне успокоиться; но при свете сальных свеч, каляканье, дурацкий наш дорожный разговор возобновился, и другие, приехавшие прежде нас, подливали в него новый вздор. Не один раз подымал я не грозный, но молящий голос; полупьяные смеялись надо мной, не столь учтиво, как справедливо, называя меня неженкой. Один за другим начали засыпать; но когда последние два болтуна умолкли, занялась заря, которая беспрепятственно вливалась в наши окошки без занавес. Между тем, сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи, все колючие насекомые объявили мне жестокую войну. Ни на минуту не сомкнув очей, истерзанный, я встал, кое-как оделся и побрел в сад, чтоб освежиться утренним воздухом. Так кончилась для меня сия адская ночь.
Солнце осветило мне печальное зрелище. Длинные аллеи прекрасно насаженного сада, с бесподобными липами и дубами, заросли не только высокою травой, в иных местах даже кустарником; изрядные статуи, к счастью, не мраморные, а гипсовые, были все в инвалидном состоянии; из довольно красивого фонтана, прежде, говорят, высоко бившего воду, она легонько сочилась. Взгляд на дом был еще неприятнее; он был длинный, на каменном жилье, во вкусе больших деревянных домов времен Елизаветы Петровны, обшитый тесом, с частыми пилястрами и разными фестонами на карнизах, с полукруглым наружным крыльцом, ведущим сперва к деревянной террасе; все ступени были перегнивши, наружные украшения поломаны, иные обвалились; если запустение было в саду, то разорение в доме. Один только новопостроенный театр в боку содержался в порядке. Видно, что отец жил барином, а сын фигляром.
Вся честная компания собралась к чаю; после того все принялись за карты; никто не подумал пойти прогуляться. Я приступил к губернатору с просьбою, даже с требованием, велеть мне дать телегу с парою лошадей, чтобы воротиться в Казань, и изобразил ему весь ужас ночи, проведенной без сна. Вздумали было шутить, но истинная горесть всегда бывает трогательна и красноречива; ей вняли и начали советоваться как бы утешить меня и успокоить на следующую ночь. Мансурову необходимо было спать одному: он имел на то свои причины (все губернаторы, бывшие и настоящие, пользуются некоторыми господскими правами); Бестужев, хотя и генерал, их не имел; положено было поставить мне кровать в его комнате и даже занавеской оградить меня от света и насекомых. За обедом я ел как француз, на обратном походе в 1812 году; он был шумен, весел, но более пристоен чем ужин, ибо драматических артистов с нами не было: все они наряжались и готовились тотчас после обеда потешить нас оперой Коза рара или Редкая вещь. Играли и пели они, как все тогдашние провинциальные актеры, не хуже, не лучше. Наученный опытом, я был осторожен за ужином, надежда меня более не оживляла, я отворачивался от поцелуев, не слушал припевов, и опричь кваса ничего не хотел пить. После спокойной ночи, проведенной с почтенным Бестужевым, я встал, и мы в той же линейке, но другою дорогой отправились обратно в Казань. Ну, господин Есипов! На том свете да отпустятся тебе твои прегрешения, а здесь ты был хуже Буянова и опаснее Опасного Соседа. На половине дороги заехали мы обедать к сестре и зятю Есипова, бригадиру Федору Федоровичу Геркену, которые, кажется, редко с ним виделись и совсем иным образом жили, как он.
Отделения посольства через три-четыре дня следовали одно за другим, останавливаясь в Казани для починки и отдыха, так что иногда одно настигало другое и гнало вперед, ибо для каждого потребно было не менее сорока лошадей. Чиновники, ими управлявшие и их сопровождавшие, иные меня навещали, у других я наведывался; от них узнал я, что посол намерен, отправив последнее отделение, не ранее как спустя две недели после него, выехать из Петербурга. Одним утром, не хозяин, а угоститель мой, г. Нечаев, сказал мне, возвратясь от губернатора, что в рапорте, поданном ему о приезжих, находится камер-юнкер Нелидов с отделением своим, состоящим по большей части из чиновников. Это было для меня почти сигналом отъезда. Я пошел отыскивать временного, дорожного своего начальника и нашел его вместе с Сухтеленом в трактире у Шварца; (в каменном пустом доме, где все посольские останавливались, они жить не захотели. В нём остались дворяне посольства, Хвостов и Клемент, аптекарь Гельм и обоз отделения).
С величайшим удовольствием встретил я большое согласие в этом странствующем обществе. Кротость Нелидова, спокойный дух и просвещенный ум Сухтелена, веселая живость Хвостова и простодушие Клемента обещали мне приятных и уживчивых спутников и сдержали обещанное. Чтобы удружить сим господам, начал я их угощать Казанью, всё показывать, всюду возить, со всеми знакомить: я уже почитал себя в праве в ней хозяйничать. Нелидову и даже Сухтелену так полюбилось, что вместо предполагаемых трех дней они прожили пять, и только 13 июля, после позднего прощального обеда у Мансурова, решились оставить Казань. У меня были еще кое-какие дела, и я выехал несколько позже, но догнал их на первой станции, где мы и ночевали.
Здесь начинаешь как будто прощаться с матушкой-Россией и близиться к огромной её дочери, Сибири. Отсюда начинается также мое официальное путешествие, и описание его переношу я в следующую главу.
IX
Вятская и Пермская губернии. — Сибирь.
Не должно ожидать от меня того, что требуется от других путешественников, ученых или литераторов. Любопытных открытий по части естественной, глубоких наблюдений по части нравственной и политической, я делать не мог. Если какой-нибудь странный обычай возбуждал мое внимание, если величие новой для меня природы иногда поражало меня, то произведенными во мне ощущениями, сколько могу, готов поделиться с читателем, но многого обещать не смею. Когда я еду один, то на предметы, встречающиеся мне на пути, смотрю обыкновенно прилежнее; а тут я находился в обществе, где каждый разговорами старался развлекать скуку других, скуку бесконечной дороги. В самый же первый день мы с Сухтеленом распорядились следующим образом: у него была новая, легкая, покойная, двуместная коляска, дорогой немного пострадавшая от лишней нагрузки; мы условились чтобы мне сидеть в ней вместе с ним, а бричку мою обратить в кладовую как для его, так и для моих пожитков. Общество мое ему показалось приятным: не столько собеседник, сколько внимательный слушатель был ему нужен, и мне пришлось Голландией и Америкой заниматься более, чем Сибирью.
В день прибытия последнего посольского отделения, семейство Юшковых отправилось в деревню, с небольшим во ста верстах от Казани и в одной версте от Сибирского тракта находящуюся. Сыновья взяли с меня слово, пригласив моих товарищей, своротить к ним с дороги, погулять, попировать у них и дали обещание отпустить нас с пирогами и другими съестными припасами.
Я объявил о том Сухтелену: он любил покушать, ибо у эгоистов всегда славный желудок. Разыгрался в нём аппетит тем более, что в упраздненном городе Арске и в следующих за ним селениях в тот день никого найти и ничего достать было нельзя. К вечеру, вступив в Вятскую губернию, приехали мы в богатое татарское селение Янгул и остановились у зажиточнейшего из жителей. Хозяин, видно, был плохой магометанин, потому что встретил нас с полдюжиной нарумяненных и набеленных женщин; они что-то праздновали и пригласили нас с собой за трапезу; но не было возможности: так на столе всё было неопрятно и так чувствителен был дух кобыльего мяса. Между тем присланный нарочно от больного исправника объявил нам, что он было велел тут готовить для нас обед, но что Юшковы тому воспрепятствовали, сказав, что они сами нас целый день будут дожидаться. И так мы к ним отправились. Давно уже смерклось, и подле меня, в темноте, Сухтелен беспрестанно восклицал: «Ах, далеко ли нам еще до пирогов!» Мы въехали на широкий двор, и один лай собак нас встретил; все уже улеглись. Кто-то во тьме появился, и мы от него настоятельно стали требовать, чтоб он разбудил и вызвал к нам молодых господ. Они потихоньку вышли в халатах и шепотом стали извиняться, что не могут нас принять, ибо боятся потревожить сон семидесятилетней матери, указали нам на городок Малмыж, в десяти верстах от них лежащий, и обещались на другой день сами туда к нам приехать. Нет, досады обыкновенно хладнокровного Сухтелена описать невозможно; к счастью она обратилась не на меня. «Какие неучи, повторял он, а еще дворяне и гвардии офицеры! Их мать, их мать! Что нам до их матери? Разве я приехал обольщать, соблазнять ее? Я приехал, чтоб есть».
Утешение ожидало нас в Малмыже. Он еще не был опять возведен в звание уездного города, однако же в нем жил прежний городничий, без должности, но не без дела. Любовь жителей давала ему содержание, и они добровольно шли к нему на суд. Забыть его имя могло бы еще быть извинительно, но не спросить даже о нём, право, гадко; а мы это сделали. У него была страсть ловить всех проезжих и угощать у себя, и потому-то нас прямо к нему и ввезли. Комнаты были высокие, дом не очень велик, но отменно опрятен; через пять минут он осветился, а через полчаса поспел ужин, который стоил двух обедов: всё было изобильно, просто, свежо и хорошо приготовлено; у людей с похвальными наклонностями всегда бывает и вкус. Чело Сухтелена просияло; не умея говорить по-русски, он хозяину за столом беспрестанно делал ручкой, как бы мысленными поцелуями желая изъявить ему свою благодарность; похвалам ему не было конца, равно как и брани Юшковым. Я умирал со смеху и не замечал, что тут есть нечто обидное, презрительное от иностранца и жителя столицы к русским и провинциалам, коих они почитают обязанными им угождать. Мы спали также хорошо как и ужинали.
Мы едва успели проснуться часу в десятом, как нагрянули братья Юшковы, на собственных лихих шестерках. Нелидов встретил их чрезвычайно вежливо, а Сухтелен очень холодно. Хозяин сунулся было с завтраком, но они едва дозволили нам выпить по чашке чаю. В двадцати верстах было их селение Гоньба с винокуренным заводом, на берегу широкой реки Вятки и у самой переправы через нее. Повара с раннего утра были туда отправлены, и там происходила страшная стряпня, чтобы сколько-нибудь вознаградить за тщетные наши ожидания накануне. Не более как в час прилетели мы туда на борзых конях и в просторной избе приказчика нашли уже накрытый стол. Скоро стал он гнуться под тяжестью приносимых блюд, и Сухтелен у Юшковых начинал уже пожимать руку. Пресыщенный, упоенный старик был растроган, и когда в лодке, переплыв реку, гостеприимные братья на другом берегу её стали с нами прощаться, он с нежностью их поцеловал. «Вот пример, — говорил он мне потом наставительно, — что никогда не надобно спешить с суждениями своими о людях». А я позволил себе заметить ему, что кажется только в России можно быть так взыскательным с незнакомыми, и он замолчал.
Этот случай напомнил нам, что необходимо нужно заботиться о дальнейшем нашем продовольствии. Я предложил Нелидову следующий план. У каждого из нас было по одному слуге; камердинер Нелидова, как Метр-Жак, был в тоже время и повар; от первой должности каждый день надлежало увольнять его на всё то время, что он будет заниматься другою, а покамест все наши люди должны находиться к услугам его господина. Вот еще другое. Я успел заметить, что молодому Клементу хочется играть какую-нибудь роль, хотя бы весьма не важную; его надзору были поручены три или четыре качалки[92] с нами отправленные. Но этого было мало для его деятельности. Он был очень чинопочитателен, а как он находился в четырнадцатом классе, а Нелидов в пятом, то мне пришло в голову создать для него новую должность, род адъютанта при начальнике нашего отделения. В сем звании, должен он будет каждое утро ранее отправляться для заготовления провианта в том месте, где у нас назначен обед и с Метр-Жаком там нас дожидаться. Скромный Нелидов боялся обидеть его таким предложением, но я взялся сделать оное от его имени и имел совершенный успех. Новые заботы чрезвычайно полюбились Клементу и польстили его честолюбию, которое между людьми в таких разных видах является.
От реки Вятки начинаются селения того народа или финского племени, которому она дала свое имя, равно как и всей области и главному её городу, прежнему Хлынову. Тогда была рабочая пора; жители сии, Вотяки, целый день были в поле, и мы мало их видели. Они рослее, дороднее и опрятнее других Чухонцев, но мне показались столь же бессмысленны. Язык их должен быть не весьма благозвучен, судя по названиям их деревень, в коих учреждены были станции: Какси, Можги, Пумсы, Бокчегурты, Чемошуры. Они пугали избалованный мой слух, ибо тогда все романисты и поэты именами старались ласкать его: ныне с такими именами не только можно написать героическую поэму, но пожалуй втереть их и в идиллию.
Мы ехали дремучими лесами, почти того не примечая; просека были сажень во ста ширины, и вечно подле тени, мы никогда не знали её: а жар был летне-северный, то есть нестерпимый. Потому-то решились мы ехать только ночью, а днем отдыхать; станционные же избы представляли к тому большие удобства, ибо простором своим они бы в маленьких городах могли называться домами. Лесу было вдоволь, щадить его было нечего, и строение сих изб стоило не дорого.
Во время отдыха на одной из сих станций, мы с удивлением увидели вошедшего к нам офицера в Преображенском мундире. Это был граф Толстой Федор Иванович, доселе столь известный под именем Американца. Он делал путешествие вокруг света с Крузенштерном и Резановым, со всеми перессорился, всех перессорил, как опасный человек был высажен на берег в Камчатке и сухим путем возвращался в Петербург. Чего про него не рассказывали! Будто бы в отрочестве имел он страсть ловить крыс и лягушек, перочинным ножиком разрезывать им брюхо и по целым часам тешиться их смертельною мукою; будто бы во время мореплавания, когда только начинали чувствовать некоторый недостаток в пище, любезную ему обезьяну женского пола он застрелил, изжарил и съел; одним словом, не было лютого зверя, с коего неустрашимостью и кровожадностью не сравнивали бы его наклонностей. Действительно он поразил нас своею наружностью. Природа на голове его круто завила густые, черные его волосы; глаза его, вероятно от жара и пыли покрасневшие, нам показались налитыми кровью, почти же меланхолический его взгляд и самый тихий говор его настращенным моим товарищам казался омутом. Я же, не понимаю как, не почувствовал ни малейшего страха, а напротив, сильное к нему влечение. Он пробыл с нами не долго, говорил всё обыкновенное, но самую простую речь вел так умно, что мне внутренне было жаль, зачем он от нас, а не с нами едет. Может быть, он сие заметил, потому что со мною был ласковее, чем с другими и на дорогу подарил мне скляницу смородинного сиропа, уверяя, что, приближаясь к более обитаемым местам, он в ней нужды не имеет. Столь примечательное лицо заслуживает, чтобы на нём остановиться, но я надеюсь еще с ним встретиться в сих Записках и поговорить об нём пообстоятельнее.
Скоро вступили мы в переднюю Сибири, в Пермскую губернию; тут опять появились русские селения. Мы нашли один только труп городишка Оханска, который за месяц до нашего приезда весь выгорел; на крутом берегу Камы, высоко и одиноко торчал еще дом, занимаемый приказчиком Злобина, содержателя питейного откупа во всей губернии. Он угостил нас по-злобински, пока через реку переправляли наши повозки. Славное вино развеселило сердца наши, и радость в нас умножилась, когда в сопровождении сего приказчика, на двенадцативесельном его катере, оглашенные песнями его гребцов, мы стрелой полетели через широкую Каму. Долг благодарности заставил нас вспомнить о Юшковых, о Гоньбе и о реке Вятке. Но что она в сравнении с Камой, с этим образчиком рек зауральских! Всем она взяла, сия величественная Кама, и шириной, и глубиной, и быстротой, и я не могу понять, почему полагают, что она в Волгу, а не Волга в нее впадает.
Ночью, часу во втором, приехали мы в губернский город Пермь и достучались у городничего до указания нам квартиры. Въехав в Пермь, особенно при темноте, некоторое время почитали мы себя в поле: не было тогда города, где бы улицы были шире и дома ниже. Это не было царство как Казань и Астрахань, не княжеский удельный город, даже не слобода, которая, распространяясь, заставила посадить в себя сперва воеводу; это было пустое место, которому лет за двадцать перед тем велено быть губернским городом, и оно послушалось, но только медленно. Торговля есть первое условие существования новых городов; и здесь, хотя слабо, но она одна его поддерживала. Десяток каменных двухэтажных купеческих домов красовались уже в стороне на берегу Камы, тогда как главный въезд и главные улицы находились в том виде, в котором ночью не столько узрели мы, как угадали их. Утром мы еще более изумились пустоте города Перми: только одна узкая дорога посреди улицы была наезжена; всё остальное обратилось в тучные луга, на которых паслись сотни гусей.
Приехавший прежде нас и зажившийся за починками, казначей посольства Осипов напугал нас рассказом о начальнике губернии, которого представил сущим медведем. Это был Карл Федорович Модерах, сын одного учителя математики в кадетском корпусе, как я слышал от отца моего. Верно, сын хорошо учился у отца, ибо в свое время почитался у нас одним из лучших инженеров; по его проекту и под его наблюдением берега Фонтанки выложены были гранитом. Года за два до смерти Екатерины назначен он был губернатором в Пермь и с тех пор никогда не выезжал из своей губернии; мысль о благе вверенного ему края так овладела им, что он день отлучки почитал вредным для него; однако же и по заочности был он уважаем и награждаем при Павле и при Александре. И в этом самом 1805 году к Пермской его губернии прибавили ему Вятскую, поставив его над обеими генерал-губернатором; в Пермь же покамест губернатора не назначали. Поистине он не был любезен, сей камергерской добродетели в нём не было; уединенная и вместе деятельная жизнь в отдаленном месте хоть кого заставит потерять желание и забыть о способах нравиться, кольми паче людей серьёзных, со строгою нравственностью. Модерах был честен, добр, умен и сведущ в делах; но как всё великими трудами приобретенное ценится более, чем даровое, то и генерал-губернаторство свое, кажется, ставил он наравне с владетельным герцогством. К тому же, как в Перми нет других дворян, как богатых заводчиков, живущих в столицах, то более десяти лет и не видел он никого кроме подчиненных, а между проезжими по большей части мелких чиновников и ссыльных: вот что обращению его давало холодность, сухость, которые не совсем были приятны.
Мы нарядились в мундиры и пошли к нему in corpore. Рядом с его домом был другой, одинаковой с ним величины, в котором находилось Губернское Правление; он в это время там присутствовал, и нас, Бог весть зачем, туда повели. Доложили об нас, и он велел нам сказать, чтобы мы приходили в другой час, а что тут ни место, ни время ему нас принимать; мы тоже думали, но только можно было ответ сделать поучтивее. Всё это так нам не понравилось, что мы, возвратясь домой, замышляли, не видавшись с ним, на другое утро пуститься далее. По крайней мере мы были довольны нашею квартирой в чистеньком доме часовых дел мастера Розенберга, который уверял нас, будто он двоюродный брат генерала сего имени. Мы обедали в его саду, в который выход был прямо из наших комнат. После обеда приехал городничий от имени генерал-губернатора звать нас на другой день к нему обедать; и так отъезд наш должны мы были отложить до следующего вечера.
Мы нашли г. Модераха чрезвычайно важным, что нам весьма не полюбилось, особливо после чересчур доброго Мансурова. Семейство его состояло на лицо из жены и шести дочерей, двух замужних и четырех девиц; единственный сын был в военной службе и в отсутствии. Генерал-губернаторша была добрая немка, которая, как нам казалось, охотно должна была ходить и на кухню, и на погреб. Старшая дочь, женщина весьма обыкновенная, была замужем за председателем Уголовной Палаты, статским советником Иваном Михайловичем Энгельгардтом, как бы то ли было двоюродным братом графинь Браницкой и Литты, княгинь Голицыной и Юсуповой, что ему было весьма не к роже. Четыре взрослые девки были только что молоды.
Но как алмаз вправленный в олово, так сияла посреди сего семейства вторая дочь Модераха, Софья Карловна, выданная за гатчинского генерал-лейтенанта Аггея Степановича Певцова, инспектора пехотной дивизии и шефа Екатеринбургского полка, который в том городе и стоял на квартирах. Муж поехал осматривать полки, а жену покамест отправил к родителям. Она была двадцати трех лет. Столь милого личика и столь пристойного, умного кокетства трудно было найти. От её взоров и речей всё наше отделение вдруг воспламенилось; сам ледяной Сухтелен начал таять, а бедный наш Нелидов! Он не на шутку влюбился, за то более всех и полюбился; впрочем, и каждый из нас сначала мог считать себя предпочтенным. Чудесная сия женщина была вместе с тем и просвещеннейшая из всех тех, коих дотоле я видел; свободно выражаясь на иностранных языках, наслаждалась всеми цветами литературы и в преддверии Азии, читая журналы, знала всё, что происходит в Европе. Разумеется, что наш отъезд был еще отложен; вас тот же день пригласили еще на вечер.
Исключая Сухтелена (старика и брата генерал-инженера), Модерах почти никого из нас не замечал. Надобно думать, что старшие дочери, в отсутствие ваше, шепнули ему что-нибудь для нас выгодное, представив людьми довольно порядочными и, может быть, кто знает, женихами для меньших его дочерей; потому что вечером был он внимательнее и приветливее к нам. Были собраны какие-то два-три аматёра, чтобы сопровождать (аккомпанировать) одну из сих младших дочерей, которая перед нами хотела блеснуть музыкальным искусством, довольно странным для женщины: она играла на скрипке. Но если б она играла и на контрабасе, то я мало бы тому подивился, быв совершенно углублен в созерцание сестры её, Певцовой[93]. Сия чародейка, желая продлить наше пребывание в Перми, заставила зятя своего, Энгельгардта, пригласить нас на другой день в себя обедать. Третий день, 22 июля, был табельный, именины императрицы Марии Федоровны, в который генерал-губернатору надлежало дать официальный обед. Как Модерах был беден и расчётлив, то отпраздновали мы сей день партикулярным образом. На обед, на бал и на ужин пригласил нас Пермский амфитрион, губернский казначей Дягилев, у которого в этот день жена была именинница. Мы было хотели отговориться, но Софья Карловна нам не велела. Мы знали одно только семейство Модераха; тут увидели мы всё пермское общество, и я нашел, что оно двумя десятками годов отстало от пензенского и казанского. Мужчины без всенижайшего поклона не подходили к дамам и говорили им с беспрестанным словоерсом. Итак вместо одних суток, прожили мы почти пять, и только 23 июля вырвались из пустого города, оживленного присутствием одного превосходного существа.
Об нём были все помышления, все разговоры согласных соперников в первый день разлуки с ним; но дорожные впечатления, как бы сильны ни были, скоро изглаживаются новыми. На другой же день, по прибытии в уездный город Кунгур, свежие прелести двадцатилетней городничихи, княгини Маматказиной, жены шестидесятипятилетнего городничего, нас взволновали: взоры её и даже слова сулили нам счастье и конечно по одиночке каждому умели бы дать его; но к сожалению, мы ехали толпой и не могли долго останавливаться.
Город Кунгур, самый старинный в Пермской губерний, был прежде местопребыванием воеводы и, так сказать, столицей Биармии или Великой Перми, когда города сего имени еще не было. Он не имел и третей доли пространства занимаемого Пермью, за то жителей втрое более. Всё в нём возвещало жизнь и действие, и он казался в отношении к Перми как плотный, здоровый старичок, высокого росту, к длинному, вытянутому юноше, который едва держится на ногах. Строение в нём было довольно не регулярно; но оно стоит на высоком месте, в приятном положении и орошается двумя речками, коих берега столь же красивы как и название: их зовут Ирень и Сильва.
С самого въезда в Пермскую губернию ощутительна в ней становилась рука Модераха: он устроил в ней такие дороги, с которыми можно было бы обойтись без шоссе. Посрыты горы, накатаны, убиты дороги, со спусками для воды в канавы, прорытые по бокам; для предохранения откосов гор от осыпи, укреплены они простыми плетнями во всю их высоту и за них брошены семена разных растений; прорастая сквозь сии плетни, обвивая их и покрывая их цветами они давали им вид пестрых тканей и занавесок. По ту сторону Перми дороги сии недавно были кончены, а к Кунгуру и за ним уже успели утвердиться. К несчастью, да, точно можно сказать, к несчастью, через несколько лет проведали о том в Петербурге и, видя с какими малыми средствами и как успешно произведены сии работы, вздумали им подражать. Забыли только, что Модерах делал всё исподволь, год за годом, со знанием инженера и с бережливостью немца. В великороссийских же наших губерниях, где всему велят кипеть, построение новых дорог перепортило, истребило только старые, разорило жителей, обогатило надсмотрщиков и губернаторам доставило награды.
В пятидесяти верстах от Кунгура, начинается неприметно постепенное возвышение Уральского хребта, и тут ступаешь на землю, чреватую металлическими богатствами. Тут, не далеко в стороне от большой дороги, верстах в двух, находится железный Суксунский завод, принадлежавший Николаю Никитичу Демидову. О его роскоши и о скупости вместе гласят Россия, Франция и Италия; но знает ли кто, слыхал ли кто о беспримерном гостеприимстве, заведенном им на Суксунском заводе? Всякий проезжий, какого бы звания он ни был, в одиночку или с обозом, казенным или собственным, имеет право на сем заводе остановиться и требовать, чтобы в экипажах или повозках его починки, как бы велики ни были, сделаны были даром. Сего мало: во всё время что продолжается сия починка, имеет он, также даром, квартиру со столом, а в зимнее время с отоплением и с освещением.
Этими щедротами мы воспользовались и хорошо сделали, что в этом случае не поспесивились. Наши экипажи были в жалком состоянии по неопытности или небрежности служителей при нас находящихся, и мы о том не догадывались; по осмотре оказалось, что потребуется по крайней мере полторы сутки на их совершенную починку. Нам отвели просторный и покойный дом, достаточно снабженный мебелью, и доставили съестных припасов суток на трое. Управитель Пермяков, простой крестьянин с бородою, которого по всей справедливости можно было назвать господином Пермяковым (так он был умен и учтив), явился к нам, как сказал он, за приказаниями и с просьбою посетить его жилище. Оно было в каменном доме о двух этажах, с пребольшим садом над пребольшим прудом; полы лоснились чистотою; главным украшением просто выбеленных комнат были картины, довольно искусно писанные на жести; все они были произведения мастеров другого дальнего Демидовского завода, называемого Тагильским. От скуки ходили мы бродить по окрестностям и находили места живописные; когда бы не климат, тут можно бы было век остаться. Производства работ на заводе мы не могли видеть, ибо рабочие летом трудятся в поле.
Русское население, по большой Сибирской дороге, как будто надвое разрезывает Пермскую губернию, отбросив пермяков, зырян и вогуличей, коренных, первобытных жителей на Север, а на Юг тептерей и башкирцев. Сии последние не раз бунтовали и принимались за оружие; для обуздания их выстроен был ряд крепостей по восточной отлогости Урала. Когда башкирцы присмирели, укрепления пали, и только имена крепостей Ачитской, Бисерской, Киргишанской, Кленовской сохранились селениям заступившим их место. Мы меняли в них лошадей; одно только, называемое Кленовская крепость, мне показалось примечательно и осталось памятно по ужасу произведенному во мне местами его окружающими, мрачным сосновым лесом, оврагами, пропастями, на каждой версте встречаемыми.
Казенный Билимбаевский завод находился на самой вершине Урала; следующая же за ним станция Решета на противоположном спуске. Мы не заметили как перевалились чрез эту знаменитую цепь Уральских гор; более ста верст, всё на изволок взъезжали мы и немного круче стали спускаться. Ужаснейшая гроза встретила нас на рубеже Европы и Азии; молния поминутно сверкала, дождь водопадом лился с неба, и эхо невидимых для нас гор повторяло сильные громовые удары. Это принудило нас более двух часов остановиться в Билимбаеве. Ручей более чем речка, Чусовая (последняя, на сей стороне Урала) ниспадающая с гор, от дождевой воды до того раздулась, что через нее нужно было сделать переправу; это еще нас остановило, так что в этот день опоздали мы приездом в Екатеринбург, от которого находились менее чем в пятидесяти верстах.
Соседству с первыми в России золотыми приисками обязан сей город своим рождением; за два года до кончины своей Петр Великий окрестил его во имя супруги своей, с прибавкою неизбежного для всех новосозидаемых при нём городов немецкого бурга; при Бироне, кажется, учрежден в нём первый бергамт. Города, подобно людям, наружностью показывают свои лета. Екатеринбург не был старик, как Кунгур, ни мальчик как Пермь: в нём было чувствительно недавнее, но не вчерашнее. По сю сторону длинной плотины через реку Исеть, приводящую в движение шлифовальные и золотопромывальные фабрики, поместили нас в просторном двухэтажном деревянном доме. Он нам показался новостью, потому что был построен совсем по образцу молдавских домов, с длинною и широкою поперечною комнатой, с четырьмя малыми по четырем её углам, с крытою галереей вокруг всего дома и с верхним этажом, совершенно подобным нижнему.
Дом сей был ветх и запущен; давно уже не жила в нём владелица его, довольно богатая заводчица, госпожа Фелицата Турчанинова[94]. Её имущество, тогда еще в одних руках, сравнивала одна умная женщина с порядочным слитком золота, который раскололся на кусочки между тремя сыновьями ее и пятью дочерьми, Титовой, Кокошкиной, Ивеличевой, Зубовой и Колтовской; после них же кусочки разлетелись на блестки, за которые третье поколение, кажется, по сю пору грызется и режется.
Мы пробыли три дня в Екатеринбурге, не познакомившись ни с кем из его жителей. Пользуясь прекраснейшею погодою, мы предпочли, гуляя, осматривать всё примечательное в нём; видели как промывают в нём золото, как из большой глыбы желто-красноватого песку добывается метала менее чем на полчервонца; заходили в мастерские, где для петербургских дворцов отделываются огромной величины и превосходной работы, малахитовые, порфировые, яшмовые разных цветов вазы, также табакерки и другие изделия для продажи. Ходили за город, видели лагерь Екатеринбургского пехотного полка, коего шефа, мужа нашей Певцовой, всё еще не было; подле самого почти лагеря любовались богатыми, там дешевыми, мраморными памятниками над усопшими, в монастыре поставленными.
От Екатеринбурга пролегают две дороги во внутренность Сибири: одна идет на Тобольск, другая чрез уездный город Ишим, и последняя тремястами верстами короче первой. Мы избрали последнюю, тем более, что на ней было для нас приготовлено большее число лошадей. С первой станции Косулиной, где дорога делится надвое, своротили мы вправо и чрез несколько часов приехали на казенный, чугуноплавильный Каменский завод. Как для жителей Петербурга отработка чугуна не представляет ничего нового, то и отклонили мы предложение идти смотреть ее; но как заводы в Сибири суть настоящие города, то и воспользовались приглашением управляющего провести у него вечер и ночь. Это было с 31-го июля на 1-е августа. Когда мы встали чтобы продолжать путь, то с чувством не совсем приятным нашли, что воздух сделался вдруг гораздо свежее; и в России август почитается осенним месяцем, а мы ехали в Сибирь.
Мы стали более торопиться, чтобы менее времени провести в дороге, и для того начали скакать день и ночь. Таким образом решительно не видел я заштатного города Долматова, ибо спал, когда переменяли в нём лошадей; в уездном же за тем городе Шадринске мы едва кое-что успели перекусить. Спешили, мучились мы напрасно, проезжая чрез места изобильные, приятные, где везде можно было найти припасы и чистые, удобные ночлеги; там только, где нет их, надобно вести скаковую жизнь в коляске. Чрезмерно уставши, на общем совете положили мы остановиться и переночевать в селе Сопинине и там проститься с Пермскою губернией и Модерахом, то-есть с прекрасными его дорогами. Однако же в этом селении не мог я много отдохнуть: мне отвели особую избу, где первый раз в жизни увидел я человека с рваными ноздрями; это был её хозяин. Каюсь в своей трусости: я заставил солдата нашего отделения ночевать с собою.
Грустною улыбкой встретила нас Тобольская губерния: стало опять жарче, но небо покрылось серыми тучами, и теплый, тихий, мелкий дождик начал портить дорогу и без того незавидную, когда мы прибыли на станцию Мостовскую, людное и зажиточное селение с самым живописным местоположением. После этой станции, отъехав верст сто, за речкою Тоболом, которая шириною с Каму, природа начинает приметно дурнеть, болотные места показываются чаще, и лес становится мельче. Тут, на одной из станций, помнится Голышмановой, остановились мы в необыкновенном жилище, составленном из четырех флигелей, соединенных между собою переходами. Хозяин с бородой и в простом крестьянском платье встретил нас с учтивостью и приветами образованных людей; на скромный вопрос кем-то из нас сделанный: кто он таков, — отвечал он нахмурясь и очень сухо, что простой мужик; потом удалился и не возвращался, но прислал нам довольно порядочный обед.
На безлюдье, говорит пословица, и Фома человек, и в малонаселенных местах смотрят на малые города почти как на маленькие столицы; мы сами, петербургские жители, подъезжая к Ишиму, видели в нём как будто нечто важное. Этот чистенький город был не очень мал. Во время нашего проезда гордился и славился он тем, что был местом рождения коллежского советника Бакулина, первого министра, то есть правителя канцелярии господина Селифонтова, генерал-губернатора всей Сибири, и летним местопребыванием госпожи Бакулиной, которая в нём жила и царствовала. Я сам видел, как, встретясь на улице с сопровождавшим нас в прогулке городничим, она величественно, почти повелительно с ним говорила и как подобострастно, с непокрытою и опущенною головой, отвечал он ей. Увы, всё это могущество и слава скоро должны были исчезнуть как дым!
Отъехав верст триста от Ишима, у станции Крупенской, мы переправились через знаменитый Иртыш, в водах которого погиб Ермак, наш Кортес, наш Пизарро. Я тогда прочел еще немного русских стихов, но это немногое знал наизусть: как мне обидно показалось, когда я усидел что Иртыш, в этом месте, совсем не крутит и не сверкает как у Димитриева, а в ровных берегах медленно катит желтоватую, от глины погустевшую волну.
Вдоль этой дороги, от самого въезда в Тобольскую губернию, находились мы в близком расстоянии от Сибирской линии, по которой регулярные войска и казаки охраняют эту сторону от вторжений киргиз-кайсацких. Но они ведь не черкесы; однако же иногда сквозь кордон, не пробивались они, а прокрадывались, не отважно действовали, а говоря словами жителей, пошаливали, то есть захватывали стада и кое-когда их стерегущих. Рассказы о том возбудили если не опасения наши, то по крайней мере внимание. Однажды, подняв верх коляски, по ровной дороге, мы с Сухтеленом медленно ехали на усталых конях и крепко заснули, как вдруг пробуждены были страшным топотом, ржаньем и криками. Старик и молодой, оба онемели; с ужасом брошенный друг на друга взгляд сказал: мы в плену! Мы не смели выглянуть и чувствовали, что вокруг нас несутся эскадроны. Что же вышло? Целые сотни, «косяки», как их там называют, целые табуны лошадей перегонялись жителями с одного пастбищного места на другое. Можно себе представить, как смешно и стыдно нам стало самих себя.
Ужаснее сего происшествия в сих ужасных местах мы ничего не видели. Если б я был одарен живым воображением нынешних французских писателей, то какими прелестными выдумками мог бы украсить свой рассказ; хочется, да не могу, как-то совестно: хотя я и путешествовал, а всё лгать не выучился. Вот-таки, например, недавно появился роман г. Александра Дюма, под названием Метр-д’Арм. У меня волосы становились дыбом, когда я читал о всех лишениях и мучениях, претерпенных бедным мусью Метр-д’Арм, на пути из Казани в Тобольск; а между тем лет за тридцать прежде описываемого им, по тем же самым местам преспокойно проехал я взад и вперед, находя везде селения, просторные, чистые, теплые избы, в которых днем сытно ел, а ночью сладко спал. Если б я имел случай встретиться с сочинителем, то со всем уважением к его великому таланту, позволил бы себе сказать ему: «Послушайте, г. Александр Дюма, не будьте правдивы, это всякому французу дозволено; но по крайней мере будьте сколько-нибудь правдоподобны. Ведь все ныне смеются над вашим же соотечественником Левальяном, который никогда не бывал во внутренности Африки, хотя вместо дичи и настрелял там множество тигров и гиен. Вы также всех волков и медведей изо всей России загнали навстречу вашему Метр-д’Арм; вы из них составили целые полчища, и на необитаемой, беспредельной, снежной равнине, при сорока градусах мороза и при свете северного сияния, заставляете его с ними сражаться. Несчастный, если он и победил, то как он не умер или не сошел с ума! Нет, г. Дюма, вы слишком бесчеловечны». Что делать! У французов так уже ведется: между ними есть некоторые условные истины, которым они верят более чем настоящим.
Надобно сказать правду, что места, чрез кои мы проезжали, совсем не были привлекательны красотою, что в избах тараканы хозяйничали и жили в совершенном согласии с людьми, и наконец, что всё это было лишь приготовлением к величайшим неприятностям путешествия и к воззрению на настоящее безобразие природы. Мы приближались к Барабинской степи.
Не знаю, можно ли дать название степи величайшему из болот земного шара? Бараба в Сибири в самом огромном размере то что Понтийские болота в Италии. Ниспадающие с Апенинов воды в застое и нагноении своем производят близ Рима зловредные испарения; что же такое должно быть, когда низменное место, имеющее несколько сот верст длины и ширины, кажется, как губка, принимает в себя всю влагу трех цепей гор, в некотором от него расстоянии его окружающих: Урала, Станового или Яблонного хребта и Алтайского. Многие полагают, с большим вероятием, будто в этом месте было внутреннее море, подобное Каспийскому и Аральскому и что после какого то сильного переворота на земле, воды его утекли, неизвестно куда. Сие предположение подтверждается изобилием озер, по Барабе рассеянных: многие из них, в близком расстоянии и соединении между собою, под именем Чанов, удостаиваются названия моря.
На станции Копьевой попали мы опять на большой Сибирский тракт, уже от Тобольска идущий: следующая за нею станция Резина есть последняя в Тобольской губернии, а последующая Мурашева первая в новоучрежденной тогда Томской. Станция сия почитается началом нестерпимой Барабинской степи; но еще прежде неё почувствовали мы влияние дурного воздуха. Каково нам было слышать, что всё видимое и обоняемое нами одно только вступление в сии печальные места!
Скоро прибыли мы в столицу Барабы, посад Каинск, упраздненный было и только за год до нас опять уездный город. Около него заметил я лесочки, наполненные одними осиновыми деревьями; сие заставило меня думать, что название Каинска дано ему в честь Каина, который за первое братоубийство осужден был трястись как осиновый лист. И в нём были жители, был городничий, присутственные места и даже недостроенная каменная церковь, в приделе которой совершалось богослужение. Нас не обманули, сказав, что предыдущее ничто в сравнении с тем, что нас за Каинском ожидает.
По дороге были устроены гати из хворостины и тростника; наполняясь клейкою грязью, в сухое время представляли они гладкую и твердую поверхность, по которой скакать было легко. И этого утешения судьба не оставила нам: в минуту нашего выезда из Каинска пошел частый и мелкий дождик и продолжался беспрерывно. К несчастью, был он довольно теплый и служил, так сказать, раствором всему ядовитому, сокрытому между мхов, один над другим целыми поколениями поросших, из коих составляется тут грунт земли. Что за отвратительный запах мы почувствовали! Как сгустилась атмосфера, которая в этом состоянии порождает обыкновенно болезнь, столь известную под именем Сибирской язвы! Пока мы ехали, несколько людей успели уже ею заразиться.
Описать же самую дорогу невозможно; о подобной ей могут иметь понятие только те, кои зимой, в дождливое время, ездили по одесским улицам. Почти не подвигаясь, плыли мы по смрадному морю, выбивались из сей пучины зол. Как жалко было смотреть на лошадей! Бедные твари тщетно рвались, чтобы поскакать; кнута было не нужно: их подстрекали тысячи живых иголок. Почуя сырость, сибирские насекомые, гиганты в сравнении с нашими, поднялись все из щелей, в которых прятались от солнечного света и зноя. Одни скоты оставались им в жертву; люди же были одеты и замаскированы: у каждого из нас, не исключая ямщиков, на голове была сетка из лошадиной гривы, сквозь которую трудно было пролезть толстым комарам и мошкам; случалось однако же, что, найдя скважину в перчатке, они запускают чрез нее свое жало, и тогда на несколько часов пухнет рука. На ночлегах вокруг изб и внутри их защищались мы от сих злодеев беспрестанным куревом.
Человек человека осуждает часто на вечную муку; это иногда заставляло меня думать, что ад его выдумка. И если б он делал сие из мести, а то по большей части для своих выгод, для прибыли. Кто бы добровольно пожелал остаться в Барабе? Конечно, правительство поступало справедливо, заселяя ее людьми, ссылаемыми за преступления. Но чем же виноваты их несчастные потомки? А впрочем, если бы не было по ней цепи деревень, то было бы почти разорвано сообщение между Восточною и Западною Сибирью. Как эти бедные жители малорослы, худощавы, какая синеватая бледность покрывает их лица! Жилища их однако же не так дурны, как бы можно ожидать в местах совершенно безлесных, у людей, которые ни пастыри, ни хлебопашцы; ибо у них нет ни лугов, ни полей, годных для засева. Избы их суть постоялые дворы для бесконечных обозов, которые всю зиму тут тянутся. Сим промыслом, равно как и рыболовлей, живут они; иные наживаются и от того не слишком жалуются на судьбу свою. Зима для них лучшее время года, здоровое и прибыльное, и они начинают оживать, когда природа замирает.
Страдания наши наконец прекратились; топи, туманы, дожди, непогодь, всё исчезло вместе с Барабой. Мы благополучно достигли до Чауского острога, принадлежащего ведомству Колывано-Воскресенских горных заводов. Главное их место, город Барнаул, был губернским в бывшем при Екатерине Колыванском наместничестве, при Павле упраздненном. Польза края заставила, при Александре, учредить вновь третью Сибирскую губернию, и она в начале 1804 года открыта в Томске, куда мы ехали. Губернатором там был Василий Семенович Хвостов, родной дядя ехавшего с нами молодого человека.
Когда мы отдыхали в Чауском остроге, ехавший из Томска чиновник горного ведомства сказал нам, что губернатор только что воротился из дальнего путешествия в северную часть своей губернии. Молодой Хвостов изъявил Нелидову желание скорее увидеться с дядей; вида, что есть возможность отлучаться из отделения, и мне пришла охота ему сопутствовать, а Нелидов не умел иначе сделать как дать свое согласие на наши предложения. И так в ту же ночь, вдвоем, поскакали мы в Томск.
Селения, через кои мы проезжали, принадлежали все горному управлению. Меня удивили в них простор и опрятность двухэтажных деревянных домов и вид довольства и зажиточности мужиков; не знаю, к чему отнести их благосостояние, к собственному ли их трудолюбию, к местным ли выгодам, или к попечениям о них начальства. К сожалению, я не мог вполне насладиться удовольствием такого зрелища: я бодро выдержал муку Барабинскую, а тут первый раз еще в дороге почувствовал себя нездоровым. Во время двухчасовой переправы через необъятную Обь, тут же среди парома варилась уха на славу, из самых лучших рыб, и стоила безделицу; я заплатил за нее, но не в состоянии был даже прикоснуться к ней губами. Чем хуже я себя чувствовал, тем более торопил своего товарища и, пробыв в дороге не с большим сутки, 18 августа на рассвете приехал в новый губернский город.
Губернатор был уже на ногах, с нежностью облобызал племянничка и со мной обошелся очень ласково. Между тем я успел уже выздороветь; чем же я вылечился? Чем так часто лечится молодость: одним красным днем. Дом, который занимал Василий Семенович, был незавидный, разумеется, для губернатора. Будучи вдов и без семейства, сказал он, помещение для него одного кажется ему достаточным; но только жалеет о том, прибавил он, что не может удержать у себя столь любезных гостей. И потому как можно ближе от себя приказал нам отвести покойную квартиру.
Он был человек тучный, тяжеловесный, степенный я рассудительный, всю живость ума предоставивший брату своему Александру Семеновичу; лицо он имел багровое, говорил тихо и размерно, действовал осторожно, однако же не медленно. Если прибавить к тому, что он был самых честных правил и исполнен человеколюбия, то надобно признаться, что лучших качеств для занимаемого им места требовать не можно. Впоследствии увидим, как с ним было поступлено. В Томске видна была прочная основа для губернского города. Заметно было, что он поднялся сам собою, вырос естественным образом, без усилий правительства, и что, следуя течению времени, он от младенчества постепенно перешел в зрелый возраст. В нём считалось более восьми тысяч жителей и шесть или семь каменных церквей, исключая двух; дома же все были деревянные. Общества никакого не было; места еще не все были заняты, а те, кои на них были назначены, не все еще прибыли.
У губернатора за обедом, к удивлению нашему, встретили мы Довре с его свитскими офицерами. Они ехали еще тише нас; дорогой фуры их все поломались, и уже несколько дней жили они в Томске, чтобы совершенно их вычинить; нетерпеливый Шуберт с сыном ускакал вперед. Впрочем это было уже не в первый раз, что мы догоняли и обгоняли посольские транспорты, которые теми же причинами были останавливаемы; также и они нас обгоняли иногда. Порядок шествия нашего был вовсе разрушен. Целыми сутками после нас прибыл Нелидов с Сухтеленом, когда еще Довре не уехал, и чтоб иметь лошадей в дороге, по неволе должны были они на несколько дней тут остановиться.
Скучно, томительно было нам в Томске. Губернатор был человек прекрасный, даже багровый, сказал я выше, но слишком серьёзный, и предметы разговоров его мне казались совсем не занимательны; Сухтелену полюбился он более всех, ибо хорошо кормил нас. Дни стояли ясные, но начинали коротеть, а ночью небо покрывалось обыкновенно тучами, так что зги было не видать. Нелидов с отделением жил на другом конце города, в полутора верстах от нас и спозаранку убирался домой; во всём городе мало еще было дрожек, а об извозчиках уже и не спрашивай; чтоб увидеться с своими товарищами, должны мы были ночью с фонарем в руках странствовать по пустым улицам.
Вдруг прискакал курьер с известием, что за ним следует сам посол со свитою своею. Какая быстрота и какая деятельность! Он только в половине июля оставил Петербург и в один месяц успел не только сделать 4500 верст и промчаться через восемь или девять губерний, но на бегу обревизовать в них дела и на лету написать о том донесения. Мы ахнули, ибо Довре только что накануне выехал: посол, может быть, не захочет остановиться, мы должны будем его пропустить, за несколько дней остаться в Томске и обратиться в хвост главы нашей, Головкина.
Через несколько часов после приезда курьера узнали мы, что губернатор поехал сам встретить посла на берегу реки Томи и проводить его оттуда в приготовленный для него каменный дом купца Мыльникова, лучший в городе. Мы не замедлили туда явиться во всей форме и были приветствованы милостиво. Мы нашли его окруженного Байковым, Ламбертом, Нарышкиным, Доброславским, Ренаном; другие чиновники еще не прибыли, а некоторые с его дозволения из Екатеринбурга отделились от него, чтобы взглянуть на Тобольск. Он объявил нам, что намерен три дня пробыть в Томске, чтобы осмотреть присутственные места; они едва были открыты, и крайней надобности в том не было, но от Екатеринбурга скакал он без памяти, и ему хотелось отдохнуть. Вследствие того и приказал он нам немедленно отправиться и дожидаться его в первом городе, до которого однако же было еще пятьсот верст.
Мы с Хвостовым преспокойно легли спать и на другой день не слишком рано отправились. На второй станции нашли мы Клемента, Гельма и наш обоз, примкнули к ним и вместе пустились гнаться за Сухтеленом и Нелидовым, которые, желая в точности выполнить приказание начальника, еще до свету выехали. Мы догнали их только ночью на одной станции, на которой решились они несколько часов отдохнуть и нас дождаться.
Мы шибко ехали теми беспредельными лесами, которые неизвестны старому миру. Во времена Тацита существовали они в отчизне Тевтонов, в глухой тогда Германии и им были описаны; в Америке поэтически вдохновен ими был Шатобриан; в Засурском лесе видел я их образчик. Но не мне дано изобразить их величественный ужас. Где мы ни ехали дотоле, исключая Барабинской пустыни, везде пахло жильем; а тут начинаешь чувствовать отсутствие населения. Правда, каждая станция деревня, но других мы не видели; еще далее, и находишь более почтовых дворов, нежели селений. Между тем положение мест становится тут опять более и более гористо. Ачинская крепость, тогда посад, а после нас уездный город Ачинск, вероятно был укреплен не для защиты от неприятелей, а от разбойников, в ущельях гнездившихся. Следуют за тем две ужасные станции, Большие и Малые Кемчуги, каждая по 35 верст; пространство между ними наполнено вертепами.
Посреди сих мрачных мест находится открытое, и на нём является вам чистенький и веселенький городок: это Красноярск, где нам велено было дожидаться проезда посла. Мы всё подвигались на Восток, но вместе с тем и на Юг, и от того-то внутри Сибири, к концу августа, в Красноярске встречены еще были красными днями. Что может быть лучше? Мы имели жар с прохладой. Впрочем, не нас одних погода хотела собой попотчевать: она тут круглый год поступает так с жителями, как они нас уверяли. Более двенадцати пасмурных дней не бывает у них в году, сказывали они нам, то есть по одному на месяц, и обыкновенно в эти дни или сыплет снег, или ливмя льет дождик, покрывает или освежает землю, а потом делается опять чисто, делается жар или мороз. Не завидно ли это покажется петербургским жителям и особливо жительницам? Старухи шестидесяти и более лет сохраняют в этом чудном городке здоровье и все признаки ого: белые зубы, алые щеки и черные волосы. Величайшим же украшением Красноярску служит Енисей, река-море, которой нет равной, нет подобной ни в Европе, ни в России. Здесь не клубится беспредельный Енисей, как сказал первый из нынешних наших поэтов[95], может быть далее, может быть в другое время, а перед нами столь же величаво, как и быстро, катил он прозрачные, как стекло, студеные струи свои. А за ним вдали, как будто вблизи, рисовались и красовались высокие Саянские горы, отрасль Алтайских. Величайшая из них казалась досягаемою для руки, а была в 20 верстах от Енисея; отличающая ее от других гор нагота служила доказательством недавнего её существования: лет за пятьдесят перед тем, силою подземного огня, часто тут колеблющего землю, была она вытолкнута из недр её и воздвигнута на этом месте.
Нас посетил один ученый, который имел постоянное пребывание в этом городе. Г. Спасский посвятил себя изысканию всех предметов, могущих сколько-нибудь объяснить древность Сибири. Он полагал, что вероятное переселение через нее народов должно было оставить за собою их след, и всюду искал его. Для того лазил он по горам, списывал на ребрах их иссеченные надписи на непонятном языке, с удивительным чутьем угадывал места старых могил и довольно удачно иногда в них рылся. Таким образом составил он себе изрядный музей из хартий, оружий и маленьких бурханов или медных идолов. Груды его были признаны полезными, одобряемы и поддерживаемы Академией Наук.
Знатные люди в России ничего долго вынести не могут, ни труда, ни покоя, ни даже веселья. Граф Головкин прискакал, когда мы еще не ожидали его, кажется, на другой день после нас; побежал взглянуть на стены присутственных мест, пригласил нас к себе обедать, много шутил за столом, а после обеда опять сел в коляску. Через два дня и мы за ним последовали.
От Канского острога, ныне города, и реки Кана, одной из главнейших между второстепенными Сибирскими реками, начиналась Иркутская губерния. Бесконечный лес и тут продолжает тянуться в ужасной красоте с столетними дубами своими, вековыми кедрами и необъятными лиственницами. Одно происшествие, тут случившееся со мною, довольно ужасно, чтобы рассказать здесь об нём. Начинало смеркаться, и тучи заволакивали небо. Сухтелен пожелал остановиться на весьма хорошем почтовом дворе, куда мы приехали. Спешить было не к чему; но я рассчитывал, что еще рано, что мы легко можем сделать одну станцию, мне хотелось выиграть ее, и я уговорил Нелидова не слушать старика. Он рассердился на меня за то и не пустил к себе в коляску; я же преспокойно залег в кладовую, на этот раз ссылочную мою бричку и крепко заснул, лишь только тронулись с места. Жестоко был я наказан за неуважение к старости: когда я проснулся, измученные лошади, самые худшие из всех, которых нам дали, стояли неподвижно, несмотря на усилия и побои ямщика и моего Гаврилы; а между тем дождь, которого во сне не слыхал я, более часа лил как из ведра. Ночь была такая, что хоть глаз выколи, а от спутников моих мы давным-давно отстали. Мне объявлено, что другого средства нет, как отпрячь одну из четырех лошадей, самую крепкую, сесть на нее и шажком за свежими конями поехать на станцию, до которой однако же было более шести верст. Меня взяло раздумье, кому из нас ехать. Страшная рожа ямщика, которую видел я с вечера, и грубый, охриплый голос его, который я слышал, заставляли меня подозревать со стороны его дурной умысел — привести к нам своих товарищей; оставаться с ним было не весело, а ехать одному, лесом, в такую ночь, также не совсем было приятно. Я решился однако же на последнее; перекрестясь, трях-трях потащился я верхом, весь орошаемый сверху шумным водопадом. Сбиться с пути было невозможно: широкая просека шла на тысячу верст, боковых, проселочных дорог не было. Не знаю, проехал ли я более половины предлежащего мне пространства, как вдруг услышал в лесу страшное завывание стаи волков. Я обмер; конь мой вздрогнул, то останавливался, то пытался идти рысью. Снаружи леденел я от сырости и холода, внутри кровь начинала застывать в жилах моих. Машинально, без памяти сидел я, и теперь не понимаю как меня пронесло.
Привычный конь сам собою остановился у крыльца почтового дома, из которого высыпали любопытные. Меня должно было снять, и все изумились моей бледности, когда ввели меня в комнату, расспрашивать было нечего: еще и тут был слышан вой. Когда я немного опомнился, первое слово мое было моление о помощи оставленным мною в лесу, и тотчас за ними были посланы вооруженные ямщики. Все с беспокойством старались меня отогреть, напоить горячим; сам Сухтелен много хлопотал, сопровождая однако же заботливость свою ворчаньем и упреками. Странно, что я забыл название сих станций: видно, страх отшиб у меня память.
Следующую ночь провели мы в жалком городе Нижнеудинске, в котором от общества выстроен был особливый дом для проезжих по казенной надобности. Мы еще не успели встать с постели, как явилось четыре проезжих, именно те, кои, сопутствуя послу, оставили его, чтоб увидеть Тобольск: Васильчиков, Бенкендорф, Гурьев и Перовской. Мы оделись и, заказав общий большой обед, пошли с ними прогуливаться не столько по городу как вокруг его: ибо в нём видеть было нечего. Так как эти господа ехали в двух колясках, и не могло быть большой разницы в числе лошадей, то и согласились мы отправиться компанией до Иркутска, к которому подъезжая, казалось, мы на последней станции; и действительно, до него оставалась безделица, всего только пятьсот верст. За обедом, Бенкендорф довольно рассеянно сказал нам одну весть, которую мы столь же равнодушно и спокойно приняли: в Тобольске получено было известие, что гвардия начинает выступать из Петербурга. Против кого? Да, разумеется, против французов; когда мы воротимся из Пекина, то успеем еще узнать о победах наших, подумал я.
Менее суток проехали мы вместе с нашими же новыми товарищами; наша медленность, тяжесть наших фур, дурная привычка каждый день ночевать, им не понравились, и они нас кинули. Однако же, на беду одного из них, решились они переночевать в одной деревне, на берегу широкой реки, которой имя не вспомню: их было так много. Гурьев не согласился, оставил коляску свою Бенкендорфу, а сам с одним слугой, переправясь через реку, поскакал в перекладной телеге, чтобы первому явиться к послу в Иркутске, месте общего нашего сборища. Оставшиеся еще не спали, когда услышали несколько глухо до них дошедших выстрелов и думали, что он впотьмах изволит тешиться; каково было их удивление, когда поутру на следующей станции нашли они его истерзанного, почти помешанного. Вот что случилось с ним. Едва успел он отъехать три версты от переправы, как некто стоявший посреди дороги, им в темноте не замеченный, схватил лошадей его и остановил их. Гурьев, полагая, что он имеет дело с одним человеком, не трусил, выстрелил в него и не попал; в ту же минуту сам услышал несколько выстрелов и увидел себя спереди, сзади и с боков окруженным вооруженными людьми, выскочившими из леса. Сопротивление было невозможно; они обезоружили его, связали как его, так и слугу и ямщика, и всех трех вместе с лошадьми и телегой поволокли в глубину леса. Там отыскали они знакомую им поляну, остановились на ней, завязали глаза трем пленникам своим, а их самих, стоймя, руками назад, привязали к деревьям; потом разложили огонь, открыли чемодан и стали в нём копаться.
Обыск вероятно не отвечал их ожиданиям, ибо они начали с досадою говорить о сделанной ими ошибке. Из слов их видно было, что они поджидали какого-то купеческого приказчика с десятками тысяч рублей, и что же нашли? немного платья, немного белья, вышитый мундир, который мог быть для них уликой, и денег только что на прогоны. Пошли между ними совещания, от коих у бедного Гурьева по коже подирало; мнения были несогласны: одни требовали чтобы людей зарезать, а лошадей и пожитки увезти; другие, более склонные к милосердию, полагали, что надлежит довольствоваться малой наживой, захваченных же ими следует выпроводить на большую дорогу, взяв с них наперед клятвенное обещание, что, во мзду даруемой им жизни, они никому не будут говорить о том что с ними происходило. Спорили долго, наконец остановились на мысли одного разбойничьего доктринёра, чтобы взять деньги и золотые часы, а пленников, не убивая и не отвязывая, предоставить произволу судьбы. Приговор исполнен, они удалились.
Я не люблю Гурьева, но и до сих пор не могу вспомнить без сострадания об ужасе его положения. Подобно мне, и еще более беззащитен, мог он ожидать нападения хищных зверей. Занялась заря и поднялись насекомые, Сибирские страшные насекомые и начали покрывать язвами все открытые части его тела. Среди этой пытки в беспамятстве рвался и метался он, и от того веревки, коими он был прикреплен, вытягиваясь, оставили некоторую свободу его рукам; он воспользовался тем, вооружился терпением и наконец высвободил как себя, так и сомучимых своих. Лошади, телега, чемодан, всё тут было, и даже один забытый разбойниками предмет, который он не оставил взять с собою: длинный нож с примечательною рукоятью. Не без труда выбрался он на дорогу и приехал на станцию, почти вместе с товарищами своими, которые эту ночь весьма спокойно проспали.
По представленному Гурьевым ножу, виновные были потом отысканы. В близости от сей дороги существовала казенная суконная фабрика, основанная при князе Потемкине, когда сей необыкновенный человек мечтал между прочим и о завоевании Китая; туда из России ссылались на вечную работу люди пойманные в разбое; за ними был плохой присмотр, и некоторые из них, шатаясь, по старой привычке, брались за прежнее ремесло.
На свежие, на горячие следы приехали мы на станцию, через несколько часов после происшествия, о котором с великими подробностями рассказал нам станционный смотритель. Следующую ночь, разумеется, остановились мы, хотя находились близко от Иркутска. Сия ночь была последняя, которую провел я в обществе моих, скажу, милых спутников, всегда снисходительных, всегда веселых. Во время продолжительного пути кто ни ссорится? А мы два месяца на большой дороге жили душа в душу.
Хотя мы и были в Сибири, но всё-таки на самом Юге её, под 52-м градусом северной широты, и от того-то сентябрь совсем не сентябрем смотрел на нас: погода стояла прекрасная, такая, как в Петербурге иногда бывает она невзначай среди августа. В день Рождества Богородицы, 8 числа, остановились мы в виду Иркутска, у Вознесенского монастыря, вошли в церковь, исключая еретиков Сухтелена и Гельма, приложились к мощам Св. Иннокентия, просветителя сих стран. Потом начали мы переправляться через широкую Ангару, реку-поток, с яростью вырвавшуюся из Байкала; быстрее и прозрачнее её, кажется, нет реки в мире: на глубоком дне её видны все песчинки. Долго продолжалась церемония нашей переправы, ибо далеко надобно было подыматься против течения, чтоб оттуда стрелой спуститься к пристани. Весь Иркутск, на ровном месте, вытянут по Ангаре. Солнце так и сияло, что придавало ему какой-то праздничный вид, когда мы подплыли к нему. Надобно было случиться, чтобы посол, который жил на самом берегу, вышел в это время прогуляться; но он вышел не инкогнито, а в шитье, в лентах и звездах, в сопровождении всей собравшейся, многочисленной свиты своей, когда кругом народ валил, чтобы поглазеть на его величие. Он остановился у пристани и первый в Иркутске встретил нас ласковыми словами. Глаза мои в толпе устремились на Гурьева; красных пятен не было на лице его, по он похудел, и я расчел, что несколько фунтов жиру должно было в нем растаять в жаркую для него ночь. Тут же при после был и городничий, который стал разводить нас, то есть дал по проводнику, чтобы указать назначенную каждому из нас квартиру. В этой суматохе мы не успели порядочно проститься.
Я еще тогда не брился, следственно туалет мой не мог долго продолжаться; поместили же меня близко от посла, и я поспешил к его обеденному столу, на который сделал он нам общее приглашение.
Дом, где он имел жительство, был выстроен при Екатерине генерал-губернатором Якоби, который так долго начальствовал в Иркутске и еще долее находился потом под судом. Его называли дворцом, все генерал-губернаторы жили в нём, и последний, тут находящийся, Селифонтов уступил его приезжему гостю. Дом этот был деревянный, в один этаж, но чрезвычайно длинен и высок; комнаты были огромные, особенно три: приемная зала, столовая и большая гостиная; первые две были пестро расписаны по штукатурке, последняя обита зеленым атласом в позолоченных рамках. Посвятив несколько дней отдохновению, посол первый раз принимал в сих чертогах; всё посольство на лицо, до пятидесяти человек вместе наполняли их и садились за один стол, за которым находились и местные начальники: генерал-губернатор Селифонтов, бывший военный губернатор генерал-лейтенант Лебедев, гражданский губернатор Корнилов, виц-губернатор Шишков и многие другие. В боковой комнате гремела музыка, отличный повар француз приготовлял обед, который подавали на богатом казенном серебряном сервизе, и тщеславный граф Головкин сиял веселием.
Начиная с этого дня, сии торжественные, сии пышные обеды сделались ежедневными; мы имели право, а отнюдь не обязанность, являться на них, хотя впрочем в этом только состояла тогда вся служба наша. Мы бы могли в иные дни пользоваться и приглашениями Иркутских жителей; мы не получили их, ибо сии жители были одни чиновники и купцы. Мы часто слышали похвалы какому-то старинному русскому хлебосольству; если оно и существовало когда-нибудь, то в одном только дворянском сословии: может ли в мире быть что-нибудь негостеприимнее русского купечества? Обычай и тщеславие заставляют наших купцов праздновать крестины и именины, свадьбы и похороны; тогда только, без меры и без вкуса, кормят они званых на убой; остальное же время, двери на запор, в кругу своего семейства довольствуются они самою умеренною, простонародною пищей. В наш расчетливый век и дворяне начинают перенимать у купцов. В знойных пустынях Аравии гостеприимство между бедуинами есть исполнение долга, предписываемого Кораном; такого гостеприимства мы иметь не обязаны: у нас везде постоялые дворы, заезжие дома и гостиницы. В Европе гостеприимство есть следствие потребности в общежитии; мы его также иметь не можем, ибо сей потребности не чувствуем.
Между иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю с Китаем, были миллионщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другие; но все они оставались верны старинным русским, отцовским и дедовским обычаям: в каменных домах большие комнаты содержали в совершенной чистоте, и для того никогда в них не ходили, ежились в двух-трех чуланах, спали на сундуках, в коих прятали свое золото, и при неимоверной, даже смешной дешевизне, ели с семьею одну солянку, запивали ее квасом или пивом.
Совсем не таков был купчик, к которому судьба привела меня на квартиру. Алексей Иванов Полевой, родом из Курска, лет сорока с небольшим, был весьма не богат, но весьма тороват, словоохотен и любознателен. Жена у него была красавица, хотя уже дочь выдана замуж; он держал ее на заперта, и мы, кажется, друг другу очень понравились. Он гордился не столько ею самою, как её рожденьем: у них был девятилетний сынишка, Николай, нежненький, беленький, худенький мальчик, который влюблен был в грамоту и бредил стихами. С худой ли, с хорошей ли стороны он теперь известен всей России. Я всякий день ходил обедать к послу и только вечером знал хлебосольство моих хозяев. Можно было подумать, что они хотят меня окормить. Насытясь от французского обеда, я за ужином без пощады опоражнивал русские блюда; не знаю, кого из супругов мне благодарить или бранить за сие пресыщение. Я думаю однако же скорее жену.
Никакой нужды не имел я искать в Иркутске знакомства; я не успел еще хорошенько свести его в Петербурге со многими из моих товарищей, в Иркутске сделалось это скорее, и мы проводили вечера во взаимных посещениях. К счастью, погода не менялась, и пешеходство не было для нас тягостью. Некоторые из нас сочли однако же не излишней учтивостью сделать утренние визиты двум старшим начальникам, генерал-губернатору и гражданскому губернатору, о которых необходимо приходится мне здесь говорить.
Семидесятилетний старец, Иван Осипович Селифонтов, еще дюжий и плотный, хотя не весьма большего роста, был в молодости своей моряк. Нечаянный случай сделал его лично известным Екатерине, которая, угадав в нём хорошего губернатора, в сем звании назначила его в Рязань; надобно полагать, что она не раскаивалась в сем выборе, потому что девять лет спустя сделала его генерал-губернатором Пермским и Тобольским. С упразднением сего места при Павле посажен он в Сенат и долго слыл в нём чудом бескорыстия и правосудия. Между тем Тобольская губерния почиталась внутреннею, а Иркутская, пограничная, находилась под управлением военных губернаторов. Когда в 1803 году признали за благо из сих двух губерний сделать три, под общим названием Сибирских, поставив над ними одного генерал-губернатора, то общее мнение на сие место призвало Селифонтова. Он сначала отговаривался и насилу принял должность, многотрудную для добросовестного человека. Он поселился в знакомом ему Тобольске и, оставив там всё семейство свое, приехал на несколько месяцев в Иркутск, когда на беду его и на несчастье Сибири судьба пригнала в нее китайское наше посольство.
С появлением Головкина наступило полное его затмение. Он не кичился, не соперничал с ним, но, будучи в одном с ним чине и звании сенатора, не хотел слишком кланяться. От самой Москвы, посол встретил первого человека, который не согнул перед ним колена и почитал себя ему равным: этого гордость его перенести не могла. Были, может быть, некоторые беспорядки: на таком обширном пространстве как исправить их в короткое время? Правитель канцелярии, Бакулин, немного чванился и пользовался недозволенными выгодами; но от них был он только что сыт, а отнюдь не богател. Ни об одной вопиющей несправедливости мы не слыхали: веселость, довольство и изобилие между людьми простого звания, которое везде встречали мы, служили явным доказательством доброго управления. Грубые шутки Байкова, которые имели мы глупость повторять, дошли до жителей, а люди всегда готовы жаловаться из пустяков, когда подается им малейший к тому повод. Не знаю, что именно писал Головкин в Петербург, лишь знаю, что в донесениях своих представил положение Сибири в самом черном виде.
Почтенный Алексей Михайлович Корнилов, к сожалению, также не совсем ладил с Селифонтовым, и от этого был в большой милости у посла. Дом его мог почитаться единственным в Иркутске; миловидная и добродушная жена его Александра Ефремовна, урожденная Фан-дер-Флит, в нём угощала нас и своею непринужденною, можно сказать, неумышленною любезностью всем нравилась. В день коронации, 15 сентября, была она хозяйкою на многолюдном, и, говорят, престранном бале, который городу давал Головкин. Я не опишу его, ибо простудившись не был на нём.
О прибытии своем в Иркутск, граф Головкин, чрез нарочно посланного курьера на границу, уведомил китайское правительство; вместе с тем сообщил он ему подробный список о всех находившихся при нём чиновниках и служителях. На послание свое не замедлил он получить ответ, в коем правительство сие, всегда склонное к подозрениям, непременно требовало от него уменьшения свиты. Желая показать снисходительность, граф послал новый список с значительною убавкою его сопровождающих. Тайна сих переговоров была известна только Байкову и Ламберту; надобно однако же было, наконец, объявить об ней, и как посол вообще не любил старости и в особенности чувствовал отвращение от астронома Шуберта, то он с сыном первые были пожертвованы. Можно себе представить бешенство надменного старика: он в ту же минуту потребовал подорожную и на другой же день уехал из Иркутска.
Между тем с ним поступили вежливо в сравнении с теми, от коих сочли нужным скрыть их выключку. Их, Бог весть зачем, потащили на границу, чтобы, в минуту переезда через нее, сказать им: «теперь ступайте назад». Я находился в числе их.
Полагая, что за тем нет уж никаких препятствий ко вступлению ему в Зайцынское царство, посол начал приготовляться к отъезду. Прежде всего надобно было отправить наши тяжести, накопившиеся в Иркутске. Я никак не мог думать, что буду иметь честь, вследствие нового распределения, сделаться начальником первого обозного отделения. Я узнал руку Байкова, который хотел низвести меня на степень низшего разряда чиновников. Что было делать? Я повиновался, утешаясь надеждою, что буду в Китае, если хотят обратить меня в нужного человека. На меня взвалили с полдюжины зеркал, которые, необъятною своею величиной, должны были ужаснуть и прельстить китайцев; не думал ли Байков, что я разобью их? Но мне дали двух проворных унтер-офицеров, которые от самого Петербурга во всю дорогу неотлучно при них находились.
Предводительствуя зеркалами, первый и один отправился я из Иркутска 22 сентября после обеда. Тут кончается для меня Сибирь и начинается всё то, что имел я общего с Китаем. Для описания того нужна мне особая глава.
X
Байкал. — Кяхта. — Вонифатьев. — Алтай. — Ссыльные.
Только что выедешь из Иркутска, начинаются чрезвычайно высокие горы, покрытые лесом, по обеим сторонам Ангары. У подошвы сих гор, по берегу сей быстрой реки, в несколько часов проехав шестьдесят верст, увидел я Байкал, из которого она вытекает. Далее, направо и налево, те же самые горы, всё более и более воздымаясь, идут на несколько сот верст вокруг всего этого чудного озера, прозванного с сем краю сердитым и святым морем. Они обхватывают его на всём его протяжении и образуют как бы продолговатую чашу, на дне которой колыхаются его воды.
Обыкновенно, от Лисвинишного мыса, на которым я остановился, до Зимовья Голоустного, делают еще шестьдесят верст вдоль Байкала, чтобы переправиться через него в самом узком месте, где он имеет только 55 верст ширины. Но тут, у истока Ангары, нашел я суда, назначенные для перевозки тяжестей посольства. Немного поодаль, в стороне, стоял на якоре единственный фрегат сего моря и дожидался посла и его свиты, им управлял какой-то флотский офицер.
Как я на Лисвинишный мыс приехал вечером поздно, то и не мог ранее следующего утра начать нагрузку порученных моему надзору огромных ящиков, что надлежало делать с величайшею осторожностью. Весь этот день, 23-е число, был на то употреблен: как в сем деле я ничего не смыслил, то и положился совершенно на своих унтер-офицеров, а сам, пользуясь наиприятнейшею погодой, карабкался по горам, чтоб открывать оттуда удивительные, хотя и пустынные виды.
Суда на Байкале, называемые досчаниками, суть не что иное, как большие барки, немного более тех, кои ходят по Волге, ими также управляют лоцманы, которые в знании мореплавания должны уступить простым матросам. Я никак не подозревал опасности своего положения, когда бестрепетно ступил на свой досчаник 24-го числа, часу во втором по полудни. В это утро, как и накануне, погода стояла довольно тихая, нам дул попутный ветер, не с большим сто верст должны мы были переплыть, и я рассчитывал, что буду ночевать на противном берегу.
Лишь только вышли мы в открытое море, как стал накрапывать дождик, и ветер начал меняться. Я этого не заметил, а от дождя укрылся внизу, где было довольно светло, чтобы мне приняться за чтение. Когда стало смеркаться, вышел я на палубу и спросил: далеко ли мы еще от пристани? Тут узнал я, что мы плывем сами не знаем куда, что иногда берег теряется из вида, иногда опять открывается, но что утвердительно сказать где мы, никак невозможно и что, вероятно, будем мы кататься во всю ночь. Это меня крайне озадачило; однако же я подумал, что качка усыпит меня, а утром мы опять найдем дорогу. Между тем, ветер, часто меняясь, около полуночи до того усилился, что сделалось страшно; с своей стороны, дождь не только не уменьшался, но по временам казался воздушным морем, и я ни на минуту не мог заснуть. Мои унтер-офицеры, люди петербургские, старались скрыть от меня опасность; но, при свете фонаря, я прочел ее в отчаянных взорах лоцмана и его работников. Итак я могу похвастать, что раз в жизни видел морскую бурю; представить же ее не берусь. Читая описание кораблекрушений в романах Эжена Сю и капитана Марриета, которые в этом деле великие мастера, мне всегда становится и страшно и скучно; куда же мне за ними гнаться! Однако же, всё было как следовало, все шло обыкновенным порядком: и паруса рвались, и снасти трещали, равно как и самый корпус утлой нашей ладьи. Я не молился, не плакал, не роптал, не клял на судьбу свою, а просто как-то одурел. Но скорее к концу; утром всё опять утихло, прояснилось, мы открыли дорогу и перед вечером причалили к длинной косе, ведущей к так называемому Посольскому монастырю.
Тут были две-три избы для странников и тройка с телегой, чтобы посылать за лошадьми в слободку, находящуюся у сказанного монастыря. С слугою своим и имуществом сел я в телегу и поскакал, поручив команду свою старшему из унтер офицеров и уполномочив его действовать в мое отсутствие по своему усмотрению. Пока продолжалась выгрузка, думал я отдохнуть в стенах святой обители. Когда я подъехал к ней, ударили в колокол к вечерне, я от души перекрестился и вошел в церковь. Это было накануне Иоанна Богослова, и в сем монастыре, называемом Преображенским (Посольским не знаю почему) был придел во имя сего евангелиста; можно себе представить, как усердно молился я ему. Игумен позвал меня к себе и стал потчевать, чем бы вы думали? ломтями разрезанного большего огурца, пересыпанными мелким сахаром. А я, который полторы сутки ничего в рот не брал, кроме чаю и вареных скверных омулей (Байкальских сельдей), и которому так нужно было укрепить себя пищей, я чуть было к чёрту не послал святого отца и с братией. Вообще же в этом монастыре, в коем самая ограда была деревянная и одна только церковь каменная, как показалось мне, царствуют такое невежество, грубость, нищета и нечистота, что я не решился в нём остаться. Выпросив лоскут бумаги, написал я к унтер-офицеру, что поручаю ему свою бричку и продолжаю время его владычества до приезда в первый город, где я буду его дожидаться. Как люди, которые во всём себе отказывают, чтобы после вполне насладится, так не щадя покоя, чтобы скорее добиться его, ехал я всю ночь и, сделав полтораста верст, прибыл рано поутру в уездный город Верхнеудинск. Он был гораздо обширнее, красивее и опрятнее Нижнеудинска и почитался первым в этом Забайкальском крае. В нём более пятнадцати лет городничествовал Иван Алексеевич Сенной, толстенький, веселый старичок, с Георгиевским крестом в петлице, который постоем у себя отвел мне квартиру. С первого взгляда домик его напоминал мне петербургские дачки; он стоял на дворе с крылечком прямо из комнат в большой палисадник, отделяющий его от улицы; в сем садике заметил я несколько кустов и стебли подсолнечников, но летом, по словам хозяина, наполнялся он бархатцами, желтофиолями, настурциями и бальзаминами. Вообще было много в г-не Сенном, по моему мнению, похвальных прихотей. В доме его, где всё было вымыто и выметено, видел я беленькие занавески у окон и зеркальцы между ими; множество птиц в клетках и картинок в рамках было развешено на потолках и по стенам; всё житье его и стол показывали в нём если не совсем образованный, то образующийся вкус.
Семья его состояла из жены и молоденькой, изрядненькой дочки. Предметом разговоров моих с ними всё был какой-то артиллерийский поручик де-Барбиш, который два года тут прожил, потом уехал, но непременно к ним воротится. Этот настоящий, или русский, французик, успел вскружить голову всему семейству; его рисунки под стеклами в почете висели отдельно от других картинок, девочку он выучил играть на гитаре и петь русские песенки, матери помогал вышивать; воспоминания о нём примешивались ко всем ежедневным их упражнениям. Один раз позволил я себе бедной девушке шепнуть на ухо, что завидую участи де-Барбиша; посмотрели бы, как, вспыхнув, она сердито на меня взглянула! Не случилось мне узнать, что сделалось после меня; но как сибирские жители суть, или по крайней мере были при мне, весьма легковерны и неопытны, то боюсь за бедных Сенных.
Как из посольства я первый показался за Байкалом, то в Вернеудинске играл роль знаменитого путешественника и вместе отменно-доверенной особы, когда попечениям моим поручены столь же огромные, как и драгоценные предметы. Бегали смотреть на меня по улицам, и сам почтенный Сенной был со мною чрезвычайно почтителен; дома же не знал чем накормить. Таким образом катался я только два дня как сыр в масле, пока в целости не подвезли мне моих зеркал. Я бы еще побыл, как вдруг наехали Теплов, Хвостов, Струве, Мартынов и другие чиновники с обозами: я почувствовал, что моя роль кончена и в ту же минуту поспешил появлением моим удивлять другие места.
Немного оставалось мне пространства и времени: в тот же вечер, неподалеку от города Селенгинска, обогнал меня секретарь посольства граф Ламберт и довольно повелительно сказал мне, чтоб я более торопился. Меня это удивило: я не знал, что Головкин послал его вместо себя на границу принять начальство над всеми отправленными туда чиновниками. Не менее того стал я спешить, и как от Селенгинска оставалось мне всего езды 90 верст, то я переменил в нём только лошадей и на рассвете 29 сентября приехал в Кяхту.
Я ошибся, в Троицкосавскую крепость. Настоящая Кяхта, в которой живут одни купеческие приказчики, всего на всё не более полутораста душ, находится четыре версты далее, на самой черте нашей границы, расстоянием на пушечный выстрел от китайского торгового селения Маймачина. А Троицкосавск, довольно большой городок, на ручье Кяхте, заложенный в Троицын день послом Саввою Рагузинским, вмещает в себе главную таможню, её чиновников, купцов и значительное число жителей; сверх того, пограничную военную команду. Примечательно, что, следуя общему правилу, принятому для пограничных мест, в Троицкосавске не позволено иметь ни одной кирпичной стенки; кажется, нападательной войны с этой стороны ожидать не можно, разве восстал бы какой-нибудь новый Чингис-хан. Самое название крепости и острокольный, бревенчатый, полуразрушенный забор, под именем укрепления, также довольно смешны.
Лучшие дома в Кяхте (для сокращения так буду называть я Троицкосавск) принадлежали таможенным чиновникам; по ним разместили нас. Как о трактирах тут понятия не имели, то они же вызвались и обязались продовольствовать нас пищей. Мне на долю, или я ему, достался великий чудак, некто Семенов, самый тяжелый, несносный, мрачный и несколько помешанный человек. Нас разделяли сени; одну половину, состоящую из двух малых комнат, уступил он мне, другую, такую же, оставил для себя с женою, пожилых лет, как и он. Не довольствуясь всегда у меня со мною обедать, как хозяин, почитал он себя в праве входить ко мне во всякое время, когда заблагорассудит; сидит по целым часам, смотрит печально, каждые десять минут выпуская по слову. Спасения не было от него; скажешь, что хочется спать, ложитесь; что хочу читать: читайте, скажет он, не трогаясь с места. Дорого платил я ему за гостеприимство; такого мучителя еще у меня не бывало; впоследствии должен был я прибегнуть к отчаянным средствам, чтоб избавиться от него.
Не долг, а любопытство заставило меня тотчас по приезде пойти к Ламберту в дорожном платье. Он объявил мне о новых правах своих и с видом неудовольствия дал заметить, что мне не следовало прийти к нему в таком наряде. Я отвечал, что, выехав из Иркутска прежде него, не знал о сделанных новых распоряжениях, что я зашел навестить его, как знакомого, но что если ему угодно, я через час могу явиться в мундире. Он и без того почитал себя моим начальником, и такой ответ сделал мне нового неприятеля.
С каждым днем Кяхта становилась многолюднее: по нескольку чиновников вместе приезжали в нее и, наконец, 6 октября прибыл сам посол. На другой день начались опять Иркутские ежедневные обеды для всего посольства; но казенный дом, в котором посол остановился, не соответствовал их пышности. Длинных деревянных два ящика, соединенных третьим поперечным и несколько ларчиков, сзади к ним приклеенных, составляли этот дворец. Впрочем, мы располагали недолго оставаться и смотрели на него, как на посольскую ставку более, чем на дом.
Между тем проходили дни и недели, и ничто не предвещало нашего скорого отъезда. Чрезвычайная медленность в ответах китайского правительства последовала за первою его поспешностью; придирки, неуместные требования умножились, и время длилось в переписке. Главным препятствием к сближению была всё-таки многочисленность свиты; более всего пугали китайцев сорок драгун с капитаном и двадцать казаков с сотником, данных послу в виде телохранителей. Они рассуждали, зачем воины в мирной и союзной земле? Они могли бы прибавить, что в случае неприязненных поступков такая горсточка была бы слабою защитой; Головкин же уверял, что сии воины неотъемлемая принадлежность его достоинства и на этом пункте стоял твердо. Во всём прочем был он уступчивее; например, на двух чиновников оставил он по одному служителю, их же самих в новый список внес под названием служителей. Такой обман мог легко открыться и навлечь ему неприятностей; не лучше ли бы было, без малейших для себя унижения и опасности, на половину уменьшить свое войско?
Были еще другие, посторонние причины, действовавшие на нерешительность и сварливость китайцев. В начале весны умер благонамеренный иезуитский генерал Патер Грубер, великий помощник наш в сем деле; узнав о сей смерти, агенты его к нам охладели. Мы любим похвастаться, попугать, и чужестранные газеты давно уже говорили о великих приготовлениях наших и каком-то замысле на Китай; добрые же наши союзники, англичане, не оставив того без внимания, имели время предупредить нас и встретить своими происками. Коварное это правительство, которое завистливыми очами глядит на все концы мира, в мыслях тайно пожирает китайскую торговлю и кончит тем, что у нас на носу ею овладеет.
Всё что происходило, скрывалось от нас в глубокой тайне; у нас всегда не кстати секретничают. Но что было жестоко и несправедливо, это требование, чтобы мы не показывали нетерпения; изъявление скуки, малейшее любопытство в сем случае ставились вам в величайшую вину. Люди прибежали к дверям, которых не открывают и не соглашаются им отпереть, и стой очи как истуканы у них! Не знаю право, за кого Головкин принимал своих подчиненных. Всех более или менее спасала беспечность. Стараясь сохранить всю важность государственного достоинства своего, посол, до окончания переговоров, ни себе ни нам не позволял видеть китайцев; для того нам воспрещено было ездить в торговую Кяхту, а их не пускали в Троицкосавск.
Странное было житье разнородного общества, собравшегося на краю света. Обедали все вместе у посла, но что делать из длинных осенних вечеров? Основались приемные дома, и разобраны дни. Нарышкин жил с Бенкендорфом и Гурьевым, Васильчиков с Перовским, Нелидов с Сухтеленом и Голицын с Карауловым. Сим превосходительствам и высокородиям в совокупности отведены были квартиры попросторнее, они были хозяевами четырех сборных мест, а посетителями Теплов, Довре, Струве, Хвостов, Мартынов и я. Ламберт иногда показывался между ними; Байков никогда. Остальные вечера проводили каждый у себя дома; я же, бегая от своего Семенова, из кяхтинского аристократического круга заглядывал и в ученый мир, и в плебейское общество посольства. Спросят, что делали на сих вечерах? Одни важничали, другие врали, буфонили, рассказывали, все разговаривали, никто не курил; потчевали одним чаем, который тут был не в диковинку; наконец, всё переговоривши, иные достали карты и засели в бостон.
Послу, который жил в совершенном уединении с своим секретарем посольства, проведав о том, стало завидно. Кавалеров посольства пригласил он к себе на все вечера, а из нас выбрал четырех, Хвостова, Перовского, Теплова и меня, и велел поочередно на сих вечерах дежурить. Какая разница! Там были мы в сюртуках, а иногда и их снимали, а тут следовало быть во всей форме. Это всем не полюбилось; надобно было как-нибудь помочь беде, и для того положили по переменкам двум только отправляться, чтобы с Байковым составить партию послу. Я никогда не любил карт и почитал великим мучением, чрез три дня просиживать целые часы подле стола и смотреть, как в них играют.
Также никогда не был я великий наездник, хотя и сбирался в кавалерийскую службу, а послу вздумалось верхом разгонять скуку по полам и рощам, в сопровождении приближенных своих, в числе коих, не знаю почему, и меня поместил. Обобрали казачьих лошадей, и мы (по крайней мере в дорожном платье, однако форменном, сером) летучим эскадроном носились по окрестностям Кяхты.
Мы были под 50-м градусом северной широты и хотя на Восток, почти в соседстве с Становым хребтом, почитаемым за одно из высочайших мест в мире, однако же в ноябре еще не чувствовали зимы. Снег иногда перепадывал, но был тотчас поглощаем песчаным грунтом земли, на котором построена Кяхта. Обыкновенно ее почитают началом Кобийской степи, отделяющей нас от Китая, а я полагаю его в Селенгинске; ибо природа в сих странах везде почти одинакова; везде ровное место, песчаные холмы, мелкие речки и тощие лески.
Верховые наши прогулки бывали и забавны; по приглашению Головкина иногда сопровождал нас сморщенный немчик Струве. Великий мистификатор, Бенкендорф, успел уверить его, что послу будет весьма, приятно если он оденется в казацкое платье. Надобно было видеть несчастную, печальную фигурку латиниста, педанта, иллюмината верхом, в этом наряде, с высокою шапкой и парою пистолетов за поясом. Покорность этого человечка, которому нельзя было не видеть, что его дурачат, не знаю чему приписать: подлости ли, немецкому ли, или христианскому терпению? Подходил Юрьев день, 26 ноября, именины Головкина; стали думать, какой ему сделать сюрприз, чем бы его развеселить? Без Струве дело обойтись не могло. Нашли какую-то французскую фарсу, шараду в стихах, Кокатрикс, в которой несколько мужских лиц и одна женская роль; он согласился ее принять и явился в юбке, в диадеме, в румянах и в локонах, с неподвижно-серьёзным лицом.
Одного нельзя было сделать: заставить его плясать, ибо не с кем было. Мы затевали бал и для того выписали из Селенгинска единственную даму, которая собой могла другим подать пример, жену генерал-майора Винклера начальника гарнизона. Ей до смерти хотелось. Родившись в Усть-Каменогорской крепости на Иртыше, она там выросла и вышла замуж и, переехав прямо с сибирской линии на китайскую границу, она достигла тридцатилетнего возраста, никогда не видавши как танцуют. Она обедала и проводила вечера у Головкина. Ничто не подействовало на кяхтинских невидимок-жительниц, ни её пример, ни власть посла и генерал-ревизора. Азиатские нравы существовали тут во всей своей силе.
Всему виною был статский советник Петр Дмитриевич Вонифатиев, который более пятнадцати лет управлял Кяхтинскою таможней. Такого хитрого и смелого плута еще свет или по крайней мере Россия не производила; он успел русским внушить страх и повиновение к себе и приобрести совершенную доверенность китайцев. Таким образом господствовал он по всей границе: ничто не делалось без его спроса; его воля была закон, вся китайская торговля на нём как на оси вертелась. Нужно ли сказать, что он исполнен был ума и твердости. Будучи низкого происхождения и занимая дотоле одни низшие места в отчизне своей, он, кажется, не слишком ее любил и почитал отечеством своим то место, где владычествовал. Говорили о несметном его богатстве; но время показало, что оно совсем не было так огромно, как полагали; следуя обычаю, он пользовался выгодами, которые получали тогда все таможенные чиновники, но корыстолюбие всегда уступало у него место властолюбию. В Петербурге имел он большие связи с Коммерц-коллегией и пользовался особым покровительством министра графа Румянцева, личного неприятеля Нарышкиных и зятя их Головкина.
Человек этот был деспотом и в семействе своем; жену с двумя хорошенькими дочерьми, кроме церкви, никуда не пускал; когда же мы приехали, то и храма Божия они лишились. По существующему ли прежде или по введенному им порядку, и другие женщины никогда не показывались мужчинам, и даже едва ли посещали друг друга. Головкину, великому обожателю прекрасного пола, захотелось в Кяхте освободить его от оков; для того обратился он к Вонифатьеву, стараясь объяснить ему, что он упускает единственный случай выгодным образом выдать дочерей своих замуж; что, оставаясь невидимыми, они полюбиться не могут, и кончил приглашением их к себе на вечер. Вонифатьев довольно сухо отклонил предложение сие. Любезность и величавость графа Головкина никакого действия на него не производили. Одним праздничным утром, окруженный всею свитой, посол (как все знатные люди, которые думают славно говорить по-русски, когда употребляют простонародные выражения) иностранным наречием своим сказал ему: «Пасматрите, Петер Митрич, у мена малатцоф што сакалоф». А тот, посмотрев на нас пристально, очень холодно отвечал: «нет, ваше сиятельство, ни один из них не годится мне в зятья», таким образом оставив нас в недоумении: гордость ли или скромность внушила ему сей ответ.
Можно себе представить, как невзлюбил его великий барин, начальник его, как президент Коммерц-коллегии. Но он был под крылом самого министра коммерции и вел себя так осторожно, что не было возможности к нему придраться. В обращении с послом был он молчалив, угрюм и почтителен; ненавистью же своею предупредил его. Ему посольство не нравилось; он знал, что оно будет бесполезно и опасался даже, чтоб оно не произвело у нас разрыва к Китаем. Нет сомнения, что у китайцев он тайно старался вредить Головкину, однако же так, чтобы неудовольствия отнеслись к лицу его, а не к правительству, его употребившему. У этого чванного, чопорного, неподвижного народа, в человеке высокого звания веселость почитается преступлением, а через Вонифатьева знали они все подробности нашей залихватской жизни.
Я на минуту ворочусь домой к хозяину своему. Мне не было житья от него. На одних со мною сенях, он решительно держал меня в осаде; кто бы ни вошел в них, он высовывался в двери, чтобы поглядеть или, лучше сказать, подглядеть идущего ко мне. Вдруг стал ревновать к старухе — жене, от которой жил я в двух шагах, но которой ни разу даже вскользь не видел. Заботясь как о чести дома своего, так и о целомудрии моем, не позволял он моему слуге принимать прачку, приносившую белье, иначе как на дворе. Я стал от него запираться, и когда он стучался, отвечал просто, что не пущу к себе; тогда он обманом умел прокрадываться; особенно же когда меня не было дома, везде шарил, за шкафом и за печкой, не найдет ли какой-нибудь женщины. Мне чересчур сделалось досадно, и я, никому не жалуясь, просил полицеймейстера отвести мне другую квартиру, хотя бы похуже. Пока он ее приискивал, вступился за меня, кто бы мог ожидать? Байков. Он с Головкиным смотрели на губернских чиновников как на поганую челядь, слишком осчастливленную постоем таких людей как мы; сверх того, были и сердиты на Кяхтинскую таможню. Узнав нечаянно о моих досадно-смешных несогласиях, Байков за меня обиделся и донес о том послу, который упрекнул меня излишнею терпеливостью, не велел менять квартиры и, призвав полицеймейстера, отправил его с фельдъегерем Штосом сказать Семенову его грозное слово. Он приказал объявить ему, что если вперед будет меня тревожить, то угодит Бог весть куда, и что если б я навел к себе дюжину наемных прелестниц и сделал оргию, то и в таком случае не имел бы он права мне мешать. Пораженный Семенов бросился было к Вонифатьеву; но и тот обвинил его, хотя никогда не хотел и глядеть на меня. С тех пор бедняк умолк, всё плакал да вздыхал и никому не показывался; он точно был помешан.
Письма и газеты из Петербурга приходили к нам исправно; только новости никогда не были свежи, потому что почта ходила оттуда полтора месяца, иногда и долее. Узнали мы, что Государь отправился к армии и все тому обрадовались. Со смерти Петра Великого, около ста лет, ратное поле не видело русского царя; опасаться же за него нам и в голову не приходило: возможно ли, чтобы прекрасный представитель великой России не был храним самим Богом? В это время совершенно пленился я Константином Бенкендорфом; более всех и почти один запылал он энтузиазмом. Как любил он славу России! И я также вспомнил 1799-й год и ребячьи мои слезы восторга при имени Суворова. Бенкендорф понял меня, и такое единомыслие, сочувствие, скоро нас сблизили. Какими благословениями напутствовали мы Царя! Мы уже гордились его красотою, его доблестями; еще не доставало ему геройства.
Бенкендорф несколько времени находился в Берлинской миссии; ему было очень больно видеть, что Пруссия колеблется пристать к союзу нашему с Австрией. Как все немцы, бредил он молодою королевой, которая, как звезда, сияла тогда на Севере Германии. Она была добра, великодушна, чувствительна и прелестна; с такими качествами можно обойтись без большего ума. На её посредничество Бенкендорф возлагал свои надежды. Одним утром нашел я его, с газетою в руках, трепещущим от радости: наше красное солнышко, Александр Павлович, прикатил в Берлин, всё там оживил, всё воспалил, всё очаровал. В избытке чувств хотелось ему что-нибудь написать, а беспорядок мыслей мешал тому; он призвал меня на помощь, и мы придумали соединенными силами сочинить акростих на имя королевы Луизы. Мы бились с ним более получаса, и что же вышло? Если б он был похож на что нибудь, я не решился бы его здесь поместить; но как не было в нём ни складу, ни ладу, то готов им посмешить читателя.
Les grâces aujourd’hui favorisent nos armes; O Reine, c'est vous dont les yeux, pleins de charmes, Usant du pouvoir qu’ils ont sur nos guerriers, Inspirent le désir de cueillir les lauriers. Soyez pour les Russes et pour leur Souverain, Et nos drapeaux bientôt flotteront sur le Rhin.Каковы стихи? Не правда ли? Прошу не прогневаться. Горячо испеку, а за вкус не берусь, могли бы мы сказать. Не долго могли мы вместе, забыв Китай, заниматься европейскими делами: скоро наступила для нас минута разлуки.
В последних числах ноября, не знаю по какому случаю или по какой причине, Байков верхом поскакал в Ургу, расстоянием 350 верст от Кяхты. Это не город, а главное кочевье в Кобийской или Монгольской степи и местопребывание двух первостатейных мандаринов, Вана и Амбана, наместника и вице-наместника ханских; до этого места, не далее, ездят обыкновенно посланцы нашего губернского Иркутского начальства. Он, кажется, возил ультиматум Головкина и, не дождавшись ответа из Пекина, через неделю воротился.
Около половины декабря дзаргучей или комендант Маймачинский потребовал аудиенции у посла, и мы в первый раз увидели китайцев. Он явился с приятным известием, что молодой родственник императора, Бейс, с многочисленною свитой уже на пути из Пекина, чтобы встретить и проводить туда наше посольство. Затем снято запрещение ездить нам в торговую Кяхту и в Маймачин, и я не из последних сим дозволением воспользовался.
Маймачин — единственный китайский городок, который я видел, и потому не лишним считаю сказать о нём здесь, несколько слов. Он построен правильным четвероугольником и весь обнесен превысоким забором; разбит он, как регулярный сад, и самые улицы его могут почитаться узкими аллеями; строение на них совершенно одинаковой вышины, низкое, сплошное, без малейшего разрыва и единого окна. Такою улицей идешь, как коридором, между двух стен, вымазанных сероватою глиной, не выкрашенных и не беленых; справа и слеза дома различаются только всегда закрытыми отверстиями, раскрашенными воротами со столбиками и пестрыми над ними навесами. На каждом перекрестке есть крытое место с четырьмя воротами, так что всякая улица может запираться, как дом; над крытым же местом всегда возвышается деревянная башня, в два или три яруса, расцвеченная, с драконами, колокольчиками, бубенчиками, какие вы видели на картинках или в садах. Это давало Маймачину довольно красивый вид, особливо в сравнении с двумя Кяхтами, большою и малою; но беда если пожар: ничто не уцелеет! Во внутренности дворов, вокруг всей стены, идет открытая, наружная галерея на столбиках, служащая соединением жилых покоев с амбарами и конюшнями; как все окна выходят на галерею сию, то можно посудить о темноте, которая бывает в комнатах. На другом конце города пустили меня в китайскую божницу, посвященную богу брани; он находится в особенном месте или приделе и стоя держит за узду бешеного коня. В главном же храме видел я колоссального Конфуция, богато разодетого, высоко на троне сидящего, и массивную, пуд в двадцать, железную полированную лампаду, день и ночь перед ним горящую.
Тем, кои были в Китае, предоставляю я право описывать в подробности образ жизни, обычаи и костюмы сего любопытного народа. Я же, который видел китайцев лишь мельком, на краю их владений, я почитаю себя свободным от обязанности много говорить о них.
Лишь только посол узнал о прибытии Бейса в Маймачин, призвал меня и с видом сердечного сожаления объявил о необходимости расстаться со мною. Вместо ответа, я только поклонился и вышел: ни просить, ни жаловаться, ни благодарить, кажется, было нечего. Исключая двух Шубертов, отца и сына, да меня, еще четыре человека были пожертвованы необходимости, как говорил Головкин: кавалер посольства Васильчиков, профессор Клапрот, Корнеев и Клемент. С двумя последними не сочли нужным много церемониться, а в прочих был замечен не знаю какой-то дух непокорности. Не говорю о себе; но отослать двух самых ученых профессоров, чтоб взять с собою лишних два-три драгуна, кому бы не показалось безрассудно?
Когда Вонифатьев узнал о моей выключке, то, встретясь со мною на улице, бросился обнимать. Он нашел какой-то предлог и прежней холодной со мною суровости, и внезапной своей приязни, затащил к себе, стал потчевать и расточать грубые свои ласки. Как знаток, предложил он дешево купить некоторые китайские безделицы и достал их почти даром, наконец прислал мне на дорогу огромный ящик чаю[96]. О Головкине пока ни слова; но, видя меня раз довольно печальным, потихоньку сказал он мне: «Не горюй, брат; поверь мне, не бывать им далее Урги; месяца полтора попляшут на морозе, а что увидят? почти тоже, что здесь». Мне стало гадко, а не менее того он утешил меня своими словами.
Сначала Бейс у посла имел публичную аудиенцию, на которой мы все присутствовали, потом другую приватную. Головкин, стараясь приноровиться к восточной напыщенности речей, через переводчика так и сыпал гиперболами, на кои Бейс отвечал тихо и скромно; а между тем Байков в углу, со смехом, ругал китайцев непотребными словами, не замечая, что в свите Бейса находились маймачинцы, очень хорошо понимающие русский язык и любимые народные поговорки. Китайский принц совсем не похож был на китайца, худощав, смугл, с правильными чертами, черными глазами и усиками, с нежным и приятным голосом; он всем понравился. Наряд китайцев невольно смешил нас: курьезно было видеть мужчин в кофтах с юбками. Всего страннее показался мне экипаж, в котором привезли Бейса: это были употребляемые в Европе носилки (porte chaise), на двух колесах с оглоблями.
Забавны были также и воины китайские, азиатские амуры, с луком и колчаном за спиной, со стеклянною шишкой на шапке и с прикрепленным к ней павлиньим пером. Я видел, как сии герои, обступив наших драгун, сидящих на коне, смотрели на них с ужасом: правда, народ был подобран всё рослый, усастый, лошади под ними были, как слоны, и каски на них в аршин вышиною; но всё-таки солдаты другой азиатской нации, при виде их, умели бы скрыть свой страх.
И в Петербурге смеялись над ними, когда, возвратясь, говорили мы о войне с Китаем, как о деле не только сбыточном, но и весьма не затруднительном в исполнении. У тех, кои по крайней мере брали труд оспаривать нас, вечным аргументом была степь. Конечно, она имеет до восьмисот верст ширины; но эта степь вся заселена кочующими монголами, не слишком преданными китайско-манжурскому племени, с которым не принадлежат даже к одной вере; но эту степь везде пересекают речки и рощи, везде есть топливо и вода. Для продовольствия десятки степных кораблей, верблюдов, могут заменить тысячи подъемных лошадей; а их целые сотни можно разом купить на границе. Главное же то, что пред тридцатью тысячами русского войска не устоит полмиллиона китайцев; кажется, это ясно. У нас и без того слишком много владений, продолжают спорщики; да кто говорит о завоевании Китая, о присоединении его к России? Что когда судьба или, лучше сказать, само Провидение, нас с завязанными глазами подвело почти к каменной стене, как не внять его гласу? Как не стать на Амуре и, вооружив берега его твердынями, как не предписывать законов гордому Китаю, дабы для подданных извлечь из того неисчислимые выгоды? Как не взять его в опеку и не защитить от вторжений других европейских народов? Как на устье Амура, где так много удобных пристаней, не сделать нового порта и не заменить им несчастные Охотскую и Авачинскую гавани? Это во сто раз было бы полезнее, чем наши глупые Американские владения, все эти Курильские и Алеутские острова. Наконец, как оставлять в запустении великое, плодородное пространство земли и не открыть его на севере Сибири прозябающим племенам якутам, тунгусам, корякам, чтоб из животных превратить их в людей? Глас Божий — глас народа; в Иркутске, Нерчинске и за Байкалом нету жителя, который бы не говорил о Даурии, как о потерянном рае; эти бедные люди не могут понять, чем прогневали они так Белого Царя, что он им не хочет отпереть его.
Европа поглощает всё внимание правительства, и ему мало времени думать об азиатских выгодах. К тому же почти всегда дипломатическая часть поручалась у нас иностранцам, и они более заботились о том, что к ним ближе. Бирон, немец или латыш, Бог его знает, даром отдал Даурию, а русский Потемкин хотел опять ее завоевать. Все великие помыслы о славе России, исключая одной женщины, родятся только в головах одних русских: Годунова, Петра, Потемкина.
Наступил для посольства день отъезда, 21 декабря. Снегу не было; холод несколько дней начал усиливаться; в это утро термометр на солнце спустился на 14 градусов ниже точки замерзания. Перспектива была неутешительна: дни проводить в колясках или верхом, а ночью в клетчатых войлоком укутанных юртах или кибитках; посол был мрачен, все другие печальны. Первый раз в жизни услышал я слово бивуак, не зная, что чрез несколько дней должен буду испытать его значение. С кем-то, на дрожках, рано поутру отправился я в малую Кяхту. Скоро прибыл посол с дружиной и в деревянной церкви выслушал путешественный молебен, что исполнил он как простой обряд, который ему присоветовали: вышедши из церкви, поспешил он сесть на лошадь. У меня сердце сжалось, когда пришлось мне расставаться с товарищами; три месяца свыкся я с ними в ссылке; все простились со мной дружески, все накануне снабдили меня письмами в Петербург.
На улице и по дороге зрелище было любопытное, совсем необыкновенное. Обе Кяхты, Маймачин ходили вокруг обоза, который тянулся более чем на версту. Всё, что шло через Сибирь отделениями было тут собрано вместе с присоединением драгун, казаков и свиты китайского князька, которая была вдвое более посольской. Целые табуны диких, степных лошадей были впряжены в повозки и европейские коляски, каких они от роду не видывали; они ржали, бесились, становились на дабы и часто рвали веревочные постромки. На козлах сидели монголы с русскими людьми, которые учили их править. Другие монголы, привлеченные любопытством, носились кругом на своих лошаденках. Впереди, ужасно величествен, посол ехал верхом с своею кавалькадой. Шум, гвалт, кутерьма! Я отказался проводить посольство до первого ночлега; довольно было с меня следовать за ним версты две или три, чтобы полюбоваться сим удивительным поездом.
Возвратясь в Троицкосавск, обедал я у Вонифатьева, по его приглашению. До тех пор он был довольно скромен в речах о Головкине, а тут совсем распоясался на его счет. Я был растроган, чувство великодушия во мне не погасало, и я отвечал ему довольно резко и зло, чтобы рассердить его. Более мы с ним не виделись; кажется, после того, он еще многие, многие лета царствовал в Китае.
Нам, покинутым, должно было промышлять о себе. Клапрот, подобно Шуберту, коль скоро узнал об отчуждении своем от посольства, дня не хотел с ним оставаться и тотчас уехал, с намерением предпринять ученое путешествие по Сибири. Корнеев располагался прожить в Кяхте до весны. Клемент совсем осиротел без Нелидова, к коему всякий день являлся за приказаниями, которых никогда не получал: этому плющу нужно было дерево. Васильчиков состоял в четвертом классе, следственно еще выше Нелидова, и я без большего труда поладил с ним. Из Иркутска Алексей Васильевич в ту же зиму собирался прокатиться в Якутск (охота же ему была), и добровольно подчиненный собеседник пришелся ему весьма кстати. Мне же скорее хотелось в Петербург.
Байкал в это время года был непроходим: огромные льдины носились по нём и только к концу января могли его оковать. Мне оставалась другая дорога, вокруг Байкала, не весьма приятная, особливо зимой: из семисот верст до Иркутска, триста необходимо было ехать верхом. Тоска меня одолевала, и я на всё готов был решиться, чтобы не оставаться одному с Вонифатьевым, Корнеевым, Семеновым и офицерами Селенгинского гарнизонного полка.
Но наперед хотелось мне еще раз побывать в Маймачине и взглянуть на китайцев. На другой день после отбытия посольства, 22 декабря, купец Сизов, родственник Полевого, возил меня туда обедать к одному богатому китайскому торговцу. Меня чрезвычайно забавлял разговор гостя с хозяевами[97]; два народа создали какой-то средний язык, которым говорят и который понимают одни живущие на границе, и вот между прочим, что услышал я на нём: «а много отсель до Печински походи?» Это был перевод вопроса моего, далеко ли отсюда до Пекина. От кушанья же, вероятно по непривычке, мне два раза стошнилось: гадко было видеть, как китаец запускает длинные когти свои в баранье мясо и рваные куски кладет себе в рот. Десерт также не слишком был вкусен: леденцы с померанцами, с миндалем и чесноком.
Я продал свою бричку и на перекладных телегах вместе с Васильчиковым и с Клементом, 23 декабря отправился в обратный путь.
Местами почти ровными, по голой замерзшей земле, проскакав верст почти двести, приехали мы на другой день в Харацайскую крепость[98]. Не в дальнем от неё расстоянии, начинаются страшные Алтайские горы, через кои не иначе можно перебраться, как на тощих, но надежных и к ним привычных конях. Дорога, сначала довольно широкая, всё более и более, суживается по мере как подымается в гору, и превращается наконец в тропинку. Первый день моего всадничества напала на меня храбрость, и я не отставал от Васильчикова, старого конногвардейца; может быть, решился бы я следовать за ним и ночью, если бы, проехав верст семьдесят, с непривычки не почувствовал себя совершенно разбитым. Мы простились: он с Клементом пустился в опасный путь, а я остался ночевать почти на открытом воздухе.
Как Бог пронес его в темноте! подумал я взглянув на ужасы, меня окружающие; но скоро и сам среди дня должен был поручить себя Его святому покрову. Это было в самый день Рождества Христова; мучения, которые потом перенес я в первые три дня праздников, без всякого преувеличения позволю я себе назвать адскими. Мороз, в полдень солнечными лучами несколько смягчаемый, ночью делался трескучим. Весь закутанный от него и затянутый не мог я без больших усилий владеть членами и, сидя неподвижно на коне, коим не управлял, следовал в молчании за проводником-Бурятом. Скалы неимоверной вышины, почти без отвеса, перпендикулярно иногда поднимались передо мной, и я должен был лезть на них тропою, зигзагом пробитою по их бокам. С их вершины, кедровые леса, растущие в долинах (тут называемых падями) казались мне засохшею травой, и я с такою же опасностью, должен был в них спускаться. Шумные водопады образовали внизу речки, коим быстрое течение не давало замерзать; чтобы переходить их в брод, надобно было погружаться в них, имея воды по грудь лошади; они часто грозили нам потоплением, и сверх того летящие от них брызги замерзали на моем платье и обуви. Нас всего шесть человек: я, слуга мой Гаврила, проводник, да три верховые бурята, которые под уздцы вели вьючных лошадей. К счастью не показывались дикие звери, кои во множестве тут витают; а то бы плохо нам было: буряты вооружены были широкими ножами, но ружей и пистолетов у них вовсе не было.
Тот, кто по этому пути проехал бы летом, несмотря на все его неудобства и опасности, мог бы заметить дивные красоты сих мест; мне было не до того: я был в совершенном отчаянии и почти беспамятстве. Одна неприступная громада служила подножием другой, и мне казалось, что я достигаю до небес; я был выше того, что так называют, и у ног моих мог бы видеть облака, если б не везде было ясно. Изредка попадались мне равнины, длиною с версту или немного более; тогда не имел я нужды каблуками возбуждать к быстроте спасительную под собой скотину: над пропастями с осторожностью переступая нога за ногу, тут, как бы понимая меня, принималась она скакать во всю прыть.
Беда одна никогда не приходит. Васильчиков взял с собою единственного бурята, который немного знал по-русски, и я с моими спутниками мог объясняться только пантомимой. Второпях, уже верно неумышленно, служитель его захватил всё съестное, запасенное нами, частью в Кяхте, частью в Харацайской крепости, вареное и жареное мясо, вино, хлеб и сухари. Под именем станций в тридцати пяти, иногда в сорока верстах одна от другой, построены были юрты, то есть осмиугольные бревенчатые избы без печей, с широким отверстием посреди крыши; при них находились проводники и лошади. Самые монгольские названия их пугали слух: Укыр Полон, Баян Хусун, Шара Озорга, Мондокуль. На них надеялся я немного утолить свой голод. Что же ели сии несчастные? Баранье сало, да кирпичный чай![99] У меня вся внутренность поворотилась. Только по две таковых станций в состоянии был я сделать в один день и по ночам останавливался в юртах; а в них что за ужас и что за мерзость! Я ложился на нары, подле стены, которая была не законопачена, ибо не было возможности приблизиться к пылающему посередине костру: вокруг него сидели на корточках буряты обоего пола, старые и малые, закопченные, совсем нагишом, с овчинным тулупом на плечах и за спиною. Простите мне, чувствительный читатель; их главное занятие состояло тут в ловле насекомых, коими наполнена была их одежда.
Итак, почти четверо суток, ни одной минуты не подышав теплым воздухом, ничего не евши, изнуренный, разбитый, полузамерзший, наконец 27-го числа, в вечеру почуял я берег. Десять верст не доезжая Тункинского острога, открылись мне ровное место и глубокий снег. Он один светлелся в темноте, а я с остервенением, безжалостно толкал под бока бедную лошадь свою и мчался во весь опор по узкой дороге. Напрасно кричал мне берейтор Гаврила, что я сломаю себе шею: я не слушал его, и мои спутники должны были за мной следовать. Три раза измученный конь, на всём скаку, падаль на колена, а я ему через голову; но всякое падение оканчивалось счастливо: теплая шинель, шуба, халат и прочее и прочее, во что я был закутан, превратили меня в подушку, и меня бросало на снег.
Вот я въехал в Тункинский острог; в нём была улица, были дома, в них светился еще огонь, и я обрадовался, как будто лет десять того не видал. Из сострадания, Васильчиков возвестил о скором приезде моем; меня дожидались и отвели ту самую квартиру, на которой он останавливался. Хозяин был старый, отставной казачий офицер, который праздновал именины или рождение одного из членов многочисленной своей семьи. К счастью, когда я приехал, вечерний пир приходил к концу; так много было напечено и наварено, что можно было еще десять голодных накормить, а не меня одного. Дав мне большую, опрятную, выбеленную, теплую, даже жаркую комнату, скоро оставили меня в покое; прежде нежели я лег, выпросил я горячей воды и весь вымылся. Нет, не забыть мне той блаженной минуты, когда после стольких страданий увидел я себя на мягком пуховике, покрытом чистою простыней под славным стеганным одеялом!
Прежде нежели оставлю Тункинский острог, хочу обернуться к презренным бурятам, которых наше правительство почитает ни за что; а они — один из тех бесценных подарков, кои в неистощимой щедрости сделало нам Провидение. Что если б они одарены были энергией, подобно черкесам? Алтай сделался бы для нас хуже Кавказа; ведь их предки были первыми сподвижниками Чингис-Хана; а они, старый и вместе младенчествующий народ, смиренно и покорно населяют все владения наши от Бухтармы до Нерчинска и вокруг всего Байкала. Я уже познакомился с ними в Кяхте[100]. Во время прогулки из неё в Кударинскую слободу, своротив с дороги, заезжал я в известную, большую, деревянную их кумирню: я нашел её стены от потолка до низу обитые холстом, на коем в семь или в восемь ярусов изображены были сторукие, стоглазые, иные весьма неблагопристойные уроды, их идолы. Вокруг кумирни была ограда, и внутри её видел я первое основание их новейшего образования, школу, и двадцать мальчиков, учащихся грамоте, только не русской. Не более ста лет тому, принадлежали они еще к шаманству; кто-то из Тибета завез к ним священные книги, и они все приняли ламайскую веру: вот доказательство, что рассудок может на них действовать. Гораздо после нас, англичане прислали к ним просветителя, г. Свана, методиста или квакера; он несколько лет прожил в Иркутске на русском жалованье и, о счастье! ни одного не успел обратить в христианство; это было бы чересчур стыдно нашему духовенству. Теперь слышу я, что двадцать тысяч бурят сделались православными, шесть тысяч учатся русской грамоте с успехом, и почти все принялись за соху, когда в мое время они и хлеба не умели есть. Благословен будь, кто бы он ни был, виновник их перерождения! Буряты или братские, как их там называют, не что иное как монголы, настигнутые русскими и от них не бежавшие; они в беспрестанных сношениях со степными братиями своими, китайскими подданными. Я вижу в них цепь, которую России сам Бог вложил в руку; стоит только нежненько ее потянуть, чтобы привлечь все другие монгольские племена.
После жестоких морозов сделалась почти оттепель, когда, проспавши полсутки, 28-го декабря, из Тункинского острога отправился я в перекладных, врытых санях. Право, человек более плоть чем дух: вспоминая еще вчерашнее, чувствовал я себя совершенно счастливым. На другой день, 29-го числа, приехал я в Иркутск и остановился у прежнего хозяина своего, г. Полевого.
Для удовлетворения любопытства, ничего не мог я лучше избрать: Полевой занимался европейскою политикой гораздо более чем азиатскою своею торговлей. В нём была заметна наклонность к тому, чему тогда не было еще имени и что ныне называют либерализм, и он выписывал все газеты, на русском языке тогда выходившие. Во время последнего моего пребывания в Иркутске, узнал я у него о том, что месяца два перед тем происходило в Германии; как подлец Мак положил оружие при Ульме, как австрийская армия ретировалась, как ученик Суворова, Багратион, дрался уже с французами и при Голлабрюне и Вишау дал им сильный отпор. Маленький сын Полевого не питал еще тогда ненависти к своему отечеству; напротив прельщался его славою и написал четверостишие, в котором вклеил, играя словами: Бог рати он и На поле он. После тоже самое слышал я в Москве, и теперь не знаю, где было эхо, там ли, или в Иркутске? Где повторяли, и кто у кого перенял? Я покамест был доволен и приятными известиями из армии надеялся насладиться по возвращении моем в столицу.
Из знаменитого посольства нас было тогда четверо изгнанников в Иркутске, и все мы, не исключая профессора Клапрота, проводили жизнь у губернатора Корнилова. Генерал-губернатор Селифонтов давно уже возвратился в Тобольск. Александра Ефремовна, губернаторша, умела так быть любезна с купцами и женами их, что для неё согласились они на один вечер отказаться от своих предрассудков и встретить у неё новый 1806-й год.
Всем снабжают Сибирь преступления сделанные в России: в Иркутске было даже человек до десяти музыкантов. На этом вечере у губернатора поработали они. Васильчиков открыл бал с хозяйкой, а после того как он, так и она, так и почти все мы танцевали до упада; худо ли, хорошо ли, только от всего сердца. Дамы были всё — жены чиновников, а кавалеры (так называли тогда танцующих) были всё мужья чиновниц. Жены же и дочери купеческие, разряженные по старине, в бархатных и парчовых кофтах и юбках, с шелковыми платками, шитыми серебром и золотом, повязанными на голове, некоторые из них с кружевами и косынками на плечах, бриллиантовыми нитками на шее, такими же серьгами в ушах, перстнями на всех пальцах, сидели неподвижны и как будто поневоле смотрели на богоотступные забавы. Желая угостить как их самих, так и мужей их, согласно их вкусам и обычаям, хозяин приказал, чтобы весь вечер подносили им не прохладительные, а более горячительные напитки; они не отказывались, пили, краснели и молчали. Надобно было чем-нибудь и другим развеселить их; на некоторое время прекратились танцы и начались — «анты; хоронили золото, пели подблюдные песни. Между этими бабочками, были прекрасненькие; следуя наставлениям Иркутских франтов, я ни с одной не позволил себе слова сказать, они бы обиделись; за то, во время игрища, ни одно из тайных моих рукопожатий не осталось без ответа от них. Какие странные нравы! После имел я причины благодарить себя за воздержность в словах.
Были в Иркутске музыканты, были и актеры, следственно был театр, были и содержатели его; всё это составилось из ссыльных и их детей, и должно бы быть изрядно. Играли, однако же, так дурно, что хоть бы на великороссийском губернском театре.
В первый мой приезд, был я, хотя весьма маловажное, однако же, официальное лицо и потому ссыльных не мог принимать у себя; они же сами держали себя от нас поодаль. Теперь же, как частный человек, я не отказывался видеться с ними, тем более, что они всех посещали, и я везде их встречал. Несчастье почитается здесь почти невинностью, и сосланным, лишенным чинов и дворянства, под именем несчастных, оказывается от жителей такое внимание, что можно подумать, будто общее мнение, собственною силой, хочет восстановить их в прежнем достоинстве. Некоторые из них употребляют иногда во зло такую снисходительность.
Двое несчастных, как их называют в Сибири, устроили в Иркутске театр. Один из них имел большой чин и носил знатное имя, князь Василий Николаевич Горчаков. От природы расточитель и плут, еще в первой молодости, разными постыдными средствами и обманом проживал он чужие деньги. Он попал в милость к императору Павлу, который, под именем главного военного комиссара, определил его лазутчиком к принцу Конде. С его корпусом делал он поход в Германию и безжалостно обирал бедных, храбрых эмигрантов, удерживая часть сумм, от щедрот Царя через него им доставляемых. После того с полновластью ездил он к казакам на Дон и, наконец, назначен будучи военным губернатором в Ревель, только что было принимался грабить немцев, как император Александр, вступив на престол, удалил его от должности. В тоже время богатая жена[101], которой имение начинал он проматывать, разошлась с ним. Лишенный всех способов кидать деньги, он прибегнул к деланию фальшивых векселей; мошенничество его скоро открылось, и он очутился в Иркутске.
Другой, Алексей Петрович Шубин, был жалкое, ничтожное создание, блудливый как кошка, глупый как баран. Он сделался жертвой мерзких интриг одного товарища своего в Семеновском полку, Константина Полторацкого, который был ложным его другом и любовником его жены. Тот подучил его выдумать какой-то заговор против Александра, в котором будто бы отказался он участвовать. Чтобы попасть к Царю в милость, в доказательство мести людей, коих не умел он назвать и кои страшились его нескромности, ночью в Летнем саду прострелил он себе руку. Его сослали, а наставник и предатель его Полторацкий, который совсем не умен, а только изворотливый и смелый буффон, остался прав, как после того неоднократно, из пакостей своих, как из грязи, всегда выходил он чист и сух.
Горчаков, лицом и взглядом, походил на ястреба. Шубин — на овцу. Ссылка связала их дружбой, любовь их поссорила. Примадонна, дочь одного сосланного польского шляхтича, тайно оказывала милости обоим антрепренёрам; когда неверность её открылась, сумасшедшие вызвали друг друга на поединок. Их до него не допустили, и все взяли сторону Шубина; Горчакова же послали в Тункинский острог. Через несколько времени воротился он из него; но Шубин торжествовал, оставшись один властелином театра и примадонны. Оба, признаюсь, были мне гадки; но Горчаков во сто раз гаже низостью души и откровенностью порока.
Третий изгнанник, который явился ко мне, казался мне забавнее. Это был опрятненький, сухенький, живой и здоровый шестидесятилетний старичок, последняя отрасль не весьма известного, но не менее того истинного русского княжеского рода Гундоровых. Спросить его, за что он был сослан, почитал я нескромностью; а он так давно находился в Сибири, что никто не помнил причины его заточения. Сам же он очень хорошо помнил веселую молодость в Москве и был для меня хроникой старинного московского скандала.
Других примечательных людей в этом роде я еще не видел, кроме одного эстляндского дворянина, Сталь фон-Голстейн; но этот обществ не посещал. Он видно смолоду был великий гастроном, учил за деньги поваров и на каждом большом званом обеде, во фраке, чисто одетый, являлся в виде метрдотеля и распоряжался столом. У себя за стулом имел я честь видеть однофамильца, может быть и родственника, знаменитой писательницы.
Святки хотел я взять в Иркутске. Я не очень спешил из него: такой род жизни, какой вел я тогда в нём, нравится молодости. Однако же, натешась досыта, 7-го января, оставил я его в купленной мною огромной зимней кибитке. Главу сию начал я первым выездом моим из Иркутска, оканчиваю ее последним моим из него отъездом.
XI
Обратный путь из Сибири.
Переправа через Ангару была еще затруднительнее, чем летом. Река сия, выходя из Байкала, как уверяют, имеет по две сажени склонения на каждую версту; можно себе представить её быстрину. День стоял совершенно ясный, мороз был крещенский, лед на ней еще не показывался, и пар, подобный самому густому туману, подымался с её поверхности. Везде кругом было светло, а на пароме с трудом могли мы различать предметы и поднимались, так сказать, ощупью.
Когда же на противоположном берегу запрягли мне лошадей, тогда я точно стрелой пустился по дороге. Сибирскую зимнюю езду только с железною дорогой можно сравнить. Пока запрягают, что делается очень скоро, сильный ямщик стоит перед тройкой, но лишь только другой сел на облучок, он с необыкновенным проворством отскакивает прочь. Тогда борзые со станции на станцию мчатся, не останавливаясь ни на минуту, не переводя духу, по горам и оврагам. Даже меня, любителя скорой езды, такая вихрю подобная скачка сначала изумила; но я скоро привык, и среди скуки нескончаемого пути была она единственною моею отрадой.
В Нижнеудинске зашел я только погреться на ту общественную квартиру, на которой перед этим ночевал я с своими товарищами. Чтобы дать понятие о шибкой езде в Сибири, скажу, что, выехав 7-го числа в самый полдень из Иркутска и сделав тысячу верст, без малого в трое суток прибыл я в Красноярск.
Жестокие морозы и скорая езда утомили меня. Я захотел вздохнуть на том месте, которое летом показалось мне столь приятным, и расположился, пробыв полсутки, переночевать в нём. Ученого Спасского не было, я оставил его в Иркутске; городские власти не сочли нужным меня видеть, и я должен был в совершенном уединении провести время; между тем удовольствия совсем необычайные ожидали меня в Красноярске.
Меня отвели к одному зажиточному мещанину Тимофееву. Новый деревянный дом его, узкий и длинный, имел два жилья, верхнее и нижнее, и в каждом было по четыре комнаты длинных и высоких; одна из них мне досталась. Стены, ничем не быв обиты, издавали тот свежий запах дерева, который так люблю я в новопостроенных домах; широкие дубовые лавки, такой же стол, образ Спасителя с лампадой в углу и большая кровать с белым полотняным пологом, вот что составляло меблировку моего приюта, где всё лоснилось чистотой[102].
Пусть сими подробностями скучают читающие меня; они властны перевернуть страницу, чтоб избавиться от них: для меня же всё драгоценно в том, что привожу здесь на память.
Семейство моего хозяина состояло из матери его, жены и двух детей, двадцатидвухлетнего сына и шестнадцатилетней дочери. В этом семействе, не исключая даже бабушки, всё блистало здоровьем, свежестью и красотой. Не знаю, удовлетворение ли всех первых потребностей жизни, равенство ли Фортун, отсутствие ли дурных примеров, везде встречаемых в наших больших городах, делали из потомства преступников, сосланных в Сибирь, людей самых добросердечных, сострадательных, простодушных и легковерных; особенно же в Красноярске, может быть, и самая чистота воздуха сохраняла чистоту нравов. Какие бы ни были причины, я, в моральном смысле, попал в рай. Сердитый на мороз, вошел я в отведенную мне комнату с видом угрюмым, едва ли не с бранью на устах. Не из боязни, а из сожаления всё засуетилось, чтобы смягчить мою досаду. Когда я отогрелся, успокоился, переоделся, предложили мне сесть за семейную трапезу; я не только не отказался, но, желая загладить свою грубость, старался с каждым из членов этой семьи быть порознь любезным. Вдруг я обомлел: глаза мои остановились на предмете, которому подобного они еще не встречали. С кем сравнить его, если не с бесплотными небожителями? Я готов был преклонить колена.
Я растерялся в словах, и действие, произведенное на меня дочерью, было слишком сильно, чтобы не заметили его родители. Бедняжки, это польстило их самолюбию, и вскоре потом остался я с нею наедине. А она, ангел непорочности, не скоро могла понять меня; но любовь магнетизм, когда магнетизёру девятнадцать лет и он немного опытен. Тот же вечер признан я женихом и с сим званием приобрел много вольностей и привилегий. Что мне было делать? Ничего не требуя, я на всё готов был согласиться; я не обманывал, а обманывался. Выдумал же я только важные бумаги, которые приказано мне будто отдать в столице, да родительское благословение, которого никогда бы не получил; а до того просил всё дело держать как семейный секрет. Вместо полусуток, пробыл я три дня; я бы пробыл тридцать, триста шестьдесят, я бы пробыл всю жизнь, если бы рассудок не восторжествовал. И не он один: я слишком любил, чтобы хотя на минуту забыть долг чести.
Но что за блаженство любить со всею свежестью, неиспорченностью чувств и находить взаимность в создании чистом, неопытном! Какой источник нежности женское сердце, когда Верочка, почти безграмотный ребенок, так живо умела объяснять ее! Все слова её до единого я помню и мог бы здесь поместить; но разговоры наши останутся вечною тайной между нами и Небом. Как ни влюблен я был, но я чувствовал, что нельзя было такую жену представить родным и проклятому обществу, которому мы так много жертвуем. Верочка была только богата красою и чувством. Расставаясь, мы заливались слезами; когда я пошел садиться в повозку и отец сказал мне: «батюшка-зятюшка, да обойми еще раз, поцелуй невесту», я просто зарыдал. С тех пор ничего не слыхал я об них. Милая Верочка, дружок, незабвенный, если ты еще жива, что ты такое теперь? Заботливая хозяйка, добрая старуха, на лице которой сквозь морщины нельзя добраться и до следов прежних прелестей. Но есть место, у меня под грудью, на котором однажды отразилась небесная красота твоя, и там, по крайней мере, остается она неувядаемою.
Трехдневный мой роман покажется очень глуп; иные сочтут меня дураком, который не умел пользоваться случаем; другие назовут подлым обманщиком, обольстившим невинность; многие скажут, что не стоило писать о таких пустяках. Воля их; но чтобы среди грустных и тяжких воспоминаний, не останавливаясь, в их угодность прошел я мимо самого усладительного, это дело невозможное. Как требовать от путника, чтобы, встретив цветок на бесплодной степи, он не остановился полюбоваться им, или звездочкой, сквозь облака ему сияющей?
Дорогой был я грустен, часто навертывались у меня слезы, и я много рассуждал с собою о предрассудках света, так тиранствующих меж людьми. О войне с французами вспомнил я только, приближаясь к Томску. Я приехал в него за полночь и должен был остановиться на почтовом дворе. Лишь только рассветало, был я уже у губернатора Хвостова, Василий Семенович обошелся со мною учтиво и даже церемонно, но не сделал мне никакого приглашения, ни малейшего вопроса на счет посольства. Этот почтенный и скучный человек был великий тянислов, и на мои вопросы о том, что про исходило в Германии отвечал так неопределительно, отвлеченно, двусмысленно, что я ничего не мог понять. Я увидел, что мне в Томске делать нечего, воротился домой, поел, спросил лошадей и пустился далее.
Как трупы некоторых людей в гробу бывают лучше, чем живые, когда исчезают безобразившие их угри и волдыри, так и Бараба понравилась мне одетая в белую ризу, особенно же когда в холодную, ясную, но тихую ночь, катился я во весь дух по гладкой её тогда равнине, которую луна всю осыпала серебряными блестками. В Каинске, в Каиновом городке, как называл я его, пришло мне в голову сделать лишних триста верст, чтобы не выезжать из Сибири, не увидев главного, древнейшего её города, Тобольска.
При лунном свете выехал я в незнакомый еще мне город Тару, который когда-то, при царях, был крепостью, но который, до царствования Павла, имел комендантов. Последний из них оставался тут на жительстве. Лишь только узнал он о моем приезде (что в маленьких городах делается очень скоро), то сам прибежал за мною, чтобы тащить к себе на вечеринку, как неуклюже, по дорожному, ни был я одет. На ней нашел я гусли, флейту, танцы и барынь; сам же старый комендант, с своими шестьюдесятью и более годами, пошел очень важно выступать полонею. Он прозывался Иван Васильевич Зеленой, хотя по летам был он совсем не зелен, а лицом весьма багров; о Европе как он, так и гости его мало заботились, и я ничего не мог у них узнать; о самой России, где он никогда не бывал, говорил он почти как о чужом государстве; признавался однако же, что перед смертью хотелось бы ему хотя раз взглянуть на Питенбурх. Мне стало скучно, карикатурные балы были мне не в диковинку, я устал и скоро отретировался и поспав часика три-четыре, до света уехал из Тары.
Я продолжал ехать всё также шибко, и станции, право, как будто мелькали передо мной. Вот показался и Тобольск? Главным украшением служила ему крутая укрепленная гора, на высоте которой стояли каменный сгоревший наместнический дом, соборная церковь и арсенал, в коем как святыня хранилось знамя Ермака и доспехи его; самый же город выстроен был внизу. Следуя обычаю старины, без всякого приглашения, выехал я прямо к старинному киевскому знакомому, приятелю моих родителей, Никол. Никол. Дурасову, сибирскому почт-директору. Они оба с женой Варварой Яковлевной, киевскою уроженкой, обрадовались мне как земляку, как родному. Он был человек благоразумный и весьма приятного обхождения; она же добрая, милая говорунья. Тут у почт-директора за новостями мне недалеко было ходить: все прочитанные газеты принесены мне. Увы, зачем мне было так спешить! Всё разом узнал я и был убит как громом.
Не знаю, откуда у иных берется патриотизм, когда я вижу так много людей, лишенных чувства любви к отечеству? Много хвалиться им кажется нечего; я полагаю, что оно должно быть врожденное, как всякая другая страсть, похвальная, простительная или постыдная, как страсть к музыке, к древностям, или к игре и к вину. Может быть, это не что иное как особого рода хвастовство; один чванится жилетом, прической, другой лихими рысаками, а я люблю хвастаться пространством, силою и богатством моей отчизны, умом и храбростью моих сограждан; у всякого свое. Виноват ли же я, что нахожу мало охотников до того, что сам так люблю?
Дикие народы соединяются на защиту существования и собственности и на похищение их у соседей; у них общее горе, общие радости, вот весь их патриотизм. Но и сии узы еще довольно крепки. Когда же просвещение, коснувшись народа нового, станет в нём распространяться, то малое число им образованных начинает презирать толпу сограждан и почитать земляками опередивших их в знании, и тогда любовь к родине делается принадлежностью одних низших классов. Кажется Невтон (ни за что не назову его Ньютоном) сказал, что поверхностная философия истребляет религию, а глубокая утверждает в ней людей. Так точно начало просвещения бывает вредно для патриотизма; надобно ему всюду разлиться, чтоб сказанное чувство обратилось в благородное достояние всей нации. Сын крестьянский, которого взяли на барской двор, особливо когда он побывает в народном училище, смотрит с отвращением на родимую избу и на братьев-неучей; но не гадко ли на него самого смотреть благомыслящим людям? Но если с высокими чувствами достигает он высшего просвещения, то с покорностью поклонится матери и с нежностью обнимет ее.
Тут в Тобольске, правда в Сибири, печаль моя казалась непонятною, чуть ли не смешною. Казалось, говорили, да какое ему дело? Приказана ему что ли Россия? Аустерлиц ровно ударил меня по щеке. Величие происшествия должно бы было меня несколько утешить: битва трех императоров напоминала и Фарсалу, и Акциум. Больно мне было даже самое имя Острельниц, обстрелянными нашими солдатами угаданное название, данное месту сражения; оно как будто находилось уже в Польше, в земле славянской, нашей. Без грусти не мог я также вспомнить царя, боготворимого Александра, столь скромного в счастье, ныне с поникшим от стыда челом возвратившегося в свою столицу, и без досады слышать грубые замечания, что ему не следовало бы путаться не в свое дело.
Хозяева, может быть, не разделяя моей печали, старались, однако же, утешить меня. Дурасов повез меня ко всем властям и потом пригласил их к себе на обед, данный, как уверял он, по случаю моего приезда. Генерал-губернатор Селифонтов, которому представлялся я в Иркутске, первый позвал меня обедать; после него два немца, гражданский губернатор Гермес и вице-губернатор Штейнгель, сделали тоже.
Первый из двух, бывший артиллерист, Богдан Андреевич Гермес, с многочисленным семейством, жил одним жалованьем, следственно скромно, даже скудно; к тому же не охотник был много говорить, и потому в великороссийских губерниях нашли бы его дурным губернатором. Но в Сибири его любили и уважали за его бескорыстие, доброту и строгость только в случае надобности. Другой, отставной моряк, Иван Федорович Штейнгель, немного богаче первого, но столько же честен, был сообщительнее и нравом несколько веселее его.
Почтенный старик, Иван Осипович, жил также не слишком великолепно, хотя получал содержание, по тогдашнему времени, довольно большое. Скоро должен был наступить для него черный день, и он на него как будто берег денежку. С ним были жена и дочь; да сверх того находились при нём, в звании чиновников по особым поручениям, два сына, молодые люди, ничем не замечательные.
Он казался уныл, не зная, впрочем, до какой степени поверят в Петербурге неосновательному, можно сказать, ложному доносу посла. Богу даст он ответ, этот граф Головкин, не столько еще за легкомысленную жестокость, с которою свергнул он невинного, заслуженного старца, сколько за ужасные от того последствия для Сибири. Более двадцати лет прошло с тех пор, как не терзает ее преемник Селифонтова, Пестель, а имя его жителями её с проклятиями еще передается внукам. Как имя сие напоминает моровую язву, так сам он был продолжительным бедствием в Сибири. Другие люди бывают жестоки из трусости, из мщения, из желания выслужиться, может быть, с намерением быть полезными; а этот человек любил зло, как стихию, без которой он дышать не может, как рыба любит воду. Никогда еще Сибирский край не был управляем столь достойными людьми, каковы были три губернатора, Гермес, Хвостов и Корнилов; при Пестеле скоро ни один из них не остался на месте. Гермес с Штейнгелем заблаговременно успели убраться в Пермь к Модераху; Корнилов же и Хвостов, мало-помалу опутанные его кознями, привлечены им были к ответу в Сенат. Не смея показаться в Сибири, где ожидало его убийство, он правил ею из Петербурга посредством подобных себе извергов, коим выпросил он там губернаторские места. Находясь в столице, он беспрестанно новыми обвинениями преследовал двух несчастных, которые около десяти лет томились под судом. Истина наконец восторжествовала: они оправданы, сделаны сенаторами, а он удален от службы. В другом государстве был бы он повешен. Над преступным сыном его свершилась впоследствии сия праведная казнь, которую, может быть, он гораздо более его заслуживал.
Расставаясь с Сибирью, которую, если Бог милостив, никогда не увижу, позволю себе здесь некоторые размышления о ней. Она была завоевана, можно сказать, открыта в одно время почти с английскими колониями, нынешними Северо-Американскими Штатами. Британское правительство ничего не щадило, чтобы сделать для себя полезным приобретение первых владений своих за океаном; для заселения их употребляло самые бесчеловечные средства. Двухвековые усилия сего правительства мудрого, искусного, деятельного увенчались совершенным успехом. Много способствовали ему просвещение, расчетливый ум и предприимчивость частных лиц, богатевших на приобретенной ими земле. Чем же кончилось? Миллионы сынов Англии отреклись от неё, восстали на нее, победили, освободились и сделались первыми, почти единственными её соперниками. Кто знает! Тоже самое когда-нибудь случится и с Вандименовою землей: у торгового народа нет других уз, кроме барышей.
Беспечная Россия всегда смотрела на Сибирь, как богатая барыня на дальнее поместье, случайно ей доставшееся, куда она никогда не заглядывала, управление коего совершенно вверено приказчикам, более или менее честным, более или менее искусным. Поместье всегда исправно платит оброк золотом, серебром, железом, мехами: ей только и надобно; о нравственном и политическом состоянии его она мало заботится. Крестьяне, ходя на промысел и подвигаясь всё вперед, наткнулись на транзитную китайскую торговлю: тем лучше: и им прибыль, и госпоже.
Как не признать, что во время дремоты нашей, у изголовья самим Богом приставлен к нам ангел-хранитель? Зачем же нам слишком хлопотать? В свое время всё полезное придет к нам само собою. Когда мы больно начнем мудрить, всегда наделаем глупостей; известно, что мы мастера всё испортить. Всё идет нам в прок, даже леность и невежество наших дворян. Что если б, от природы ко всему способные, они вздумали почти задаром покупать в Сибири большие пространства девственной земли и переводить на них крестьян (что никогда запрещено не было)? Какими бы владетельными князьями могли они сделаться![103] Но к счастью, им это не приходило в голову; им приятнее было вести праздную жизнь в деревнях или в столицах, щеголять европейскою болтовней. Итак в Сибири нет ни одного помещика: всё казенное, всё Божье, да государево. Чиновники все присылаются из России; пробыв несколько лет, когда они волею или неволею оставляют службу, то опять в нее же возвращаются. Духовенство везде у нас бедно; миллионщики-купцы также не владеют землею, имеют только дома и капиталы и торг ведут по большей части через Россию. Одним словом, Сибирь, как медведь, сидит у неё на привязи.
Кто может знать будущее? Но судя по настоящему, не видно и возможности отделиться ей от нас. Она так велика, так бедна жителями, сообщения между ними так затруднительны, что всякая попытка будет неудачна. Тогда какая польза для государства владеть беспредельными, необработанными пустошами? Разве мало пользы иметь на вечные времена в запасе достаточное количество земли для умножающегося народонаселения? Оно только может идти опять из той же России: когда Оренбургская губерния и южная часть Пермской преисполнятся жителей, тогда они ровными, довольно густыми массами будут подвигаться и населять Тобольскую. Таким образом, Россия будет всё расти, по мере того как Сибирь будет укорачиваться. Только китайская граница и особенно Амур суть места, о коих позаботиться было бы не худо.
С самого выезда из Красноярска, чувствовал я неодолимую тоску; известия, полученные мною в Тобольске, должны были ее умножить, а образ жизни, который в нём вели, не мог уменьшить ее. Все веселия ограничились для меня четырьмя сытными обедами, и хотя по вечерам была несносная скука, я не искал развлечений и не полюбопытствовал даже взглянуть на театр, который тут находился под управлением также сосланного дворянина, Василия Васильевича Пассека. Я бы скоро оставил Тобольск, но морозы начали доходить до сорока градусов, и я всё выжидал, чтобы холод уменьшился. Долее пяти или шести дней прождать я не мог и выехал в ужаснейший мороз, какой я запомню.
В закутанной отовсюду кибитке, надобно было еще мне думать о спасении ушей и носа; приподняв шубу и завязав ее над головой, сидел я в совершенных потьмах; куда как мне весело было! С двумя уездными городами, Тюменем в Тобольской губернии и Камышловым Пермской, обошелся, я как с простыми станциями, только что погрелся в них, да переменил лошадей. В одиннадцать часов вечера, 3 февраля, приехал я в Екатеринбург.
Не скоро ночью мог я отыскать какого-то полицейского, который привел меня к каким-то мещанам на краю города. Они что-то косо посмотрели на меня, однако же отвели в небольшую горенку, где, устав от мороза, с удовольствием я начал дышать теплым воздухом и расправлять от неподвижности и холода онемевшие мои члены. Прежде нежели лег спать, немного укрепил я себя простою пищей; вдруг среди сладости первого сна пробужден я был необыкновенным шумом. Тонкая перегородка отделяла меня от образной или молельной; хозяева мои были раскольники, это было накануне воскресного дня и, ровно в полночь, начали они без священника совершать свое богослужение. Как объяснить, сколь нестерпимы были для слуха чтение и песнопение их? Как описать мое бешенство, отчаяние мое? Много нагрешил я в эту ночь. Вдали от слуги моего, который спал в другом месте, забыв и страх, и долг христианства, не владея собою, громкими ругательствами и проклятиями сопровождал я моления их; ими покрывал я иногда голоса их, но мой чаще быль заглушаем их возгласами и бормотаньем. Я давно уже умолк, а они долго еще продолжали крики и визги свои. Как бы отчитав беснующегося, незадолго перед рассветом оставили они меня в покое. Сильное волнение в крови рано разбудило меня.
Я вспомнил Софью Карловну Певцову, оделся и в мороз пошел пешком ее отыскивать. Найти было нетрудно, в уездном городе, генеральский собственный, каменный дом в два этажа. Я был допущен к генералу, которого нашел я в зале, среди стоящих вокруг него штаб- и обер-офицеров его полка. Я отнюдь не был поражен величием сего зрелища, тем более что с первого взгляда, Аггей Степанович показался мне фельдфебелем, который только что надел генеральский мундир и ленту. Объяснив ему свое имя и качество, я прибавил, что, пользуясь приглашением его супруги, желал бы и ей представиться. Он отвечал мне сухо и даже сурово: «она на сносях брюхата, вам нельзя ее видеть». Я поклонился, повернулся и вышел. На лестнице слышу, что кто-то меня догоняет; поровнявшись со мной, невысокого роста, толстенький человек в военном мундире обратил ко мне следующие слова: «Мне, право совестно за нашего генерала, он совсем не умеет жить; такие гости, как вы, у нас редки; надобно стараться их удерживать. Позвольте мне предложить вам мои сани и проводить вас в один дом, где уже, конечно, будут уметь оценить вас». Что могло быть любезнее такого предложения? я принял его.
Проводник мой был Екатеринбургского полка подполковник Коренев, а повез он меня к жене генерала, то есть обер-берггауптмана четвертого класса, Ивана Филипповича Германа, начальника Горного Правления, Елизавете Гавриловне, урожденной Качьке. Муж был в Петербурге, а жена действительно заставила меня краснеть от любезности её приветов. Она не хотела отпустить меня до обеда, на который пригласила в себе; и когда, по окончании его, начал я раскланиваться, чтоб идти домой и в тот же день отправиться далее в дорогу, она объявила мне, что этому не бывать, что повозка моя у неё в сарае, а пожитки мои в пустом кабинете её мужа. Когда же я стал отговариваться, она отвечала мне: «Неужели в Петербурге молодые люди так грубы, что не уважают просьбами женщин? Нет, вы не будете так неучтивы, чтоб отказаться от бала, который сегодня я даю в честь вашу и на который созвала я весь город». Что мне было делать? После худо проведенной ночи, после дурного приема утром, я совершенно был оглушен расточаемыми мне ласками, и дал г-же Герман распоряжаться мною, как ей было угодно.
Надобно, однако же, описать наружность любезной моей хозяйки и внутренность её семейства. От роду было ей лет сорок, если не более; весу в ней было пудов сорок, если не более; она была рыжевласая, и рябины на лице её спорили за место с веснушками. Она должна была иметь великую телесную силу, ибо толщину свою носила с необычайною живостью и легкостью. При ней находились двое детей, девятнадцатилетняя дочь и восемнадцатилетний сын, уже горный офицер; меньшие сыновья отданы были в Горный Корпус. Дочь была не дурна собою и чрезвычайно скромна; я скоро заметил, что представивший меня Коренев в нее влюблен, ищет руки её и всячески старается угодить матери.
Но зачем при такой взрослой девице, подумал я, гувернантка четырьмя годами её только старее? Мадам Легран, как заметил я, принадлежала к такому роду женщин, которые похищают название мадамы, хотя, впрочем, они сами с достоверностью не помнят эпохи, в которую лишились права называться мамзелями. Она пустилась рассказывать про мадам Браншю и других оперных певиц в Париже, как будто про каких принцесс; в вольном сем рассказе не утаила она ни одной из их слабостей, а из простонародного слога, жон и жавон, её повествования, заключил я, что у которой-нибудь из них должна она была находиться служанкой. К счастью молодой Герман, была она более поверенною в делах матери, чем её наставницей. Чтобы дать понятие о непринужденности её обхождения с мужчинами, скажу, что, во время бала, найдя меня в кабинетце, куда зашел я отдохнуть, она без церемонии села мне на колени и обе руки закинула мне за голову; внезапно показалась хозяйка и громоносный взгляд её заставил ее вскочить.
Не с одной этой стороны поведена была против меня атака: Елизавета Гавриловна всё со мной танцевала, и я сначала думал, что от усталости так крепко жмет она мне руку. На этот счет был я от природы туп, совсем не избалован прекрасным полом и нескоро мог догадаться, чего от меня хотят; но тут уже дело было очевидное. В целые сутки я почти минуты не имел отдыха и когда пошел к себе в комнату спать, то заперся; ну что много извиняться, виноват, струсил!
Я ожидал, что на другое утро встретят меня с холодностью; вместо того, меня просто начали гнать с двора, говорить, что меня не удерживают, что в дороге заживаться не должно. Мне стало досадно. Накануне на бале один горный чиновник, пятого класса Иван Козмич Савков, подошел ко мне и сказал потихоньку, что Софья Карловна в отчаянии от неучтивости своего мужа, что она просит меня не уезжать, не повидавшись с нею и не приняв от неё поручений к родителям в Пермь и что сам муж её приказал принять меня, коль скоро я приду. Этим случаем не оставил я воспользоваться.
Я уже успел заметить, что в Екатеринбурге нет большего согласия между двумя ведомствами: военным, и горным, и что в обоих станах встречаются переметчики. Я гордо возвестил г-же Герман, что немедленно уеду, но что наперед должен увидеться с г-жей Певцовой, и пошел к сей последней.
Муж её был прав, она едва могла передвигаться, но и в сем состоянии была мила и приятна. Не так уже смотрел я на нее, как за семь месяцев перед этим: в голове моей всё еще был один свежий женский образ, при котором в глазах моих померкли другие женские прелести. Певцова расхохоталась, когда я с видом горести и смирения стал рассказывать ей о непонятной для меня внезапной перемене в обхождении со мною почтенной Елизаветы Гавриловны Герман. По приказанию генерала, нашли мне квартиру близко от его дома.
Скоро пришел ко мне молоденький Герман[104], который никакого не хотел принять участия в несправедливом на меня гневе своей матери и предложил мне съездить с ним на Березовский казенный завод, где добывается золото. Там потрапезничав, спустились мы в рудники, и таким образом раз в жизни случилось мне побывать под землею. Я был слишком рассеян во время сего сошествия в преисподнюю и ничего особенно любопытного не могу сообщить о нём читателю; только поражен я был бесстыдством и развратом работников обоего пола. Вечер провел я у Певцовых и на другой день уехал из Екатеринбурга, не простясь с Германшей.
По приезде в Пермь, остановился я у прежнего своего хозяина, часовых дел мастера Розенберга. Город сей имел вид еще более унылый чем летом: перед каждым рядом низких домов стоял вал из снегу, на широких улицах метелями нанесенного. Не располагая тут долго пробыть, я в тот же вечер пошел к Модераху с письмом от Певцовой. Жена его была нездорова, дочери не показывались, и я пробыл с ним наедине. Он сделался разговорчивее; заметив какое участие, несмотря на мою молодость, принимаю я в заграничных происшествиях, начал он изъясняться об них с чувством, как немец времен Екатерины, который дорожит русскою честью. С прискорбием говорил он о последствиях Аустерлицкого сражения и Пресбургского мира; с негодованием о принятии двумя курфирстами короны из рук не всеми признанного императора и об унижении чрез то королевского достоинства; но веровал еще в могущество России и надеялся на сильное содействие Пруссии. Утешенный им, преисполненный к нему уважения, оставил я его.
От Перми в Казань дорога показалась мне весьма приятною, потому что воздух сделался вдруг гораздо теплее: после продолжительных морозов в пути оттепель покажется всегда благополучием. При масленичной погоде, во вторник на масленице приехал я в Казань.
Перед отъездом из сего города, летом, дал я сыну коменданта Кастелли, Николаю Степановичу, обещание на обратном пути у него остановиться. Он был добрый, молодой, веселый морячок, недавно оставивший службу и женившийся на одной из девиц Юшковых; сдержать данное ему слово было мне легко и приятно. Я пристал у него, и мы пустились с ним по городу, который тогда исполнен был веселых пиршеств.
Губернаторша почитается необходимостью в губернском управлении: возлагая на нее заботы домоводства и общественной жизни, что входит в состав его обязанностей, губернатор имеет более свободы заниматься делами по службе; когда сие второе место в губернии остается вакантным, то как будто чего-то не достает в губернском городе. Добрейший Борис Александрович Мансуров, вдали от детей своих, которые воспитывались у родных в столице, скучая одиночеством и вдовством своим и внимая преследовательным убеждениям жителей, перед самою масленицей вступил во второй брак со старшею из княжон Баратаевых, Елизаветой Семеновной, и казанцы не знали как изъявить радость по случаю сего важного для них события.
Недавняя, почти вчерашняя госпожа Мансурова была годами вдвое моложе своего мужа, а степенностью едва ли не старее его. Она помнила еще отца своего на губернаторстве, следственно оно ей было не в диковинку; однако же, по природной скромности, всегда приходила в замешательство, когда старые дамы уступали ей место. Сам же Мансуров на радости был со мною, если возможно, еще добрее и ласковее. Мы проводили вместе дни и вечера, на званых свадебных обедах, на катаньях и на балах. Это было тоже что в Пензе, да не то: в помещиках казанских были радушие и искренность, которых не было в пензенских; а пензенские дамы имели жеманство и претензии, которых не было в казанских. Сплетни однако же неизбежное зло губернских городов, и я был провозглашен женихом Александры Семеновны, одной из меньших Баратаевых потому только, что часто бывал у её матери, чаще с нею танцевал и действительно находил ее красивее и милее других девиц[105].
В Казани находился тогда один выходец, я чуть было не сказал беглец, из действовавшей армии, сын Желтухина, Измайловского полку полковник Сергей Федорович, который был в Аустерлицком сражении или близ его и после угрожавших ему издали опасностей приехал успокоиться к родителям. Я было к нему с расспросами; он отвечал так не ясно, так отрывисто, что я приписал это его гордости или скромности; после в Петербурге узнал, что это происходило от его неведения и что вообще самое воспоминание о сражениях его сильно тревожило.
Во вторник на первой неделе поста выехал я из Казани. Находясь так близко от Пензы, куда я должен был опять заехать, в другое время не прожил бы я недели в семь городе, но я предпочел пиршества в Казани и тишину семейной жизни в Пензе. Опять проехал я через Симбирск, не видевши его, ибо это было в темную ночь, когда метель только что начинала разыгрываться; я выждал на почтовом дворе, чтоб она прошла, и выехал до свету. Спешить было не к чему: я не нашел в Пензе ни родителей, ни родных своих.
В бытность отца моего в Петербурге, военный губернатор граф Петр Александрович Толстой уговорил его, посредством своих подчиненных, принять на себя закупку муки в Пензе и доставку её Сурой и Волгой в столицу. Он находил, что провиантскими чиновниками делается сие слишком накладным образом для казны, и отец мой имел неосторожность согласиться. Сия опасная операция совершена с успехом, то есть в половину дешевле против прежних годов. Но караван имел остановки в плавании, и поверхность муки подверглась некоторой порче. Это подало повод управляющему запасными магазинами, статскому советнику Романовскому, лишенному при сем случае обыкновенных своих ежегодных барышей, забраковать всю муку. Почтенного графа Толстого тогда не было в Петербурге; он командовал корпусом, делал с ним высадку в Померанию и ходил на помощь к Гановеру. Он сохранял свое звание, но место его временно занимал военный министр Вязмитинов, хороший знакомый отцу моему, добрый человек, но слабый, робкий и склонный к подозрениям. Чтобы спасти себя от вершенного разорения, принужден был отец мой с семейством отправиться в Петербург; и сделал хорошо, ибо впоследствии всё дело обратилось к стыду г. Романовского. Что было мне делать в пустой для меня Пензе? Не видав почти никого, отдохнул я в ней сутки и пустился опять в бесконечный свой обратный путь.
В Москве нашел я сестру и зятя веселыми и довольными. Причина их радости, для человека равного с полковником Алексеевым чина, едва ли в нынешнее время не была бы причиною печали: зятю моему, после Аннинского креста на шее, дали Владимирский в петлицу. Два Екатерининских ордена, военного и гражданского достоинств, которых Павел не раздавал и на раздачу которых Александр был очень скуп, ценились еще весьма дорого. Не нужно говорить об удовольствии, с которым увидело меня почти всё мое семейство, ибо и другие две сестры родителями оставлены были в Москве у Алексеевых; не временем, а отдалением мерили мое отсутствие, и мы увиделись как после десятилетней разлуки.
Несмотря на великий пост, в Москве казалось шумно и весело. В ней только тогда победителей ожидали триумфы, и князь Багратион, почти единственный из военачальников, поддержавших честь русского оружия, приехал в нее за венками, со множеством молодых знатных людей, подвизавшихся с ним в последнюю кампанию. Из них, у князя Сергия Федоровича Голицына, видел я только одного, третьего сына его князя Сергия, который имел на голове рану и весьма красиво и кокетски надетую черную повязку. Множество праздников с похвальными куплетами даны были в честь Багратиона и его сподвижников. На одном из них, в благородном собрании, самом блистательном и многолюдном, явилась старшая из трех дочерей князя Василия Алексеевича Хованского, о которых не один раз я упоминал. Она была одета какой то воинственной девой, с каской на голове, в куртке светло зеленого цвета с оранжевым, вместо обыкновенных лент, украшенная Георгиевскими, принадлежащими гвардейскому егерскому полку, коего Багратион был шефом, и своим прекрасным голосом пропела стихи во славу его. Всё это было очень трогательно и немного смешно. Возвратившись, как мне казалось, со стыдом, я никуда не показывался, и пишу здесь всё одно слышанное.
Мне так надоела дорога всю зиму и так хорошо мне было с родными, что я дней десять откладывал всё выезд свой. Но последний зимний путь начинал портиться, и я должен был спешить, чтобы воспользоваться им. Итак, 12 марта покинув Москву, 16-го прибыл я в Петербург, после десятимесячного из него отсутствия.
XII
Тулиновы. — Салтыковы.
Я имел адрес квартиры нанятой моим отцом и нашел в ней особо приготовленную для меня комнату. Сестры в Москве были мне без памяти рады; но то ли дело было в Петербурге с родителями! Только отец мой несколько сожалел о неудачном для меня окончании столь дальнего путешествия.
Семейство Тулиновых также находилось тогда в Петербурге. Запрещения ввоза иностранных изделий тогда еще не существовало, и суконными фабриками можно было тогда только что жить, а не наживаться. Старший сын, Алексей Иванович, как сказал я в одной из предыдущих глав, несмотря на свою молодость и при весьма похвальных свойствах, имел чрезвычайную алчность к богатству, а единственные почти источники его находились тогда в питейных домах: откупщики были настоящие алхимисты, которые нашли не камень философский, а жидкость. В Сенате назначены были торги на новые питейные откупа, и молодой Тулинов уговорил родителей испытать счастье на сем новом для их семейства торговом поприще. Но толпа искателей Фортуны против прежних четырехлетий чрезвычайно увеличилась, и в той же мере и цены на право продавать водку, равно как и казенные доходы. Таким образом не слишком выгодно взял Тулинов на откуп Пензенскую губернию, что отцу моему было весьма неприятно: ибо явно помогать ему в его кабацких делах было бы неблаговидно, а отказывать в помощи родственнику и жестоко, и несправедливо.
Таким случаем, каковым было пребывание в столице двух столь близких ему семейств, не оставил брат мой Николай воспользоваться, чтобы в первый раз молодой жене показать Петербург. Я до тех пор еще не видывал её, и хотя грешно позавидовать брату, признаюсь, что сделал сие. Она была из числа тех существ, которые посылаются минуту погостить на земле, чтобы показать, до какой степени смертные могут уподобиться небожителям, и потом опять улететь домой.
Весною в конце апреля приехал и старший брат мой, Павел. Он во время похода следовал за армией; когда я перебирался через горы вокруг Байкала, проезжал он с войсками через Венгрию, и когда со столь отдаленных, противоположных точек сошлись мы вместе, то имели что друг другу порассказать. Моим родителям, на чужой стороне, было усладительно видеть себя окруженными большею частью своего семейства. Припомнив себе всё что в это время до него относилось, что мне казалось дороже всего, скажу о том что мог тогда видеть и заметить в городе и в обществе.
Расположение умов нашел я в Петербурге иное чем в Москве. Там позволяли себе осуждать Царя, даже смеяться над ним и вместе с тем обременять ругательствами победителя его, с презрением называя его Наполеошкой. Здесь напротив были воздержнее: все чувствовали, что унижение, понесенное главою народа неизбежно должно разделять с ним всё государство. Самое негодование на сильного противника нашего было глубже и пристойнее; большего уныния не показывали, все храбрились, последнюю победу его усиливались приписывать более счастью чем искусству, и желание новой с ним войны было общее. Знатная молодежь, воспитанная эмигрантами и участвовавшая в сей войне, не столько ненавидела в нём врага своего отечества, как маленького поручика, дерзнувшего воссесть на престоле великого Людовика; она спесиво и грозно толковала о будущих своих подвигах, над чем иные тайком смеялись, будто по ошибке вместо геро называя их зеро, и розданным ей во множестве Анненским шпагам давая название ослиных шпаг: âne вместо Anne. Чувствами выражаемыми лучшим обществом, двором и гвардией, должен был Государь остаться доволен, хотя французский роялизм, а еще более раболепство в сем случае принимали цвет патриотизма; к сожалению другого почти не бывает в новой столице. С другой стороны, приверженцы Англии указывали на нее как на якорь нашего спасения, и влияние её на дела наши сделалось еще сильнее прежнего. Несмотря на мое неведение, с этого времени начал я ее ненавидеть: мне казалась обидна мысль, что мы в числе народов, коих гордые островитяне, вне континентальных опасностей, нанимают, чтобы сражаться за их выгоды.
Одного из последователей английской системы не щадило тогда общее мнение. Князь Адам Чарторижский, управлявший иностранными делами и находившийся во время путешествия и Аустерлицкого сражения при Государе, сделался всем ненавистен. В средних классах называли его просто изменником; а тайная радость его, при виде неблагоприятных для нас событий, не избежала также от глаз высшей публики. Император в это время дорожил еще мнением России, которая громко взывала к нему об удалении предателя, и Чарторижский, к концу лета, должен был оставить министерство, сохранив только звание попечителя Виленского университета. Мне сказали, что по возвращении из посольства должен я был непременно к нему явиться, и я исполнил сие как весьма тягостную для меня обязанность. В прихожей нашел я дежурного, который пошел обо мне докладывать; он был один и чрез пять минут велел позвать меня к себе. Пройдя длинный ряд комнат, я вошел в его кабинет; он не сидел, а стоял за высоким письменным столом, оборотился ко мне с приятною улыбкой, сказал несколько вежливых вопросов и кончил предложением вступить под его начальство. Я, поклонясь только, поблагодарил, не стараясь давать отказу своему никакого благовидного предлога. После, не один раз жалел я о том; но тут, когда он был так добр со мною, право, кажется, готов бы я был его зарезать. Не знаю, чем заслужил я его милость. Наружность ли ему моя понравилась, или нерусское мое прозвание, или предполагаемое во мне неудовольствие за сделанную мне несправедливость? Это был единственный раз, что я его видел, и предубеждение мое до того не простиралось, чтобы не заметить, как приятно было выражение лица его, несмотря на слишком выдвинутую вперед нижнюю челюсть.
Прежде того, успел я являться к настоящим моим начальникам, Кочубею и Сперанскому! Оба приняли меня холодно и сухо, ни о чём не спросили и сказали только, что я по прежнему могу заниматься в канцелярии, то есть, в переводе, по прежнему могу ничего не делать. Более любезности, гораздо более внимательности нашел я в гостиных, куда ввели меня привезенные от товарищей письма. Я не думал ими воспользоваться и сначала, развозя их, отдавал просто швейцару; но мне суждено было иметь свою минуту известности. Меня отыскали, я получил приглашения и был осыпан учтивостями и расспросами. Несколько месяцев прежде меня воротился Шуберт с сыном; но в большом свете он ни с кем не был знаком, никуда не показывался и прибыл в такую минуту, когда все умы заняты были происшествиями на Западе. Сверх того он приехал из Иркутска, следовательно из Сибири, что совсем было не диковинка; я же первый как будто прямо из Китая. Вот тут-то, и только в это время, случилось мне раза два или три быть в доме Гурьевых. Димитрий Александрович тогда еще не был министром; но и тогда подведомственных ему чиновников в Кабинете и Удельном Департаменте подавлял тяжестью ума своего; в свете же имел все замашки величайшего аристократа, хотя отец его, едва ли не из податного состояния, был управителем у одного богатого, но не знатного и провинциального помещика. За то сам он женился на графине Салтыковой, престарелой девке, от руки коей, несмотря на её большое состояние, долго все бегали. Прасковья Николаевна, тогда уже дама довольно пожилая, была расточительна на ласки с теми, коих почитала себе равными или с коими хотела сравняться, и раздавительно горда со всеми, кои казались ей ниже её. Сия чета, в начале девятнадцатого века, открывала у нас торжественное шествие его финансовой знатности; в сем доме имел вес титул, но только в соединении с кредитом при дворе; одно богатство, но только самое огромное, и наконец мода, которая как из людей, так и из нарядов, не всегда самое лучшее выставляет и вводит в употребление. Вот куда я попался, и вот какова сила предрассудков, что, внимая приветам хозяев, некоторое время я чувствовал себя несколькими вершками выше прежнего.
У Нарышкиных не имел я нужды в новой рекомендации, чтобы хорошо быть принятым. Однако же чадолюбие Александра Львовича заставило его быть еще любезнее с человеком, которого сын его письменно называл своим приятелем.
Сестра его, жена нашего посла Головкина, Катерина Львовна, которая после отъезда моего воротилась из Италии и к которой не имел я письма, сама пожелала со мной познакомиться. Но знавши, трудно было сказать, сколько ей от роду лет. Еще смолоду имела она мужские черты, была непригожа и старообразна. А как дурнота лица имеет в себе какую-то твердость, одеревенелость, которая долго противостоит действию времени, тогда как цвет красоты так скоро от него вянет, то Катерина Львовна лет в сорок пять была тоже, что в шестнадцать: дурна собою и не стара. Прибавьте к этому, что она была стройна, как двадцатилетняя дева и что наряд её соответствовал её стану; еще прибавьте к тому её ловкость, ум, необыкновенную любезность, сильное желание нравиться (мне бы не хотелось прибавить — её щедрость), и вы без труда поверите, что были люди, которые охотно соглашались ее любить. Я не был в числе их; без всяких видов была она мила со мною, и я бескорыстно любил её общество и разговор. Опытные женщины единым взглядом умеют измерять силу чувства, которую могут они ожидать от предстоящего мужчины, и вообще зрелость лет предпочитают красивой незрелости. Графиня Головкина была уже давно только по имени супругою; искренняя, нежная, взаимная дружба с мужем давно уже заступила место, даже я думаю, не любви супружеской, а только её обязанностей.
Если б у единственной дочери их, Наталии Юрьевны, не были слишком крупные черты, то она могла бы почитаться совершенной красавицей. Однако же молодость её, свежесть, тогда еще пристойное и тем еще более привлекательное её кокетство, многих сводили с ума. Она лет шестнадцати была выдана за графа Александра Николаевича Салтыкова, второго сына фельдмаршала Николая Ивановича, и хотя смотрела еще невестою, но была уже тогда матерью четырех дочерей[106]. Муж её был бледен и сух и казался старее своих лет. Выросши вместе с императором Александром, коего главным воспитателем был отец его, имел он в манерах что-то с ним сходное: важность без спеси и учтивость, удерживающую всякую короткость. Умственным образованием он мало отличался от других вельможеских детей того времени, напитан был французской литературой, проникнут духом французской аристократии и исполнен знания французской истории. Нужно ли сказать, что на французским языке объяснялся он лучше, чем на природном? На нём однако же не упускал он случая искренно хвалить свое отечество: он был воспитан при Екатерине. Какая-то детская ссора, какое-то неприятное происшествие во время их младенчества с Государем, сего последнего более чем охладили к нему. За то общее мнение сильно его поддерживало: предполагаемые в нём познания, вид спокойствия, непоколебимости, любовь к отчизне заставляли в нём видеть истинно-великого государственного человека и сетовать, что он занимает ничтожное место члена Иностранной Коллегии. Александр, который в жизни столько раз жертвовал сердечными склонностями общему желанию, общему благу, впоследствии призывал его к высоким должностям; но, к сожалению, в делах оказался он ниже своей репутации.
Молодая графиня, без большего ума, была очаровательна до невозможности. Познакомившись со мною у матери, она пригласила к себе и представила мужу, который обошелся довольно вежливо, чтобы побудить меня к продолжению посещений. Грустно подумать, что обе эти женщины, которых знал я во всём блеске — мать и дочь — так печально кончили свое поприще. Когда, наскучив светом, простившись с его суетами и прельщениями, женщины покидают его для набожной или просто спокойной жизни, то уважение следует за ними в их убежище; но горе тем, кои, разрывая с ним связи, удаляются от немых его приговоров для того, чтобы свободнее предаваться осуждаемым им наслаждениям! Графини Головкиной давным давно уже нет на свете; а дочь её видел я недавно, столь же добрую, столь же милую, как и прежде, даже немного состарившуюся, а душевно пожалел об ней, увидев, до какой степени она сделалась нечувствительна к общему неуважению.
Невская вода имеет свойство струй Леты, реки забвения. Вот отчего, люди прибывшие из провинции, принимавшие живейшее участие в делах её, с негодованием смотревшие в ней на несправедливости, на неустройства, лишь только хлебнут немного этой заколдованной воды, так скоро делаются равнодушны к благу провинции, чуждаются воспоминаний об ней. Не прошло недели после того, что увидел я берега сей канальной реки, как забыл и Сибирь, и Верочку, и посольство. Но о сем последнем скоро пришлось мне вспомнить.
Мне вдруг сказали, что приехал Байков; я не поверил, тем более, что сие случилось 1-го апреля. Однако я вспомнил пророчество Вонифатьева; оно сбылось слово в слово.
Некоторое время старались держать втайне причину возвращения Байкова. Не быв свидетелем происходившего на Урге, я не могу ручаться за достоверность сообщаемого здесь рассказа и передаю его как после слышал от возвратившихся моих спутников.
Бесконечный караван, при постоянных, морозах шаг за шагом три недели тянулся до Урги. Тут посольство расположилось станом и примкнуло к сему большому монгольскому стану, посреди коего находилось одно только прочное жилище двух мандаринов, наместников ханских. Первые дни прошли в посещениях, во взаимных учтивостях, то есть в церемониях и в пересылке подарков. Посол более чем когда старался показать европейскую ловкость и любезность. Но китайцы (если позволено мне сделать весьма неблагородно и часто употребляемое сравнение) в этом деле столь же плохие судьи, как свиньи в апельсинах. Гораздо полезнее было бы послать к ним какого-нибудь увальня: его истуканству они охотнее стали бы поклоняться. На Головкина и Байкова смотрели мандарины, как на фигляров, им на смех присланных, и с каждым днем начали умножать свои требования; терпение бедного посла подвергнуто было жесточайшим испытаниям. В один день, по полученным из Пекина наставлениям, приглашен был он к вану на какое-то празднество; тут предложена ему была репетиция того церемониала, который должен был он соблюсти при представлении императору. В комнату, в которой поставлено было изображение сего последнего (полно, верить ли тому?) должен был он войти на четвереньках, имея на спине шитую подушку, на которую положится кредитная его грамота. Он отвечал, что согласится на такое унижение тогда только, как получит на то дозволение от своего двора; может быть надеялся он испугать китайцев твердым намерением долго жить на их счет. На другой день, все подарки им сделанные, в сундуках и ящиках, были не выставлены, а брошены перед его посольскою палаткой. После того ему ничего не оставалось более, как ехать в Сибирь дожидаться приказаний двора своего. Обратный путь был ужасен: к холоду скоро присоединился голод; по целым суткам тщетно ожидая съестных припасов, посольство вместо мяса получало иногда живых баранов в небольшом количестве и, не имея с собою мясников, должно было еще платить за их резание. Не было неприятностей, коих бы оно не претерпело от сих варваров. Как было в глубине сердца не возблагодарить мне Бога, пославшего злодею моему Байкову мысль спасти меня от всех этих напрасных мучений! После пятидесятишестидневного странствования в пустыне, Головкин, подобно Моисею, не узрев обетованной земли, возвратился в Кяхту.
Надобно было в неудаче своей оправдаться перед царем. По прибытии в Иркутск, Байков предложил свои услуги, которые посол принял с благодарностью; он был мастер пускать в глаза пыль, и можно было надеяться, что он дело будет уметь представить в красивейшем виде, чем оно было. Итак Байков поскакал, а Головкин остался в Иркутске ожидать решения судьбы своей.
Но лишь только предатель успел приехать в столицу, как пустился оправдывать одного себя, выставлять великие свои заслуги, взваливая всю вину на верителя своего, всевозможным образом стараясь очернить его. После урона, претерпенного на Западе, Государь не очень расположен был к снисходительности, и бедный Головкин понес опалу. Но друзья его, возмущенные наглостью и нечестием Байкова, с своей стороны и этого молодца отработали: через неделю был он отправлен обратно в Иркутск с приказанием ему и Головкину оставаться там до тех пор, пока их оттуда не вызовут. Всем же другим чиновникам посольства позволено возвратиться, как и когда они того пожелают.
Оставаться в виде изгнанника там, где так недавно он господствовал, и можно сказать с глазу на глаз с подлецом, уже отъявленным врагом своим — наказание, по мнению моему, слишком жестокое за вину неумышленную. Надобно признаться, что в искательности, медленности и продолжительности наказаний Александр был знаток. Что за беда для России, если Головкин не попал в Пекин? Ведь там он тоже ровно ничего не мог бы сделать; а о брошенном понапрасну миллионе надобно было подумать прежде.
Чтобы не смешивать других воспоминаний с теми, кои относятся к сему посольству, имевшему столь смешной и жалкий конец, хотел я окончательному о нём повествованию почти исключительно посвятить сию главу.
Молодые наши люди, в продолжении всего лета, один за другим, по одиночке возвращались в Петербург. Одни только неодушевленные предметы, зеркала и другие дорогие вещи, остались на веки в Иркутске, чтобы в нём украшать собою впоследствии построенные дома генерал-губернатора и губернатора. Когда последний из чиновников прибыл обратно, что было в начале сентября, тогда только бывшему послу и его секретарю посольства дано позволение оставить Сибирь. А как они не могли получить его ранее половины октября, то не совсем покойным образом, разумеется, не вместе, совершили они сей обратный путь и, переворачивая стихи Расина в Ифигении, мог Головкин сказать:
Et moi, qui arrivais, triomphant, entouré, Je m’eu retournerais, seul et désespéré.В обществе, коего был он одним из знаменитейших граждан, явился он спокойно и безбоязненно, но при дворе долго не показывался. В продолжении всего царствования Александра, не мог он заставить его забыть свою первую неудачу; иногда приподнимался, но никогда совершенно не мог стать на ноги. Найдя меня довольно коротким в своем семействе, он смотрел на то одобрительно, и воспоминание недоброжелательства Байкова чрезвычайно умножало его ко мне благосклонность.
XIII
Мартинисты. — А. И. Тургенев. — Милиция. — А. П. Хвостова.
В начале июня 1806 года, успешным образом окончив дела свои, отец мой отправился в Пензу. Вскоре после него брат мой беременную жену повез в Воронеж.
Я опять остался один и принялся за прежнюю праздную петербургскую жизнь. Некоторое время имел я средства проводить ее довольно приятно; во время пребывания родителей моих в столице, содержание мне почти ничего не стоило; сбереженные как от того, так и от продолжительного и дешевого путешествия деньги в сем случае были мне очень полезны.
Давно уже не упоминал я о доме француза Шевалье Лабата де Виванса, русского превосходительства и кастеляна Михайловского замка. Он перестал быть шумен и весел, ибо физические и финансовые силы старика-хозяина приметно истощились; но в это лето посиял он еще последним блеском. Число роялистов умножилось в Петербурге; не знаю откуда они понаехали. Аустерлицкое наше поражение воскресило их надежды: первый неудачный опыт, по мнению их, ничего не значил; но они с радостью заметили, что русские на национальной чести видят пятно, которое горят желанием изгладить. Тогда начали они смотреть на них не столько как на покровителей, а как на союзников, и стали выше подымать головы. Каждую неделю раза два или три собирались они во множестве у престарелого Лабата для совещаний, и там, со знаками всенижайшего уважения, окружали графа Влакаса, тайного поверенного в делах французского претендента, жившего тогда в Митаве. А он держал себя так высоко, как бы только прилично было послу Людовика XIV, в самую блестящую эпоху его царствования. Сие зрелище было смешно и трогательно в одно время.
Года за два перед этим, открыт источник Липецких минеральных вод. Недужные и друзья их тому обрадовались. Наполеон, всё более и более отхватывая, закрывал от нас Европу, Кавказ казался ужасен, путешествие к его целебным ключам сопряжено было с великими издержками, трудностями и даже опасностью, и Липецк внутри России от стечения больных и их семейств быстро начал вырастать. Блаженное время нашего невежества, когда думали, что всякий минеральный колодезь может лечить от всякого рода болезней, когда поутру, делая движение, пили на здравие Зельтерскую воду, как бы ныне Карлсбадскую или Пирмонтскую. Железными частицами исполненная Липецкая вода, возвращая силы, исцеляя изнуренные тела, убивала людей одержимых обструкциями и другими болезнями и скоро потеряла свою репутацию. Предшествующим летом семейство Лабатовых возило в Липецк разбитого параличом отца; там познакомился он с другим старцем, тайным советником Тургеневым, и я с великим удовольствием в гостиной г. Лабата встретил сына сего Тургенева, бывшего товарища моего в Московском архиве.
Описывая вступление мое в службу в помянутый архив, говорил я об Андрее Тургеневе, о рановременной его кончине, о великой потере, которую сделали в нём отечество, дружба и словесность. Там же слегка упомянул я о меньшом брате его Александре, застенчивом, ого всего краснеющем мальчике. Тут показался он мне совсем в ином виде. Настоящей дружбы между нами никогда не было, никакого влияния на судьбу мою он не имел, но в частых сношениях, в частых свиданиях прошли наша молодость, зрелые наши лета и встретила нас старость. И поэтому мне кажется, что на мне лежит трудная обязанность, забыв и старинное мое к нему приязненное расположение, и настоящее негодование, изобразить его с беспристрастием. А как вообще всё это семейство (не род, я говорю) Тургеневых, которого у нас на Руси скоро и следов не останется, было в ней очень примечательно, как правила и поступки сего самого Александра Тургенева, по большей части, были следствием какого-то общего направления взятого сим семейством, то от него отделять его почти невозможно, и может быть во мзду многих приятных часов, проведенных мною с членами его, суждено мне, если сам только спасусь, спасти и его от забвения.
Отца Тургенева, Ивана Петровича, я никогда не знавал: он умер вскоре после Липецкого лечения. Он слыл умным, добродетельным и просвещенным человеком. К счастью или на беду его, в последней половине царствования Екатерины показалась в Москве секта мартинистов. Что это такое, право сказать не умею и должен признаться в своем невежестве. Но полно, стыдиться ли мне того? Чтоб объяснить дух каждой из религиозно-философических сект, возникших в Германии, надобно изучить их историю и посвятить на то целую жизнь, а стоит ли того? Давно уже испытующий дух народов Германских ищет проникнуть в таинства Христовой веры. От Юга до Востока церковь расселась надвое; но трещину заделать остается возможность, ибо основание не пошатнулось; мрачному и деятельному уму потомков северных варваров, ниспровергнувших Римскую империю, дано было устремиться к его разрушению. Во Франции, шуты, вооруженные эпиграммами, сарказмами, блестящими софизмами, конечно нанесли некоторый легкий, наружный вред вечному зданию; но там, посмеявшись с ними, над ними же стали смеяться. То ли дело в Германии? Там работа продолжительная, постоянная, истинно-немецкая, методическая, систематическая, ведущая свое начало от Цвингля и Лютера. И Германия, в надменности своей, полагает, что она не только сравнялась с древнею Грецией, но и превзошла ее, и когда ей называют Пифагора, Сократа, Платона, Эпиктета, она с гордостью и презрением отвечает: Кант, Фихте, Шеллинг, Гегель, и что всего досаднее, все эти истолкователи и ученики их, как переодетые лазутчики, прикрываются именем христиан. Безумцы, хотелось бы мне им сказать: да ведь греческие философы существовали до святого откровения; поиски их к открытию истины почтенны, и самые заблуждения их отзываются всею прелестью поэзии, и тогда как алмазу подобные капли росы, их системы исчезли при появлении вечного светила, неужели вашим туманом вы думаете навсегда заслонить его?
Мартинизм, как кажется, исключительно филантропическая секта, ибо последователи его всё толкуют о святом человеколюбии и вероятно полагают, что можно исполнять его обязанности без помощи христианской веры. Немецкое злое семя на русской почве не могло или не успело развиться. Человек просвещенный, Николай Новиков, духовный отец всех в России мартинистов, завербовав несколько знатных и богатых людей, с помощью их и на их счет завел лучшую и обширнейшую типографию в Москве, дорого платил авторам за право печатать их сочинения, дешево уступал их книгопродавцам, поощрял все молодые таланты, отправлял за границу отличнейших между воспитанниками университета; и когда частное лицо не способствовало так у нас распространению просвещения. Но успехи французской революции сделали наше правительство и самоё Екатерину подозрительными и осторожными: посреди их благотворных действий, открыли (с позволения сказать) заднюю мысль, arrière pensée мартинистов, и разослали их по разным отдаленным местам государства, Трубецких, Ивана Владимировича Лопухина и многих других; пощадили только фельдмаршала князя Репнина. Отец Тургеневых сослан был в Симбирск, где и оставался до царствования Павла, который освобождал десятки жертв мнимой несправедливости своей матери, чтобы после ссылать тысячи жертв своих прихотей.
Так о мартинистах гласят предания, и если в мой рассказ вкралась какая-нибудь неверность, то это их вина, а может быть и моя, ибо я слушал их без большего внимания. Итак возможно ли, чтобы сыновья мученика, воспитанные им в заточении, не приняли его веры? Чтобы они не возненавидели власть тиранов, от которой он пострадал? Сделавшись при Павле директором Московского университета, г. Тургенев имел все средства дать самое лучшее образование сыновьям своим, и они тем воспользовались. Заблуждения ума не всегда мешают доброте сердца и добрым нравам, и семейство Тургеневых было вообще любимо и уважаемо.
Вместо того чтобы, подобно нам, молодым неучам, искать в канцеляриях занятий и чинов, Александр Тургенев, о котором идет речь, получил отпуск и отправился доучиваться в Геттингенский университет. По окончании курса, путешествовал он по всей Немеции, стоял лицом к лицу с Виландом, с Шиллером и даже с Гёте и, напитанный ученым и расчетливым духом Германии, за неизбежными успехами явился наконец в Петербург.
Он всё имел, что может их дать; от него так и несло ученостью, до того он был весь ею вымазан, а этот дух в то время притягивал места и отличия; умеренное вольнодумство также было тогда в моде. Его легкомыслие, обдуманные его рассеянность и нескромность приняты за откровенность благородной души; филантропические изречения, с малолетства им вытверженные, названы выражениями высокой добродетели; самые телесные его недостатки пошли за целомудрие, и каплунный жир его за девственную свежесть. Ну, просто совершенство человеческое, да и только! О его смелости, настойчивости у начальства вырывать потом награды, скажу я только, что она была в самой крайней противоположности с его прежнею детскою стыдливостью.
Каким почитал его свет, таким он и мне казался. Только иногда начинал он педантствовать и тогда становился мне тяжел; вдруг потом приходила ему охота дурачиться, беситься, и он делался смешон. Обыкновенно же притворство его со всеми было так велико и всегда так весело, что мне никогда не приходило в голову его подозревать.
Он скоро увидел, что прослыть необыкновенным человеком в одном городе еще недостаточно для быстрых успехов по службе, и что труднее ослепить ученый мир чем большой свет. Попасть в него было ему не трудно; но ему хотелось в нём блеснуть, чтоб ускорить ход своей Фортуны. Он немного знал по-латыни, и, если бы нужда потребовала, мог бы сказать наизусть первые стихи из некоторых песней Энеиды, из од и посланий Горация, из элегий Тибулла; мог назвать все немецкие книги и их сочинителей. Но на немецких авторах в салонах не далеко можно было уехать: там подавай французскую литературу, которою он дотоле совсем почти не занимался. Теперь я вижу ясно, что тесная дружба его с Блудовым сначала имела цель и только после на некоторое время превратилась в привычку. Никто из тогдашних молодых людей, не исключая даже Уварова, так основательно не знал этой литературы как Блудов, так хорошо не умел судить о ней; а как Тургенев редко заглядывал в книги, и знания свои почерпал более из разговоров сведущих людей, то и от связи сей ожидал себе пользу. Блудов же, легковерный как все люди, коим с высот ума трудно сойти до мелким расчётов посредственности, предавался всем сладостям этой мнимой дружбы. Через него, что-то на то похожее составилось и у меня с Тургеневым.
Он не ошибся в своих расчётах. Будучи от природы довольно остроумен (не обмолвился ли я, не сказал ли умен?), светская болтовня скоро сделалась для него природным языком, который иногда удачно приправлял он техническими терминами из законоведения, богословия и других наук. Тем немного пугал он непривычный к тому слух знатных людей и дам, за то поселял в них высокую о себе мысль. Сначала определился он в канцелярию любимца государева, Новосильцова, и вместе с тем в комиссию составления законов. После того всегда умел он занимать три или четыре места в одно время, аккумулировать их, как говорят французы, по всем получая жалованье и трудными занятиями одного извиняясь в неисполнении обязанностей другого. Деятельный и ленивый вместе, первая забава его была хлопотать, суетиться, находиться в движении, главное искусство — как можно менее принимаясь за настоящее дело, казаться вечно озабоченным. Весь век, можно сказать, прожил он заимообразно, чужим умом, чужими знаниями, чужими трудами, чужою славой. В друзьях, в знакомых, а кольми паче в подчиненных видел он всегда кошек, которые из огня должны таскать ему каштаны, чтоб ему не обжечь обезьяньей своей лапки. Более восемнадцати лет сия фальшивая монета находилась в обращении и принималась в той цене, которую ей самой хотелось себе дать. Для живописца характеров такой странный, удивительный человек сущая находка; не знаю искусно ли, но по крайней мере очень верно его изобразил я здесь.
В гостиной тех же Лабатовых и в тоже время показался другой юноша, еще юнее Тургенева и меня, и также на Липецких водах с ними познакомившийся. Тогда я редко виделся с Жихаревым; лет восемь спустя, начались дружественные мои связи с ним, и он имел случай сделать мне великое одолжение. Как я всегда любил следовать хронологическому порядку, то постараюсь описать его тогда только, когда допишусь до эпохи моей с ним короткости.
Всё лето 1806 года прошло для правительства в приготовлениях к новой войне с Наполеоном. Великая тягость, которую с таким трудом выносит Россия, многочисленная, можно сказать, бесчисленная её армия, в этом году начала увеличиваться; дотоле не было и третьей доли её против нынешней. Никто не смел роптать: все видели, что честь политическая, независимость и безопасность государства того требовали. На первый случай сформированы одна пехотная дивизия и три конные полка, один гусарский и два драгунские. Шефом одного из сих двух полков, названного Митавским, назначен зять мой Алексеев, московский полицеймейстер: для полковника отличие большое, когда звание шефа почти исключительно принадлежало генеральскому чину. Он имел неосторожность князю Багратиону и любимцу Александра, генерал-адъютанту князю Долгорукову, показывать учение своих полицейских драгун, которые действительно находились в таком устройстве, что хоть бы тот же час в сражение. Эти господа расхвалили царю Алексеевских драгун, и к его двум эскадронам велено прикомандировать третий из какого-то конного полка, стоящего на квартирах в Псковской губернии; для составления же целого полка велено ему набирать охотников из московской вольницы, из буйных молодцов, шатающихся по трактирам. Пробыв шесть лет полицеймейстером, он очень хорошо знал простой народ и был им любим, и потому ему было удобнее чем кому-либо исполнить сие удачно. В конце июня назначен он шефом, а в начале сентября с готовым почти полком выступил он из Москвы в город Порхов, где ожидал его поступивший под его начальство старый эскадрон.
Спокойная, тихая жизнь кончилась тогда для бедной сестры моей. Для богатых людей странствование более забава, чем тягость; для жен не больно страстно любящих мужей своих, разлука с ними есть несчастье, которое они довольно великодушно переносят; но с малым состоянием моей сестры и с великою привязанностью её к мужу, она не могла иметь другого жительства, как в городишке или селении, где находилась полковая его квартира. А в бурные времена Наполеоновы, где можно было долго оставаться на месте? Где можно было чем-нибудь завестись? Малых детей, коим она хотела дать приличное воспитание и коих надеялась сама быть наставницей, должно было или таскать с собой по походам, или бросить на руки наемников.
В начале этого года благодетель её мужа, граф Салтыков скончался, и связи его с семейством покойного фельдмаршала с тех пор почти были разорваны. В этом же году, другой начальник, также отечески к нему расположенный, Беклешов, оставил службу. Никто его к тому не неволил, старая столица любила его, Государь его уважал; но чудно устроенная голова этого старика сама умела судить о своих силах и заметила их ослабление. Никогда пары тщеславия не могли затмить его ясного рассудка и, следуя правилу им часто повторяемому, «что надобно служить да не переслуживаться», он настойчиво выпросил себе увольнение. На его место определен был Тимофей Иванович Тутолмин, родственник его, имевший почти столько же ума, но не одного с ним покроя. При Екатерине, последнее время, был он наместником четырех западных губерний, только что от Польши присоединенных.
Он не смел и подумать противиться намерению этой великой женщины вверенный ему край сделать совершенно русским и даже споспешествовал его исполнению, сколько того выгоды его дозволяли. Но он любил жить по-царски, и самые щедроты Императрицы были недостаточны для поддержания его пышности, а поляки на коленях подносили ему золото и тем несколько препятствовали быстроте перемен, у них происходящих. Десять лет пробыл он потом в отставке, отвык от дел управления, а не от привычек, полученных им на Юго-западе России. От такого начальника спас Алексеева Митавский драгунский полк.
Приятная весть сначала шёпотом, потом громко, разнеслась по Петербургу: Императрица сделалась беременна. Добрые нравы на троне всегда пленяли русский народ; богам своим не дозволяет он иметь слабости простых смертных, и греческому баснословию никогда бы он не поклонился. Уважаемая, но оставленная супругом, горестная мать, лишившаяся единственного утешения своего, единственной малолетней дочери, Елизавета Алексеевна была предметом его сострадания и благоговения. Ее обожали, Константина Павловича ненавидели; а Государь, полюбив войну, показывал желание всегда лично находиться в сражениях. Всех возрадовала надежда увидеть наследника престола, подобного родителям; все благословляли возобновленный союз царской четы, все забыли Аустерлицкий стыд.
Посреди столь приятных ожиданий наступила осень.
После Берлинского посещения, более чем политический союз, теснейшая дружба связывала императора Александра с королем Прусским. По обыкновению своему, Наполеон уступил последнему не принадлежащий ему, чужой Ганновер; но вместе с тем, основав Германский Союз под именем Рейнского и объявив себя его главою, совершенно отделил, выгородил Пруссию от Германии. После того с одной стороны подавала ей Франция всевозможные поводы к неудовольствиям, а с другой Россия всячески возбуждала ее к войне. Имея двести пятьдесят тысяч человек прекраснейшей армии и позади себя сильно вооружающуюся Россию, она не замедлила объявить ее. С восторгом получили сие известие в Петербурге.
Материальные силы Пруссии были огромные; великий порядок в финансах, войско свежее, славно выученное; нравственных же сил, кроме памяти о победах Великого Фридериха и энтузиазма к смелой, доброй, прекрасной королеве, в сем составном государстве никаких не было. Основатель его великого значения в Европе был и первым его развратителем: сражаясь с французами, побеждая их и ругаясь над ними, он у них же перенимал всё то, что их древнюю монархию вело к разрушению. Во всю мирную половину своего царствования старался он офранцузить подданных своих полуварваров и трудился над истреблением между ними религии, следственно и нравственности. Распутный и малодушный его преемник, с фанфаронским манифестом послав старого полководца, герцога Брауншвейгского, сам гордо ополчился было против революции, но от Вердена скорее давай Бог ноги. Тотчас потом признал он республику, стал жить в добром согласии с террористами и расстригу Сиеса имел при себе от них посланником. При обоих Вильгельмах, старом и молодом, Пруссия, забившись в северный уголь, всегда смеялась тщетным и благородным усилиям соперницы, некогда госпожи своей, Австрии и никогда не хотела подать ей руку помощи. Неверие и несчастье между тем свободно распространялись по земле, устроенной и возвеличенной безбожным царем; червь безнравственности всё точил молодое, быстро растущее дерево; что удивительного, если один громовой удар сломил его? У нас забыли про постыдный поход Вильгельма II и ожидали Росбаха. В начале октября, вместо Росбаха, была Иена.
Нет, столь счастливого, столь блестящего похода никогда еще Наполеон не делал: лишь коснется крепости, она падает перед ним без защиты; лишь настигнет бегущий корпус, хватает его руками. От стыда Пруссии покраснели наши щеки; каждое её поражение как кинжалом ударяло нас в сердце: они не знают того, неблагодарные, нынешние наши ненавистники, как все русские в душе своей тогда побратались с ними. Уже не за Аустерлиц, а за чуждую нашей чести Иену, кричали все отмщение.
В ночи с 3-го на 4-е ноября, разбудил меня пушечный гром; я сосчитал более ста выстрелов и в радости своей скоро не мог потом опять заснуть. Поутру узнали все, что наследник, как говорили придворные, из учтивости пустил вперед сестру свою, что опять не Росбах, а Йену, не сына Бог дал нам, а дочь, и что, зная сильное желание жителей столицы, не хотели вдруг опечалить их малым числом выстрелов. Бедное дитя, названное по матери Елизаветою, было принято народом с досадою, как неудача; тем более привязалась к ней мать, которая однако же, как и первою дочерью Мариею, была ею счастлива только полтора года.
Между тем дело шло не на шутку. В первый раз еще французы начали близиться к нашим границам; они были уже в Мазовии, то есть в бывшей Польше, и ненавистью к нам её жителей против нас усиливались. Все полагали, что Пруссия по крайней мере несколько месяцев постоит за себя, а мы в это время успеем собрать все силы, чтобы с нею довершить поражение злодеев или, в случае дурного успеха, прийти к ней на помощь. Но Наполеон так скоро с нею разделался, что можно сказать застал нас врасплох, до того, что главного не успели мы сделать — выбора надежного предводителя армии. О старике Кутузове слышать не хотели: он провинился тем, что молодые генерал-адъютанты назло ему проиграли Аустерлицкое сражение. Итак в оставленном Екатериною богатом славою магазине надобно было отыскать другое орудие для защиты отечества: послали наскоро в Орловскую деревню за старым фельдмаршалом графом Каменским.
В первый и в последний раз является он в моих Записках. К жене его, графине Анне Павловне, когда-то коротко знакомой моей матери, раза два в Москве возила меня сестра, когда я учился еще в пансионе. Тут видел я графа Михаила Федотовича, и в старости остроумного живчика, невысокого роста. После того какой-то карточный долг, денежный расчет у брата моего Николая с одним из его сыновей, прогневил его на моих родителей, и всякое знакомство с его семейством у нас за тем прекратилось. Из русских был он почти один, который в первой молодости находился в иностранной службе, для приобретения опытности в военном искусстве. Он прославился при Екатерине в обеих войнах с турками, но она никогда его не любила за крутой и вместе вспыльчивый его нрав и за его жестокость. Она употребляла его и по гражданской службе. Рассказывают, что когда он был генерал-губернатором в Рязани, однажды впустили к нему с просьбою какую то барыню, в ту минуту, как он хлопотал около любимой суки и щенков её клал в полу своего сюртука, и будто взбешенный за нарушение такого занятия, в бедную просительницу стал он кидать щенят. Уверяли, что совершеннолетних сыновей, в штаб-офицерском чине, приказывал он иногда телесно при себе наказывать. За это, разумеется, не хвалили его; но все признавали в нём ученого тактика, неустрашимого в боях. Тогда, подражая Суворову, многие из генералов гнались за оригинальностью; в том числе и граф Каменской, и этою юродивостью он еще более рождал к себе веру.
Как спасителя приняли его в Петербурге. Перед отъездом его в армию, пожелала его видеть лежащая в родах Императрица. Подходя к постели, он согнул перед ней колено и поцеловал руку, которую она ему протянула. Обыкновенно скромная и воздержная в речах, она тут с жаром и чувством говорила ему о защите и спасении любезной ей России, и ему казалось, как он сказывал, что он слышит небесный голос. Деда Елизаветы Алексеевны Наполеон из маркграфов Баденских пожаловал курфирстом и переименовал потом великим герцогом; но она мало о том заботилась. Она не нашла счастья в России и не могла его дать ей; зато она обрела в ней любовь, и ни одна из иностранных принцесс на русском троне так щедро ей тем же не платила.
Около половины ноября чуть ли не первый раз в жизни сестра моя Алексеева приехала в Петербург. Во всю осень с малыми детьми следовала она за мужем и его полком. Не доходя ста верст до Порхова, где она надеялась отдохнуть, зять мой получил повеление, не останавливаясь, идти далее в Литву, на дороге продолжать формирование полка и, прибыв в назначенное место, поступить в один из корпусов действующей армии. Куда ей было деваться? Желая как можно ближе находиться от мужа и чаще иметь об нём известия, она решилась ехать в Петербург. Можно себе представить, в каком расположении духа приехала она в него после первой разлуки с мужем, которая могла сделаться вечною: ибо хотя действия еще не начались, она знала, что он шел на войну.
Я отыскал ей квартиру в верхнем этаже одного из вновь построенных высоких домов в конце Невского проспекта, пройдя Литейную и не доходя Знамения, и там поместился с нею вместе. Знакомств имела она мало и их не искала. Более месяца стояла погода петербургская, осенне-зимняя, когда о солнце и слуха не бывает, когда мороз спорит с морскими, сырыми, пронзительными ветрами, и мостовая покрывается навозом, попеременно тающим и замерзающим. В это время года смертность обыкновенно умножается, и для препровождения времени могли мы нередко любоваться похоронными процессиями, которые мимо нас тянулись в Невскую Лавру. Всё было грустно, всё было мрачно.
Простое горе одно никогда не приходит: оно всегда влечет за собою великие печали. Скоро пришло к нам известие о первом семейном несчастий, случившемся на моей памяти. Когда женщины или девицы гибнут в самой первой молодости, обыкновенно уподобляют их цветкам, скошенным неумолимою смертью, и как сравнение сие сделалось ни пошло, я лучшего здесь не нахожу. В нашем семействе зацвела недавно не роскошная роза, не пышная лилея, а скромная фиалка, которая благоухание разливала только в тесном кругу своих родных. Невестка моя Варвара Ивановна наполняла тихою радостью весь дом моих родителей, в нём все от души ее любили; но никто так утешен, так очарован ею не был, как престарелый наш отец: цветок этот точно был приколот к его сердцу. Она с мужем выпросилась у него в Воронеж, чтобы время беременности и родов провести у родителей своих Туликовых. Там дала она жизнь дочери Елизавете, а сама лишилась её на двадцатом году от роду.
Мы с сестрой мало ее знали, но уже много любили. Если б и этого не было, то глубокая скорбь, в которую ввергнута была старость отца нашего, отчаяние несчастного нашего брата должны уже была чувствительно нас тронуть. Горесть вдовца описать не возможно; она равнялась счастью, коим он наслаждался. Все ищут его, кто в богатстве, кто во власти, кто в житейских удовольствиях, а найти его можно только в одном: в законной, постоянной, непорочной, взаимной любви. Кто может таким образом обрести его, тот, не покидая земли, стоит уже в преддверии рая. Двое сирот не могли даже утешить бедного моего брата; оставаясь верен памяти жены, он до конца жизни своей всё ныл, всё чах, всё тосковал об ней.
В этом печальном ноябре, несмотря на многочисленную армию, которая прикрывала наши границы, увидели необходимость подумать, в случае неприятельского вторжения, и о защите внутренних областей наших. И для того 30 числа издан указ, коим сзываются к оружию отставные воинские чины и разных сословий люди, и из них, в виде резервной армии, учреждается милиция или земское войско, разделенное на семь округов. Зная, какое сильное действие производило имя Екатерины, как им одушевлялись еще все русские, в окружные начальники набраны всё люди, при ней известные, ею уважаемые или употребляемые, и им подчинены генералы, военные губернские начальники. В Петербург назначен окружным начальником граф Татищев, командовавший некогда гвардией, в Москву военный губернатор Тутомлин, в Курск граф Орлов-Чесменский, в Ригу Беклешов, которому не дали успокоиться и который при столь важных обстоятельствах не отказался сослужить последнюю службу; в Казань князь Юрий Владимирович Долгорукий, в Смоленск князь Сергей Федорович Голицын, в Киев князь Александр Александрович Прозоровский. Некоторые из отдаленных губерний, в том числе и Пензенская, не должны были участвовать в сем общем вооружении, за то обязаны были ставить более рекрут. Чтобы завлечь молодых людей гражданского ведомства в милицию, дан ей был красивый, щеголеватый мундир, и этот способ был отменно удачен, особливо в Москве, где все были уверены, что неприятелю никогда до неё не добраться. В одно утро, к удивлению моему, прислал за мною Сперанский, которого я уже давно не видал (каждый год доступ делался к нему затруднительнее) но меня; тотчас пустили. Он с злою улыбкой предложил мне вступить в милицию, из чего заключил я, что он смеется над нею и надо мной; мне было досадно, и я отвечал ему, «что если б чувствовал собственное побуждение к тому, то стал бы его о том просить, не дожидаясь его предложения». Может быть, это было причиною что я не надел тогда полувоенного мундира.
Между тем Наполеон всё подвигался. Данциг и крепость Грауденц не сдались ему, но не могли остановить его на Висле: жалкие остатки Прусской армии примкнули к русскому корпусу Бенигсона. Все с нетерпением и беспокойством ожидали известий из армии.
Накануне Рождества их получили. Они были тревожны и утешительны вместе. Граф Каменский, последний меч Екатерины, видно, слишком долго лежал в ножнах и от того позаржавел. Геморроидальные ли припадки, старость ли, или (следствие обоих) страх подействовали на него, только он вдруг лишился рассудка. Едва успел принять он начальство над армией, как внезапно отказался от него, накануне первого сражения с Наполеоном, и написал неблагопристойное, сумасбродное письмо к Государю[107]. Старший по нём, Бенигсон, сам собою принужден был вступить в звание главнокомандующего, и 14 декабря (памятное число) при Пултуске одержал победу над французами. Так по крайней мере доносил он о том и так все в Петербурге тогда о том подумали. Нет нужды говорить, что после того он утвержден главнокомандующим армией.
Этот человек был в числе заговорщиков 12 марта, нелюбим был двором и не смел показываться в Петербурге, как вдруг сама судьба вручила ему спасение государства. Но в надежных ли оно было руках? Известны были его искусство и храбрость, равно как и кротость, за которую любили его офицеры и солдаты; но она же могла произвести ослабление в дисциплине, что пагубно для армии в военное время.
Загадочная Пултуская победа, по-видимому, оставалась без результата; действия однако же продолжались, но они скорее похожи были на маневры, чем на битвы. Теснимый Наполеоном, Бенигсон пятился боком вправо и вступил наконец в настоящую Пруссию. Сия приморская земля, подобно нашим Курляндии и Лифляндии, отхвачена немцами у славян и обитаема племенами, обоим народам чуждыми. Сделавшись добычею Тевтонских рыцарей, жители как Пруссии, так и Ливонии приняли от них кровавое крещение, и города их названы немецкими именами. Как в той, так и в другой магистры ордена сделались независимыми владетельными герцогами. Но княжество Лифляндское вошло в бесчисленные титулы царя русского; Пруссия же ближе к родимому краю дала свое имя всему из лоскутьев сшитому государству. Хорошо, что мы плохо тогда знали историю и географию и, читая в реляциях названия Морунгена, Ландсберга и другие, думали, что Бенигсон Бонапарта погнал назад в Германию. Это нас очень успокаивало.
Новые поколения находят непонятною, может быть, смешною живость участия, принимаемого тогда нами, мирными гражданами, в происшествиях войны. Ныне едва из любопытства хотим мы узнать, сколь блестящи успехи нашего оружия или сколь велик урон, нами претерпенный в отдаленной части Империи нашей или вдали от её границ. Тогда дело было другое: все наши войны до Наполеона и после него, даже при нём, но не с ним, возбуждали в нас мало опасений; этому же искусному счастливцу удалось войну из коммерческой игры превратить в азартную, и в каждом с ним сражении государство ставилось на карту.
Сестра моя довольно исправно получала известия от мужа своего; он был, как говорится, лишь взят, то и повешен, aussitôt pris, aussitôt pendu: с полком своим, еще некомплектным, полувыученным, полуустроенным успел он уже раза два побывать в боевом огне. При всеобщем тревожном состоянии и особенно среди печального положения сестры моей, нашли мы с нею некоторую отраду в одном весьма приятном соседстве. Под нами жила одна дама, знакомством с которой семейство мое во время моего малолетства также обязано было Киеву; это была Александра Петровна Хвостова, над изображением которой приятно мне будет потрудиться.
Никакого женского воображения сильные страсти так еще не воспаляли, никакого женского сердца так не волновали они. Она по себе была Хераскова и родная племянница поэта, — несмотря на свою посредственность у нас столь знаменитого. Род Херасковых не так еще давно, едва ли при Петре Великом, поселился в России, и я между валахами знал Херескулов, которые им были дальние родственники. Вот почему пламень Юга, пройдя через одно или два поколения, кипятил еще кровь Хвостовой и блистал в её взорах. В первой молодости выдали ее за Димитрия Семеновича Хвостова (не брата, а в дальнем родстве с Александром и Василием Семеновичами, о коих я говорил), за человека глупого, грубого и порочного. По матери своей был он в близкой связи со всеми графами Чернышевыми и их потомством; а Александра Петровна была племянница Трубецких, и поэтому она родилась, выросла и провела первые годы замужества в аристократическом мире.
Она приняла все его формы; ей мало того: она умела отличиться и от знатной толпы и стать выше её. По-французски писала разве только хуже Севинье, голос имела очаровательный и в свое время была первою в столице музыканткой и певицей. Собою была не хороша (смолоду круглый нос её начинал уже синеть), но дурною быть, как кто-то сказал про Делиля, никогда не имела времени: до того все черты лица её от живости чувств были всегда подвижны и выразительны. И придворные, и дипломаты, и писатели, и русские, и иностранцы, все были у ног её; она была молода в царствование Екатерины, когда с прекрасными манерами дурное поведение извинялось в женщинах, и имела мужа, которого не делать рогоносцем, право, было бы грешно. Однако же, так как ей надобно было в жизни всё перелюбить, то год, другой после замужества страстно была она привязана к его молодости и своему долгу. Он же первый начал показывать ей презрение, явно и подло стал изменять ей, искал в низших классах наемной любви и обрадовался, когда заметил, что она отдалилась от него сердцем. Приговоры света бывают обыкновенно столь же несправедливы, столь же слепо жестоки, как и законы всех уголовных кодексов в мире; он требовал, чтобы женщина, исполненная огня, ума и талантов, на веки прикованная к отвратительному истукану, умела казаться счастливою и быть верною супругой. Что в нём ужаснее, он почти всегда щадит тех, кои находятся под защитою молодости своей, её прелестей и выгод Фортуны; но состарься, обедней слабая женщина, тогда только беззащитную примется он терзать.
Муж Хвостовой прожил сначала её приданое, потом проматывал второе или третье наследство. Он сам имел часто недостаток в деньгах, жил однако же с женою под одною кровлей, никогда её не видел и готов был отказать ей в малейшей помощи. Спасли ее от совершенной нищеты её великодушие и геройство: на улице пала она к стопам грозного Павла и вымолила помилование преступному старцу, отцу неверного своего мужа. Тронутый сим поступком, свекор умирая завещал ей порядочное содержание и обязал сына выплачивать ей оное. Сие делал он не слишком исправно, и в образе жизни её часто проглядывала бедность. Ей было тогда за сорок лет; гордая нечувствительность показывала вид добродетельного негодования, посредственность всегда ей завидовала и стала клеветать на нее, и весь свет против неё вооружился.
Покинутая им, она не унывала: в уединении ей оставалось еще довольно занятий и утешений. Её гостиная и кабинет, не богато, но щегольски и со вкусом убранные, наполнены были художественными предметами, прекрасными рисунками лучших артистов, поднесенными ими как дань удивления к ней, разными редкостями и древностями, путешественниками по Востоку и Европе ей на память оставленными. Почти каждый вечер в сих комнатах собиралось прелюбезное общество, составленное по большей части из отборных иностранцев, из малого числа молодых женщин, строгих к себе и снисходительных к другим, из немногих русских, довольно образованных, чтобы знать цену приятностей такого дома. Между частыми посетителями его всех примечательнее были два брата, графы Местры, более французы чем итальянцы. Старший, Иосиф, находился у нас посланником жившего в заточении Сардинского короля, был чрезвычайно умный человек, красноречивый легитимист и бешенный католик, и написал, впоследствии, две книги, исполненные изуверства, Le Pape и Soirées de Pétersbourg; довольно явно показывал он нелюбовь к России, и единственно только за её схизму. Другой, Ксаверий, в русской службе полковник, был менее пылок, и хотя столь же серьезен и рассеян, но более приятен в обществе; он автор разных мелких творений в стихах и прозе, между коими более всего известны: Путешествие вокруг моей комнаты и Прокаженный в долине Аосты. Навещал также Александру Петровну один знатный барин, чудак князь Белосельский, и читал ей и обществу её свои уродливо-смешные произведения на русском и французском языках. На этих вечерах никто не гонялся за умом, никто ни у кого его не требовал, почти у каждого было его про себя вдоволь, и непринужденно являлся он сам собою в разговорах; порывы веселости останавливались на самой границе благопристойности. Во всём этом было нечто единственное, без примеров у нас и без подражания; только напоминало собою учено-приятные собрания, бывшие до революции у госпож Дюдефан и Жофрен. Плохое освещение и скверный ужин довершали сходство с вечерами этих Парижских дам.
Более всего нравилась мне в этой милой Хвостовой её непритворная и в светской женщине тогда непонятная любовь к своему отечеству. Кто из дам не пренебрегал тогда русским языком? Которая из них читала на нём что-нибудь? Хвостова, по чувствам точно выше своего века, решилась сделать первый опыт и принялась на нём писать Я не назову примером для неё писанные слогом семинариста оды тетки её княжны Екатерины Сергеевны Урусовой. В двух цветках, в двух незабудках, ею произведенных, Камине и Ручейке, скорее Карамзин мог служить ей образцом и одобрением; однако же и то ложно, что он помогал ей в их сочинении; новые, живые идеи, небрежность, с коей они изложены и самые ошибки против грамматики, составляют всю их прелесть.
Такого гибкого ума, как в ней, я ни в ком еще не встречал. Она ничем не гнушалась; с таким же участием, с таким же вниманием входила она в суждения с попом, с деревенскою барыней или с степенным дворянином, как и с первым государственным человеком; с одними также готова была она толковать о солении огурцов и грибов, как с последним о прениях парламента; разговорный язык лучшего света был ей также знаком как и все наши простонародные поговорки. Обо всём умела она судить, правда довольно поверхностно, но всегда умно и приятно.
И этой женщине не знали у нас цены. За клевету, за гонения, за обиды она платила иногда веселыми эпиграммами; ей хотелось бы всё любить и она сердилась как ребенок, когда ей мешали в сем привычном занятии, сама же до вражды никогда не умела дойти. Сострадательность была главною чертою её характера; денег у неё не было, и несчастным помогала она не одними слезами, а неимоверною деятельностью; мучила друзей, наряжала их преследовать сильных и богатых, дабы исторгнуть у них помощь страждущим. Она была великая искусница утешать и успокаивать печальных и с мастерством своим довольно часто являлась к сестре моей, которая посещала ее только по утрам. Я же ходил к ней на вечера, за тем чтобы наслушаться там более чем наговориться.
Наконец в начале февраля 1807 года узнали мы о решительной победе над французами при Прейсиш-Эйлау, 27 января. Казалось, что только этого известия и ожидали; оно подало знак зимним увеселениям. Что ни говори французы, сражение это мы выиграли, и лучшим доказательством тому служит четырехмесячное после него бездействие Наполеона, который не очень любил отдыхать на лаврах. Напротив того, немец Бенигсон, отколотив исполина, сам изумленный чудом совершенным не столько им как русскими солдатами, уверенный в невозможности нового нападения со стороны неприятеля, захотел вкусить сладостное успокоение. По заочности судить трудно, особливо человеку не принадлежащему к военному ремеслу; однако же все меня после уверяли, что Суворов и Кутузов так бы не поступили: не довольствуясь сим поражением, они бы заставили Наполеона не по сю сторону Вислы, а за Одером и может быть за Эльбой расположиться на зимних квартирах. Надобно отдать справедливость нашим немецким генералам, они великие мастера останавливать вовремя русское войско; после того Кнорринг и Дибич нашим храбрым ребятам не дали и взглянуть ни на Стекольной, ни на Царьград, ни на Аршаву, куда они с такою жадностью рвались; у самых ворот злодеи умели удержать их стремление.
Не долго после сего радостного известия оставались мы в Петербурге. Убитый горестью брат наш Николай находился тогда у родителей, и отец мой, приглашая к себе почти столь же печальную дочь, приказывал мне проводить ее в Пензу: он надеялся, что целым семейством разделенное горе скорее облегчится. Между тем и не слишком тяжеловесный кошелек сестры моей в столице довольно оскудел; мои финансы тоже были не в самом лучшем состоянии. Итак, полон надежд, произведенных во мне успехами нашего оружия, и еще умноженных выступлением в то время гвардии, выехал я с сестрой в половине февраля.
По прибытии в Москву, сестру мою взяло раздумье: ее ужасало пространство, всё более и более ее от мужа отделяющее. Она нашла добрую родственницу его, Дарью Ивановну Королькову, которую, может быть, читатель припомнит в малолетстве моем и которая дом свой за Сухаревою башней и саму себя отдала в ее распоряжение; подмосковная деревенька была близка и также могла прокормить ее. Недели две колебалась она, как наступила ранняя весенняя погода; опасности пути послужили ей предлогом отложить свой выезд. Тогда я должен был отправиться один и сей последний зимний путь совершил не весьма покойным и приятным образом: под Муромом, на Оке, лед трещал подо мной, и проливной дождь обливал меня сверху.
XIV
Пензенская служба отца. — Тильзит. — Поездка в Витебск.— Граф А. И. Кутайсов (сентябрь 1807).
Великим постом приехал я в Пензу, и великопостные лица встретил я в моем семействе; при свидании со мной на минуту озарились они слабою улыбкой. В это самое время отец мой чуть было не сделался жертвой самой подлой злобы людей.
Министр внутренних дел получил от него собственноручное письмо, в коем, с тоном оскорбленного самолюбия, жалуется он на претерпеваемые им несправедливости и просит исходатайствовать ему увольнений от службы. Грат Кочубей отвечал ему, что он не замедлил бы его просьбу представить на высочайшее усмотрение, но что Государь отправился к армии; а он, между тем, надеясь, что отец мой переменит мысли, будет ожидать повторения его требования, чтобы препроводить его в главную квартиру. Дело состояло в том, что отец мой к Кочубею совсем не писал и не думал еще тогда выходить в отставку.
В канцелярии его служил некто Тезиков, хороший каллиграф, молодой человек не без способностей, проворный и деятельный, но самой дурной нравственности, особенно известен он был искусством подражать всякому почерку. Секретарь, надеясь на его исправление, не выгонял его, а подвергал частым наказаниям. Губернский прокурор Бекетов переманил его к себе, стал ласкать его, поить и сам иногда пить с ним. Под пьяную руку, чтобы сказать в рифму, видно, затеяли они с ним эту штуку. Полученный Бекетовым отпуск, поездка его в Петербург, приезд его туда в одно время с получением мнимой просьбы отца моего не оставляли никакого сомнения насчет участия его в сем подлоге. Какова Пенза?
После письменного объяснения губернатора с министром, дело завязалось довольно важное. Отец мой не мог скрывать подозрений своих на Бекетова и кроме как по делам, никакого сношения с ним иметь не хотел. Следствие продолжалось более полутора года; благодаря искусству следователей, наконец, уличенный Тезиков сознался и был сослан в Сибирь на поселение. Я не могу однако же не похвалить твердости, с которою спасал он честь своего соблазнителя, которого почитал он благодетелем своим.
В два приема познакомил я читателя своего со всею тогдашнею Пензою; сомневаюсь, чтобы он стал благодарить меня за то. На этот раз не могу никого ему представить кроме одного нового лица, явившегося во время моих частых переездов. Добрый Тиньков, за старостью лет, сам пожелал выйти в отставку; на его место назначен вице-губернатором Александр Михайлович Евреинов, бывший некогда полицмейстером в Петербурге, человек дрянной, хвастливый и трусливый. Он был женат на одной видной женщине, Александре Алексеевне, родной сестре огромных С**** и потому должен был питать, хотя весьма недавнюю, но уже как будто наследственную вражду их против нас. Однако же за что-то поссорился он с Бекетовым и назло ему начал сближаться с нашим домом, угождать моим родителям, и в это время действительно стал несколько благороднее и честнее.
Мне было тогда не до Пензы и до её жителей: я жаждал только побед, а всё молчало из Петербурга и из армии. Вот уже настала и весна, а Государь все жил покойно с королем Прусским в каком-то Бартенштейне, королева же в Кенигсберге, как будто по доброй воле, во второй своей столице. Да будет ли конец? думал я, а он, к несчастью, был довольно близок.
По великой отдаленности от театра войны, не могли мы иметь никаких частных обстоятельных об ней сведений: из одних ведомостей дозволено нам было узнавать одни официальные известия. Публичности у нас никакой не было, газет и журналов менее чем ныне, и они подобно европейским не следили шаг за шагом за политическими происшествиями. Вот почему, внутри России, мы настоящим образом не знали об опасности ей угрожающей. Только заметно было, что с обеих сторон приготовляются, с одной к сильному нападению, с другой к такому же отпору. В несколько недель Наполеон успел приобресть неисчислимые перед нами преимущества: к Франции, Италии и Голландии, которые у него давно уже были в руках, присоединил он почти всю Германию и часть Польши, и всё это вооружал против нас. Можно сказать, что в двенадцатом году Россия не в первый раз сражалась с целою Европой.
Один раз в неделю, по понедельникам, приходила к нам почта. В один из сих понедельников, в самый Иванов день, когда начиналась Петровская ярмарка и собрались на нее дворянство и купечество, прочитали мы в московских газетах о сражениях, происходивших 24 мая при Гутштэте и 29-го при Гейльсберге. Их выдавали за победы, и все тому поверили. Я уже изверился, они мне показались что-то сомнительны; однако же я увидел в них по крайней мере благоприятное начало военных действий.
Самая медленность в сообщении приятных известий меня беспокоила; с нетерпением ожидал я 1-го июля следующей почты: ничего! Для развлечения скорбного отца моего, уговорили его поехать на другую ярмарку, которая бывает вслед за Пензенской в Нижнем Ломове и оканчивается 8-го июля, в день Казанской Богородицы. Он взял меня с собою, и я опять увидел тут почтенное пензенское дворянство в полном собрании. Городок Ломов менее Саранска, дома в нём плохи; но ярмарка была в нём значительнее и веселее, от того, если можно сказать, что была лагернее.
Там за один раз узнали мы обо всём, и о Фридланде, и о свидании в Тильзите; письма и известия, вероятно дотоле удерживаемые, так ко всем и посыпались. Нас с отцом поразило как громом, и разве только нас одних; всё прочее веселилось, шумело, как бы ни в чём не бывало. Что за толки услышал я, Боже мой! Вот их сущность: «Ну что ж, была война, мы побили неприятелей, потом они нас побили, а там обыкновенно, как водится, мир; и слава Богу, не будет нового рекрутского набора». Что таким людям до народной чести, до государственной независимости? Были бы у них только карты, гончие, зайцы, водка, пироги, шуты, балалаешники, плясуны, цыганские песни, вот всё их блаженство. Лет пять спустя, заговорили они другим языком, но тогда дело дошло до их личности, тогда схватило их за живое. Ненавидеть мне пензенских дворян более чем прежде было невозможно; но с этого времени, кажется, начал я их еще более презирать.
Из Ломова поехали мы в селение Лашму, к одному весьма богатому помещику и славному гастроному, Николаю Андреевичу Арапову, который приглашал нас на именины супруги своей, Ольги Александровны, 11-го июля их отпраздновали очень великолепно. Хозяйка, барыня необъятной толщины, почиталась в губернии отменно тонкою в политике и любила о ней говорить. С веселым видом объявила нам она, будто кто-то к ней пишет, что Наполеон, как любезный и учтивый француз, за обедом в Тильзите налил бокал шампанского и выпил за здоровье Прусской императрицы. Мне что-то и смеяться не захотелось.
На Петербург, даже на Москву и на все те места в России, коих просвещение более коснулось, Тильзитский мир, произвел самое грустное впечатление: там знали, что союз с Наполеоном не что иное может быть как порабощение ему, как признание его над собою власти. И вот эпоха, в которую нежнейшая любовь, какую могут только иметь подданные к своему государю, превратилась вдруг в нечто хуже вражды, в чувство какого-то омерзения. Я не хвалюсь великою мудростью; но в этом увидел я жестокую несправедливость русских. Мне за них стало стыдно: так презираемые ими черемисы и чуваши секут своих богов, когда они не исполняют их желаний. Всё, что человек не рожденный полководцем может сделать, всё то сделал император Александр, Что оставалось ему, когда он увидел бесчисленную рать неприятельскую, разбитое свое войско, подкрепленное одною только свежей новосформированной дивизией князя Лобанова, и всем ужасного Наполеона, стоящего уже на границе его государства? Что бы сказали русские, если бы за нее впустил он его? И в этом тяжком для его сердца примирении разве не сохранил он своего достоинства? Разве не сумел он, побежденный, стать совершенно наравне с победителем и тут явиться еще покровителем короля? Таким ли бедствиям, таким ли унижениям подвергался император Франц II-й? Что делали его подданные? Делили с ним горе и с каждым новым несчастьем крепче теснились к нему и сыновнее его любили. Лет пятнадцать после того, наказание Божие едва было не постигло нас за неблагодарность нашу к Александру: он был долготерпелив и мстителен и всё вспомянул во дни славы своей. Когда вместе со счастьем возвратилось к нему обожание подданных, на распростертый перед ним народ взглянул он с досадным презрением, и не было слова его потом, не было действия, которое бы его не выражало. Он думал, что с ним можно всё себе позволить. Тогда в голове его родились неслыханные еще преступные замыслы против вверенного ему Богом государства, которые уже начал он приводить в исполнение и не имел только времени совершить. Тогда-то народный глас должен был возгреметь ему в услышанье; но тогда стоял он на высоте своего могущества, сзывал царей на конгрессы и располагал судьбами народов европейских. Немногие дерзнули робко напомнить ему о священном долге, который он забывал. Народы бывают иногда также подлы, как и люди.
Срок отпуска для меня давно уже прошел, но по роду службы моей на мне бы не взыскали, если б и год я просрочил. Отцу моему всегда неприятно было продолжительное пребывание мое в Пензе, он всё надеялся, что в Петербурге мне праздность скорее надоест; мне самому любопытно было видеть, что там делается после столь важного происшествия, слышать, что говорят о нём, и при первом слове о том, изъявил он согласие на мой отъезд. Супруги, находившиеся проездом из Саратова в Москву, предложили мне ехать с ними в четвероместной карете, и мы отправились в конце июля.
Чету, которой я сопутствовал, надлежит мне описать.
В самом начале сих Записок говорил я о старых друзьях отца моего, Богдане Ильиче Огареве и Андрее Алексеевиче Всеволожском, пензенском воеводе, который погиб в огне во время Пугачевского бунта. У первого был брат Иван Ильич, одаренный столь же светлым умом, как и мрачною душою; последний оставил трех сыновей, из коих один поселился в Саратове. Алексей Андреевич, Саратовский сын его, был женат на Варваре Ивановне, дочери Ивана Ильича Огарева. Эта женщина была вся в отца: без сердца и без красоты, но с умом и с чувственностью, хотела и умела она нравиться некоторым мужчинам. В Саратове господствовала и распутствовала она в глазах ослепленного мужа, который доверчивостью и добродушием превосходил всех мужей на свете. Она занесла меня в список покорных к ее услугам; но по окончании путешествия должна была вымарать. Мне некогда здесь много говорить о ней; придет время и, если сумею, в коротких словах постараюсь изобразить жизнь её, в которой осуществила она все ужасы новейших французских романов. Этот эпизод берегу я для будущего.
Проведя четыре дня с бесстыдным и отвратительным пороком, приятно мне было в Москве найти родную непорочность. Сестра моя всё сбиралась ехать в Пензу; возобновление войны и вскоре затем последовавший мир ее остановили. Муж её чрезвычайно отличился в эту войну, находился во всех делах, дрался храбро, и был столько счастлив, что ни разу не ранен, если не считать легкой контузии, полученной в последнем деле. За то награжден он быль Аннинским бриллиантовым крестом на шее, Владимирским третьей степени, чином генерал-майора и золотою шпагой с бриллиантами и с надписью за храбрость. Он уведомлял жену, что армия, перешедшая под начальство графа Буксгевдена, идет в Витебск, чтобы там расположиться лагерем и оттуда разойтись по другим местам государства, и звал ее туда к себе. Привыкнув жить на одном месте, она не приобрела еще того мужества, с коим после так легко было ей странствовать одной, и просила меня быть её проводником. Несмотря на довольно большой, предстоящий мне крюк, мне приятно было сделать ей угодное и желательно увидеть обломки той храброй армии, которую почти без предводителя, в продолжение одной недели, в трех больших сражениях, громил Наполеон и едва мог принудить к отступлению.
Только один раз в жизни проехал я по этой дороге. Я любовался на ней тучными пажитями, тенистыми лесами, цветущим состоянием селений, устройством и видом изобилия некоторых городов, и в голову не приходило мне думать, что не далеко время, в которое чрез счастливые сии места война промчится взад и вперед со всеми ужасами опустошения. Я жалею теперь, что не посмотрел внимательнее на Можайск и на его окрестности. В Гжатске остановил сестру мою, чем-то обязанный её мужу, богатый купец Григорий Петрович Пороков и в белокаменном доме своем, внутри чрезмерно испещренном, роскошно нас угостил; в Вязьме надеялся я полакомиться пряниками и не успел их найти; Дорогобужа что-то совсем почти не помню.
В Смоленск приехали мы ночью и остановились в плохом домике какого-то бедного предместья. Я уговаривал сестру пробыть в нём по крайней мере сутки, чтоб успеть мне осмотреть сей достопримечательный и старинный город. Есть ли какая-нибудь человеческая сила, которая бы могла удержать жену, едущую на свидание с мужем после войны? Поутру, пока закладывали лошадей, сбегал я на гору, чтоб составить себе какое-нибудь понятие о Смоленске. За Поречьем начинается Белоруссия; при виде сей тощей земли и её тощих жителей, грязных корчм и содержателей их, засаленных жидов, я начал торопиться более сестры; но палящий зной, измученные лошади и сыпучие пески чувство нетерпения моего превратили в сущую пытку. Под Велижем более четырех верст не могли мы сделать в час.
На последней станции к Витебску, куда приехали мы 14 августа, приготовился я к восхитительному зрелищу радостного свидания двух супругов. И что же! Один мучительною болезнью прикован был к постели; другая, не предупрежденная о том, предалась страху и отчаянию. Как все северные жители, подвержен был он геморроидальным припадкам, которые при деятельной жизни так легко переносятся; во время зимней кампании должен был он часто дни проводить на лошади, ночью валяться на снегу среди бивуаков, и от замерзания спасаться ромом; это воспалило кровь его, полученная им контузия пуще раздражила болезнь, всё бросилось в одно место и произвело фистулу. Страдания его были жестоки; корпусные и дивизионные доктора старались облегчить их, не умея сладить с столь серьёзною болезнью. Стечение военных чиновников было ужасное, и зятю моему могли отвести только маленькую, тесную квартиру, и то как генералу, трудно больному. Ничто не предвещало мне приятного пребывания в Витебске.
Вдруг бросить сестру было мне невозможно, рассеянностей искать трудно, ибо из военных все знакомства мои были в гвардии, а тут надобно было делать новые. Оставалось мне только посещать публичные места, и те, в коих веселятся и те, в коих молятся.
Сперва пошел я вечером в небольшой сад, посреди города, для ежедневных прогулок его жителей на высокой горе, над Двиною, устроенный. Было людно и тесно, а для меня довольно весело: играла военная музыка, и над толпами возвышалась роща из султанов. Никого не зная и никем не знаемый, ходил я как в маскараде и видел прекрасненькие маски. Я прислушивался к разговорам панночек, и с удовольствием внимал польскому языку, который я всегда так любил в женских устах и который мне напоминал мое ребячество.
На другой день почти тоже общество увидел я в дворянском клубе или благородном собрании (не знаю как называли эту обыкновенную принадлежность всех губернских городов). Зала публичных увеселений была не великолепная, просто выбеленная, длинная и широкая, но низкая и с двух сторон вся в окошках, как оранжерея. Мне показалось, что я обращаю на себя внимание как одетый во фрак, ибо подобных мне можно было пересчитать: всё было генеральство да офицерство. Дам было также довольно; но господа помещики этого края, который более других однако же обрусел, видно, и тогда не очень долюбливали русских и не охотно делили с ними время. Граф Буксгевден своим присутствием не удостоил сего бала, а только семейство свое прислал на него.
В сем окатоличенном городе божественная литургия на русском языке производилась в едином храме и только однажды в неделю, по воскресным дням. Прекрасный и просторный собор выстроен был нашим правительством не на конце Витебска, а вне его; при Екатерине и при Потемкине всё думали об увеличении городов и полагали, что их края со временем непременно должны сделаться срединой, а полякам приятно было видеть, что изгнанное православие едва осмеливается показывать себя у врат городских. В первое воскресенье пошел я помолиться и посмотреть на народ православный; его было много, христолюбивое воинство наполняло все окрестные места. Когда обедня кончилась, и стали расходиться, один молодой воин увидел меня в толпе и бросился обнимать. Я обрадовался бы тут всякому хорошему знакомому, если б он был и не граф Александр Кутайсов.
Как об нём не сказал я еще ни слова, право, не понимаю. Где-то, помнится в доме Демидовых, встретился я с ним и познакомился; после того видел его часто; но это продолжалось не долго: из гвардейской артиллерии перевели его в армейскую. Всё то что может льстить только тщеславию, всё то что может жестоко оскорбить самолюбие, всё то испытал он почти в ребячестве. Сын любимца Павла Первого, который и на всё семейство сыпал свои милости, в шестнадцать лет сделан был он полковником. После перемены царствования, всякий почитал обязанностью лягнуть в падшего фаворита; он спешил удалиться за границу, а жену и детей оставил в Петербурге на жертву ненависти и презрения. Однако же на спокойное, благородное и прекрасное лицо меньшего сына его ни один дерзкий, гордый взгляд не смел подняться. Как этот мальчик не давал счастью баловать себя, так и перед несчастьем не поникнул он головой; как бы не замечая никакой перемены, он столь же ясно и приветливо смотрел на людей, когда они оказывали ему холодность, как и тогда, как они ласкались к нему; без всяких усилий, обнажая только душу свою, он кончил тем, что всех обворожил. Он славно знал артиллерийскую науку и прилежно ею занимался; в музыке же и в поэзии видел только для себя забаву, но и они ему дались. Как чудесно он выражался! У него был какой-то особенный, свой собственный язык, простой, для всех понятный, а неподражаемый. Что удивительного, если все женщины были от него без ума, когда мужчины им пленялись? Не знаю, кого бы он не любил, но некоторых любил более прочих, и мне кажется, что я был в числе их.
На войне прославился он мужеством и талантами: под Прейсиш-Эйлау, в генеральском чине, командовал он почти всею артиллерией и батареями своими более всех наносил вред французской армии. Как приятно было мне увидеть сего милого мне юношу, годом или двумя меня постарее, с Георгиевским крестом на шее. Не дав мне опомниться, он посадил меня в коляску, повез к себе в лагерь и почти насильно оставил у себя обедать.
В большой ставке, где мы уселись и в которой накрыт был длинный стол, через несколько времени начали собираться подчиненные Кутайсова, артиллерийские штаб и обер-офицеры. Обращения его с ними я никогда не забуду; я бы назвал его чрезвычайно искусным, если бы не знал, что в этом человеке всё было натуральное. В ласках, в фамильярности его с людьми, из коих половина была старее его, чувствительно было начальство; они же, отменно свободно с ним разговаривая, ни на минуту не забывались перед ним. Все глядели ему в глаза, чтобы предугадать его желания, и он казался старшим братом между меньшими, которые любят и боятся его: в нём была какая-то магия.
Я пробыл еще несколько времени в Витебске и почти каждый день, иногда и пешком, посещал этот лагерь, который был в двух верстах от города. Вокруг Кутайсова было всё так живо, так весело и вместе с тем так пристойно, как он сам; молодые дамы могли бы не краснея находиться в его военном обществе. Прибавить ли к тому еще одно, чему ныне с трудом поверят: все эти воины, окуренные пороховым дымом, не знали табачного; у Кутайсова не было ни одной трубки. Я более его не видел: вскоре потом умер он героем, как умереть ему надлежало. Спасибо Жуковскому, что он в прекрасных стихах сохранил память о столь прекрасном существовании: без него простыл бы и след такого диковинного человека.
Приближение осени заставило меня торопиться, я согласился остаться с сестрою только день её именин 26-е августа, а 28-го по Белорусскому тракту отправился в Петербург.
Сим обратным путешествием хочу я заключить вторую часть моих Записок. Наступил второй период царствования императора Александра, когда всё изменилось в нём и вокруг него, когда он должен был разорвать прежние союзы, удалить от себя прежних любимцев, когда, насильно влекомый Наполеоном, должен был он казаться идущим с ним рука об руку, когда притворство сделалось для него необходимостью и спасением.
В том же году вступил я в законное совершеннолетие, кончилась первая моя юность, а ее только одну признавал я всегда за настоящую. Уже румянец начал спадать с моих щек, и густой, черный волос заступил место нежного пуха на подбородке моем; вошедши в летние годы моей жизни, стал я сильнее любить, зато глубже и постояннее ненавидеть, чаще сердиться, реже смеяться, реже и плакать: всё миновалось. Прости же моя молодость, время дорогое, золотое, невозвратное, вечно памятное! Кто не жалел о тебе; но признаюсь, увы, кто более меня? Все истинные, сердечные радости знал я только с тобою. Благодарю тебя, молодость, за неоцененные дары твои, за друзей, коих дала ты мне и коих большая часть вместе с тобою от меня удалились, за нежные взоры, за бескорыстную, непритворную ко мне любовь, за которую тебе же я обязан и которая вслед за тобою от меня скрылась. Благодарю за всё, за всё, даже за горести, тобою мне посланные и тобою же услажденные.
Вот этим, кажется, бредил я дорогой. В день выезда моего, из Витебска, к вечеру, погода переменилась, пошел дождь, и за одну ночь лето превратилось в холодную осень. Я был, как говорится, на летнем ходу; ничего со мною не было теплого, и в Великих Луках почувствовал я первый легкий озноб; меня напоили чаем с вином, мне показалось, что я согрелся, но это был лихорадочный жар. Пароксизмы возобновлялись и проходили; я всё упрямствовал ехать. А что за погода! Что за дорога! На деревянной мостовой бревешки прыгали подо мной, как клавиши. Когда приходило на меня беспамятство, слуга при мне находившийся брал на себя останавливать меня. В Луге сделалось мне так дурно, что я сам решился остановиться. Я думал, что наступил мой последний час и не жалел о жизни: молодость моя прошла, а без неё, казалось мне, на что мне жизнь? Однако же мне отлегло, и рано поутру 2 сентября приехал я в Петербург.
Часть третья
I
Члены французского посольства. — Французы у А. П. Хвостовой. — Граф А. П. Толстой. — Барон А. Я. Будберг. — Граф Н. П. Румянцев. — Богатства Кочубея. — Князь Алексей Борисович Куракин. — Граф Аракчеев. — Грузино. — Князь Д. И. Лобанов.
По приезде в Петербург, в болезненном состоянии духа и плоти, прежде всего искал я отрады, зная, что ею начнется исцеление и телесного моего недуга. Для того взъехал я прямо к Блудову, уверен будучи, что он не поскучает ни хандрой моей, ни лихорадкой, и в том не ошибся. Его нрав не переставал быть живым и веселым, а сердце сострадательным. В начале предыдущего года имел он горесть лишиться обожаемой матери и почти в тоже время утешение наследовать довольно богатому дяде. Это давало ему возможность к другим похвальным или любезным качествам присоединить и гостеприимство. Он послал за врачом своим, англичанином Веверлеем, заставлял самого меня смеяться над мрачными моими мыслями, и дня в три или четыре всё у меня прошло, как будто ни в чём не бывало.
Как ровно за пять лет перед тем, в начале сентября 1802 года, прибыл я тут в Петербург, чтобы быть свидетелем любопытного зрелища: важных перемен во всём государственном управлении. Как бы не обращая никакого внимания на пристрастие своих подданных к союзной с ним дотоле Англии, на явную ненависть их к омрачившим их воинскую славу великому французскому полководцу и его победоносному народу, Государь во всём обнаруживал новую симпатию свою к ним и удивление. Изъявлений всеобщего за то неудовольствия не было возможности не только наказывать, ни даже удерживать: ибо от знатного царедворца до малограмотного писца, от генерала до солдата всё, повинуясь, роптало с негодованием. А он, пример долготерпения на троне, должен был всё выслушивать с молчанием, когда, по мнению его, в глубине души своей, он был уверен, что сделал всё для спасения России и будущего её величия.
Многие годы прошли, люди исчезли, страсти погасли, и теперь можно с некоторою справедливостью судить о тогдашних поступках Александра. Франция, воинственная и блестящая, хвастливая и заносчивая, была постоянно предметом страха и зависти всех соседей своих, Австрии, Великобритании и Гишпании, германских и итальянских владетелей. Окруженная со всех сторон естественными врагами, она весьма благоразумно и успешно искала всегда союзников в отдаленных от неё странах, в Швеции, в Польше и в Турции. Из-за них встало неслыханное государство, по обширности своего размера и по быстроте своих успехов, можно сказать, невиданное в мире. Менее чем в полвека, оно заступило место всех старых союзников Франции, унизив одного, уничтожив другого, обессилив третьего. Прежнее французское правительство не могло еще понять важность значения России. В горячке, в бешенстве своем, революция слепо вооружалась, без разбора, против всех монархий; но когда, устав от судорожных усилий, она подчинилась порядку, то воинственный гений, его водворивший, не довольствуясь силою оружия, призвал на помощь и политику для обуздания мятежного духа, ею распространенного. Орлиным взглядом своим Наполеон увидел первый для Франции всю выгоду союза с Россией; самодержавие на Севере пленяло его властолюбивый ум, он искал сближения, и восторженный Павел, перед смертью, разделял уже величие его замыслов. Сильное влияние Англии рассекло сей едва завязанный узел; кротость Александра, его желание мира и добра отдаляли его от честолюбца; но сей последний не упускал случая, чтобы восстановить с ним согласие. Накануне Аустерлица он еще мирволил и просил о свидании и, наконец, получил его в Тильзите.
Кто был свидетелем тайной беседы на роковом пароме? О, как любопытен был сей разговор, когда в состязании были с одной стороны вся прелесть наружности, благородство осанки, нежность голоса, тонкость и гибкость ума, одним слоном почти женская привлекательность, которая покоряла сердца подданных и чужеземцев, а с другой — итальянская хитрость, прикрытая солдатскою откровенностью, почти сверхъестественная сила убеждения и очарование великого имени. Ужасная буря породила сильного человека, который усмирил ее; оковав мятеж, он превратил его в какое-то славобесие; более десяти лет ужасом своего имени наполнял он Европу; казалось, сами небеса из ада на землю вызвали его как исполнителя их воли, и он стоял лицом к лицу перед Александром. При его появлении, в виду его, сей громовержец погасил свои перуны, и руку, которая за миг до того держала их, протянул к нему почтительно и дружелюбно. Кто бы устоял против того, особливо в минуту явной опасности? Не трудно было Наполеону доказать, сколь выгодна могла быть для России дружба с ним, то есть с Францией, коей был он тогда главою, представителем и выражением. Это такая истина, которую впоследствии одно только беспримерное его властолюбие могло сделать сомнительною, но которой люди с здравым смыслом всегда верили я ныне менее нежели когда оспаривают. «Доселе был один Наполеон, отныне да будет их двое, вероятно сказал он; соединив свои силы, довершат они покорение света, и потом, общими же силами, среди всеобщего мира, будут пещись об устройстве всеобщего благоденствия». Признаюсь, я еще и поныне верю чистосердечию обоих договаривавшихся государей: при произнесении клятвы в вечной любви, кто думал о её нарушении и кто не нарушал её? Хотя Европа не берлога, однако же трудно было медведю долго ужиться в ней со львом; но всё-таки, наконец, медведю удалось задушить его.
Подражание обычаю или одеянию какого-нибудь народа всегда в России есть вернейший признак доброго с ним согласия. Уже с сентября месяца начали всю гвардию переодевать по-французски; в следующем году сделано это и со всею армией. Дотоле следовали простоте Австрийских мундиров; исключая белого плюмажа на шляпе, ничто не отличало генерала от простого офицера; тут шитье и эполеты, всё богаче по мере возвышения в чинах, начали обозначать каждый из них. Косы обрезаны, пудра и помада брошены и оставлены гражданским чиновникам, которые также начали употреблять их только при мундирах и в дни приезда ко двору. Все военные люди были вытянуты, затянуты, так что иным трудно было дышать; новый покрой сделал одежду их просторнее и дал полную свободу их телодвижениям. Они и этим были недовольны: в новых мундирах своих видели французскую ливрею и, с насмешливою досадой поглядывая на новое украшение свое, на эполеты, говорили, что Наполеон у всех русских офицеров сидит на плечах.
Можно себе представить, как всё это было больно для петербургской знати, заимствовавшей все поверия свои от эмигрантов; с какою явною холодностью сия искусственная аристократия, вся проникнутая легитимизмом, принимала присланного от Наполеона на первый случай Савари. В рассуждении его исполняла она все обязанности общежития, платила ему визиты, приглашала его на все большие званые вечера свои, но обходилась с ним с той убийственною учтивостью, в которой она такая мастерица и которой тайна ей одной известна.
Упрекнуть его было не в чём: он всё переносил с терпением и старался быть любезен. В одном только знатном доме был он принят с отверстыми объятиями: старуха княгиня Елена Никитишна Вяземская, вдова генерал-прокурора, выдавшая двух дочерей за посланников Неаполитанского и Датского, всегда любила без памяти иностранцев и в особенности французов, и для них был у неё всегда притон. Прежде многие старались ей подражать; но продолжительною связью с французским посольством она обесславила свою старость; были люди, которые не побоялись взвести на нее клевету, будто за угощение французов она получала деньги от правительства.
Родною племянницей этой княгини Вяземской была Александра Петровна Хвостова, о которой говорил я в конце второй части сих Записок. Несмотря на свой патриотизм и легитимизм, в угождение тетки, должна была она принимать Савари и его свиту; впрочем, с живостью её ума и характера, и ей самой любопытно и приятно было их видеть у себя. Тут имел я случай их встречать, и могу сказать несколько слов об них. Умнее всех был конечно Ле Лорнь (Le Lorgne), который в виде путешественника бывал уже в России, живал в Москве и выучился немного по-русски. Он был малый лет тридцати, ловкий, смелый, даже иногда наглый, и вместе с тем вкрадчивый; такие люди везде или вламываются, или пролезают. Заметно однако же было, что ласковый прием, сделанный ему до того в России, сильно на него подействовал, и что он искренно любил ее, а со всем тем охотно пожертвовал бы ею кумиру Франции: он один, кажется, у Савари занимался письменною частью.
Благороднее всех именем и осанкой был Монтескиу-Фезенсак, ведущий род свой от Лупа, герцога Гасконского, следственно от Карловингов. Примесью таких людей Наполеон любил скрашивать свои полки и миссии.
Всех красивее собою был молоденький Талует. Он вместе с другим, Фодоасом, принадлежал к новой республиканско-имперской аристократии, то есть они оба были сыновья во время революции чрезмерно обогатившихся плебеев. Оба сии жокриса[108], неведением светского обращения, разговорами и манерами смешили Петербургские гостиные. Один из них, Фодоас, любезничая раз с какою-то дамой, играл лежащим на её столике аметистовым сердцем, брал его в рот и нечаянно проглотил его. На другой день, изверженное и вымытое сердце сие, при учтивой записке, было возвращено той, которой оно принадлежало.
К сим двум примыкал еще третий молодой мальчик, Антоан, сын богатого марсельского негоцианта и, не менее того, по матери родной племянник жен Иосифа Бонапарте и Бернадота, то есть будущих королей Гишпанского и Шведского. В это время Иосиф уже был Неаполитанским королем. Слух прошел, будто Мария-Каролина, настоящая королева, находившаяся тогда в Сицилии, не только опасно занемогла, но и скончалась. О том неосторожно сказали при Антоане, который, полагая, что речь идет о его тетке, счел долгом притвориться падающим в обморок. Всё это чрезвычайно забавляло знатных, которые насмешками над цветом юности, неудачно присланным Наполеоном, думали мстить ему за его славу.
Как странно было видеть сих образчиков ново-французского двора встречающихся у Хвостовой с Лагардами, Дамасами и другими молодыми роялистами древних фамилий, офицерами в русской гвардии! Последние даже в общем разговоре старались, чтоб одним словом не задеть кого-нибудь из этой ротюры; один только дерзкий Растиньяк подступил раз к Монтескиу и громко спросил его: при ком он камергером, при Бонапарте или при жене его? Тот скромно отвечал: «при императрице».
Попытку Хвостовой соединить у себя тех и других французов одобрить нельзя. Сама она часто не могла утерпеть, чтобы не оказать предпочтения прежним своим знакомым и не похвастать иногда славой своей России, когда наполеонисты слишком завирались о его бессмертии. С другой стороны роялисты и многие русские с смертельною досадой должны были беседовать с теми, коих почитали сволочью и коих по неволе встречали только среди толпы в больших собраниях. Едва прошла осень и наступила зима, как те и другие ее покинули, и одни только искренние её друзья остались постоянными и верными её посетителями.
Кажется, Наполеону хотелось, оказав России первую учтивость, показать с тем вместе и преимущество свое над нею. Для того прислал он Савари с одними комплиментами, без всякого уполномочия, и ожидал прежде назначения к нам чрезвычайного посла, чтобы кто-нибудь от нас в сем звании к нему был отправлен. Выбор пал на графа Петра Александровича Толстого, прежде бывшего Петербургского военного губернатора, но оставившего сию должность, чтобы подвизаться на войне. Его любили и уважали; но, согласившись ехать послом в Париж, он сделался виновным в мнении публики. Плохая эпиграмма в дурных французских стихах, ходившая по городу, была его выражением. Вот она:
Nous imitons le grand: on le savait d’avance. Caius fit son cheval consul de Rome, Et nous faisons tout comme En envoyant un âne ambasadeur en France.Сущая несправедливость! Граф Толстой был человек усердный, верный, на которого совершенно положиться было можно: русский в душе и русский по уму, то есть, как говорится, изпросту лукав. Такие люди, с притворною рассеянностью, как бы ничего не помня, ничего не замечая, за всем следят глазом зорким и наблюдательным и ни на минуту не теряют из вида польз и чести своего отечества. Кажется, у нас в России исстари велось, чтобы мужи, предназначающие себя на великие подвиги, более или менее на себя накидывали какое-то юродство. Стоит только вспомнить Суворова, который в сем роде был не первый и в наше время не один.
Тут есть что-то похожее и на Брута, и на Сикста Пятого.
По прибытии в Париж, граф Толстой нашел приготовленное уже для него жилище. Следуя системе прельщений с Россией, Наполеон купил Отель-Телюсон, довольно большой и красивый дом, в лучшей части города, с прекрасным садом его от улицы отделяющим, и отдал его русскому посольству. Мы не могли остаться в долгу и хотели заплатить с лихвою, и для того только что отделанный великолепный дом князя Волконского, на Дворцовой набережной, за дорогую цену куплен в казну для ожидаемого Коленкура.
Приезд его в январе месяце был сигналом отъезда для Савари с компанией. Почти все полагали, что нестерпимая спесь Коленкура была следствием данных ему наставлений. Я совсем другого мнения: этот человек был просто дерзкий холоп, который, гордясь успехами, могуществом своего господина, как все низкие души забывался в счастье. Может быть, по примеру Савари, приготовленный к холодному приему от общества, он с первого шага хотел предупредить его своею надменностью. Доказательством, что раздражение против себя русских не могло входить в намерения Наполеона, служит то, что предтеча Коленкура, Савари, и преемник его, Лористон, всегда оказывали, первый величайшую терпеливость, последний — умеренность и скромность в сношениях с двором и вельможами, даже тогда, как всё клонилось к совершенному разрыву с Россией.
Целых пять лет с сентября 1802 года, министерство, прозванное Английским, управляло государственными делами. Кажется, в самодержавных правлениях министры, которые просто орудия воли государевой, должны только следовать, хотя бы и не одобряли её, новой политической системе, им принятой. Не так думали наши Фоксы и Питты; жаль им было расставаться с местами и властью, они их как будто против воли сохраняли; но сам Император подал им средства с благовидностью освободиться от тяжести дел. Не вдруг, как в Англии, а в продолжение последних четырех месяцев 1807 года министерство изменилось и возобновилось почти в целом составе своем.
Началось с министра финансов, почтенного графа Васильева. Он бы не удалился, и его бы не отпустили: он был еще не слишком стар, но изнуренный долголетними трудами и опытный в делах, он может быть с трепетом смотрел на приближающееся несогласие с Великобританией, царицей торговли, и чувствовал, что затруднения, в которые оно его поставит, будут превыше сил его. Счастье сопутствовало ему всегда в жизни и не покинуло его при конце её: ибо что может быть счастливее кань вовремя умереть? Он скончался в конце августа, а в половине сентября объявлена война Англии. Бремя, им носимое, само собою легло на давно уже подставившего под него рамена свои, племянника его, Федора Александровича Голубцова, и через два года потом его раздавило.
За год до того, князь Чарторыйский, уступая силе общего мнения, должен был портфель иностранных дел передать некоему барону Будбергу; не покидая однако же Государя, он тайно оставался главным советником его в делах дипломатических. Этот Будберг был, кажется, лицо совсем без физиономии. При воспитании императора Александра, находился он в числе наставников, и об нём ничего не говорили. Потом еще при Екатерине был он назначен посланником в Стокгольм и там ничего не умел сделать, даже сосватать великую княжну Александру Павловну за Шведского короля; его однако же не отозвали. Без особых милостей и без гонений от Павла, оставался он при нём на прежнем месте почти к забвении. В 1802 году попытались было сделать его Петербургским военным губернатором; месяца два или три место сие оставалось как будто вакантным, об нём и помину не было, и его опять назад отправили в Стокгольм. Как подставку, как подтычку вызвали его оттуда в 1806 году, чтобы дать ему название министра иностранных дел. С сим званием случился он в Тильзите при переговорах, и неумышленно, безвинно подписал мирный трактат; и за то никто не думал на него сердиться и поносить его, а вся досада обратилась на бывшего тут, также случайно, русского князя. Трудно определительно сказать что-нибудь на счет характера такого человека, который сквозь столь важные места и события прошел невидимкой; судя по догадкам можно себе вообразить его немцем, довольно образованным для того времени, где нужно искательным, терпеливым и молчаливым, и следственно по наружности глубоко мысленным. Познав наконец весь нуллитет его, Государь, видно без обиняков сказал ему: «Ступай, брат, на покой!»[109]
Место жалкого немца занял русский с громким именем, высокою образованностью, благородною душою, незлобивым характером и с умом, давно ознакомленным с делами дипломатическими и ходом французской революции. И единоземцы его громко возроптали на то. Я не осуждаю их; сердце у русских наболело от двухгодового стыда, и всё приводило его в раздражение; они без ужаса не могли видеть сына знаменитого их полководца усердным посредником России с похитителем её славы. Самое даже согласие графа Николая Петровича Румянцева на принятие звания министра иностранных дел показывает в нём сильный дух, готовый, со вступлением в должность, вступить в борьбу со всеобщим мнением, самоотвержение, с которым он в настоящем жертвовал собственною честью для будущей пользы своего отечества. Время, конечно, показало, что он обманывался; но кто из подвизавшихся тогда, в конце 1807 года, не был обманут, не исключая даже самих Александра и Наполеона? Он смотрел не с той точки зрения как высшая и низшая публика, и обеими был не понят. Уже верно Румянцев не мог быть подкуплен золотом, он, который, живши всегда умеренно, расточал его единственно на умножение просвещения в России. И он бы стал изменять ей! Так что же? Он был очарован величием дотоле врага и вдруг ревностного союзника России, он был увлечен пленительною мыслью о великом союзе Северовостока с Югозападом, пред коими всё должно было покориться: так ошибаются только люди с необыкновенной душой.
До того еще, беспрестанные шутки Александра Львовича Нарышкина на счет графа Румянцева много повредили ему в мнении света. Тетка его, Анна Никитишна, была замужем за дядею Нарышкиных и полученное от мужа имение во вдовстве хотела отказать своему племяннику; из того вышел процесс, который, наконец, Нарышкины же выиграли. Но придворный шутник никогда не мог простить своему противнику, вечно преследовал его своими острыми насмешками и успел в глазах людей сделать его смешным; а что смешно, то кажется и глупым. С другой стороны зависть, которая оставляет в покое одну только посредственность, которая готова заглядывать в нужные места, подслушивать холопские речи, не гнушается ничего нечистого, чтоб осквернить им уважаемых людей, изощряла против него свое жало и приписывала ему какие-то слабости, противные нравственности. На каламбуры Нарышкина, не всегда удачные, на клевету мирскую, как бы не ведая о них, отвечал Румянцев одними великими, беспримерными в России делами: снаряжал на свой счет корабли и для открытий отправлял их вокруг света, с издержками и трудами отыскивал и собирал любопытные, отечественные древние рукописи и хартии и посредством великолепных изданий дарил ими читающую публику, заводил для всех открытые библиотеки, учреждал музеи. Содеянное им блестит на Английской набережной в Петербурге и лучше меня оправдает его пред потомством.
В начале второй части сказал я, что он был министром коммерции; сделавшись министром иностранных дел, сохранял он два года оба министерства, доколе первое не было упразднено. Предместник его, Будберг, до того устрашился одного имени министра, что спешил выпросить себе в товарищи сына покровителя своего, фельдмаршала Николая Ивановича Салтыкова, Александра Николаевича, зятя графа Головкина (об нём я также говорил в своем месте). По родственным связям с Нарышкиными был он в числе недоброжелателей Румянцева, который нашел его в министерстве. По великому тогда кредиту сего последнего, стоило ему только изъявить желание удалить от себя сего товарища, чтоб оно было исполнено. Он того не сделал, оказывал уважение и доверенность Салтыкову и великодушием старался, но не успевал обезоруживать своих неприятелей.
На сии перемены мог я смотреть равнодушно; скоро однако же должны они были коснуться и места моего служения. Лорд Кочубей, который в продолжение пяти лет усиливался при дворе, расширял свое министерство, распространял свою власть, казался первым министром. Для соблюдения пристойности, чтоб явно не изменить исповедуемым им политическим правилам, показывал он вид недовольный, безмолвное порицание, не зная, что и без того уже он сделался не угоден Царю. Не будучи слишком богат, а чиновен, горд и расчётлив, он хотел, не разоряясь, жить соответственно притязаниям своим на высокую знатность. Ему одному известны были средства, кои употреблял он, чтобы согласовать великолепие с бережливостью. Сначала дивились, наконец стали приписывать колдовству быстрое и чрезвычайное приращение его состояния, тогда как не уменьшались его расходы; долгов он не делал, помощи от Государя не получал и при заботах государственных едва ли имел время заниматься собственными хозяйственными делами. Из двух тысяч с небольшим душ выросло у него вдруг до двадцати. В неприятелях недостатка у него не было; надменность его, хотя умеряемая вежливостью, вселяла к нему нелюбовь, которая в иных доходила до ненависти. От того пошли толки о тесных связях его с Перецом, с Штиглицом, евреями-миллионерами, кои по его покровительству имели в руках своих важные отрасли государственных доходов. Начали замечать, что из начальников губерний те только пользовались особою его милостью, кои управляли богатейшими из них и умели наживаться; им только беспрестанно выпрашивал он награды. Сии толки, сии подозрения тайными каналами достигли, наконец, до царского слуха.
Перед отъездом Государя в армию, обер-прокурор Петр Степанович Молчанов, преданный Куракиным, отправлен был в Саратов по какому-то пустому делу, но с тайным поручением обстоятельно разведать о поступках губернатора Белякова. Под разными ничтожными предлогами прожив там всё лето, он осенью воротился с возом обвинений и неоспоримых доказательств хищности любимца Кочубеева. Беляков был призван в Петербург и предан суду. Удар сей нанесен был самому министру, который горячо в сие дело вступился. Утверждают, будто в жару разговора о том с Государем, разгневанный Александр дал ему почувствовать, что почитает его прикосновенным к злоупотреблениям в Саратовской губернии; будто обиженный тем Кочубей сказал, что «после того оставаться ему невозможно» и получил в ответ, «что никто его не удерживает».
Преемник его был уже на пути из Полтавы в Петербург. Некогда Безбородко, дядя Кочубея, при Павле, посредством Лопухиной и Лопухиных, умел ниспровергнуть так называемую партию императрицы Марии Федоровны, Куракиных, Лобановых, Нелидовой, Буксгевдена. С тех пор между первым из сих семейств и его племянником продолжало существовать какое-то неприязненное соперничество. Князь Алексей Борисович Куракин, бывший два года при Павле генерал-прокурором, можно сказать генерал-министром, должен был при Александре довольствоваться должностью малороссийского генерал-губернатора и находиться некоторым образом в зависимости своего противника. Призвание его к занятию места Кочубея показывало уже явную немилость к сему последнему, который, однако же, имел утешение видеть, что, при всеобщем расположении умов, бесчисленность недовольных смотрела на падение его как на торжество возрастающей французской партии, как ее называли, оказывала ему участие и уважение и не слишком спешила приветствовать восход Куракина. Мне должен был он казаться радостным, ибо, по давнишним связям отца моего с старшим братом нового министра, мог он ожидать от него более защиты и покровительства.
В ноябре случилась сия перемена. В последней половине царствования Екатерины, может быть, с её одобрения, все молодые люди богатых и знатных фамилий искали только мест при Дворе и к занятию их одних лишь были способны. И потому-то князь Алексей Куракин, который из них один смолоду посвятил себя изучению законов и трудностям гражданской службы, между ними был лицо замечательное. В жизни его были пятна, но да позволено мне будет умолчать о всём, что не клонится к чести его.
Во время последней кампании против французов, Император собственными глазами убедился во многих беспорядках по военному управлению, кои, по мнению его, были причиною последних неудач нашего войска; одною артиллерией, доведенною до совершенства графом Аракчеевым, остался он доволен. Зная, сколь имя сего человека, дотоле одними только отдельными частями управлявшего, было уже ненавистно всем русским, но полагая, что известная его энергия одна лишь в состоянии будет восстановить дисциплину в войске и обуздать хищность комиссариатских и провиантских чиновников, он не поколебался назначить его военным министром. Состарившемуся Вязмитинову было действительно не под силу занимать сию должность, когда армия умножилась сотнею тысяч воинов, когда он не пользовался никакою доверенностью, когда, без малейшей ответственности, вся власть находилась в руках у докладчика по военной части генерал-адъютанта графа Ливена и когда, сверх того, под именем главнокомандующего, взвалили на него управление столицей. Еще в ребячестве слышал я, как с омерзением и ужасом говорили о людоеде Аракчееве. С конца 1796 года по 1801-й был у нас свой терроризм, и Аракчеев почитался нашим русским Маратом. В кроткое царствование Александра такие люди казались невозможны; этот умел сделаться необходим и всемогущ. Сначала был он употреблен им как исправительная мера для артиллерии, потом как наказание всей армии и под конец, как мщение всему русскому народу. Давно уже вся Россия говорила о сем человеке; а я не сказал ни одного слова; но здесь только нашел я место вкратце, по своему, начертать его жизнь и характер, впрочем всем известные.
Сын самого бедного дворянина Новгородской губернии, он в малолетстве отдан был в артиллерийский кадетский корпус. Одаренный умом и сильною над собою волею, он с ребячества умел укрощать порывы врожденной своей злости: не только покорялся всегда высшим над собою, но, кажется, любил их власть, видя в ней источник, из коего единственно мог он почерпать собственную. Не занимаясь изучением иностранных языков, пренебрегая историей, словесными науками, до того что плохо выучился русской грамоте, чуждый совершенно чувству всего изящного, молодой кадет, любя только всё расчетливое, положительное, прилепился к одним наукам математическим и в них усовершенствовался. Выпущенный в офицеры, он попал в артиллерийскую роту, которая для потехи дана была наследнику престола и находилась при нём в Гатчине.
Лучшей школы раболепства и самовластия найти бы он не мог; он возмужал среди людей отверженных, презираемым, покорных, хотя завистливых и недовольных, среди этой малой гвардии, которая должна была впоследствии осрамить, измучить и унизить настоящую, старую гвардию. Чувствуя всё превосходство свое перед другими гатчинцами, Аракчеев не хотел им быть подобен даже в изъявлениях холопской своей преданности.
Употребляя с пользою данную ему от природы суровость, он давал ей вид какой-то откровенности и казался бульдогом, который, не смея никогда ласкаться к господину, всегда готов напасть и загрызть тех, кои бы воспротивились его воле. Таким образом приобрел он особую доверенность Павла Первого.
При вступлении его на престол, был он подполковник, через два дня после того генерал-майор, в Аннинской ленте и имел две тысячи душ. Не довольствуясь обогащением, быстрым возвышением его, новый Император открывал широкое поле его известной деятельности, создав для него новую должность коменданта города Петербурга (не крепости) и в тоже время назначив его генерал-квартирмейстером армии и начальником Преображенского полка. На просторе, разъяренный бульдог, как бы сорвавшись с цепи, пустился рвать и терзать всё ему подчиненное: офицеров убивал поносными, обидными для них словами, а с нижними чинами поступал совершенно по-собачьи; у одного гренадера укусил нос, у другого вырвал ус, а дворянчиков унтер-офицеров из своих рук бил палкою. Он был тогда еще весьма не стар, не совсем опытен и в пылу молодости спешил по своему натешиться. Впоследствии выучился он кусать и иным образом. И такие деяния, об ужасе коих не смели ему доложить, почитались милостивцем его за ревностное исполнение обязанностей. Год спустя, чрезмерное его усердие изумило самого Царя, и в одну из добрых его минут, внимая общему воплю, решился он его отставить и сослать в пожалованную им деревню.
Не более года оставался он в ней. Она была в близости от Петербурга и как Государю стоило, так сказать, протянуть к нему руку, то он и не утерпел, чтобы не призвать проученного им приверженца и не назначить инспектором всей артиллерии. Мне неизвестна причина новой немилости к нему Царя; вероятно наговоры и происки бесчисленных неприятелей; только вторично должен был он удалиться. Вызванный в последний раз, он въезжал в заставу столицы в ту самую минуту, когда прекращалась жизнь его благодетеля.
Сельское житье его было мучительно для несчастных его крестьян, между коими завел он дисциплину совершенно военную. Ни покоя, ни малейшей свободы, ни веселия, плясок и песней не знали жители села Грузина, некогда поместья князя Меншикова. Везде видны были там чистота, порядок и устройство, за то везде одни труды, молчание и трепет. И эта каторга должна была служить после того образцом изобретенных им военных поселений. Непонятно, как мог император Александр, который знал, что в царствование отца его Аракчееву поручено было тайно присматривать за его деяниями, как мог он вновь избрать его начальником всей артиллерии? Не служит ли это доказательством, что личностями умел он иногда жертвовать пользе службы? Войдя раз в частые сношения с молодым Императором, он, лучше чем отца его, успел его обольстить своею грубою, мнимо откровенною покорностью; всё убеждало Александра в его чистосердечии, самый девиз в гербе, при пожаловании ему Павлом графского достоинства, им избранный, «без лести предан». Он умел уверить Царя, что кроме двух богов, одного на небе, другого на земле, он ничего в мире не знает и знать не хочет, им одним служит, им одним поклоняется.
В явном несогласии с общим мнением, во многом к нему несправедливым, Государь выбором графа Аракчеева в военные министры как будто хотел показать, что он сим мнением не дорожит и более щадить его не намерен.
Такой человек как Аракчеев безусловно не мог принять министерства. Он потребовал устранения графа Ливена от военных дел, уничтожения канцелярии военно-походной, причисления её к его собственной канцелярии и распространения его власти до того, чтобы сами главнокомандующие армиями должны были принимать его приказания. Обстоятельства ему благоприятствовали; назло недовольным, Государь на всё изъявил свое согласие.
Чтобы хотя на время дать совершенный покой старику Сергею Кузьмичу Вязмитинову, освободили его и от главного начальства над столицей, назначив военным губернатором князя Димитрия Ивановича Лобанова-Ростовского. Кажется, и он своей строптивости обязан был сим местом. При Екатерине храбрый полковник, при Павле генерал-лейтенант, отставленный от службы, жил он долго в деревне, забытый всеми. Об нём бы никогда не вспомнили (ибо нечем добрым было помянуть его), если бы опасность, угрожающая нашим границам, не заставила вызвать на защиту отечества всех заслуженных воинов. По его проворству поручено ему было Сформировать наскоро совсем новую пехотную дивизию; она поспела весной, и он привел ее к Неману в самое то время, как на берегах реки сей победа остановлена была миром. Двоюродный брат его, князь. Александр Борисович Куракин, бывший вице-канцлер, назначенный послом в Вену, на пути туда, случился тут также проездом и предложил его в число уполномоченных. Тогда они втроем с Будбергом имели славу подписать знаменитый Тильзитский трактат, за что Лобанов произведен был полным генералом. Не знаю, почему именно он, а не другие, этим огадил всем и, в насмешку над кривлявою заносчивостью своею, получил прозвание Князя Мира. Никогда еще ничтожество не бывало самолюбивее и злее, как в этом сокращенном человеке, в этом сердитом карле, у которого на маленькой Калмыцкой харе резко было начертано грехопадение, не знаю, матери или бабки его.
Вот почти все новые лица, которые явились тогда на политической сцене у нас. Прежние любимцы, мало-помалу, один за другим начали удаляться: Чарторыйский уехал в Австрию и никогда уже в Петербург не возвращался[110]; Кочубей продал дом и следующею весною поехал путешествовать за границу; Новосильцов сделан просто сенатором и, получив бессрочный отпуск, поселился в Вене; товарищ министра внутренних дел, граф Павел Строганов, во фраке отличавшийся с казаками против французов, поступил в военную службу генерал-майором. Один только Чичагов сохранил покамест прежнее место.
Благоразумный Сперанский, меняясь с обстоятельствами, потихоньку, неприметным образом, перешел из почитателей Великобритании в обожатели Наполеона, из англичанина сделался французом. Сия перемена в правилах и в образе мыслей была для него чрезвычайно полезна, ибо еще более приблизила его к Царю, при особе которого единственно остался он статс-секретарем, получив увольнение от должности своей в Министерстве Внутренних Дел. Вскоре потом назначен он товарищем министра юстиции и управляющим Комиссией составления законов. Не в одних двух должностях сих наследовал Сперанский Новосильцову, но и в беспредельной доверенности, коею сей последний пользовался у Александра, а следующее затем пятилетие есть период, который по всей справедливости получил его название.
II
Зять Алексеев. — Г. Г. Пшеничный. — Война с Швецией.
В октябре месяце Государь поехал в Витебск для осмотра большой армии, которая воссоздавалась из своих развалин. После того некоторая часть её взяла направление к Северу; но, приближаясь к Петербургу, полки, не вступая в него, обходом шли далее. Никто не знал намерений Императора: легко сохранить там тайну, где никто не ищет ее проникнуть, а в это время все были очень равнодушны ко всему, что не относилось прямо к Наполеону и его действиям.
Один из сих полков был в совершенном расстройстве; его остановили и спрятали в Подгорном Пулкове, чрез которое Царскосельская дорога тогда еще не пролегала: это был полк зятя моего, Митавский драгунский. Делая ему смотр, великий князь Константин Павлович сказал, что он от роду еще ничего хуже не видал; впрочем, сказал он сие без гнева, ибо знал, что в совершенном младенчестве, не созрев, полк сей ничего не делал как только храбро дрался, что командует им майор, что полковой командир еще не назначен, а шеф его в это время лежал безгласен, бездыханен.
Болезнь бедного генерала Алексеева усилилась от недостатка в медицинских пособиях. Будучи в Витебске, Государь оказал ему великое участие и для излечения дозволил ему ехать в Москву. Это было в глухую осень, и я воображаю, какие мучения должен был он выдержать дорогой, и едва ли менее того сопровождавшая его супруга; но в Москве ожидало его спасение.
От последнего разгрома в Пруссии множество отличнейших людей в разных родах спасалось в Россию. Между ими один соединял в себе высокое знание врача, долголетнюю практику с величайшим искусством оператора: это известный Лодер, который находился тогда в Москве. Алексееву, привыкшему ходить навстречу неприятельским пулям и картечам, не столь страшно было подставить себя благотворному ножу Лодера, хотя сей последний и объявил ему, что операция фистулы может быть для него опаснее самого сражения и что в продолжении её может испустить он дух. Всё это перенес он с необычайною твердостью и после того скоро начал поправляться в здоровье своем.
С сим добрым известием приехал ко мне в Петербург вдовый брать мой Николай. Когда он служил в Малороссийском кирасирском полку и жил в уездном городе Гадяче, то с молодою женой часто посещал поблизости губернский город Полтаву, местопребывание генерал-губернатора князя Куракина. В провинции знатные не могут быть столь разборчивы насчет общества как в столице, и молодая женщина, хорошенькая и образованная, должна была казаться украшением гостиной княгини Куракиной, и оттого муж и жена скоро сделались у неё короткими. Желая испытать, не будет ли новый министр внутренних дел к нему столь же благосклонен, как был генерал-губернатор, брат мой приехал из Пензы чрез Москву и явился к нему с покорнейшим приветствием от отца моего. Для себя брат мой ничего не хотел: лишившись подруги, он жил единственно для детей и для родных; в неутолимой его горести одна к ним любовь была для него услаждением. И потому-то он несказанно был утешен ласковым приемом Куракина, который поручил ему написать к нашему родителю, что, зная связи его с его братом Александром Борисовичем, он всегда желал быть участником в этой дружбе, а меня велел себе представить. Со мною обошелся он как с мальчиком, которого хотят приласкать, и я пока и этим остался доволен.
Но брата моего удовлетворить этим было невозможно. Употребляя во зло снисходительность министра, он начал его преследовать неотступными просьбами о доставлении мне следующего, но совсем не следуемого чина. Сперанский перестал уже быть моим начальником, и сладить с этим делом казалось легче. На его место поступил Григорий Григорьевич Пшеничный, из малороссиян, некогда правитель канцелярии генерал-прокурора князя Куракина, следственно начальник Сперанского. Человек этот был, видно, как Фигаро, как я, как большая часть русских, деятелен по необходимости и ленив по природе. Бедность заставляла его трудиться в молодости; когда же он поднялся в чинах и нажил состояние, то уже втянулся в работу, и она обратилась ему в привычку. Князь Куракин, по старому знакомству, призвав его опять на службу, забыл или не знал, что десятилетний покой после трудов отнимает у человека много способностей и охоты. Пшеничный показался нам человеком тяжеловесным, сдобным и мягким как вновь испеченный пшеничный пирог. В экспедиции засел он как бревно; но начальники отделений и другие чиновники, желая, видно, не походить на лягушек басни, обходились с ним весьма почтительно. Всё показывало, что от него нельзя было ожидать ни пользы, ни вреда. Рассказывали нам, что на старости лет пристрастился он к своей национальной музыке и проводил дни в игрании на гуслях малороссийских песен. После Сперанского, такой-то человек и был мне надобен; ему велено представить меня к чину, а для таких людей воля начальника есть закон. Представления к наградам чрез Комитет Министров делались тогда с величайшею тайной, и я никогда не узнал, какие искусно вымышленные труды могли мне быть приписаны. Как бы то ни было, через три месяца после представления, произведен я за отличие в надворные советники, со старшинством с 31 декабря 1807 года. Вот каким образом добрый брат мой, в отставке, в Петербурге заезжий, руководимый единым горячим желанием мне добра, во второй раз мне благодетельствовал.
Он несколько времени оставался еще в Петербурге, выжидая приезда выздоравливающего зятя нашего, который, изрезанный, похудевший, в январе месяце прибыл к столь же хворому полку своему. Константин Павлович особенно благоволил к Алексееву; с его высокою помощью и с собственною врожденною деятельностью, в два месяца он успел поставить полк сей наряду с лучшими кавалерийскими.
Неожиданная весть разнеслась в феврале месяце: новая война возгорелась почти у ворот столицы; русские войска вступили в Шведскую Финляндию. За чем или за что? Упрямый король Густав IV думал, что походит на Карла XII, ибо имел некоторые из его странностей, забыв, что не имел совсем воинской его храбрости, забыв его уроны и жалкий конец. Он один из европейских монархов (исключая Англии) не соглашался еще признать Наполеона императором, не хотел с ним мириться. Россия должна была приневолить его ко вступлению в общий союз против острова, враждебного всей твердой земле. Роль которую играл тогда Александр, конечно могла казаться незавидною: во исполнение как будто не собственной, а чужой воли, он вооружался всею силою своею против слабого соседа, близкого родственника, свояка, ничем его не оскорбившего. Наше правительство, т. е. Государь и новые его министры, смотрели на это иначе, как на начало развития плана, с общего условия в Тильзите начертанного. К тому же, храбрость шведов, неограниченная власть и благородное безрассудство их короля представляли единственный случай к завоеванию Финляндии; а опыт показал, еще при Екатерине, сколь шведское соседство может быть опасно для Петербурга.
В первый раз еще, может быть, с тех пор как Россия существует, наступательная война против старинных её врагов была всеми русскими громко осуждаема, и успехи наших войск почитаемы бесславием. Как бы то ни было, наши солдаты, под предводительством главнокомандующего графа Буксгевдена, делали свое дело, шли всё вперед, встречая мало сопротивления, находя даже помощь в измене многих недовольных королем. Сей последний изумился, не хотел сначала поверить такой несправедливости; но, убедясь в ней, поступил, несчастный, как азиатский деспот! велел русского посланника лишить свободы и тем дал справедливый повод к войне, которая дотоле ограничивалась как будто одними демонстрациями.
С напряженными силами начала Швеция защищаться. Говорить об этой войне мне еще придется; но описывать, даже начало её, кажется, не мое дело. Истинно-военные люди всегда находят причины ко всякой войне справедливыми: им лишь бы подраться. Вот почему зять мой скорбел о том, что расстройство, неисправность его полка осуждают его на мирное пребывание в уездном городе Тихвине, куда в марте месяце велено было ему полк сей отвести. Он не знал, что война сия без него не кончится, или, лучше сказать, им кончится.
Месяца два или три прожил я самым приятным образом, в семейном кругу, что в Петербурге случалось со мной редко. Только в апреле сестра моя поехала к мужу, а брат мой Николай отправился в Воронеж, где находились его дети.
На смену той и другому скоро приехал старший, тогда несчастный брат мой Павел. Часто невинные страдают за виновных и вместе с ними. Трудно было Императору отличить тех от других, когда позднее доставление амуниции и съестных припасов к действующей армии и худое их качество обличали комиссариатских и провиантских чиновников в умышленной, злонамеренной неисправности. Еще осенью обоим штатам объявлена опала, и служащие в них лишены чести носить общий армейский мундир. Взамен никакого им дано не было; впоследствии сочинили для них мундир, весьма бедный, похожий на тот, который носят полковые лекаря, и назначили его в награду только тем чиновникам, которые на деле докажут свое усердие и бескорыстие. Сие общее клеймо пало и на брата моего, которого оно убивало. В провиантской службе был ему лестен один только военный мундир; в продолжение двух кампаний против французов старался он отличиться от других своих сослуживцев, имел право ожидать награды, ибо аттестован и представлен к оной был от главнокомандующего и корпусных командиров, и вместо того подвергся общему наказанию. С отчетами вызван он был в Петербург и по прибытии немедленно представил их военному министру. Никакого начету на него сделать было не можно; но что всего ужаснее было для него, граф Аракчеев, опасаясь, чтобы малое число честных людей не поспешило оставить службу, выпросил, вопреки дворянской грамоте, запрещение подавать в отставку даже и тем, кои найдены будут совершенно исправными.
В это время внезапный упадок государственного кредита производил чрезвычайное уныние и как будто оправдывал жалобы людей, более других вопиявших против союза с Наполеоном. Не знаю, правда ли, что разрыв с Англией и остановка морской торговли были тому причиной. Я могу только судить о действиях и об них только могу здесь упомянуть. Ассигнационный рубль, который в сентябре еще стоил 90 копеек серебром, к 1 января 1808 года упал на семьдесят пять, а весною давали за него только 50 копеек серебром; далее и более, через три года, серебряный рубль ходил в четыре рубля ассигнациями. Для помещиков, владельцев домов и купечества такое понижение курса не имело никаких вредных последствий, ибо цены на все продукты по той же мере стали возвышаться. Для капиталистов же и людей живущих одним жалованьем было оно сущим разорением; кажется, с этого времени начали чиновники вознаграждать себя незаконными прибытками. Людям, недавно купившим в долг имения на ассигнации, понижение курса послужило обогащением и спасением вообще всем задолжавшим.
Прослыть честным в провиантском штате было также беда. Брата моего вызвали в Петербург нарочно с тем, чтобы скорее послать его в Финляндскую армию. Едва недели две или три успели мы пожить вместе, как он должен был отправиться, полон грусти и уныния, без всякой надежды на повышение, даже без прав на уважение, которого военный министр всех сих опальных старался лишить.
Мне вошло в привычку, на свободе, вместо дачи ездить каждое лето в Пензу. Мой родитель, становясь старее, сделался гораздо снисходительнее, если позволено мне сказать, слабее к детям, и потому мне нетрудно было получить его позволение на новую отлучку; министерство также не затруднилось дать мне отпуск. Расставшись с братом, мне что-то стало грустно; к тому же, отправляясь налегке, он оставил в полное мое распоряжение хорошенькую дорожную коляску; я хотел ею воспользоваться и 22 мая, помнится, выехал из Петербурга.
III
Пресненские пруды. — П. С. Валуев. — Поездка в Пензу 1808. — Колокольцевы. — А. Д. Панчулидзев. — Козодавлев в Саратове и Пензе. — А. П. Римский-Корсаков. — И. Н. Белоклоков. — Чиновники-хлопотуны. — Н. П. Дубенский. — Пиры в честь Козодавлева. — На пути в Саранск. — Кошкаровы.
Что достопримечательное мог я встретить от Петербурга до Москвы по дороге, по которой проезжал я восьмой раз в жизни? Сама Москва, в которой никого не было из моих родных и весьма мало знакомых, представлялась мне как покойный ночлег. Но русскому как будто грешно проехать Москву, не остановившись в ней по крайней мере дня три; к тому же, заставили меня сие сделать некоторые необходимые починки в коляске.
Мало заботясь о том, что происходило в Европе, все заняты были тогда домашним важным происшествием, открытием нового гулянья на Пресненских прудах. Я помню, когда я жил в пансионе Форсевиля, поблизости случалось мне с товарищами проходить по топким и смрадным берегам запруженного ручья Пресни. Искусство умело тут из безобразия сотворить красоту. Не совсем прямая, но широкая аллея, обсаженная густыми купами дерев, обвилась вокруг спокойных и прозрачных вод двух озеровидных прудов; подлые гати заменены каменными плотинами, чрез кои прорвались кипящие шумные водопады; цветники, беседки украсили сие место, которое обнеслось хорошею железною решеткой. Два раза в неделю музыка раздавалась над сими прудами, стар и мал, богат и убог толпились вокруг них. С великим удовольствием был я на этом гулянье; оно и по сю пору еще существует в прежнем виде, но почти совсем оставлено посетителями. Москвичи, как и все мы русские, в этом случае похожи на ребят: всегда обрадуются новой игрушке, потом скоро она им надоест, и беспрестанно подавай им новое.
Честь и хвала однако же учредителю гулянья сего. В прежние времена, при Екатерине и при Павле камергеры, князь Тюфякин, князь Масальский заведовали мелкими, брошенными московскими городскими и загородными дворцами, при каждом из коих было по смотрителю и по малочисленной прислуге. Император Александр, хотя после коронации ни разу не заглядывал в Москву, однако же будучи, как известно, великий строитель, чрезвычайно пекся об её украшении. Воспользовавшись сею склонностью, старый царедворец, Петр Степанович Валуев подал мысль учредить род строительной комиссии, под именем Кремлевской Экспедиции, с значительным штатом и сделать его начальником оной. Москва много от этого выиграла: он был человек со вкусом, к тому же гибкий, угодительный, часто ездил в Петербург и умел выпрашивать суммы на поддержание старых зданий, на распространение их и на возведение новых. Рядовой и весьма небогатый дворянин, он задумал быть знатным, и как ни трудно было при Екатерине достигнуть сего без заслуг (чего не делает сильное желание!), он успел в том. Женившись на девице, которая была в близком родстве с сильными вельможами, он умел ими овладеть и уверить, что честь их требует возвысить нового родственника. Всех перещеголял он в искусстве ловко нагибаться перед любимцами Императрицы и презрительно смотреть на толпу, от коей начал отделяться. Он был сделан камер-юнкером, камергером, а при Павле обер-церемониймейстером, потом при нём же всё та же песня: осыпан наградами, отставлен и выслан из Петербурга. После того в Москве, убежище всех удалившихся от двора вельмож, естественным образом он стал в их ряду, пока не создал себе в ней приятного служения. Оставаясь одним из её кумиров (в числе коих так много истуканов), он сам однако же не забывал часто ездить на идоломоленье в Петербург. Мне случалось только его видеть иногда; знавшие же его лично сказывали мне, что ничего не могло быть гибче его перед силой и упруже перед слабостью. Пусть оно так, наружная сторона Вознесенского монастыря, Синодальная типография и Пресненские пруды останутся всегда славными его памятниками.
После недовольного Петербурга, поглядев на беспечную Москву с удовольствием, не совсем для неё лестным, я отправился в Пензу. Подъезжая к Мурому, заметил я что-то неисправное в колесе и взял осторожность поехать тише. Приехав благополучно, увидел я, что если бы сотню сажен далее, был бы я с коляской на боку: железная ось совсем почти была переломлена. Братнину коляску оставил я на сохранение почтмейстеру, к коему случайно имел письмо; беспрестанные починки мне надоели, и я поскакал на перекладных, что мне было не в диковинку. Далее Саранска, когда я выехал со станции Ермоловки, жар сделался нестерпимый, в России, в первых числах июня можно сказать невероятный! земля и небо казались раскаленными. От совершенного изнеможения, несмотря на частые толчки, я заснул. Когда через час я проснулся, мне показалось, что уже сумерки и меня кто-то давит; совершенно же очнувшись, я увидел, что черные тучи совсем заволокли небо и до того спустились на землю, что сделались как бы досягаемы для руки. В воздухе, который от сильного их давления стал удушлив, царствовала грозная тишина. Она продолжалась не долго; целые катаракты низвергались на грешную главу мою, и страшные громовые удары падали так близко, что казалось искали её. Ямщик мой беспрестанно крестился и едва управлял лошадями, которые от испуга часто падали ниц. Я потому позволяю себе говорить об этой грозе, что подобной ей в жизни не видывал. Мрак озарялся не одним блеском молний, но и пламенем зажженных ими окрест лежащих деревень. На самой же дороге, верст на десять до первого селения, Пелетмы, не было ни одного места, где бы я мог остановиться. Того не мог я сделать и въехав в селение; ибо все суетились, бегали, и я оглушен был криком женщин, которые вопили об отцах или мужьях, родственниках или соседях, убитых грозою; на самой улице видел я народ, толпящийся вокруг одного из тел. Итак, освещаемый молниями, должен был я ехать далее до станции Кутли. Я никогда не хвалился храбростью, и потому не без труда поверят мне, если скажу, что мало робел во время этого воздушного мятежа. Это много зависит от состояния нервов; когда столь страшные явления не производят жестокого испуга, то рождают обыкновенно какой-то восторг. Его я более чувствовал: блеск, в котором являлась мне смерть, отнимал большую часть её ужаса.
В Кутле унялись гром и молния; кончилась поэзия грозы, но не прекращалась прозаическая часть её, проливной дождь, который охолодил воздух. В открытой телеге, пробитый им до костей, дрожал я от лихорадки, а продолжал всё ехать далее. В Пензенской губернии везде чернозем; накатанная по нём дорога в сухое время становится тверда, как камень; растворенный же дождевою влагой превращается он в клейкое вещество, которое липнет к экипажам и колесам и отстать более не может; оттого-то тройка славных коней с трудом и медленно тащила мою легкую повозку. Наступила ночь, зги не было видно, беспрестанно встречались овраги и новые промоины, и дорога сделалась совсем не забавна. Между тем грязь, насылаемая мне копытами лошадей, покрывала весь плащ мой, а на лице моем образовала плотную маску. Проехав последнюю к Пензе станцию Вазерки, налево от дороги увидел я огни в господском доме села Грабовки; измученный не мог я долее выдержать, велел туда поворотить и решился предстать хозяевам во всём своем безобразии. Действительно они испугались и не вдруг узнали меня. Как было не принять и не угостить губернаторского сынка? Они садились ужинать, но подождали, чтобы дать мне время умыться. Пока продолжается ужин, дайте мне, читатель, порассказать вам, кто таковы были владельцы села Грабовки, меня гостеприимно призревшие.
Давно, очень давно, прежде описываемого мною времени, близ Пензы жил счастливо один добродушный и богатый помещик, Аполлон Никифорович Колокольцев, степенный, кроткий, всеми уважаемый. Молодая, веселая и прекрасная жена, Елизавета Григорьевна и вокруг неё пять цветущих младенцев были радостью ею жизни, как вдруг злой судьбе захотелось посетить его жесточайшею из печалей. Внутри России войска весьма редко проходят через города, а еще реже останавливаются в них; беспрестанные войны и великое протяжение границ требуют там их присутствия; когда же невзначай показываются среди жителей, к ним непривычных, то обыкновенно горе мужьям и родителям! После Пугачевского бунта какой-то драгунский полк целый год простоял в Пензе на бессменных квартирах; им начальствовал не старый еще полковник Петр Алексеевич Исленьев, смелый и предприимчивый, рослый и плечистый. Он умел понравиться госпоже Колокольцевой; однако же сия связь оставалась неизвестною не только доверчивому супругу (мужья суть обыкновенно последние, до коих такого рода тайны доходят), но и всем любопытным кумушкам обоего пола, коими провинциальные города всегда так наполнены.
Наконец, полк должен был выступить, и для любовников пришла минута разлуки. Они, то есть более она была в отчаянии и решилась, по мнению моему, на дело преступное. Желая в последний раз угостить мнимого друга, которого полк был уже на дороге, несчастный Колокольцев пригласил всю Пензу на прощальный для него пир в то самое село Грабовку, о котором говорю. Он едва заметил смущение, в коем хозяйка села за стол; когда же поднялась чаша за здравие отъезжающего, она вдруг встала и, заливаясь слезами, объявила, что не имеет сил с ним расстаться и готова следовать за ним всюду. Все гости поражены были сим театральным ударом, вероятно приготовленным самим Исленьевым, которому желалось целый город сделать свидетелем торжества своего и стыда почтенного Колокольцева. Сей последний от изумления онемел; любовь превозмогла справедливый его гнев, он пал к ногам виновной, прощая её заблуждение, именем детей умолял ее не покидать их и его. Она колебалась, когда Исленьев показал в открытое окошко, как солдаты его выносят сундуки и чемоданы, в которые накануне тайком уложила она свои пожитки. Колокольцев велел было дворне своей остановить солдат; Исленьев указал на стоящий вблизи на конях вооруженный эскадрон, готовый по знаку его окружить дом и сделать всякое сопротивление невозможным. Кроме дневного разбоя, трудно такому поступку приискать приличное название. Хозяйка и гости поспешно оставили дом, за час до того шумный и веселый; он опустел и наполнился единою горестью. Будем справедливы к настоящему времени: согласимся, что при нынешнем правительстве и с нынешними нравами столь бесстыдная жестокость не могла бы быть терпима и не осталась бы безнаказанною.
Если не люди, то справедливое Небо почти всегда наказывает преступления. Долго странствовала госпожа Колокольцева, таскаясь беспрестанно по походам за соблазнителем своим; она претерпевала всякого рода нужды, в городах чуждалась общества, но некоторое время всё была утешена продолжающейся его привязанностью. Между тем он, как будто для приличия, женился; законную жену держал в Москве, а наложницу при полку или бригаде на полевой ноге. Время шло и поневоле всё более их связывало; она старилась, он холодел к ней; кончилось тем, что она надоела, омерзела ему, и сколь они оба ни желали того, ни он отвязаться от неё, ни она оставить его долго не могли. Наконец, решился он эту Ариадну бросить в нищете где-то на берегу Азовского моря[111].
Там нашли ее дети её, давно уже совершеннолетние. Соединенными мольбами склонили они оскорбленного отца дать кров у себя в доме блудной жене, более двадцати пяти лет от него отлучившейся. Милосердия двери отверзлись перед ней, а прежняя любовь за нею их затворила. Дело удивительное! Престарелый Колокольцев влюбился в обесчещенную старуху столь же страстно, как некогда в нее же, свою непорочную невесту. Счастье и спокойствие, блиставшие на первой заре её жизни, осветили опять и вечернюю.
Грабовка была оставлена владельцем своим; он уединился во вновь построенном для себя убежище, в другой, более отдаленной от города деревне; там принял он заблудшую овцу свою. Еще несколько лет до возвращения её, начал он посещать Пензу и, в намерении жить открыто и пышно, построил в ней самый большой, лучший каменный трехэтажный дом, который после отец мой так дешево купил в казну для губернаторов. Кающаяся грешница в нём не бывала: она не могла ожидать великой снисходительности от пензенской публики и потому не смела или не хотела ей показываться, заперлась с мужем в деревне, а он для неё готов был забыть целый свет. Однако же в первые месяцы губернаторства отца моего, старинного её приятеля и по первой его жене, родственника, любезное, даже нежное письмо его к ней, в первый и в последний раз, вызвало ее в Пензу из добровольного её заточения. Обхождение с нею добродетельной и сострадательной матери моей послужило примером для других женщин. Глядя на сих старых, нежных супругов, подумал я: кто бы мог вообразить, чтобы в промежутке начала и донца согласной их жизни был ужасный, даже отвратительный роман.
Старшему сыну Димитрию Аполлоновичу, женатому на дочери многореченного Богдана Ильича Огарева, Александре Богдановне, отдана была Грабовка во владение еще при жизни родителей. Жена нравом схожа была с отцом, а муж с матерью своею. Она имела все те свойства, кои особенно похвальны в мужчинах, строгие и твердые правила, умеренность в речах, осторожность в поступках, за то сухость и холодность в женщине неприятные. Он же имел некоторые из женских слабостей, был нескромен, легкомыслен, добр сердцем и зол на словах. Он имел некоторую образованность, знал иностранные языки, довольно успешно занимался хозяйственными делами, выписывал все дозволенные газеты, отчасти любил политические новости, а еще более городские и за слишком поспешное разглашение их ссорился иногда с знакомыми. От отца своего получил он по наследству любовь и уважение к моему и всегда сохранял их. Этой связи был он обязан должностью губернского предводителя, на которую выбрали его уездные дворяне, почти все преданные моему отцу и почти везде составляющие большинство.
К этой чете явился я ночью в запачканном виде. Они уговаривали меня переночевать; я не согласился, ибо всего оставалось мне только 24 версты до Пензы, и, насытясь, обогревшись, спешил я кончить мое путешествие. Тогда велели они шестерню лучших лошадей с их конюшни заложить в легкую и покойную коляску и, несмотря на грязь, на горы и овраги, я благополучно в ней доехал, хотя впрочем далеко за полночь.
Я остановился в нижнем этаже опустевшего губернаторского дома. За несколько дней до того отец мой переехал в собственный, деревянный, на Дворянской улице вновь выстроенный дом, не столь большой как красивый: страсть его к строениям не оставляла его до конца жизни. К перемещению его на новоселье была еще особая причина: в Пензе с любопытством и нетерпением, со страхом и надеждой ожидали одну важную особу, ни более, ни менее как сенатора, как ревизора. Кто знает провинцию, тому известно, сколь великим это почитается там происшествием. Отец мой придрался к случаю, оказав ему учтивость уступкою казенного своего жилища и не обременив никого постоем, пожить в доме, от которого он был без памяти.
Надобно рассказать по порядку, каким образом, в первый раз еще во время управления отца моего Пензенскою губернией, велено было ревизовать ее. После отставки Белякова никто не назначен был Саратовским губернатором. Временно управлял губерниею вице-губернатор Алексей Давыдович Панчулидзев. Это такое лицо, которое давно желал изобразить я; не доставало только к тому удобного случая.
Кажется, нет ни одного народа ни в Европе, ни в Азии, коего бы представители, образчики, не находились в русской службе и следственно, наконец, не делались русскими дворянами, отчего сие сословие у нас так отличается от других, чисто русских, и становится помесью всех пород. Некто Давыд Панчулидзе, выходец из Грузии, вероятно в числе слуг грузинских царевичей по временам в России поселяющихся, получил какой-то небольшой чин, а сыновей успел определить в казенные учебные заведения, в кадетские корпуса, и они все вышли в люди. Грузинцы вообще не славятся великим умом, но на что он годится? И для успехов не во сто ли раз полезнее хитрость, свойственная всем жителям порабощенной Азии? Старший сын Давыда, Алексей Панчулидзе с 14-го класса служил в Казенной Палате и, не покидая её, дослужился до чина статского советника и должности вице-губернатора. Можно себе представить, какую великую опытность приобрел он в финансовых делах столь богатой губернии. Два раза был он вдовцом и женился в третий раз; но приданое всех трех супруг далеко не было достаточно, чтобы поддержать то великолепие, коим изумлял он в Саратове. Не один принадлежащий ему огромный и поместительный дом, а два или три соединенные между собою галереями, и при них множество служб, обширный двор и бесконечный сад, почти вне города, занимали более пространства, чем увеселительные замки многих из немецких владетельных князей. Этот очарованный замок служил гостиницей и ловушкой для всех приезжих из обеих столиц и других провинций; во время пребывания их в Саратове, каждый из них пользовался в нём помещением, освещением, отоплением, столом и прислугой. Этого мало: библиотека, каждый год умножаемая вновь издаваемыми книгами на русском и иностранных языках, в которую сам хозяин никогда не заглядывал, была к услугам малого числа читающих его посетителей; оркестр, при коем находились два-три немца капельмейстера, должен был при изъявлении малейшего желания тешить столь же малое число любителей музыки; конюшня его, наполненная славными рысаками, и псовая охота были в распоряжении его гостей более, чем в его собственном. Возможно ли было устоять против обольщений столь милого хозяина, в месте, исключая дома его, лишенном всяких забав? Всё это было для иногородних; для служащих же в Саратовской губернии был он еще более дорог и полезен: карман его сделался каналом, чрез который протекая, Пактол[112] делился на мелкие ручьи и разливался по тощим их нивам. Бескорыстным губернаторам (кажется, был один таковой, Нефедьев) умел он угождать всем, чем, исключая денег, угождать только было можно; с другими ладил он посредством дележа. Все оставались довольны, все восхваляли всещедрого, чудесного вице-губернатора; все знали, к сотворению таких чудес какие употреблял он средства, и все согласно молчали о том. Но вы не знаете о том, читатель; объяснить ли вам сию тайну? Не говоря о множестве других богатых источников, между коими откупная часть, продажа горячего вина, может почитаться не последним, в Саратовской губернии находится один неисчерпаемый кладезь, Елтонское соляное озеро: теперь вы понимаете, я надеюсь. Скажите, что такое казна? Общественный капитал. После того можно ли почитать похищением её всё то, что употреблено для пользы общества? Такими рассуждениями многие, вероятно, извиняли г. Панчулидзева, все те, в коих оставалось сколько-нибудь совести.
Он сам своею особой был вовсе не любезен; мал ростом, бледен, долгонос, угрюм и молчалив; яблонное дерево совсем не красиво, а любят его, ибо плоды его вкусны и сочны. Единственною или, по крайней мере, главною его страстью было расчетливое тщеславие. Никогда, ничего и никого не позволял он себе осуждать; напротив, ко всем порокам был более чем снисходителен, смотрел на них одобрительно, всех запятнанных людей утешал своим участием. Это уже много. Он делал еще более: не восставал даже против честности, никогда не преследовал её, почитая ее весьма извинительным заблуждением ума и, рассчитывая, что сколь ни постоянно она гонима в России, однако же по временам честные люди подымаются в ней и делаются сильны.
Пока он после Белякова временно управлял губернией, показалась в ней какая-то повальная болезнь. Действительно ли он испугался или хотел придать более важности своему донесению, но он представил министру, что у него открылась чума. В таких случаях, туда где нет генерал-губернаторов, для скорейшего прекращения зла, посылаются обыкновенно сенаторы с особенным полномочием; выбор же предоставляется министру внутренних дел. Князь Куракин предложил Государю Козодавлева, преданного ему и им взысканного человека, во время его генерал-прокурорства бывшего обер-прокурором Сената, а потом герольдмейстером. В конце февраля отправился он со свитою чиновников в Саратов.
Такого ли человека, как Панчулидзев, стал бы такой человек, каков был Козодавлев, уличать во лжи или обвинять в ошибке, которая ввела правительство в чрезвычайные, совсем излишние издержки? К тому же, прилично ли было сенатору прокатиться даром и, наделав шуму, подобно синице, не зажечь моря? Все меры приняты, расставлены карантины, оцеплены деревни, а от страшной заразы умерло всего девять человек. Не трудно было к сему числу прибавить нуль, и сколь ни мало оно еще было, уверить в донесении, что если тысячи не погибли, то отчасти государство должно за то благодарить бдительность неутомимого вице-губернатора. Месяца два с половиною прошли прежде чем сделано было это донесение, и тогда только когда зародыши, самые следы жестокой язвы были совершенно истреблены. Так бесстыдно обмануть Царя тонкого, недоверчивого, осторожного! И никто не взял труда объяснить ему смысл этой басни. Право, вместо того чтобы гордиться пространством России, приходится иногда жалеть о том, что расстояние так часто мешает истине доходить до трона. Козодавлеву дали Александровскую ленту; все сопровождавшие его и с хорошей стороны им замеченные губернские чиновники получили награды. Мнимая чума совсем кончилась, а началось настоящее, продолжительное, нравственное опустошение Саратовской губернии: Панчулидзев назначен губернатором.
Сколь звание сие ни лестно было для его самолюбия, он безусловно принять его не мог. Сделать его губернатором, лишив его Елтонского озера, значило тоже, что, подобно Антею, возвысить его, отделив от земли. Что такое был бы он без соляного озера? Самсон без волос. В удовольствие его, управление соляною частью перенесено и причислено к должности гражданского губернатора.
Чтобы продлить на всё лето приятное вне столицы сенаторское пребывание Козодавлева, министр внутренних дел придумал испросить ему приказание проездом обозреть Пензенскую губернию, рассмотреть некоторые оставшиеся без ответа прежние жалобы жителей и производящееся дело по подложной просьбе в отставку отца моего.
Тут был еще против него тайный умысел князя Куракина, как после сие открылось; в секретном письме просил он, Козодавлева именем старой дружбы, расхвалить всё, даже то что не найдет он слишком исправным. Не мне осуждать его за то.
Об этом отец мой, разумеется, ничего не знал и, слыша, как Панчулидзев превосходил самого себя, как разнообразно потешал он пребывающего в Саратове сенатора, не имея ни средств, ни намерения в чём-нибудь равняться с ним, несколько затруднялся в том, каким образом ему принять избалованного угощениями Козодавлева. При мне более недели со дня на день его ожидали; наконец, приехал он с семейством своим и довольно большею свитой. В уступке для его жительства казенного дома видел он знак отменного к нему уважения и хотел отвечать на то вежливостью; потому отказался, опасаясь, как говорил он, подвергнуть губернатора и кратковременному стеснению. Родитель же мой, как отцы к младшим детям, как авторы к последним своим сочинениям, так прилепился к новому архитектурному творению своему, что уже всё лето не хотел с ним расстаться, и я один остался на раздолье в губернаторском доме. Отказ занять его наши пензенские недоброжелатели сочли немилостью сенаторскою, тем более, что, по приглашению одного помещика, который без ссоры чуждался нашего семейства, остановился он в его доме. О сем помещике не сказал я еще ни слова, и разве здесь придется о нём поговорить.
Осип Петрович и Анна Петровна Козодавлевы родились в одном году и в одном городе; потом встретились, влюбились, женились и, наконец, в одном и том же году оба умерли. Сама природа приготовила их друг для друга, и судьба споспешествовала их соединению. Столь согласных и нежных супругов встретить можно было не часто; учению Апостола касательно браков «да будут две плоти воедино» следовали они с точностью. Действительно они были как бы одно тело, из коего на долю одному достались кожа да кости, а другой мясо и жир. Каждый отдельно являлся более или менее дробью; только в приложении друг к другу составляли они целое. Оттого во всю жизнь ни на одни сутки они не разлучались; к счастью, Осип Петрович не был воин, не то Анна Петровна сражалась бы рядом с ним. Оба замечательны были одинаковым безобразием, и что еще удивительнее, в обоих оно было не без приятности. Им было тогда за пятьдесят лет; следственно в молодости это безобразие могло быть и привлекательно, и тем объясняется взаимная их страсть.
Одного семейного счастья не доставало им: у них не было детей. Им заменила их любимая воспитанница. У Анны Петровны была сестра, княгиня Елизавета Петровна Хилкова[113], обе урожденные княжны Голицины; сей последней Бог не дал ума, коим наградил старшую, за то благословил чрево её. Одну из её дочерей, в честь тетки названную Анною, крестила Козодавлева и грудным младенцем взяла к себе с кормилицей. Родную дочь нельзя было более любить, и девочка, называя их отцом и матерью, платила им величайшею нежностью, зато непростительным образом чуждалась, даже гнушалась тех, коим обязана была жизнью. С первого взгляда была она очень хороша собою, стройна как пальма, румяна как роза, бела как мрамор. Приятности, однако же, черты лица её не имели, и цвет волос у неё был самый странный: видно было, что время из рыжих сделало их темно-русыми, ибо из темноты их всё выскакивали яркие искры; они обрусели как бы речь чужестранца, который бы правильно говорил по-русски, но с иноземным выговором. Воспитана она была хорошо и в семнадцать лет совсем не застенчива, с невинною веселостью не подозревала могущества красоты и никому не имела желания нравиться. Гораздо после, весьма уже в зрелых летах и будучи замужем за одним князем Щербатовым, как мне сказывали, расчётливость произвела в ней сие желание. Но в то время, никогда не видав петербургских балов, на кои её не вывозили еще, плясать на саратовских и пензенских казалось ей верхом блаженства.
При отправлении Козодавлева, несколько чиновников дано было в его распоряжение, и на возвратном пути его трое из них находились при нём в Пензе. Флор Осипович Доливо-Добровольский, человек самый деятельный и проворный, был полицеймейстером в Могилеве, когда, при обозрении сей губернии, Козодавлев узнал, оценил и понял его. Он его вытребовал в виде старшего адъютанта, когда ополчился против Саратовской чумы. Род Добровольских и Кршижановских в Польше и Западных губерниях и Евреиновых в России весьма многочислен; их названия ознаменованы крестом (кршиж по-польски) и будут гласить позднейшему их потомству о доброй воле, с какою Израильские предки их приняли христианскую веру. Судя по красивым, но совершенно Иудейским чертам лица Флора Осиповича, можно было полагать, что святое миропомазание, из семейства его, над ним первым совершено было. По происхождению его и по должности, которую он занимал, состояние его могло быть и родовое, и благоприобретенное; денег было у него много, он не скуп был на них, но умел делать из них полезное для себя употребление. В искусстве угождать начальству (не одною ревностною службой), в то время довольно обыкновенном, был он не последний. Особенно имел он дар дарить нужных ему людей и дам, усердно и ловко под именем безделиц предлагая им мелкие драгоценные вещи, которые под именем же безделиц без затруднения могли быть приняты. От сих безделиц, удачно посеянных, собирал он впоследствии весьма полезные плоды. Деятельность не покинула его и в старости: служа в почтовом ведомстве, в сединах и в лентах, и поныне скачет он по станциям, для осмотра будто бы состояния почт в России.
Другой сенаторский адъютант или секретарь был Андрей Петрович Римской-Корсаков, молодой человек небольшого роста, и я готов прибавить, и ума, в котором корыстолюбие только что развивалось, а самолюбие было в полном развитии. Отец его, Петр Войнович, по деревне, был соседом графа Аракчеева, который, как известно, в собеседниках своих не искал ни высокого просвещения, ни любезностей общежития. Он коротко сошелся с старым Корсаковым, потому что тот был великий весельчак, едун и любодей, и выпросил у Государя фамильное имя его и права законных детей пяти сыновьям его вне брака рожденным; в числе их был и тот, о коем говорю. Козодавлев, как человек придворный, любил в нём сына Аракчеевского друга, любил трудолюбие его и политическое воспитание, которое надеялся ему дать[114].
Если третьему чиновнику Козодавлев оказывал менее вежливости и внимания, за то любил его паче других. Сего весьма зрелого юношу звали Иван Никитич Белоклоков. Слыхали ли вы когда-нибудь такое название? Уж верно нет и никогда более не услышите: без рода и без племени, он умер без жены и без потомства. Вышедши из тьмы неизвестности, сей малый метеор посиял малое время заимствованным от Козодавлева тусклым блеском и опять после него погрузился во мрак. Он был довольно добрый малый, но неспособный ни на какую должность, кроме той, которая составляет середину между приватным секретарем и камердинером. Если кто вспомнит, что говорил я о бесплодии друга моего Тургенева, тот конечно удивится, когда узнает, что я почитаю его родоначальником особого рода людей в русской службе, которых я на зову чиновниками-хлопотунами. До него в коллегиях и канцеляриях находились просто люди занятые или праздные, трудящиеся или числящиеся; он вымыслил нечто новое, подобно сим искусным женщинам, которые, при наслаждении пороком, умеют пользоваться всеми почестями добродетели. Последователи в изобретенном им искусстве далеко его опередили. Ныне каждый министр имеет при себе по чиновнику-хлопотуну, редко более одного. Они находятся при нём неотлучно, бессменно дневальными, всегда под рукой; они чинят ему перья, ничего не пишут, кроме пригласительных его записок, рассылают их, исполняют его комиссии по делам службы, равно как и по домашним его делам. Они ходят к нему прямо в кабинет, в спальню, даже далее; им одним является он в халате, иногда в рубашке; при них бреется, умывается. Те, которые пользуются уже неограниченною его доверенностью, проникают в след за ним в уединеннейшее место его жительства; там, вдали от взоров других докладчиков и толпы просителей, одни они присутствуют при сем тайном восседании и даже тут представляют ему некоторые черновые бумаги. Они гроза курьеров, предмет любезностей директоров, глубочайшего почтения начальников отделений. При испрошении или раздаче наград, разумеется, самые лакомые куски им достаются. Общая страсть их покровительствовать: уставая от беспрестанно-согбенного и сжатого положения, они любят расправляться перед теми, кто в них ищет. Но круг министерства, в коем служат, для них слишком тесен: они выпрашивают у своего министра рекомендательные письма к другим; о местах, о чинах, о денежном пособии хлопочут у директоров департаментов; по тяжебным делам, за деньги или даром, ходатайствуют у сенаторов, у обер-прокуроров; за каждое оказанное им снисхождение требуется и от них какая-нибудь послуга, и они становятся настоящими менялами. Этой вечной суете посвящают они всё свободное время, которое оставляют им занятия по прямой, или, лучше сказать, по косвенной их обязанности, и это дает им, более чем кому, вид озабоченных людей в столице. После всего сказанного нужно ли более объяснять, какой род должности при Козодавлеве исправлял Белоклоков, один из первых порождений Тургенева[115]?
Еще один пензенский помещик сам приписал себя к свите Козодавлева. Я об нём не говорил: дворянство сей губернии так многочисленно, что нет возможности назвать всех членов его вдруг, а только постепенно, при удобном случае, выводить их на сцену. Николай Порфирьевич Дубенский был сын Порфирия и племянник Ксенофонта Гавриловичей, которые оба, если верить преданиям, при уме и некоторых сведениях, имели удивительную, непонятную охоту откармливать свиней. Из этого заключить можно, что ни который из них не мог служить Фон-Визину образцом в изображении характера Скотинина. Однако же время охоту сию превратило в страсть, когда поля их покрылись целыми стадами сих животных, и они ростом и дородством стали равняться с кабанами. Если пристально станешь рассматривать лица, то на физиономии детей почти всегда найдешь отпечаток склонностей, которые имели их родители. Желтовато-смуглое лицо молодого Дубенского всегда имело цвет и подобие слегка копченого окорока; из пор его, даже без большего жара, вместо обыкновенной потной влаги, всё проступали как бы частицы растопленного сала; сурово — потупленный взгляд давал ему тоже некоторое сходство с любимцами его отца; но на этом оно и останавливалось. Кажется, он имел расположение к толщине, если бы желчь, которою он был преисполнен, не поглощала бы и не истребляла в нём зародышей жира до того, что с летами кожа лица его потеряла свою первоначальную влажность.
Виноват, я находил большое удовольствие в его обществе: в Пензе никто не мог равняться с ним умом и знанием; в других местах встречал я много людей умнее его, но злее и завистливее никого не встречал. Он готов был вредить всякому успеху самого доброго знакомого (друзей у него не бывало): получение кем-либо небольшого чина, маловажный выигрыш в карты, любовь к кому-нибудь даже противной ему женщины, всё производило его досаду и весьма острые, язвительные насмешки. Умом побеждал он однако же иногда злость: он не любил отца моего, но гнушался подлыми его противниками и не хотел мешаться в их интриги. Жена его Елизавета Петровна, урожденная Гартунг, воспитанная в Смольном монастыре, была в Петербурге как-то знакома с семейством Козодавлева; он же сам, выпущенный при Екатерине капитаном, не с большим в тридцать лет был отставным полковником, не видав никогда неприятельского огня. Потому и желал он сразиться по крайней мере с опасностями моровой язвы, чрез покровительство жены вызван сенатором к нему в помощь и за великие подвиги в деде сем произведен в статские советники. У него в доме остановился Козодавлев. Всем известно, каким блестящим образом служил он потом и как внезапно и постыдно упал он с высоты, до коей достиг.
В сношениях своих с отцом моим, г-н Козодавлев не подавал повода к малейшему неудовольствию; напротив, как будто нехотя брал первенство перед ним, и часто упоминал о том, что в чине его моложе. Что касается до части угостительной, то он вывел его из затруднения угадывать что может ему быть приятнее, и сам указал на средство удовлетворить его желания. Он просил губернатора о приказании ежедневно доставлять в его дом нужные для него съестные припасы и вести тому верный счет, по которому при отъезде не оставит он сделать уплату. Так как в Пензе трудно было достать хорошего вина, которым был наполнен погреб отца моего, то он его же просил снабжать оным, обещаясь по возвращении в Петербург в замену прислать ему целый транспорт. Более ничего он не требовал, а то ли дело было в Саратове! Однако же и этого было довольно и было бы даже слишком много, если б пребывание его в Пензе продлилось. Он был человек умный, добрый и просвещенный, с весьма хорошим состоянием, и такое отсутствие деликатности, конечно, было ни что иное как остаток дурных обычаев прежних времен.
Приблизилось время Петровской ярмарки, и обыкновенный съезд на нее чрезвычайно умножился прибытием Саратовских жителей и помещиков, приехавших на поклонение сенатору благодетелю. Дворянство, купечество начали в честь его давать праздники, на коих царицею была любимая дочь-племянница, княжна Анна Михайловна. Сделавшись почти домашним у Козодавлевых, я заметил, что они того же ожидают от отца моего, и так уже обремененного чрезвычайными расходами. Я начал его уговаривать; делать было нечего, и он решился дать пир в селе своем Симбухине, который в провинции мог почитаться великолепным. Он думал, что тем и кончится; нимало: Козодавлевым полюбилось пировать на чужой счет, и они уже без зазрения совести стали сами напрашиваться. В июле месяце, несмотря на жары, должно было дать еще два бала: один в собственном доме, в котором жил отец мой, а другой в пустом губернаторском, 22-го числа, в день именин вдовствующей Императрицы. Всё это, говорили, было ничто в сравнении с Саратовом, где однако же пиршества только сопровождали другие, гораздо важнейшие, пожертвования. Великая разница в положении двух губернаторов: один только что вступил в должность и имел тысячу средств к вознаграждению себя за убытки, другой ни прежде, ни после не имел ни одного и думал уже об оставлении службы.
Давно уже окончены были ничтожные дела, порученные в Пензе рассмотрению Козодавлева; а он всё медлил отъездом, которого мы ожидали с нетерпением, несмотря на ласки, на любезности нам расточаемые как им самим, так и окружающими его. Ко всему этому присоединилось еще одно обстоятельство довольно неприятное и затруднительное. Белоклоков, который играл столь важную и столь низкую роль при сенаторе, затеял влюбиться в меньшую сестру мою Александру. Нравиться ей он не мог: он не был даже дурен, а имел одну из тех пошлых физиономий, которых никогда не замечаешь, которые видишь двадцать раз, каждый раз полагая, что это в первый; но благодарность ли, или женское самолюбие — он казался ей менее отвратителен, чем другим. Козодавлев ни мало не затруднился с предложениями обратиться к отцу моему. Это была его любимая дочь. Он жестоко обиделся, но, стараясь не показывать того, только что нахмурился и отослал к матери моей, говоря, что он в эти дела не мешается. Она же, будучи предупреждена, отвечала, что ни за что не согласится прежде восемнадцати лет выдать замуж дочь, которая едва только вступила в семнадцатый год. Кажется, можно было это принять за учтивый отказ; но Козодавлевы упрямились видеть в том отсрочку, и внезапную холодность, которую показывала сестра моя, когда узнала, что дело становится серьезным, почитать застенчивостью, стыдливостью провинциальной девочки.
Наконец, в августе месяце, который у нас считается первым осенним, начались их сборы к отъезду. На дороге был Саранск и его Успенская ярмарка; нежность Козодавлевых к моим родителям до того увеличилась, что, желая как можно позже с ними расстаться, они начали уговаривать их с ними туда доехать. Больно было отцу моему провожать сенатора, тащиться за ним; но трудно отказывать людям, которые умоляют и в которых имеешь нужду. Итак, после завтрака у нас, все вместе отправились мы в путь. На половине дороги, своротив немного влево, приготовлен нам был ночлег у одного помещика, весьма замечательного человека, по его предварительному приглашению.
Благодатный род чудаков, которыми и Москва, и провинция в старину так были обильны, ныне совсем почти исчез. На перепутье, у одного из сих последних могиканов, не могу отказать себе в удовольствии остановиться перед его памятью. Иван Федорович Кошкаров был счастливым смертным: он был всегда весел, здоров, жил почти всегда в деревне, имел тысячу душ. На туловище его, имевшем вид четвероугольного обруба или терма, торчала голова, как бы иссеченная из тёмно-серого мрамора с белыми крапинами, то есть лицо его было смуглое и рябоватое. Приятную, забавную свою уродливость соединил он с чудеснейшею красотой одной Ольги Васильевны. В первые годы супружества оставалась она ему верною, и от того, к сожалению, все дети наружностью в него удались. До конца дней своих был он влюблен в свою Оленьку и мог любоваться собою, глядясь в восемь или девять зеркальцев, отражавших его самодовольную харю. Нечто однако же любил он едва ли не более жены: музыкальное чувство было в нём врожденное, он имел верный слух и самоучкою изрядно играл на скрипке; ко всем странностям старинного покроя помещика прибавлял он все проказы бешеного меломана. Изредка посещал он Петербург и имел причины всегда там быть доволен сделанным ему приемом: во многие знатные дома нарасхват его приглашали. Он никак не разбирал ни лет, ни звания, со всеми обходился равно фамильярно и, чрезвычайно смешно изъясняясь по-французски, всех называл mon cher. Как кладу обрадовался ему Шаховской, снял с него скорее слепок и по нём удачно успел изваять две оригинальные фигуры Пентюхина и Транжирина в своих комедиях. Мне случилось сидеть подле этого Кошкарова, во время концерта знаменитого скрипача Роде; ничего не могло быть забавнее, как видеть огромное его пузо, трепещущее от восторга и слышать тихо, чуть внятно произнесенные слова: «Батюшка, Родюшка, голубчик, друг мой!» Нужно ли говорить, что у такого человека был отличный оркестр, когда в это время, следуя обычаю, другие помещики, менее его богатые и не имевшие понятия о музыке, заводили свои капеллы. Смешно и жалко было смотреть на поминутные ласки его русскому капельмейстеру, который завел ему роговую музыку, может быть лучшую в России и в тоже время явно был любовником жены его. Она же, гораздо за сорок лет, всё еще совершенная красавица, прекрасно нас угостила. Сенатору и губернатору с супругами, разумеется, отведены были особые комнаты, а нас, других прочих, кое-как уложили спать. На другой день, с раннего утра до позднего завтрака, потчевали нас музыкой; после того отправились мы далее и к вечеру приехали в Саранск.
Ярмарка в самом разгаре: скачка, шум, крик в небольшом городе, тесное помещение в жаркое время года, всё это, к счастью, весьма не полюбилось Козодавлевым; угощение, впрочем, довольно богатого городничего Евсюкова также не слишком понравилось им и, пробыв только два праздничные дня, 15 и 16 числа, они 17-го нас оставили. Отец мой поспешил обратно в Пензу, куда призывали его и поверка собственных домашних счетов, и накопление дел во время веселой суматохи, произведенной присутствием сенатора. Следствием оной между прочим была продажа любимого его нового дома, который построил он экономически, долго отказывая себе во многих прихотях.
Мне также была пора скоро воротиться в Петербург; до зимнего пути было еще далеко, а поздний осенний в тогдашнее время, еще более чем теперь, у нас был настоящая пытка. Помаленьку стал я сбираться и совсем готов был отправиться, как один весьма приятный случай заставил меня на несколько дней отложить свой выезд. Поутру, 7 сентября, почтмейстер к отцу моему принес с почты пакет, в коем находились Государев рескрипт и Аннинская лента. Куракин ожидал только окончательного, требуемого им донесения Козодавлева, чтобы сделать сильное, убедительное представление Царю. Это было торжество, победа над врагами, но об одержании её так много и так долго, право, не стоило заботиться, а не лучше ли бы было давно отойти с миром, особенно тогда, как звание губернатора год от году приметно упадало? Как однако же ордена в то время не потеряли еще совсем цену свою, особенно же ленты и звезды, то получение такой награды, хотя довольно поздно, обрадовало моих родителей. Семь лет отец мой был на губернаторстве, и я заставил его засмеяться, когда, поздравляя его с царской милостью, сказал, что он получил ее за семилетнюю войну с негодяями. Многие из его приверженцев хотели давать ему обеды, балы; он отклонил от себя сии почести, ибо с Козодавлевым должен был наперед отпраздновать последний успех свой по службе. В семейном кругу, с малым числом коротко знакомых, провели мы несколько приятных дней.
В братниной коляске, привезенной мне из Мурома, выехал я из Пензы в день Воздвижения Креста, 14 сентября. Отъехав не более двенадцати верст, встретил я тяжело нагруженную четвероместную карету; сидевшая в ней вскрикнула и велела остановиться. Это была сестра моя Алексеева. Её муж выступил в поход против шведов, а она, в разлуке с ним, спешила к родителям и к двум малым сыновьям, которые с учителем около года находились в доме у дедушки. От этой встречи целым получасом опоздала она к ним на свидание.
Время мне благоприятствовало, оно было сухое, теплое; в сутки часа на три или на четыре становилось даже жарко. Ночью однако же бывало холодно. От частых перемен в температуре я простудился, и в самый день приезда моего в Москву схватила меня лихорадка; но два-три дня были для меня достаточны, чтоб от нее освободиться. Французская труппа с Филисой из Петербурга находилась тогда на время в Москве; я пошел ее смотреть во вновь открытый, деревянный, обширный, прекрасный театр на Арбатской площади, который был построен взамен сгоревшего старого, каменного Петровского театра и который через четыре года сам должен был сделаться жертвою пламени. Одного только знакомого встретил я там, и то довольно нового; обрадовался же я Жуковскому, как будто век с ним жил. Цвет поэзии в нём только что совершенно распустился, и в непритворных, неискусственных, веселых разговорах благоухала вся душа его. Мне показалось, что я в Петербурге во французском театре, сижу с Блудовым; об нём мы не наговорились поневоле должен был я несколько лишних дней пробыть в Москве.
Хорошая, ясная погода между тем всё как будто поджидала меня, чтобы сопутствовать мне в Петербург. Не было ни облачка на небе, ни малейшего трепетания в пожелтевших листьях; такая осень случается иногда на Севере, но очень редко. В день Покрова Богородицы, 1-го октября, когда я приблизился к Петербургу, уже смерклось; я мог однако же заметить, что дач еще не покидали, ибо со многих сторон подымались в воздух фузеи и ракеты.
IV
Возвращение в Петербург (1 окт. 1808 г.). — Граф Н. М. Каменский. — Зять Алексеев в Финляндии. — Князь М. П. Долгоруков. — Брат Павел. — Кончина брата Николая.
Хотя и приехал я в Петербург, но в этой главе буду об нём говорить мало. С начала моего приезда ничего особенно замечательного в нём не случилось. Государь находился в Эрфурте, для свидания с Наполеоном в сопровождении Румянцева, Аракчеева, Сперанского и многих других приближенных к нему особ. Императрицы продолжали жить в загородных дворцах, и знатные люди, из верноподданнического подражания, зябли от сырости и стужи на своих дачах. Как я пишу для себя столько же, как и для других, то главу сию намерен посвятить одним семейным воспоминаниям, которые могли бы быть вовсе не занимательны для читателя, если бы сколько-нибудь не были связаны с политическими происшествиями того года.
Недолго зятю моему Алексееву, шефу Митавского драгунского полка, дали оставаться с ним в Тихвине. В июле месяце велено было ему, с полком своим, идти позади Ладожского озера в Сердоболь, лежащий на старой нашей финляндской границе; там получил он приказание пробираться через лесистую и каменистую Карелию далее на Север, чтобы соединиться с корпусом генерала Тучкова.
В продолжении лета, большая часть Финляндии была занята русскими войсками; главный город её, Абов, находился в их руках; Свеаборг, неодолимая твердыня, северный Гибралтар, был взят или куплен часто поминаемым мною графом Сухтеленом. Редкие и малые наши уроны против Шведов были тотчас вознаграждаемы важными над ними успехами. Корпус Тучкова (Николая Алексеевича), по направлению к Северу, проникал во внутренность земли; другой корпус, под начальством одного молодого генерала, подававшего дотоле одни надежды, а тут оправдавшего их, подвигался вперед вдоль берега Ботнического залива.
Императрица Екатерина полководцев своих любила награждать в их детях, повышая их в малолетстве. Младший сын фельдмаршала Каменского, граф Николай Михайлович, не имея двадцати лет от роду, был при ней полковник. Я лично его знавал; он учился в одном пансионе с братьями моими, остался с ними приятелем, и потому когда бывал в Киеве, как родной живал у нас в доме. Он был скромен, ласков, весьма недурен собою, в голосе имел что-то нежное; я помнил постоянно приятную его улыбку и с трудом мог поверить, что гнев его, подобно отцу, доходил иногда до исступления. Пылкий, влюбчивый, он в тоже время был чрезвычайно застенчив, мог и не умел нравиться женщинам; следствие того тайные наслаждения и муки еще в молодости иссушили его тело и расстроили его нервы. Оттого-то, вероятно, не всегда он мог владеть собою; несмотря на то, все подчиненные любили и уважали его за его ум, за его благородное, доброе сердце. Едва начиная брить ус, был он уже генерал-майором и на Альпийских высотах действовал отчаянно-геройски в глазах героя Суворова, соперника отца своего; восхищенный им старец благословил его, и после того он, Багратион и Милорадович почитались в армии крестниками Суворова, как бы усыновленными им на поле битвы. В день Аустерлица, под Прейсиш-Эйлау, под стенами Данцига, командуя бригадой или дивизией, поддержал он свою репутацию неустрашимости и военного знания. Когда в Финляндии поручили ему корпус, счастье продолжало ему улыбаться; ибо первое важное дело при Куортане, где он отдельно начальствовал, было им выиграно. На время оставим его.
Жители малолюдной, бесплодной Карелии почти не знали употребления хлеба: им заменяли его рыба, изобилующая в их озерах, и дичь, которою наполнены были их густые, непроходимые дебри; все они были звероловы. Когда Алексеев, предводительствуя горстью своих всадников, вступил в их пределы, то по невежеству своему, полагая, что идут грабить их скудную собственность, и ободренные малочисленностью неприятелей, они все вооружились. Первый переход через лесистые горы совершил Алексеев благополучно, не встретив ни малейшего нападения; но на другой день, чем далее стал он углубляться в лес, положение его становилось опаснее: казалось, что каждое дерево превращалось в стрелка, во всяком ущелье была засада. Он потерял уже несколько драгун и начал рассчитывать, что, под ударами невидимых и вездесущих врагов, ему не останется ни единого человека, когда он едва достигнет половины предлежащего ему длинного пути. Потому решился он воротиться в Сердоболь и донести, что не видит возможности исполнить данного ему повеления, если не дадут ему более помощи.
Аракчеев, который никогда не видал неприятельского огня, который никогда не бывал на войне, а из кабинета своего распоряжался однако же в то время военными действиями, увидел в этом поступке явную трусость. Если бы Государь лично не знал Алексеева и не вступился бы за него, то за осторожность свою мог бы он жестоко пострадать. Придворные генералы смотрели с некоторым пренебрежением на опасности сей, по мнению их, побочной войны; однако же, от нечего делать, для прогулки, чтобы не терять привычки к сражениям и мимоходом схватить лишнюю награду, вызывались иногда в ней участвовать. Умерший в 1806 году от болезни, молодой любимец государев, князь Петр Петрович Долгоруков, который в жизни имел одну только славу нагрубить Наполеону накануне Аустерлица, оставил по себе брата-близнеца и друга, князя Михаила Петровича, который заступил место его в сердце царевом и в звании генерал-адъютанта. Он в этом случае предложил свои услуги, которые охотно были приняты.
Он приехал в Сердоболь и в первые минуты не захотел скрыть от Алексеева инструкции, данной ему Аракчеевым, в которой он не весьма лестно отзывался насчет его храбрости. Можно себе представить отчаяние и бешенство беззащитного против власти воина. Долгоруков, несколько осмотревшись, поразведав, в донесении своем поспешил оправдать Алексеева и объявить, что он не тронется с места, если отряд его не будет усилен пехотой и артиллерией. Любимца Царя криводушный Аракчеев не смел обвинить в слабости духа и отказать ему в помощи.
С отрядом, вчетверо усиленным, выступил князь Долгоруков. Сначала шел он осторожно; но испуганные жители не смели уже показываться, и на всём пути не слыхал он ни одного выстрела. О благополучном совершении похода донес он в Петербург и за сей трудный подвиг произведен был в генерал-лейтенанты. Соединившись с Тучковым, он поставил его в затруднительное положение, не хотел себя подчинить ему и начал действовать отдельно. Он велел генералу Алексееву атаковать шведов в укрепленных кирке и мызе Индесальми, а сам с веселым духом стал на пушечный выстрел от места сражения, чтобы распоряжаться движениями. Он родился для войны, любил ее, говорят, более всего, был блистательно отважен и обещал России хорошего полководца. Случается иногда, хотя редко, что слабые и угнетенные бывают явно покровительствуемы Небом, тогда как гордые, сильные между людьми гибнут посреди торжества своего. Пока оскорбленный в своей чести Алексеев рвался доказать нелепость обвинений Аракчеева и шел по узкой плотине, через малое озеро, прямо к укреплениям Индесальми, осыпаемый картечью и пулями, пущенное оттуда ядро вырвало бок у князя Долгорукова, который довольно еще далеко стоял верхом. Смерть генерала обыкновенно изумляет, смущает, расстраивает солдат, но только не русских: оживленные примером другого начальника, воспламененные самою опасностью своего положения, наши воины продолжали идти отчаянно на бой, неприятели выгнаны из укреплений, разбиты, взяты в плен, и дело совершенно выиграно. Алексеев вышел из него цел и невредим, и честь этого дня конечно ему принадлежала.
Это было в конце октября, когда Государь только что воротился из Эрфурта. Он с величайшею горестью узнал о смерти Долгорукова, и не один: все надеялись, что если один брат побранился с Наполеоном, то другому удастся побить его. Все говорили, что подобно Эпаминонду, последние взоры его устремлены были на бегущего неприятеля. Как это несправедливо! Если б он остался жив, то мог бы им быть; но сражение только что начиналось, когда ядро в одну секунду, без страданий, прекратило его жизнь. Тело его с великими почестями привезено в Петербург и предано земле в Невской Лавре[116]. Вступивший опять во все свои права, Тучков, в донесении своем, отдал полную справедливость Алексееву, которому, в награду за его подвиги и в вознаграждение за понесенную им напраслину, дали Аннинскую ленту.
Почти в тоже время, с другой стороны, граф Каменский одержал свою вторую еще блистательнейшую победу при Оровайсе, после которой мог он дойти до последних пределов Финляндии и Ост-Ботнии: он стал на границе Лапландии. Между тем, главнокомандующий граф Буксгевден всё оставался, с главною квартирой, в главном городе Абове. Военный министр в переписке с ним обходился как с подчиненным, и давал ему предписания, что Буксгевден не соглашался переносить терпеливо; оттого родились между ими ужаснейшая вражда и перекоры. Из мщения подал Аракчеев к подписанию Императора рескрипт Каменскому на Георгиевский орден второй степени, в котором приписывает ему успех всей войны и называет его завоевателем целой Финляндии. Общее мнение в этом случае только было согласно с Аракчеевым; хота все и почитали Шведскую войну величайшею несправедливостью, утешались однако же мыслью, что она служит приготовительною школой для будущих противников Наполеона. А как он двадцати шести лет побеждал при Арколе и Лоди, то во всяком молодом отличившемся генерале видели будущего его соперника и защитника России. Вот почему с изъявлениями живейшего восторга был принят Каменский, когда, по окончании кампании, в начале зимы, приехал он в Петербург.
Я ничего не говорил об участи бедного брата моего Павла, находившегося также в Финляндии. Она сделалась ужасна. Не помню, в каком корпусе или дивизии был он провиантским комиссионером, как от осеннего, сырого холода, в угрюмом климате северной Финляндии, впал он в тяжкую болезнь и должен был на время сдать свою должность. Хотя беззаконное, даже противозаконное самоуправие в России удивлять не может, но что за тем последовало, едва ли покажется вероятным. В Эрфурте получил Аракчеев о том донесение и, полагая, что брат мой от лености сказался больным, написал собственноручно: «до вступления опять в должность и по поступлении в нее, для поправления здоровья, во время сражений посылать его в самые опасные места». От Куопио до Эрфурт довольно далеко, и до получения ответа, к счастью, брат мой успел уже выздороветь; начальники однако же не осмелились не исполнить сделанного над ним приговора, и он, не один раз, как бесполезная жертва, разъезжал во фраке под неприятельскими пулями. Всякое размышление о таком поступке почитаю излишним и привожу его здесь, как один из тысячи примеров безрассудной жестокости Аракчеева, которою омрачилась, можно сказать, осквернилась большая половина царствования человеколюбивого Александра.
Встретясь где-то с братом, граф Каменский тотчас узнал в нём прежнего приятеля и школьного товарища, и бросился к нему на шею. Всех предстоящих приятно изумило такое обхождение корпусного командира, героя той эпохи, с провиантским комиссионером. Не ручаясь за успех, он дал ему слово сильно ходатайствовать за него по приезде в Петербург.
Я где-то упомянул о доме Т…ых, которого чуждался, предвидя в нём скуку. Отставной генерал-майор Сергей Михайлович Т…в был барин совсем старинного покроя; жена же его Катерина Николаевна, урожденная Дурасова, почти одних с ним лет, была напротив модница и престрашная щеголиха. Кто в Петербурге не знавал тогда его белокурого, почти седого, парика, лоснящегося искусственной белизной лица её, кармином натертых щек и вечные её пунцовых лент? Кто во всех публичных местах не встречал их всегда? Шли слухи, что Аракчеев, только что выпущенный в офицеры и едва ли не будучи кадетом, в объятиях этой женщины, тогда давно уже опытной, познал первые опыты любви. Если это одна клевета, то нет греха повторять ее: ибо, когда Аракчеев сделался случайным, сама г-жа Т…ва старалась, будто невольным образом, выдавать ее за истину. Как сия добрая, хотя весьма не добродетельная дама, воспитывая молодого тигра, не умела смягчить его нрава! Впрочем ей ли было укрощать его ярость, которая, может быть, более всего пленяла ее в нём? Мальчиком, никому не знакомым, ему лестно было иметь вход в гостиную и в спальню генеральши; в зрелых летах остался он верен сладостным воспоминаниям и дружбе, которая скоро должна была заменить им любовь. Всё это звал я, и собою пожертвовал для брата. При первой встрече, лишь только показал я себя Катерине Николаевне особенно приветливым, как получил приглашение посещать её дом. Не знаю, какие имела она на меня виды. Неужели во втором или в третьем поколении — сделать меня наследником любезного ей лютого зверя? И не скорее ли ласкала она меня для меньшой дочери, хорошенькой и бедной невесты? С своей стороны старался я со всеми быть любезен. Мне одному известно, чего мне стоило, чтобы сблизиться с единственным её сыном Александром Сергеевичем, моим ровесником. Это был какой-то недоносок, недоросток, недоумок, худенький и жиденький, желтенький и синенький человечек, который, не быв малого роста, лет до сорока казался мальчиком в морщинах. Самой славной ворожее не поверили бы тогда, если б стала она предсказывать, что он будет некогда важным в государстве человеком. Как от Т…вой, так и от графа Каменского, к которому ходил я в Петербурге являться, узнал я, что Аракчеев несправедливый гнев свой положил на милость и что брат мой сделан постоянным членом главной провиантской комиссии в Абове.
Много удовольствий и много горестей должны были родители мои перечувствовать в этом 1808 году; самая жесточайшая ожидала их в конце его. В молодости своей лишились они пятерых малолетних детей обоего пола, из коих долее всех жила дочь Катерина, умершая пяти лет. С тех пор смерть как будто щадила их чадолюбие и не похищала ни одного из взрослых членов их семейства. Первою жертвой её была любимая их невестка, Варвара Ивановна. Два года оплакивал ее неутешный муж; тягостную жизнь свою посвятил он заботам о двух младенцах, ею оставленных; они воспитывались в Воронеже, у Тулиновых, и он часто отрывался от них, чтобы ездить к родителям в Пензу. В начале ноября установился санный путь, и он собирался в дорогу, чтобы поспеть к 14 числу, дню именин отца нашего; лошади были запряжены, повозка подвезена, он начал уже надевать шубу, как вдруг неосторожно задел рукавом за заряженный пистолет, который хотел взять с собою. Удар попал прямо в середину левой ладони и пробил ему руку насквозь. Рана была бы не смертельная, если бы врачи были искуснее; но они спешили закрыть ее: тогда вся боль кинулась в сердце, которое, как уверяют, находится посредством жил в прямом соединении с левою рукой. Не оставалось никакой надежды на его спасение, и после жестоких мучений, на третий день предал он Богу душу свою, непорочную, незлобивую, исполненную беспримерной любви ко всем своим близким. Ему только что исполнилось тридцать лет. Привязанность его к памяти жены так всем была известна, что многие полагали, будто он с умыслом прострелил себе руку; мнение это было совершенно ложное: отцовскою нежностью был он прикован к жизни и добровольно с нею бы не расстался.
Его поджидали в Пензу, когда он лежал уже в земле; сестра моя Алексеева, у родителей находившаяся, осуждена была объявить им о том накануне того дня, который надеялись они вместе с ним праздновать. Тогда только семейство мое узнало, как он был ему дорог. Скорбь о его потере была у нас общая, ощущаемая однако же не всеми в равной степени. Во мне она была смешана с упреками совести: дважды был он моим благодетелем, а я долго не мог забыть отроческих огорчений, им когда то мне причиненных! Отчаяние матери моей было беспредельное, зато не столько продолжительное. Более всех поражен был престарелый мой отец; сначала он как будто твердо устоял против сего удара, вскоре же потом сам приметно начал клониться к падению. В первый раз еще в жизни, служба и возлагаемые ею обязанности показались ему несносными, и он решительно приступил к исполнению намерения своего ее оставить.
V
Король и королева Прусские в Петербурге. — Русские войска на льду Ботнического залива. — Генерал Кноринг. — Ансельм-де-Жиборн. — Граф П. А. Шувалов.
В декабре месяце разошелся слух, который возбудил любопытство и участие во всех жителях Петербурга, от вельможи до мещанина. Государь ожидал к себе дорогих гостей: королеву Прусскую, предмет нежнейшего и почтительнейшего сострадания всех русских, и короля супруга её. Никакое государство, не переставая существовать, не доходило еще до столь глубокого унижения, в каком находилась тогда Пруссия: столицы её, крепости, все главные города были заняты французскими войсками, до выплаты огромной контрибуции; в одном только нетронутом углу, на самой русской границе, в небольшом городе Мемеле, в небольшом частном доме жило, забившись, королевское семейство. Душевно соболезнуя о том, император Александр был в Эрфурте искусным и жарким адвокатом Пруссии. Наполеон, у которого начиналась война с Гишпанией, гораздо серьёзнее чем он ожидал, и готовилась другая, с Австрией, имея нужду собрать вокруг себя все войска свои, показал, будто ни в чём не умеет ему отказывать и согласился очистить путь королю в Берлин. Кажется, оба императора начинали уже тогда хитрить друг с другом. Тронутые сим новым опытом дружбы нашего Царя, для изъявления ему благодарности, король и королева захотели посетить его столицу, прежде возвращения в собственную.
В Петербурге все толки шли более о королеве, которая блистала прелестью красоты и в тоже время двойным величием сана и несчастья. Любовь к ней русских умножалась всею ненавистью их к Наполеону, столь не рыцарски изливавшему всю злость свою против неё. В день Рождества, вечером, ожидаемая чета, в сопровождении принцев своего дома, прибыла в Стрельну. На другое утро, 26 декабря, были они встречены с почестями, может быть, не совсем приличными, но всеми одобряемыми, как великое утешение в великих горестях. Погода стояла суровая и холодная; как нарочно в этот день сделалась совершенная оттепель. Не доезжая до Петербургской заставы, от которой гвардейские полки стояли по обеим сторонам улиц до Зимнего дворца, королева остановилась на даче Бергина, чтоб переодеться в нарядное платье и сесть в приготовленную для неё восьмистекольную, раззолоченную карету. У этой заставы, Император в сопровождении великого князя Константина Павловича, множества военных генералов и некоторых посланников иностранных дворов, встретил ее и оттуда вместе с королем и его свитой имел торжественный въезд. Палили из пушек, это бы так; но в православных церквах звонили в колокола: этого бы, кажется, не следовало делать в честь венценосных еретиков.
Один человек был весьма примечателен в это утро, бесстыдно и нагло пользуясь большими правами своими: французский посол Коленкур, когда все были в парадных мундирах, и полиция никого не пускала по улицам, по которым должен был пройти церемониальный поезд, разъезжал верхом между полками, один, в сюртучке и круглой шляпе, с видом величайшего неудовольствия и даже досады; когда же проехал мимо его Государь с королем, он пожал плечами и злобно усмехнулся. Это видел народ, и если б не был удерживаем страхом, закидал бы его грязью и каменьями. Тут не было ничего обидного для России, как после оказалось: привыкнув видеть своего императора окруженного толпою королей им побежденных или им пожалованных, Коленкур находил, что другой, равный ему император, унижает свое достоинство, воздавая такую честь тому, которого бы мог он почитать едва ли не вассалом своим. Также уверяли после, будто он проник тайный замысел королевы, чтобы склонить Государя к новому союзу с Австрией, к которому бы пристала Пруссия, и чтобы таким образом общими силами подавить, наконец, общего врага. Если у неё было такое намерение, то оно не имело никакого успеха.
Начались в Петербурге бесконечные празднества. Несмотря на склонность мою противоречить общему мнению, несмотря на убеждение, что нам полезно доброе согласие с Францией, я не мог без умиления думать о прекрасной жертве её властолюбия; несмотря на свой траур, я искал все случаи, чтоб ее видеть. Для нас, горожан, не принадлежащих ко Двору и к нему не представленных, их было немного; я всеми воспользовался и до сыта налюбовался её красивым станом, бесподобными плечами, очаровательною улыбкой и взором. Между тем я видел только те прелести, которые двухгодовое горе не совсем еще успело истребить в ней.
Не один приезд королевы, но также и обручение великой княжны Екатерины Павловны с принцем Георгием Ольденбургским, которое совершено 1-го января 1809 года, было причиною необычайных празднеств этой зимы, фейерверков, иллюминаций, придворных маскарадов и великолепных балов. До сих пор не знаю, правда ли, что Наполеон тогда же хотел разводиться с Жозефиной, чтобы свататься за нашу красотку? Правда ли, что, узнав о том, она исполнилась ужаса и негодования и, для избежания такой участи, спешила замужеством с бедным родственником, младшим сыном весьма немогущественного немецкого владетельного герцога? Странный выбор её, невзрачность, только что не безобразие жениха могли бы заставить сему поверить, если б дело не объяснилось желанием её не покидать России и обещанием будущего супруга навсегда в ней остаться. Впрочем мог он ей и понравиться: о вкусах спорить нельзя. Она могла бы, если бы хотела, предпочесть ему другого молодца, красивого, видного, статного, принца Фердинанда Кобургского, который прискакал нарочно, чтобы искать её руки и, будучи также меньшим, согласился бы на все условия, какие бы захотели ему предписать. Плодовитый род Кобургов тогда уже начинал промышлять собою, но не так удачно, как в нынешнее время[117].
Замечательно было, что во всех иллюминованных домах, как казенных, так и частных, согласно воле Императора, везде горели одни вензелевые имена короля и королевы Прусских, как бы в доказательство, что все сии торжества происходили только по случаю их приезда. Один лишь Коленкур, постоянно изъявлявший к ним презрение, не согласился сообразоваться с сим, и на доме своем выставил одну огромную литеру Е, вензель невесты.
В продолжение всего пребывания короля и королевы стояли жестокие морозы, и один балагур заметил, что в Петербурге выживают прусаков (так называется особый род тараканов), точно также как в деревенских избах. Только в день выезда их, 20-го января, сделалась опять такая же оттепель, как и в день их приезда.
Во дни оны, жизнь каждого частного лица так связана была с политическими происшествиями, так много от них зависела, что мне приходится, хотя бы и не совсем мое дело, всё говорить о союзах, о войнах, о мирных трактатах. К концу зимы начали приготовляться к новой кампании против Шведов; хотели нанести им решительные удары и приневолить их к выгодному для нас миру. На всём правом берегу Ботнического залива не оставалось более неприятельских войск; чтобы напасть на них, надобно было перейти на левый берег, для чего открывался один только путь, который огибал залив и пролегал чрез вечно-снежную Лапландию. Дело казалось затруднительным; но морозы, против которых ныне так вопиет наша изнеженность, всегда вовремя были нашими сильными союзниками как в нападательной, так и в оборонительной воине. Они оковали бурные волны залива, особенно в тех местах, где усеянный островами и шкерами он более суживается.
Тогда в голове Государя родился один из тех дерзких планов, коих выполнение возможно только с русскими солдатами. Несогласие между военным министром и главнокомандующим Финляндскою армией дошло до того, что одному из них непременно надлежало удалиться, и конечно уже не Аракчееву. Один русский генерал из немцев, Богдан Федорович Кноринг, отличившийся некогда при Екатерине, прослывший великим тактиком, призван был на место Буксгевдена. Ему велено было разделить армию на три корпуса; первый отдан был под начальство князя Багратиона, другой поручен Барклаю де-Толли, третий генерал-адъютанту графу Шувалову. Только последний мог идти естественным путем, по твердой земле, чрез Торнео. Другие же два, новые фараоны, должны были проходить по морю аки по суху, по пучинам, покрытым ледяною корой. Что такое воинская слава в России, когда соотечественники и даже современники совершенно забывают столь отважные предприятия, увенчанные успехом?
Всех удивило после, что Каменский не пожелал участвовать в сем деле и во всём блеске своем закатился в Орловской деревне. Никто не подозревал, как трудно ему было в пылу сражений сохранить свое хладнокровие, с каким напряжением душевных сил старался он подчиненным подавать пример мужества и как с расстройством его нерв нужно ему было на время их успокоение.
Со смелостью почти безрассудною, свойственною одним только русским, на трех указанных им пунктах, в половине марта, генералы со вверенным им войском совершили чудесно-геройские свои подвиги; особенно же Багратион и Барклай, кои в продолжении трех или четырехдневного перехода, при малейшей перемене ветра, могли быть поглощены морского бездной. Барклай из Вазы в Умео перешел залив через Кваркен, группу необитаемых скал среди моря. Багратион овладел Аландскими островами, а передовой отряд его, под начальством генерала Кульнева, на противоположном берегу, занял Гриссельгам в виду шведской столицы. О действиях Шувалова пока говорить не буду.
В трепетном ожидании сам император Александр отправился в Абов. Весь план этого необычайного похода был им самим составлен; ему хотелось показать миру, что вступать в столицы, подобно Наполеону, для него дело также возможное. И что же? Воля его исполнена, войско его не погибло, а он вскипел гневом и отчаянием. При появлении русских вблизи Стокгольма, сделался там бунт, и несчастный Густав IV, действительно несколько помешанный, был свергнут с престола, на который посажен дядя его, герцог Зюдерманландский под именем Карла XIII. Узнав о том, рассудительный, благоразумный немец Кноринг в сем домашнем перевороте увидел конец войны и, не проникнув намерений Императора и не дожидаясь дальнейших его повелений, думал сделать ему угодное, дав приказание генералам идти обратно тем же опасным путем. Я бы, мне кажется, его задушил; терпеливый Александр удовольствовался наказать убийственно — презрительными словами и взглядами. Этот пример должен был показать Государю, что на всё решительное, отчаянное предпочтительно должно употреблять русских; он бы вспомнил Бенигсена после Прейсиш-Эйлау и мог бы убедиться, что часто немецкая осторожность отнимает у нас весь плод наших успехов. Именем Царя дали Кнорингу почувствовать, что ослу не довлеет оставаться начальником армии. На его место назначили Барклая-де-Толли, которого вместе с Багратионом произвели в полные генералы; последнему дали другое назначение.
По прибытии к своему корпусу, граф Шувалов объявил Алексееву, что как в предстоящем походе кавалерия может быть только затруднением, то, по распоряжениям военного министра, полк его велено отослать внутрь Финляндии. Что же касается собственно до него, то именем Государя предложил он ему, как человеку необходимому, участвовать в предпринимаемом опасном деле. Можно себе представить, как предложение сие обрадовало Алексеева, а еще более когда он получил рескрипт от Царя, коим за изъявленное им согласие объявлял он ему особое свое благоволение.
Тут случился один человек, которого, без всякого преувеличения, можно назвать совершенным негодяем, но которому один раз, именно в это время, удалось пригодиться русскому войску. Некто (настоящего его имени до сих пор еще никто не знает), называющий себя Ансельм-де-Жибори, был офицером в том отряде французской армии, который, по Пресбургскому трактату, занял Илирию и Далмацию. В Боко-ди-Катаро украл он полковой ящик с казною и патент своего полковника; с ним бежал он сперва в Корфу и очутился наконец на флоте адмирала Синявина, находившегося тогда в Средиземном море. На адмиралтейском корабле был он только что свидетелем победы, одержанной Синявиным над турками близ Тенедоса и Афонской горы. С французскою наглостью выпросил он у русского добродушия сильную о себе рекомендацию и место в лодке, повозке или коляске отправляемого с известием о победе морского штаб-офицера.
Прежде нежели приехал он в Петербург, был уже заключен Тильзитский мир, что некоторым образом должно было расстроить его замыслы. Он, однако же, не оробел, и пока отличившийся, скромный моряк представлял официально донесения своего начальства, разливался уже он по гостиным и с притворным восторгом, в преувеличенном виде, не забывая себя, описывал чудесные подвиги русских офицеров и матросов. Угождая общему мнению, выдавал он себя за старинного дворянина, в душе роялиста, поневоле служившего тирану Франции, и в тоже время за бывшего адъютанта, друга и приверженца республиканского генерала Моро, известного врага и соперника Бонапарте. Гонения им от того претерпеваемые заставили его, наконец, покинуть победоносные французские знамена. На украденный им и будто полученный знав четного Легиона при всех он плевал. И всем этим нелепицам верили и везде осыпали его похвалами. Он потребовал себе Георгиевский крест на шею, а ему дали Владимирский третьей степени, и он казался тем не совсем доволен. Потом стал он проситься в службу, а как тирана его уже признали императором, то и приняли его тем чином, в котором он ему будто бы служил, то есть полковником по кавалерии, и отправили в Финляндию. Тогда уже были на лицо Савари и Коленкур и имели всё право вытребовать беглеца и вора; они того не сделали: может быть тайно смеялись над легковерием русских, может быть, тайно и употребляли его.
Он не показывал трусости при встречах с неприятелем, и это одно в русской армии спасло его от совершенного пренебрежения, которое без того постигло бы сего бесстыдника, лгуна и сквернослова. Товарищи смеялись над ним, а начальники сделали из него шута. Он являлся к Шувалову (который до того о нём не слыхивал) и с первых слов ему чрезвычайно полюбился. Граф Павел Андреевич Шувалов, сын графа Андрея Петровича, приятеля Вольтера и Лагарпа, писателя французских стихов, автора послания к Ниноне, был воспитан совершенно на французский манер, как все баричи того времени. Он был человек добродушный, благородный и храбрый, один из любимцев Императора, и должен бы был быстрее шагать на военном поприще, если бы смолоду не имел несчастной совсем не аристократической привычки придерживаться хмельного.
Не ожидая с других сторон нападения, почитая его невозможным, шведы сосредоточили все остатки сил своих в Торнео, на единственном пункте, который Шувалову надлежало атаковать. Числом были они гораздо сильнее, чем десятитысячный русский корпус. Дело едва только началось; после небольшой перестрелки, от которой с обеих сторон убито и ранено человек десятка полтора, все изумились, когда увидели, что шведы, прекратив пальбу, прислали сказать, что они сдаются в плен со всем оружием и военными снарядами. На всякой случай легкий отряд был послан в ним в тыл, а между тем Ансельм-де-Жибори, с согласия Шувалова, явился в их стан более в виде переметчика, чем парламентёра. Изобразив им всю ненависть свою против русских варваров, среди коих завел его несчастный случай, всю братскую нежность, которая соединяет южных французов с северными (как шведы любят чтоб их называли), он учетверил в глазах их число наших солдат, уверил их, что они отрезаны, что они в западне и, не видя для них другого спасения, дружески советовал им положить оружие. Они его послушались, и когда уже поздно увидели свою ошибку, многие из них приходили в такое бешенство, что ломали шпаги и ружья, которые должны были класть перед победителями. И говорить нечего! Вся слава этого дела принадлежит обманщику французу; за это произвели его в генерал-майоры.
Не видя перед собою более препятствий и, по чрезвычайной отдаленности от главной квартиры, гораздо позже других получив от Кноринга приказание воротиться, граф Шувалов продолжал подвигаться уже с Севера на Юг.
В продолжение всей зимы, отец мой неоднократно обращался к князю Куракину с просьбой о даровании ему свободы, то есть о испрошении ему всемилостивейшего увольнения от службы. Еще чаще писал он о том к Козодавлеву, которого в начале зимы министр внутренних дел выпросил к себе в товарищи. С своей стороны, исполняя родительскую волю, я не оставлял напоминать о том Осипу Петровичу, которого дом я нередко посещал, пользуясь приглашением обоих супругов и ласковым их приемом. Дом их, не совсем еще вошедши в состав высшей аристократии, приметно однако же начинал подыматься. Ни министр, ни товарищ его не хотели верить чистосердечному желанию отца моего. Смерть сына, и еще не единственного, не казалась им таким несчастьем, в котором нельзя бы быть утешену временем, рассеянностью, даже заботами, и особенно же почестями. Они забывали, что ему было под семьдесят лет; не понимали, что рановременная смерть сына как будто возвещала ему близость собственной; не знали, что в жизни, особенно в преклонных летах, для человека, испившего все горести её, приходит время, в которое становятся ему противны даже её наслаждения. В день рождения Императора, 12 декабря (1809) три или четыре сенатора, моложе отца моего в чине, были по старшинству произведены в действительные тайные советники; они полагали что это его огорчило. Доброжелательный ему честолюбец Куракин, видя в месте им занимаемом препятствие к повышению, хотел его утешить сенаторством и искал только удобного случая доложить о том Государю. Этого нельзя было сделать без министра юстиции, а князь Лопухин, преемник Куракина в генерал-прокурорской должности, давнишний соперник его при Павле, тайный недруг его, хотя и не отказывал, но и медлил дать свое согласие. В это время с Государем в Абов поехал Сперанский, любимейший из гражданских чиновников его окружавших, к тому же товарищ министра юстиции; с ним отправлен был за подписанием двух министров доклад о назначении отца моего сенатором. Он совсем забыл, что Куракину обязан был первыми, быстрыми шагами своего счастливого поприща, но не забыл и никогда не мог простить ему того, что был у сына его учителем. Пользуясь раздражением Царя против Кноринга, он умел сделать ему такой доклад, что заставил его поступить совсем по-отцовски.
Довольно замечательно, что указ, данный в Абове, коим отец мой увольняется от службы с пенсионом, последовал 5 апреля, в то самое число и месяц, в которые, одиннадцать лет перед тем, был он отставлен Павлом Первым, и что в этом указе также ничего не упомянуто о его просьбе. Довольно странно и то, что 5-е апреля, число несчастное для отца моего, впоследствии было для меня счастливым днем и что три раза в этот день получал я потом приятнейшие награды. Родителя моего это верно менее огорчило, чем князя Куракина: он призвал меня к себе и, объявляя о том, обещал, что меня по крайней мере постарается вознаградить за то, чего не успел сделать для него.
Известие об отставке родителя принял я, должен признаться, с великим удовольствием. Унизительная борьба его с людьми, недостойными взгляда сего необыкновенного человека, хотя и прекратилась, могла однако же возобновиться. Спокойствие, которым должен был он пользоваться среди деревенской жизни, обещало мне сохранить надолго драгоценные для нас дни его. Того же мнения была вечно странствующая сестра моя Алексеева; она находилась тогда в Петербурге проездом в Абов, где скорее надеялась иметь известия о муже, а может быть и дождаться его. Не зная как разделить себя между ним и детьми, бедняжка скакала из края в край России.
VI
Обеды у богатых откупщиков. — А. Ф. Крыжановский. — Разрыв с Австрией (1809). — А. М. Салтыков. — Подвиги Алексеева. — Присоединение Финляндии. — Замыслы Сперанского. — Поездка Александра в Тверь и Москву. — Е. В. Карнеев.
Ежелетнюю поездку свою в Пензу в этом 1809 году я не намерен был сделать: мне больно было бы видеть там злобную радость врагов моего отца. К тому же, я твердо решился искать серьёзных занятий по службе, штатного места, и оно было мне обещано.
Нового Пензенского губернатора, преемника отца моего, в предыдущие годы имел я случай не один раз видеть и разговаривать с ним. Обыкновенно встречал я его в домах богатых откупщиков, Злобина, Кусовникова, Чоблокова, Кандалинцова, куда иногда зазывал меня аппетит молодого человека, весьма здорового и не всегда сытого. Жирный обед, стерляжья уха, шампанское рекою, шум веселый и не всегда пристойный, могли быть привлекательны даже для юноши поставленного в лучшее, в высшее положение, чем то, в котором я находился. Манерами я не совсем походил на других, частых посетителей сих домов, и то что должно было лишить меня благосклонности хозяев, напротив давало мне права на какое-то первенство между гостями. Особенно был я угоден прекрасному полу, которого всегда видел перед собою три поколения: бабушек, с головою повязанною шелковым платком, в объяринных и штофных кофтах и юбках, матерей, довольно чопорных, пристойно и богато одетых и, наконец, щеголеватых, разряженных по моде дочерей, которые хорошо танцевали, кое-как болтали по-французски и на клавесине играли вальсы и экосесы. Тогда как я, с чрезвычайным и ни на чём не основанным самолюбием, прощал себе посещения сих домов, как проказы молодости, действительный статский советник Александр Федорович Крыжановский гордился знакомством этой финансовой знати.
Он был человек лет пятидесяти, довольно высокого роста и наружности не противной. Фамильное имя его заставляло подозревать, что он крещен не вскоре после рождения. Впрочем, при первом взгляде ни в чём не можно было заметить в нём чего-либо еврейского, ни в чертах лица, ни в выговоре, разве только в цвете волос. У этой пламенной породы волос всегда бывает черен как уголь или ярок как огонь, и оттого-то, кажется, г. Крыжановский был рыжеват. Про себя сказывал он только, что был уроженец Подольской губернии и долго находился при светлейшем, то есть Потемкине. Это дело возможное: при военно-походном дворе этого вельможи царя состояло несколько сот человек. Должно полагать, что он служил в канцелярии его, ибо всегда пользовался покровительством Василия Степановича Попова, правителя оной, который даже выдал за него Марию Константиновну, любовницу свою, гречанку, простую девку, им где-то добытую; за таковое избавление Попов всегда почитал себя ему обязанным.
Приятная, можно сказать, забавная сторона характера Александра Федоровича была его изобретательность; он одарен был цветущим воображением восточных рассказчиков; видно было, что предки его жили близ страны, где сочинена «Тысяча одна ночь». В разговорах он ничего не умел представить иначе, как в преувеличенном виде; это весьма несправедливо называли ложью. Не знаю, как до сих пор не хотят понять великой разницы, которая существует между ложью и лганьем; первая просто обман, другое почти поэзия. Один или два примера поэзии Крыжановского приведу я здесь. Он находился (будто бы) в лагере во время достопамятной осады Очакова, где русские так великодушно переносили стужу и голод; у него не было палатки, он спал в бричке, за которою привязаны были его лошади. Раз проснувшись, увидел он, что нет над ним кожаного навеса, под которым он заснул; бедные кони, измученные голодом, во время сна его, в одну ночь съели кожу. Другой раз находился он (будто бы) на каком-то военном судне, подле какой-то осаждаемой крепости, лежащей на каком-то мысу.
Вдруг сделалась буря, поднялся ужасный вихрь, и корабль сорвало с якоря; пассажиры несколько минут были без памяти и не могли понять спокойного, едва заметного плавания своего, как вдруг увидели себя на другой стороне мыса: сильным ветром перенесены они были туда по воздуху поверх неприятельской крепости. Он не смел сердиться, когда откупщики помирали со смеху, слушая его россказни.
И вот человек, который должен был наследовать отцу моему в губернаторской должности! И вот на какую степень упала она после семи лет с половиною! Будучи отставным, жил Василий Степанович Попов в селе своем Решетиковке подле самой Полтавы и свел тесную дружбу с Куракиным; находясь тогда опять в службе, он выпросил у него это место для Крыжановского; за то, что он некогда развязал его с надоевшей ему любовницей, навязал он его Пензе. Сначала мне показалось это обидным; но после, вспомня дворянскую спесь пензенцев, зная, как тяжело им будет оказывать знаки самомалейшей покорности такому губернатору, я совершенно утешился. Я не знал еще его властолюбия, его дерзости, его искусства обирать людей, имеющих до него нужду; если бы знал, тогда признаюсь, еще более бы обрадовался.
По возвращении Государя из Абова, в Петербурге ожидали его другие заботы, приготовления к новой необыкновенной войне и свадьба любимой сестры его Екатерины Павловны. Война Австрии с Францией уже начиналась, она была объявлена, и Наполеон не соглашался, чтобы Россия оставалась спокойною свидетельницей оной. Вследствие сего, почти накануне бракосочетания великой княжны, 18-го апреля, воспрещен приезд ко двору находившемуся тогда в Петербурге послу Австрии, после знаменитому её полководцу, князю Шварценбергу. Как бы в доказательство того, что он не верит вынужденному недоброжелательству России, иллюминовал он дом свой вензеловыми именами новобрачных. Необычайно-странно было видеть в самодержавном государстве явную протестацию царедворцев против воли Императора: они ежедневно посещали Шварценберга, и всегда десяток карет можно было найти у его подъезда. Когда же он совсем отправился в путь, то многие дамы провожали его до первой станции.
Начальником армии, которая должна была действовать против Австрийцев, назначен был известный читателю князь Сергей Федорович Голицын, у которого в деревне провел я год моего ребячества. Неужели за Наполеона будет он проливать русскую кровь? спрашивали друг у друга. Непонятно, как человек с такими военными способностями мог отказаться от побед и согласиться на притворную войну; но в этом случае бездействие было для него истинною славой в глазах соотечественников. Голицын вступил в Галицию, занятую войсками эрцгерцога Фердинанда; в продолжение всего лета искали они друг друга, не находили, нигде не встречались и не имели ни одной стычки. Генералы тайно переписывались между собою.
Итак, в одно время Россия имела за границей четыре действующие армии: Тормасов сражался с персиянами, в Молдавии и Валахии осмидесятилетний старец, фельдмаршал князь Прозоровский готовился перейти Дунай, чтобы напасть на турок, и в Финляндии действия еще не прекращались. Вот плоды мира с Наполеоном, четыре войны вдруг, говорили недовольные; я твердил всё свое, и часто доставалось мне за то в обществе. Меня всё утешала мысль, что, придавленные с Запада, мы быстро распространяемся на Севере и на Юге.
Четыре войны имела Россия, и о происшествиях их никто не заботился. За то с самого начала лета, бывало, кто бы знакомый ни встретился на улице, всякий спрашивает о новостях или сам рассказывает вести о войне в Германии: туда только было обращено всеобщее внимание. Победа при Асперне произвела радостный восторг; все гордились успехами австрийцев, как собственными; после Ваграма пришли в бешенное отчаяние, а не повесили головы; и Шиля, и Гофера, еретиков погибших за дело освобождения Европы, готовы были сопричислить к святому сонму мучеников и угодников. После того странно, что Наполеон три года спустя потом мог ожидать содействия, а не отчаянного сопротивления от нации, столь глубоко проникнутой к нему ненавистью, которая от неудач приходила в уныние, но никогда не расставалась с надеждою его победить, которой начальники и воины, сегодня разбитые в прах, завтра готовы были восстать из него, чтоб отмстить за вчерашнюю обиду. Нет, говорили многие, не Австрии, видно, сладить с этим великаном! И как будто в прозрении будущего, видели уже перст Божий, указующий на их Россию, как на обреченную сему кровавому и славному делу.
В рассуждении России, цель Наполеона была отчасти достигнута: если в этой странной для неё войне, из угождения ему, не потеряла она ни одного солдата, то, по крайней мере, оказала ему великую услугу, сделав в пользу его сильную диверсию; если не явной вражды, то, по крайней мере большего охлаждения мог он ожидать между нею и Австрией. Для умножения его, при заключении мира отрезал он ломтик от Галиции, Тарнопольский уезд, и ей бросил его как будто Христа ради.
Знакомство одно, сделанное мною незадолго перед этим, несколько поколебало верование мое в продолжительный и для нас полезный союз с Наполеоном. У Хвостовой встречался я с Михаилом Александровичем Салтыковым, человеком чрезвычайно умным, исполненным многих сведений, красивым и даже миловидным почти в сорок лет и тона самого приятного. Пасынок сильного при дворе Екатерины Петра Богдановича Пассека, с фамильным именем довольно громко в России звучащим, но с состоянием весьма ограниченным, мог он только почитаться полузнатным. Хотя, как настоящий барин, получил он совершенно французское образование, был однако же у других молодых бояр целым поколением впереди. Классиков века Людовика XIV уважал он только за чистоту их неподражаемого слога, более же пленялся роскошью мыслей философов восемнадцатого века; но тех и других готов он был повергнуть к ногам Жан-Жака Руссо; в нём всё было: и чувствительность, и воображение, и мысли, и слог. После него признавал он только двух хороших писателей: Бернардена де-Сен-Пиера в прозе и Делиля в стихах. О немецкой, об английской литературе не имел он понятия; на русскую словесность смотрел он не так как другие аристократы, гордо отворачивающиеся от неё как от урода, при самом рождении умирающего, а видел в ней невинного младенца, коего лепет может иногда забавлять. В первой молодости был он уже подполковником и адъютантом князя Потемкина, и если далее не пошел вперед, то сам был виноват. Он был из числа тех людей, кои, зная цену достоинств и способностей своих, думают, что правительство, признавая в них оные, обязано их награждать, употребляют ли или не употребляют их на пользу государственную. Как все люди честолюбивые и ленивые вместе, ожидал он, что почести, без всякого труда, сами собою должны были к нему приходить. Во время революции превозносил он жирондистов, а террористов, их ужасных победителей, проклинал; но как в то время у нас не видели большой разницы между Барнавом и Робеспьером, то едва ли не прослыл он якобинцем. Всегда и всеми недовольный, кинул он службу и общество и в среднем состоянии нашел себе молоденькую жену, француженку, дочь содержательницы пансиона Ришар. При Павле его было не слыхать, не видать. При Александре республиканец пожелал и получил камергерский ключ, который дал ему четвертый класс и который в старину одним открывал путь к дальнейшим почестям, а для других запирал его навсегда. Он сердился, что не получает места, и никого не хотел удостоить просьбою о том. Несколько позже стал он занимать довольно важные должности, но по незнанию дел, по совершенному презрению к ним, все места умел превращать в кононикатства. Он всегда имел вид спокойный, говорил тихо, умно и красно. Обольщенный им, я обрадовался, когда вздумалось ему в первый раз пригласить меня в себе. С величайшим хладнокровием хвалил он и порицал; разгорался же только нежностью, когда называли Руссо, или гневом при имени Бонапарте. Не знаю какое чувство, монархическое ли, врожденное во всяком русском, или привитое республиканское (не оба ли вместе?) так сильно возбуждали его против похитителя престолов и истребителя свободы; только никто столь убедительно не проповедовал против него как этот Салтыков. Как ни больно мне было сознаться, что я ошибался, он заставил мена сие сделать.
После неудачной попытки на Стокгольм, Государю надоела Шведская война, и он желал кончить ее добрым миром. Новый старый король не смел еще подаваться на него, ибо война сделалась национальною, и она медленно продолжалась. Один только корпус Шувалова оставался действующим.
По примеру Австрии, Аракчеев, как граф Тугут, из кабинета своего распоряжался военными действиями в Финляндии, и Барклай не смел или покамест не хотел ему противиться. Говорили, что он (Аракчеев) весьма покойно водил пальцем по карте и не мог верить никаким естественным препятствиям. Исполняя приказания его, Шувалов некоторое время продолжал идти вперед в Вест-Ботнии, вдоль левого уже берега залива, имея перед собою малочисленный Шведский отряд, который, по мере его приближения, без бою всё отступал назад. Надоел он ему; чтобы принудить его сражаться, захотел Шувалов потешиться славным делом. Дошедши до местечка Шелефта, нашел он небольшой залив, углубляющийся внутрь земли, который перегораживал ему дорогу; этот залив имел около двадцати верст ширины и весь покрыт был еще льдинами, хотя это было 3 мая, то есть 15 нового стиля. Он стал клич кликать; предложил генералам, кому из них угодно будет, пока он пойдет вокруг залива вслед за Шведским отрядом, переправиться через него по рыхлому льду, чтобы Шведам перерезать дорогу; все отказались, без крайней надобности не желая идти на верную погибель; один из них вызвался; это был Алексеев. За смельчаком пошли русские солдаты по гибкому, ломкому льду, часто проваливались и вытаскивали друг друга из воды, потом опять продолжали бодро идти вперед. Бог, видно, помогал им, и через несколько часов очутились они на другой стороне. Как с неба упали они перед ретирующимися Шведами, которые едва могли поверить такому чуду. Поставленные между двух огней, сдались они со всеми своими пушками и знаменами. Это очень полюбилось в Петербурге, и Алексееву дан за то Георгиевский крест третьей степени на шею.
После такого подвига Шувалов почитал себя в праве говорить громче и смелее. Он остановился и решительно отказался идти далее вперед; он представлял о великом отдалении его от главной квартиры, о чрезвычайных затруднениях в продовольствии. С какою целью мог он идти далее? Не ожидая никакого нового подкрепления, с убавленным от похода числом воинов, если бы и удалось ему подойти к Стокгольму, то одного вооруженного народонаселения достаточно бы было, чтобы раздавить его малочисленный корпус. Аракчеев прогневался за такое ослушание; во всех подозревал он трусость и стал обвинять в оной Шувалова. Он столько имел уже власти над умом Царя, что любимца его успел подвергнуть жестокому наказанию.
Послушному и смелому Алексееву велено принять начальство над корпусом, а графу Шувалову находиться неотлучно при нём, вчерашнем его подчиненном. Один приказ, одно наставление дано было Алексееву: вперед и вперед. Он исполнил приказание, влача за собою разобиженного, разогорченного Шувалова. Как судьба играет людьми! Алексеев, один из младших генерал-майоров русской армии, который за год перед тем, или еще и менее, за благоразумное представление едва не лишился чести, предводительствует корпусом, правда, числом воинов едва превышающим комплектную дивизию, но который по совершенно отдельному положению своему мог почитаться маленькою армией, и один идет против целого Шведского королевства. Он торжественно вступил в Умфо, главный город Вест-Ботнии, в пятистах верстах от Торнео и в полутора тысячах сухим путем от Абова. Отдохнув немного, собирался он продолжать поход свой к Гернезанду.
Не все были довольны излишнею, по мнению их, покорностью своего нового начальника: с каждым шагом вперед положение их становилось затруднительнее и опаснее. Многие полагали, что Алексеев действует по собственным побуждениям и, обеспамятев от радости начальствовать корпусом, себя и их ведет на верную погибель. Более всех возроптал вновь пожалованный генерал Ансельм-де-Жибори, который скучал среди холодных ботнических пустынь, которому хотелось скорее пощеголять шитьем и эполетами в петербургских гостиных, попировать и покощунствовать в петербургских трактирах. Его подбили сделать донос. Он писал к министру, что войско гибнет от безрассудности неученого и опытного начальника, который только что отчаянно-храбр, а с военным искусством вовсе не знаком. Это до некоторой степени была правда; сколько однако же было генералов в русской армии, которые Тюреня и Фридерика знали только по имени, а об Коментариях Кесаря и не слыхивали, но которые, одарены будучи особенным инстинктом, зорким взглядом более угадывали, чем видели опасности и с необыкновенным присутствием духа их отвращали; одним словом, которые самоучкой побеждали. Лучше Багратиона я примера не нахожу. Ничего о том не ведая, Алексеев с своей стороны доносил Аракчееву, что по воле Царя готов он в огонь и в воду, как он сие успел уже и доказать, но что для успеха такого дела, какое ему поручено, одного усердия и смелости мало, и потому с чистою совестью, признавая себя к тому неспособным, просил прислать другого начальника, более его сведущего в ратном искусстве. Государь был тронут его скромностью, она полюбилась ему, и граф Каменский опять нехотя был вызван из Орловской губернии.
Между тем узнал Алексеев о тайном доносе Ансельма. Увидев его у себя и не зная ни одного слова по-французски, через переводчика пустился он с ним в объяснения в присутствии других генералов. Человек этот, который при исполнении своих обязанностей в мире и в войне никогда не терял головы, в обыкновенном быту жизни, с чрезвычайно-добрым сердцем, бывал до бешенства запальчив, к тому же для света не совсем образован. Разгорячившись, он неоднократно повторял: скажите от меня этой французской каналье то-то и то-то. Кажется, и для француза это могло быть понятно. Того мало: он сопровождал разговор свой теми особенно энергическими выражениями, которые подобно английскому Годдему, как говорит Фигаро, служат основой нашему солдатскому и простонародному языку и которые всякий иностранец, вступающий в русскую службу, так скоро изучает. Ансельм притворился, будто ничего не понимает и честью своей нации клялся, что никогда ничего об нём в Петербург не писывал. «Ну, полно врать», отвечал наконец Алексеев, «вижу, что ты лжешь, но так и быть, Бог с тобой; приходи ко мне, мусью, обедать». И тот пришел.
С успокоенными нервами, в первых числах августа, прибыл граф Каменский к корпусу, не совсем на радость. От похода, от недостатков, от болезней этот корпус приметно уменьшился. Не прошло двух дней, Каменский не успел еще составить никакого плана, как вдруг узнали, что довольно многочисленное шведское свежее войско, под предводительством графа Вахмейстера, высажено на берег и идет к ним с тылу. Один только берег был населен, с одной стороны море, с другой необитаемые пустыни. Другого средства не было, как идти назад к шведам навстречу, чтобы сквозь них пробиваться. Превосходство местоположения и числа было совершенно на их стороне. В день Преображения, 6 августа, началось жаркое, отчаянное дело при местечке Сефваре. Шведы надеялись всех русских солдат побрать руками и могли то сделать; но не так-то легко даются они неприятелям. Искусство тут ничего бы не помогло, а одна только вселомящая русская храбрость. Алексеев, как на своем месте, был везде впереди; Каменский же находился в некотором расстоянии и с ужасом смотрел на происходящее. Он клял свою жизнь, рвал на себе волосы, не давал никаких приказаний, одним словом, совсем терял голову[118]. Надобно полагать, для его чести, что он более тревожим был мыслью о потере сражения, чем о потере жизни. Вдруг пальба как будто умолкла, и несут к нему Алексеева с веселым лицом и простреленною ногою. «Ну что, мой бедный Илья Иванович? Что с вами, и что с нами? Мы пропали!» бросившись к нему воскликнул Каменский. «Как так? Да не обо мне дело, ваше сиятельство, а честь имею вас поздравить с победою», отвечал он. «Неужели?» сказал Каменский. «Конечно: шведы бегут, усаживаются на свои суда и скоро отплывут. У нас в руках остались их пленные и часть их обоза и артиллерии». Без слов, с слезами на глазах, кинулся Каменский его обнимать. Когда бегущие шведы отстреливались от преследователей своих, последняя их пуля попала в ногу Алексеева; вот почему сказал я выше, что им и должна была кончиться Шведская война.
После того, Каменский, не дожидаясь никаких уже предписаний из Петербурга, поспешно начал ретироваться к Умео и далее. В столице, где довольно поздно получено было известие о Сефварском деле, принято оно было за поражение. Аракчеев готовил уже свои перуны против Каменского: он никак не хотел понять, чтобы после победы можно было идти назад.
Но уже несколько недель министр иностранных дел граф Румянцев находился для переговоров в Фридрихсгаме с шведскими полномочными. Они долго были неуступчивы; наконец, 5 сентября подписан ими славный и выгодный для нас мир. Благородный и правдивый Румянцев уведомлял, что, после получения в Стокгольме известия о Сефварском деле, шведское правительство, которого оно было последним усилием, вдруг переменило тон, и что не его дипломатическим уловкам, а скорее победе Каменского Россия обязана за скорейшее заключение мирных условий. Тогда только Румянцева пожаловали канцлером, а графа Каменского генералом-от-инфантерии, но положили объявить ему о том по возвращении его в Петербург. Алексееву же моему после залепили рану бриллиантовой Аннинской звездой, да, как инвалиду, дали для прокормления аренду в полторы тысячи рублей серебром. Он и тем остался очень доволен.
Ничего не могло быть удивительнее мнения публики, когда пушечные выстрелы с Петропавловской крепости 8 сентября возвестили о заключении мира, и Двор из Зимнего дворца парадом отправился в Таврический для совершения молебствия. Все спрашивали друг у друга, в чём состоят условия. Неужели большая часть Финляндии отходит к России? Нет, вся Финляндия присоединяется к ней. Неужели по Торнео? Даже и Торнео с частью Лапландии. Неужели и Аландские острова? И Аландские острова. О, Боже мой! О, бедная Швеция! О, бедная Швеция! Вот что было слышно со всех сторон. Пусть отыщут другой народ, в коем бы было сильнее чувство справедливости, англичане не захотят тому поверить. Русские видели в новом завоевании своем одно только беззаконное, постыдное насилие. Во всей России, дотоле славной и без потерь владений униженной всё более и более, господствовала одна мысль, что у неё, именно у неё, а не у Государя её, есть на Западе страшный соперник, который должен положить преграду величественному течению её великих судеб, если сама она не будет уметь потушить сей блестящий, ей грозящий метеор. С самого Тильзитского мира смотрела она на приобретения свои с омерзением, как на подачки Наполеона.
Те из русских, кои несколько были знакомы с Историей, не столько негодовали за присоединение Финляндии, сколько благодарили за то Небо.
Обессиление Швеции упрочивало, обеспечивало наши северные владения, коих сохранение с построением Петербурга сделалось для нас необходимым. Если спросить, по какому праву Швеция владела Финляндией? По праву завоевания, следственно по праву сильного; тогда тот из соседей, который был сильнее её и воспользовался им, имел еще более её прав. К тому же, самое название Финляндии, земли финнов, не показывает ли, что жители её суть соплеменные множеству других финских родов, подвластных России, внутри её и на берегах Балтийского моря обитающих? Большая часть Финляндии, Ижора, Копорье, Корела или Карелия не принадлежали ли некогда Великому Новгороду? Когда он сделался добычей великих князей московских, тогда не мог уже он сам себя защитить и не один раз видел Шведские полчища грабящие его области, а в царствование Шуйского и его самого терзавшие. Финны всегда ненавидели Шведов, под коих иго подпали. После русского завоевания могли они надеяться, что от него избавлены: ни мало, человеколюбие Александра не сняло его с них. И что такое сама Швеция, даже с Норвегией вместе, весь Скандинавский полуостров? Большая, холодная, бедная, бесплодная земля, давным-давно уже опустевшая, после беспрерывных побегов удалых своих сынов, кои бесчисленными стаями рыскали по вселенной, искали приключений и добычи, переходили земли, переплывали моря и под именем варягов-руссов или норманов, основывали государства в Нейстрии, Англии, Сицилии, Неаполе и России. Незапамятно оставленная ими отчизна не могла с ними иметь ничего уже общего. Только в шестнадцатом веке начала опять Швеция проявляться Европе из-за туманов и снегов своих. Предприимчивый дух предков показался и между потомками, и слабая Швеция хотела попасть в число сильных держав европейских. К счастью или к несчастью её, имела она целый ряд знаменитых или чем-нибудь особенно примечательных государей, в числе коих был один и великий. Кто из просвещенных людей не знает жестокого Христиерна, мудрого Густава-Вазу, великого Густава Адольфа, проказницу Христину, воинственных Карла Густава и Карла XII? Только ими и красна была Швеция, а сама по себе ничего не значила. Особливо избаловала ее Тридцатилетняя война, когда её Густав с своими Торстенсонами и Оксенштернами решал судьбу германских народов. Еще более зазнались шведы, когда двое из его преемников хотели располагать польскою короной, пока один русский великан под Полтавой не дал им, с позволения сказать, такого щелчка, после которого они присели, притихли и долго не могли опомниться. Однако же и после, разве не могли они в несколько часов приплывать из Гельсингфорса к Ревелю и овладеть им? Разве не могли они наделать суматохи в Петербурге? Разве Екатерина в Царскосельском дворце своем не считала всех пушечных выстрелов морского с ними сражения под Красной горкой? Нет, не надобно им давать воли, не надобно позволять им почитать себя выше Баварии и Виртемберга. Что б ни говорили, завоевание Финляндии есть слава Александра, а не преступление его. Нельзя однако же умолчать о том, что сделанное им из неё после можно назвать изменой… так точно, первой его изменой России. Но что спешить с размышлениями о печальных событиях, кои впоследствии осужден я буду описывать.
Если этот 1809-й год был довольно обилен военными происшествиями, то еще более должен быть памятен для наших гражданских чиновников. Как все люди поневоле деятельные и трудами обремененные, император Александр терпеть не мог в других праздности и лени. К тому же, как либерал и властолюбец вместе, он более переносил, чем поощрял аристократический образ мыслей и все преимущества от него независящие и не от него проистекающие ненавидел. Всегда смотрел он косо на придворные чины: в молодых камергерах и камер-юнкерах, обязанных находиться при больших выходах, танцевать на придворных балах, украшать собою общества, служить единственно для умножения царской помпы, видел он людей только что шаркающих по паркету и называл их полотерами. Из ничего, без всяких заслуг и для бездействия производились они прямо в четвертый и пятый класс, тогда как другие могли только достигать до того многолетними трудами. Оно, конечно, с первого взгляда может казаться несправедливостью; в какой однако же монархии нет множества привилегированных фамилий? И в Англии, молодые лорды, по достижении совершеннолетия, не заседают ли в верхней камере парламента и не берут ли шаг у старых заслуженных генералов? В России дело совсем другое: в ней никогда истинной аристократии не бывало, и местничество было одно постоянное притязание, а не право. Петр Великий установил чин; после того кто был чиновнее, тот и должен был, кажется, у нас быть знатнее. Вышло однако же не совсем так: следы старины не могли вдруг изгладиться; движение к званию бояр уже не существующих и в древним родам их всё еще сохранялось, и новые понятия в частых сношениях со старой Европой, у неё заимствованные, еще более его усиливало. Воля царская, которая в России превыше всего, могла между тем единым дуновением создавать знатных, т. е. многозначущих и вельмож, т. е. вельми мощных и даже из самой черни извлекать первых сановников государства и ставить их не только наравне, но и выше потомков князей и бояр. Императоры и императрицы однако же мало употребляли сие право и до Павла, исключая Меншикова и Разумовских, едва ли можно найти пример, что кто-либо из простонародья, т. е. из самого низшего состояния, возведен был в самое высшее. Не довольствуясь избранных своих награждать чинами и титлами, они жаловали их большими поместьями, зная, что на низший класс более всего действует наружный блеск и широкое житье и желая заставить уважать свое творение.
Людей полезных ей, но по мнению её не довольно способных к занятию первых мест в государстве, Екатерина производила медленно. Особенно второй класс, то есть чин генерала-аншефа, адмирала и действительного тайного советника, при ней для весьма многих недосягаемо подымался; он-то решительно давал знатность тем, которые наследственно её не имели. Сыновья людей с знатным фамильным именем соединяющих богатое состояние, равно как и сыновья сих новознатных, получившие хорошее образование, но не чувствовавшие в себе склонности к военной службе, обыкновенно одни жаловались в камер-юнкеры, не для их удовольствия, а в награду заслуг отцовских, для украшения общим мнением уважаемыми именами придворного списка, для умножения пышности столицы, где необходимы великолепные палаты и роскошные праздники. Без камер-юнкерства, может быть, предпочли бы они жить великокняжески в своих поместьях. Как часто видим мы людей, уже уставших, а всё продолжающих идти по трудному пути честей для того единственно, чтобы подавать руку сыновьям своим, которые без них, может быть, стали бы на нём спотыкаться: успехи предметов их нежности бывают для них дороже собственных. Екатерина ведала то и, про их детей, держала камер-юнкерство как одно из лучших средств делать их самих счастливыми.
Александр хотел везде одной пользы, забывая, что сама природа производит не одно полезное, но и приятное. Вместо цветов, во множестве украшающих сады его и коими любил он тешить взор свой, не велел же он сеять капусту и редьку. Он задумал положить — преграду существующему, по мнению его, злоупотреблению и о средствах к тому стал советоваться с Сперанским.
Так как камергерство и камер-юнкерство должны были почитать единственно чрезвычайными, особыми знаками царской милости, а отнюдь не наградой за личные заслуги, то и стоило только продолжать их раздачу с большею против прежнего бережливостью и только тем юношам, о коих я выше сказал и для коих слепая Фортуна и слепой случай рождения сделали более, чем природа.
Когда я начал знать Сперанского, из дьячков перешагнул он через простое дворянство и лез прямо в знатные. На новой высоте, на которой он находился, не знаю, чем почитал он себя; известно только, что самую уже знатность хотелось ему топтать. Пример Наполеона вскружил ему голову. Он не имел сына, не думал жениться и одну славу собственного имени хотел передать потомству. Он сочинил проект указа, утвержденный подписью Государя, коим велено всем настоящим камергерам и камер-юнкерам, сверх придворной, избрать себе другой род службы, точно так, как от вольноотпущенных требуется, чтобы они избрали себе род жизни. Несколько трудно было для превосходительных и высокородных, из коих некоторые были лет сорока, приискание мест соответствующих их чинам (в коллегии не определяли новых членов); по нескольку человек посадили их за обер-прокурорские столы, других рассовали по министерствам. Чувствуя унижение свое, никто из них, даже те, которые имели некоторые способности, не хотели заняться делом, к которому никто не смел их приневоливать.
Все после этого указа вновь жалуемые камергеры и камер-юнкеры должны были оставаться в тех чинах, в коих прежде находились, и все сии малочинные, также как и чиновные, должны были занимать какую нибудь должность в гражданской службе. Можно ли было ожидать от графчика или князька, наследника двадцати, тридцати или пятидесяти тысяч душ, чтобы он охотно, в звании канцелярского служителя, подчинил себя засаленному повытчику и по его приказанию переписывал бумаги? В России всякий несправедливый закон исправляется неисполнением его. Все эти баричи числились только по департаментам, а главное начальство само способствовало их повышению.
Этим указом с своею знатью похристосовался Государь в день Светлого воскресенья. Между нею произвел он некоторый ропот; дворяне же и разночинцы тому обрадовались, особенно же те, кои, подобно мне, воспитанием, образованием своим почитали себя равными баричам, но дотоле не смели им завидовать.
Спрашивается после этого: не сам ли Государь возбуждал подданных своих к идеям о равенстве и свободе? Как никто не умел тогда заметить, что от этого единого удара волшебного царского прутика исчез существовавший у нас дотоле призрак аристократии. Сперанскому хотелось республики, в том нет никакого сомнения. Но чего же хотелось Александру? Неужели представительного монархического правления? Оно нигде без высших, привилегированных сословий не существовало. Ему хотелось турецкого правления, где один только Оттоманский род пользуется наследственными правами и где сын верховного визиря родится простым турком и наравне с поселянином платить подать.
Указ, о коем говорю, был только прелюдием другого более жестокого и несправедливого указа: великий преобразователь России, Сперанский, объявил его в день Преображения Господня, 6 августа. Он давно смотрел с негодованием и некоторою завистью на молодых дворян, которые, без больших трудов, подвигались в чинах, благодаря покровительству родных и друзей их семейств. Нельзя этого одобрять, однако же и никакой большой беды от того не было. Чины не были так расточаемы как ныне, сохраняли еще свою цену: люди были умереннее в своих желаниях, и немногие упорно — лезли вверх. Чины получать даром можно было только в Петербурге, и немногие соглашались оставаться в нём целую жизнь. Иной, подобно Простодуму в Хвастуне Княжнина, поклонами добившись до штатского чинишка, спешил похвастать им в провинции, и его высокоблагородие оставалось навсегда в своем поместье, спокойно им управляя, и было пресчастливо, когда под старость дворянство выбирало его своим уездным предводителем. Другие довольно приятно и весело (по большей части в Английском клубе) выживали сроки, положенные для выслуги лет в каждом чине; они не думали занимать высоких мест, для которых чувствовали себя неспособными и, зная наперед, что не пойдут далее чина коллежского советника, им оканчивали расчеты своего чрезмерного честолюбия. Такие люди, обыкновенно достаточные помещики, с семействами и прислугой поселяясь в Петербурге, умножали в нём число потребителей и хорошее, пристойное общество, которое знатная спесь называла средним состоянием. Чины были весьма легким, хотя единственным средством для правительства, чтобы приманивать их в свою холодную, негостеприимную столицу. Если европейское просвещение почитать благом для России, то и в этом отношении пребывание их в Петербурге было полезно для его распространения. Было много и таких людей, кои не почитали обязанностью часто посещать департаменты, к коим принадлежали, лучше сказать, были только приписаны, и не хотели изнурять, убивать умственные свои способности ежедневными мелочными канцелярскими трудами. Их почитали праздными, тогда как большую часть своего времени посвящали они чтению, изучению иностранных творений о законодательстве, о политической экономии; когда следили они все распоряжения правительства, в тайне порицали или одобряли их и, не участвуя в делах его, беспрестанно ими занимались. Они медленнее подымались по лестнице чинов, за то шли они непринужденно, благородно и всегда готовые перейти на другую, на лестницу мест, где теорию своих знаний могли бы с пользою приложить к практике дел текущих. Они не заслоняли дороги подьячим, которые шли путем людей деловых, а они надеялись быть государственными. Тех и других задумал Сперанский уничтожить одним ударом.
До 1803 или 1804 года во всей России был один только университет, Московский, и не вошло еще во всеобщий обычай посылать молодых дворян доканчивать в нём учение. Несмотря на скудость тогдашних средств, родители предпочитали домашнее воспитание, тем более, что, при вступлении в службу, от сыновей их не требовалось большой учености. Не прошло двух или трех лет после основания Министерства Народного Просвещения, как вдруг учреждены и уже открыты пять новых университетов. У нас на Руси всё так быстро делается: да будет свет и бысть. Несмотря, однако же, на размножение сих, наскоро созданных университетов, число учащихся в них было не велико. Государь и без того уже не слишком благоволил к своим русским подданным; Сперанский воспользовался тем, чтобы их представить ему как народ упрямый, ленивый, неблагодарный, не чувствующий цены мудрых о нём попечений, народ, коему не иначе, как насильно можно творить добро. Вместе с тем увеличил он в глазах его число праздношатающихся молодых дворян-чиновников. Сего было более чем достаточно, чтобы склонить Царя на принятие такой меры, которая, по уверениям Сперанского, в будущем обещала большую пользу гражданской службе, а в настоящем сокрушала все надежды на повышение целого, почти без изъятия, бесчисленного сословия нашего.
Что распространяться о содержании указа, многие лета, многими тысячами проклинаемого? Скажем о нём несколько слов. Для получения чинов статского советника и коллежского асессора, обязаны были чиновники представлять университетский аттестат об экзамене в науках в числе коих были некоторые, о коих они прежде и не слыхивали, кои по роду службы их были им вовсе бесполезны, как например, химия для дипломата и тригонометрия для судьи, и которые тогдашние профессора сами плохо знали. Не безрассудно ли было заставлять не только совершеннолетнего, но даже и пожилого Человека возвращаться к школьным лавкам? Люди живущие одним жалованьем и занимающие должности, которые мало оставляли им свободного времени, могли ли от них отрываться, чтоб ежедневно на несколько часов делаться учениками? Не решаясь на то, с лучшими способностями осуждены они были век пресмыкаться в самых низких должностях. Бескорыстным и благомыслящим людям, имеющим насущный хлеб, что оставалось делать, если не бросить службу? Недобросовестные же и неимущие вынуждены были беззаконною прибылью утешать, вознаграждать себя за лишение всего, что служба имела для них привлекательного. Нелепость этого указа ослабляла в общем мнении всю жестокую его несправедливость.
Никто не хотел верить, чтобы строгое его исполнение было возможно. Все полагали, что оно, после временной остановки в производстве, будет только относиться к юношам, вновь поступающим на службу. Как бы на смех, как бы назло правительству, университеты долго еще оставались почти пусты; ни старый, ни малый, ни служащий, ни служивший, ни даже приготовляющийся на службу не спешили посещать их. С своей стороны дари не любят сознаваться в ошибках, и Александр в этом случае никак не хотел уступать всеобщему ропоту. В продолжение всего царствования его указ этот отменен не был; только гораздо позже последовали в нём некоторые изменения.
Зло, им причиненное, неисчислимо, хотя совсем не то, которого мог ожидать Сперанский. Он знал (да и кто же не знал тогда?), как все состояния были недовольны Государем, который всю армию свою казнил Аракчеевым. Налоги ежегодно увеличивались, торговля страдала от запретительной системы, введенной в угождение Франции; капиталисты разорялись от беспрестанного понижения курса на ассигнации. Он убедил Александра вдруг поразить Двор, всё гражданское ведомство и целое дворянство. От всюду рассеянных и везде возрастающих неудовольствий чего мог ожидать он, если не смут, заговоров и возмущений, в виду торжествующего Наполеона? Но слава долготерпению твоему, народ русский! Претерпевая до конца, не один раз ты спасен был. В случае неудачи, мог Сперанский надеяться другого. «Сыновья людей духовного звания учатся все в семинариях, — думал он; — почти все они не любят отцовского состояния и предпочитают ему гражданскую службу; множество из них в ней уже находится. Семинарским учением приготовленные к университетскому, они и ныне составляют большую часть студентов их: новый указ их всех туда заманит. Придавленные им дворянчики не захотят продолжать службы; пройдет немного времени, и управление целой России будет в руках семинаристов».
Так верно думал он, но не совсем так случилось. В одном он только не ошибся: самолюбие заставляло служить почти всех дворян. Чины еще были в уважении; для получения их смолоду вступали они в службу, привыкали к ней, полегоньку более или менее знакомились с делами и, достигнув зрелых лет, ехали в провинцию облагораживать, украшать своим именем, своим состоянием, своею честностью места председателей, прокуроров и советников. Под старость титул превосходительства ожидал их, как венец на конце с честью пройденного, длинного поприща. Внезапно на нём остановлены они. Сколько было между ними людей умных и способных, которые скорее проживали имения, чем наживались на службе! Мало-помалу, друг за другом, стали они убираться. Кем было замещать во множестве оставляемые ими места? Для занятия их дотоле был необходим соответствующий им чин; но производства не было, и надо было спускаться. Не прошло двух лет, как на места пятого класса, вице-губернаторов и председателей, начали определять надворных советников; на места же советничьи шестого класса стали сажать коллежских секретарей. Бывало, в министерстве не знают, что делать с помощником столоначальника, ни к чему не способным: посылают его советником в губернию. После того можно себе представить, какие люди соглашались оставаться там секретарями и повытчиками. Все места вдруг начали упадать, а чины не возвысились. Напротив, начался против них какой-то заговор, какое-то немое согласие оказывать к ним пренебрежение, которое, время от времени увеличиваясь, в нынешние дни совершенно уничтожило их прежнее значение. Чем малочиновнее был богатый помещик, тем, нарочно, более стали показывать к нему уважения. По тяжбам своим готовы были дворяне давать судьям своим, что было им угодно, только не пускать их в гостиные свои.
Оставалось, однако же, в столицах довольно разъяренного честолюбия, чтоб одержимые им, для удовлетворения производимой им нестерпимой жажды, дерзали на всё, даже на посрамление свое. Мы видели людей с седеющими волосами, покупающих книги, будто их изучающих и смело потом идущих в университеты на экзамен, как на торговую казнь. Без тайного у них согласия с экзаменаторами (впрочем, весьма несведущими), не могли б они получить аттестата. Последних надобно было задобрить. Итак, гнусное лихоимство, благодаря Сперанскому, проникло даже в святилища наук. Люди, дотоле известные чистотою правил, бессребреники-профессора, осквернились взятками. Несколько позже, проведав о том, молодые дворяне, желающие вступить в службу, не брали труда ходить слушать лекции, а просто за деньги получали аттестат, открывающий им дорогу к почестям: самый нежный возраст научался действовать подкупом. Лет пять так продолжалось, пока не приняты были меры к пресечению постыдного торга ученостью. Между тем вкусившие от запрещенного плода преподаватели наук бросились туда, где жатва его была обильнее; простившись с докторством и магистерством, они спешили на путь, на котором им одним дозволено было идти быстро и до всего доходить. Сколько людей, обещавших блистать на кафедре, погребло дарования свои в канцеляриях! Университеты и гимназии, сама ученая часть пострадала от чрезвычайных привилегий ей дарованных.
Всемерно завлекая студентов и семинаристов в гражданскую службу, Сперанский лишил и церковь твердых её подпор, достойных пастырей, вещателей Слова Божия, образцовых проповедников. Может быть, и это входило в его намерения. Действительно, все наши светильники веры, Филареты, Феофилакты явились до издания пагубного указа; почти через тридцать лет воскресло у нас духовное красноречие с Иннокентием. Храмы Божии, храмы наук опустошал нечестивец своими затеями. Он втайне приготовлялся тогда к одному важному делу, к перестройке государственного здания и, в угождение Государю, делал опыт над экспедицией водяных коммуникаций. Она дотоле входила в состав издыхающего министерства коммерции, о котором канцлер Румянцев, при других занятиях, уже мало заботился. Из сей экспедиции, с помощью друга своего Лубяновского, состряпал он новое министерство, под именем путей сообщения. Но как Император намерен был поручить его управлению зятя своего, мужа любимой сестры своей Екатерины Павловны, молодого принца Ольденбургского, и звание простого министра ему было неприлично, то и названо оно Главною Дирекцией. Тогда же с великими издержками основаны институт и корпус инженеров путей сообщения. Во всех европейских странах гражданские инженеры были давно уже известны; в России это показалось новостью. Оно что то похоже было на архитекторство; а как у нас художества тогда мало отличались от ремесел, и молодые дворяне, хотя изгоняемые из статской службы, не охотно бы за них принялись: то, чтоб открыть им какую-нибудь дорогу и привлечь их, принц выпросил сим новым инженерам военные мундиры и чины. Вместе с назначением его главным директором путей сообщения сделали его генерал-губернатором Новгородским, Тверским и Ярославским. Для великой княгини составили двор; в Твери генерал-губернаторский дом наскоро, но пышно переделали в дворец, и в конце августа они на житье туда отправились. И Тверь, не один раз великокняжеская столица, некогда соперница Москвы, еще на некоторое время опять блеснула между русскими городами.
Желая навестить милую сестру и взглянуть на её молодое, царское хозяйство, Государь отправился в Тверь ко дню именин её, 24-го ноября. Видно, что старое, давно уснувшее соперничество Москвы в ней опять пробудилось; ей казалось, что будет обидно, если Царь, находясь в столь близком от неё расстоянии, не захочет удостоить ее своим посещением. Два маститые старца, граф Остерман и князь Голицын, явились в Тверь от имени всего сонма заслуженных, на покое живущих бояр и вельмож, всего старинного русского дворянства, коими наполнялась и гордилась тогда Москва, умолять Его Величество показать себя ей. Не знаю, как принял он это приглашение, однако же согласился ехать, только не иначе, как с сестрой, желая вероятно тем показать, что единственно для неё предпринял всё это путешествие. Тогда Цари не скакали еще на курьерских из края в край своих государств; их странствования, их появления, вдали от постоянного места их жительства, почитались еще великими событиями, долженствующими занять важное место в скрижалях народной истории. Более восьми лет, со времени его коронации, москвитяне не видали Александра; ни Сперанского, ни Аракчеева с ним не было; всё забыто; радость и восторг были неописанные. Если не сам он, то, по крайней мере, прелестная Екатерина, достойная славного имени бабки своей, разделяла их. Праздник за праздником, пробыл он в Москве целую неделю и даже провел в ней день рождения своего, 12-го декабря. В этот день вечером он довольно милостиво и нежно с нею распростился[119].
В конце мрачного октября сестра моя Алексеева привезла раненного мужа своего из Абова[120]. На костылях представлялся он Государю и Аракчееву; и даже последний принял его ласково, и даже посадил, чего не делал он с корпусными генералами. Вообще в Петербурге никогда ему не было такого житья, как в эту осень и зиму. Из военных, все вельможные часто посещали его, оказывали ему участие и уважение, особливо же недавние начальники его, Каменский и Шувалов. После трудностей похода, после недостатков, часто голода, армейские вообще любят погулять, не заботясь о состоянии своего кармана; в мирное время, как говорится, у них копейка ребром. А этот был особенно добродушный и нерасчетливый весельчак. Натешившись в столице более двух месяцев, получив бессрочный отпуск с сохранением жалованья и окладов, да сверх того некоторую помощь от казны, в самый новый год отправился он с женою, сперва в родимую Москву, а потом к родимым в Пензу, к отцу-матери, к малым детушкам.
Проживши всё это время с зятем и сестрою, мог бы я провести его довольно приятно, если бы на сердце было повеселее Я вступил в тот возраст, в котором люди серьёзно начинают думать о будущем, а оно мне представлялось совсем не в розовом виде. Еще с весны начал я настойчиво просить о должности, о штатном месте. В таком случае ищут обыкновенно в младших. Я полагал, что не имею в том нужды, пользуясь покровительством министра и его товарища. По воле первого и ходатайству последнего, в июле прикомандирован я был к экспедиции государственного хозяйства, коею всё продолжал управлять почтенный и ученый тайный советник Карл Иванович Таблиц; его попечениям был я поручен от министра. Он передал меня Егору Васильевичу Корнееву[121], начальнику третьего отделения, который должен был посвятить меня в таинства соляных дел, в этом отделении производящихся. Он был чрезвычайно кос, говорил со мною мало и смотрел на меня косее обыкновенного. Будучи настоящий бюрократ, видел он во мне белоручку, барчонка. Вся эта порода ко мне не благоволила; были в ней, однако же, выродки и, между прочим, один столоначальник этого отделения, надворный советник Богданович, с которым я должен был заниматься. С весьма добрым сердцем, с большою опытностью, имел он плохое здоровье, собирался в отпуск и возвращаться к должности не хотел, если здоровье ему не позволит. Я предназначен был его преемником, и они употреблял все средства, чтобы, познакомив меня со вверенными ему делами, сделать меня способнее к занятию его места. Он уехал, и я три месяца исправлял его должность. В столе моем были дела по Крымскому соляному производству, и в занятии ими никакого не было колдовства. Корнеев был со мною вовсе не любезен, обходился холодно, даже несколько сурово, но ни малейшей неучтивости не позволял себе: видно, что я был исправен в должности и в обхождении с ним умел быть вежлив и вместе с тем показывать некоторую твердость.
В это время явился жестокий указ 6 августа; последним пределом моего честолюбия поставлены были чин коллежского советника и место начальника отделения. Если б у меня были свобода и состояние, я немедленно бы оставил службу. Небольшое жалованье было для меня необходимостью, и я готов был терпеливо переносить и Корнеева, и все указы Сперанского.
Когда Богданович прислал просьбу об отставке, я считал излишним напоминать о себе, обращаться к министру, к товарищу его или к управляющему экспедицией с новыми искательствами: место столоначальника казалось принадлежащим мне по праву. Вдруг Лошкарев, свояк Корнеева, из другого ведомства, назначен на это место, и я должен сдать ему бумаги. Я было бросился с упреками: Корнеев косо посмотрел на меня и ни слова не отвечал; Таблиц сказал, что у него как-то вышло из памяти и что я напрасно ему не напомнил; «как быть», прибавил он, «дело сделано». Итак, четыре месяца самолюбием, свободою и леностью напрасно жертвовал я желанию быть себе и службе полезным! Зло меня взяло, и я готов был из Петербурга бежать в какую-нибудь пустыню.
В декабре, в одно тихое, ясное, холодное утро встретил я на дворцовой набережной управляющего министерством финансов, почтенного Федора Александровича Голубцова, которого давно я не видал. Он остановил меня ласково и велел идти с собою; потом стал расспрашивать о службе и с участием выслушивал подробности о неудачах моих по ней. «Батинька, голубчик (названия, кои употреблял он с теми, к коим благоволил), приходи ко мне, — сказал он, — там кое о чём на просторе поговорим». В назначенный час явился я к нему и был тотчас допущен; он объявил мне намерения свои. Коллегии, полуразрушенные, всё стояли еще, всё еще не совсем были повалены; удар, готовый навсегда сокрушить сии ветхие, а еще твердые здания, был уже занесен, но никто о том еще не ведал. Министерства всё еще сохраняли названия департаментов, ибо каждое из них состояло из одного; была между ними, однако же, некоторая разница, например, всеобъемлющий департамент внутренних дел был разделен на три экспедиции, из коих каждая имела свои отделения и равнялась числом служащих с другими департаментами, тогда как департамент финансов весь состоял из нескольких только отделений. Одно из них было по кредитной части. Государственный долг был не велик, и она далеко не была столь важною, как ныне, к несчастью, она почитается. Отделением сим управлял статский советник Семен Николаевич Озеров, человек честный, с познаниями и усердием. Пословица говорит: рыба ищет где глубже, а человек — где лучше; в России не совсем так: а человек — где выше. Озеров желал получить место обер-прокурора в Сенате, и оно ему было уже обещано. Не зная, кем заменить его, Голубцов предложил мне вступить в его департамент, сделаться учеником Озерова месяцев на семь или на восемь, может быть на год, и заступить его потом в месте начальника отделения. Можно себе представить, как я обрадовался такому предложению.
Я скорее подал Таблицу просьбу об увольнении меня из департамента внутренних дел, но Корнеев докладывал по ней министру. Не знаю, как он ему представил ее, только князь Куракин чрезвычайно прогневался. Он знал, что кредит его при Дворе падает, что Сперанский, который никогда не мог простить ему того, что был у него в доме учителем, давно уже под него подкапывается; может быть полагал, что это известно его подчиненным и был в весьма дурном расположении духа. В аттестате, мне выданном при увольнении, ни единого слова не сказано мне в похвалу. По вечерам посещал я иногда дом Козодавлева; когда после того увидел он меня у себя, то подошел с видом досады и сказал, что я напрасно поторопился, не предупредив его, что молодые люди всегда теряют от нетерпения своего и тому подобное. Может быть, был он прав, но как мне было знать это тогда? Я отвечал не дерзко, но довольно смело; он отворотился от меня и всегда уже потом был холоден со мною.
Когда, накануне Рождества, пришел я благодарить почтенно-милейшего моего Федора Александровича за определение в департамент финансов, сказал он мне: «Батинька, голубчик, еще покамест не за что благодарить. Теперь к концу года мы чрезвычайно заняты отчетами, а подожди недельки две или три: тогда авось из экстраординарной суммы приищу тебе содержание, с которым ты безбедно можешь прожить до получения настоящего места». Вот с какою сладостною надеждой заснул я в 1809 году и проснулся в 1810-м.
VII
Государственный Совет. — Барклай-де-Толли. — И. И. Дмитриев. — Граф А. К. Разумовский. — Д. А. Гурьев. — 1810. Турецкая война. — Князь Багратион. — Д. Н. Блудов.
В день Нового Года все воротившиеся из дворца от обедни, не один короб, а целый воз привезли с собою вестей. Одна из них поразила меня, как громовым ударом: Голубцов был отставлен. Но я не иначе люблю рассказывать, как всё по порядку.
Со времен Петра Великого был при царях Тайный Совет[122]. Он не имел постоянных заседаний и созывался в нужных, чрезвычайных случаях. Потом продолжал он существовать под именем Совета Его или Её Императорского Величества. По вступлении на престол Александра, Сперанский, чрез покровителя своего графа Палена, предложил разделить канцелярию его на четыре экспедиции, как я где-то выше сказал, и умножить в ней число дел. Этот первый опыт назову я удачным, ибо Совет никогда менее не занимался, ничего не мог сделать, ничего не делал и в новом образовании своем успел уже состариться. Сперанский задумал дать ему новую жизнь, новую силу и посредством его управлять целою Россией. Он назван Государственным Советом и должен был иметь председателя, чего дотоле не было. Сперанский был только что тайный советник и, не смея себя предложить на это место, указал на дарственного канцлера графа Румянцева, которого всё время поглощали затруднительные тогда дипломатические занятия.
Не канцелярию Совета, а самый Совет разделил он на четыре департамента: законов, военных дел, сухопутных и морских, гражданских и государственной экономии. Каждый из них получил особого председателя и несколько членов. Все дела особенной важности должны были подлежать рассмотрению одного из департаментов или общего их собрания. Жалобы тяжущихся Государю на решения Сената, пропущенные чрез вновь учрежденную Комиссию Прошений, также должны в Совете рассматриваться и перерешаться. Одним словом, он сделался высшею инстанцией, соединяющею в себе правительственную, законодательную и судебную власти.
Правителем канцелярии Совета в прежнем её составе был некто тайный советник Иван Андреевич Вейдемейер. Незаконнорожденный сын русских родителей, православной веры, получил он от них немецкое прозвание, как талисман; и действительно, оно одно отверзало ему путь к почестям, на котором ничтожество его, наконец, остановило. При новом преобразовании Совета назначен он его членом, а Сперанский смиренно заступил место этого жалкого творения, только уже под созданным им названием дарственного секретаря. Подчиненные ему, управляющие канцеляриями департаментов, получили титул статс-секретарей.
В картинах, в романах, даже в истории смотрим мы с удовольствием на ужасы, при виде коих в сущности мы бы содрогнулись. Так то было и с императором Александром: отец его, как уверяют, не охотно бы согласился лично находиться в сражениях, а без памяти любил маневры; сын же всегда любил тешиться искусственным изображением представительного правления. Кому лучше Сперанского можно было знать это? Государственный Совет и Правительствующий Сенат умел он в глазах Царя представить подобием верхней и нижней камер парламента, тогдашних Французского Сената и Законодательного Корпуса, тогда как они с ними ничего не имели общего. Совет был ни что иное, как сам Сперанский, который предлагал в нём к слушанию дела, потом, среди общего молчания членов, сам рассуждал о них и определения свои давал им подписывать. Сенат же упал ниже прежнего, превратился в какую-то кассационную палату.
Места председателей департаментов Совета, поставленные выше званий министров, как в том скоро убедились, были не что иное, как необидное, благовидное от сих последних увольнение. Для занятия должности председателя департамента экономии вырыли вечного Николая Семеновича Мордвинова. Министр юстиции, князь Лопухин, и министр народного просвещения, граф Завадовский, уволены от должностей; первый назначен председателем департамента законов, последний — департамента гражданских дел. Соединение званий председателя всего Совета и министра иностранных дел в лице графа Румянцева доказывало, что и их можно было бы оставить при обоих местах (оба были известны своим умом и опытностью); но Сперанскому нужны были министры помоложе и попокорнее.
Но что всего было важнее, непонятнее, изумительнее, Аракчеев, сам граф Алексей Андреевич, оставил Военное Министерство, чтобы занять место председателя департамента военных, сухопутных и морских дел. Кто в этом деле был обманут, Государь ли или Аракчеев? И не оба ли вместе? Первый последнему никогда не оказывал более любви и доверенности. Может быть, думал он этим распространить его занятия и власть. А может быть, наскучив беспрестанным несогласием его с главнокомандующими армиями, ожидая от того вредных последствий в случае более обширной войны, внимая жалобам всего войска, которые были слишком громки, чтобы не доходить до него; может быть, тайно негодуя за то, что Аракчеев, не уважая его выборов, не хотел щадить ни единого из его военных любимцев, а между тем, желая показать, что он не уступает общему мнению, Государь искал средства, как будто возвышая его, устранить от такой части, которою сам он тогда исключительно любил заниматься и в которой министр его не оставлял ему почти никакого дела. Помог ему Сперанский, если сей последний не сам желал парализовать могущество Аракчеева. А этот показывал вид весьма довольный; он, кажется, полагал, что не одна армия, но наконец и весь флот попался в его железные лапы. Так все по крайней мере думали, и бедные моряки чрезвычайно опустили было голову.
Посредством всех этих перемещений, по примеру Англии, возобновлен был почти весь кабинет, что также было по вкусу Императора. И мне приходится в третий раз изображать лица новых министров[123].
Военным назначен главнокомандующий Финляндскою армиею Барклай-де-Толли. Он был немец, а никто из русских не позволил себе тогда поднять голоса против его назначения. Высокая добродетель, высокий ум самих врагов своих заставляют невольно уважать себя. Происхождением из Шотландии, сын ревельского купца и бургомистра, женатый на дворянке Смиттен, Барклай, казалось, не принадлежал ни к какой нации, ни к какому сословию: он принадлежал только к чрезмерно-ограниченному в мире разряду мудрецов и героев. Оставив начальство на две трети уменьшенной армии своей, под именем корпуса, генерал-лейтенанту Штейнгелю, прибыл он в Петербург в половине января. С первых минут показал он твердость и умеренность. Он не согласился подчинить себя Аракчееву (что Государь уже предвидел), потребовал власти равной той, которою предместник его пользовался, и в тоже время действиями своими доказывал, что не употребит ее во зло.
Известный лично Государю, сенатор Иван Иванович Дмитриев был призван из Москвы, чтобы на место Лопухина быть министром юстиции. Это был первый пример тайного советника, поступающего прямо в министры. Кажется, нет сомнения, что Сперанский, перепутывая чины и места, думал уже об уничтожении первых. Зная Дмитриева, как отличного поэта, вспоминая Державина, полагая, что несовершенное знание дел подчинит ему его, он не противился выбору Царя, мысленно сделанному во время недавнего посещения Москвы. Странное дело, что Александр не любил стихов, презирал ими даже, а высоко ценил поэтов. Он полагал, что стихи не что иначе, как блестящие шалости, мотовство богатого ума, сокровища свои попусту расточающего. Во всяком поэте видел он искусного правителя, судью, которого стоит только поставить на истинный путь, ему природой указанный, с которого сила воображения своротила его, и тогда от него более чем от других государство может ожидать пользы. Всё польза да польза, а какая польза без наслаждений вкуса, ума и сердца! Как не знал Александр, что не стихи — поэзия, а любовь, которую в молодости он так сильно ощущал, слава, которою он был очарован, религиозные чувства, которым он так искренно предавался, наконец, все благородные страсти, кои тем сильнее волновали грудь его, чем более он старался скрывать их, желая всегда казаться только мудрым и хладнокровным.
Когда, при вступлении на престол, Павел наследника своего сделал шефом Семеновского полка, Дмитриев был в нём капитаном. Мужественная красота его поразила юношу; остроумие его забавляло и пленяло однополчан, тогда как в тоже время какая-то природная важность в присутствии его удерживала лишние порывы их веселости: они почтительно наслаждались им. Из офицеров тогдашней гвардии немногие отличались образованностью; за то все они, почти без изъятия, подобно Дмитриеву, гордились известностью, древностью благородных своих имен. В самом же Дмитриеве (пусть ныне назовут это предрассудком) старинный дворянин был еще чувствительнее, чем поэт и офицер. Оттого товарищи еще более любили его, в этом только почитали себя ему равными, во всём же прочем признавали его первенство между собою. По какому-то недоразумению схвачен был он (разумеется при Павле) и как преступник посажен в крепость. Не прошло суток, как истина открылась, и он призван в кабинет Царя, куда явился с покорностью подданства и смелостью невинности. Павел восхитился им и, по обыкновению своему, переходя из одной крайности в другую, из гвардии капитанов произвел его прямо в обер-прокуроры Сената, с определением на первую могущую открыться вакансию. Вот в каких обстоятельствах узнал его Александр и после того всегда сохранял о нём высокое мнение.
Как стихотворец, будет всегда занимать он на русском Парнасе замечательное место. До него светские люди и женщины не читали русских стихов или, читая, не понимали их. Не было середины: с одной стороны Ломоносов и Державин, с другой Майков и Барков, или восторженное, превыспренное, или площадное и непотребное, ода Бог или Елисей. Скажут конечно, что Княжнин прежде его написал в стихах две хорошие комедии —Хвастун и Чудаки; да разве в них есть разговорный язык хорошего общества? Доказав Ермаком и Освобождением Москвы всё, что в лирическом роде он в состоянии сделать, не от бессилия перешел он к другому, на первый взгляд более легкому роду. Его Модную Жену, Воздушные Замки и даже множество песенок начали дамы знать наизусть. С недосягаемых для публики высот свел он Музу свою и во всей красе поставил ее гораздо выше гниющего болота, где воспевали Панкратий Сумароков и ему подобные: одним словом, он представил ее в гостиных. То, что предпринял он в стихах, сделал в прозе земляк его, друг и брат о Аполлоне, Карамзин, и долго оба они сияли Москве, как созвездие Кастора и Полукса.
Государь не ошибся, избрав министром поэта Дмитриева; но только не поэта, а коренного русского человека по отцу и по матери. Эти люди, исключая особого какого-нибудь дара, всегда имеют еще врожденные способности ко всему. Оттого часто мы видим у себя моряков, которые, не покидая морской службы, хорошо выучиваются фронтовой, гусаров, которые делаются инженерами; оттого, когда нужда потребовала, видели мы канцелярских, бросающих перо, хватающихся за ружье и саблю и славно владеющих ими против неприятеля. Оттого не должны мы слишком строго осуждать помещиков, твердо в том уверенных, которые, не справляясь со склонностями крепостных своих мальчиков, без разбора, по прихоти отдают их учиться ремеслам: если не все выходят из них мастера, то, по крайней мере, хорошие работники. Русские отличаются этою сметливостью не только от других народов, но и ото всех славянских племен. Дмитриев, который, может быть, никогда не думал о судебной части, должен был заняться ею, вследствие счастливого каприза императора Павла. С его необыкновенным умом, с его любовью к справедливости, ему не трудно было с сею частью скоро ознакомиться, и русское правосудие сделало в нём важное приобретение. Но оно отвлекало его от любимых его стихотворных занятий, коим надеялся он посвятить всю жизнь, и несколько лет провел он в отставке. Желая уму его дать более солидную пищу, Александр сделал его сперва сенатором, а вскоре потом министром. Тогда не был я столь счастлив, чтобы лично с ним познакомиться (это случилось гораздо позже), но как все короткие приятели мои пользовались его благосклонностью, которую впоследствии и на меня простер он, то и тогда я уже знал характер его, как будто век с ним жил. Как во всяком необыкновенном человеке, было в нём много противоположностей: в нём всё было размерено, чинно, опрятно, даже чопорно, как в немце; все же привычки, вкусы его были совершенно русского барина; квас, пироги, паче всего малина со сливками были его наслаждением. Любил он также и шутов, но в них посвящал обыкновенно чванных стихоплетов. Многие почитали его эгоистом[124], потому что он был холост и казался холоден. Любил он немногих, за то любил их горячо; прочим всегда желал он добра; чего требовать более от человеческого сердца? Крупные и мелкие московские литераторы всегда составляли его семью, общество и свиту; в молодости и в зрелых летах был он их коноводом, в старости патриархом их. Человека, не имеющего никаких слабостей, мне кажется любить нельзя, можно ему только что дивиться; Дмитриев, с прекрасными свойствами истинных поэтов, имел некоторые из их слабостей: в нём была чрезвычайная раздражительность и маленькое тщеславие. С этою приправой, самая важность его, серьёзный вид делались привлекательны.
Министром народного просвещения назначен был граф Алексей Кирилович Разумовский, попечитель Московского университета. Он также посещению Москвы Государем был обязан за его выбор. Все сыновья добродушного, ко всем радушного Кирила Григорьевича были не в него спесивы и не доступны. А казалось бы ему скорее можно было в молодости зазнаться при быстром переходе от состояния пастуха к званию гетмана Малороссии, от нищеты к несметному богатству. Все они воспитаны были за границей, начинены французскою литературой, облечены в иностранные формы и почитали себя русскими Монморанси. Трое из них были просто любезные при Дворе и несносные вне его аристократы; один Андрей был известным дипломатом, а двое, Григорий и Алексей, предались наукам, первый минералогии, последний ботанике. Может быть, Линней и был бы хорошим министром просвещения, но между ученым и только что любителем науки великая разница. Из познаний своих делал граф Алексей Разумовский тоже употребление, что и из богатства: он наслаждался ими один, без малейшего удовольствия, без всякой пользы для других. В подмосковном великолепном поместье своем Горенках, среди царской роскоши, заперся он один с своими растениями. Тогда всё почиталось великою ученостью; от любезных ему теплиц оторвали его, чтобы поручить ему рассадники наук: казалось, право, что русское юношество считали принадлежащим к царству прозябаемых. Еще раз должно сказать, что все эти баричи, при Екатерине и после неё, на французский знатный манер воспитанные, в делах были ни к чему не годны, следственно с властью и вредны; и к сотням доказательств того принадлежит Разумовский. Никакой памяти не оставил он по себе в министерстве. Он имел одну только беззаконную славу быть отцом Перовских.
Если трое названных мною новых министров были выписные, из армии, из Москвы, то четвертый был Петербургский, доморощенный, при Дворе откормленный, Дмитрий Александрович Гурьев. При первом учреждении министерств умел он как-то припутаться к партии Новосильцовых, Кочубеев, Чарторыйских и попал в товарищи министра финансов. В тоже время управлял он Кабинетом его величества, то есть карманными его деньгами. Когда в 1805 году Трощинский вышел в отставку, сделан был он сверх того министром уделов; уделы, как известно, почитаются министерством за уряд и в отношении к другим тоже самое, что Марокская империя к империи Австрийской или Российской.
После кончины графа Васильева надеялся он быть его преемником; но всем известная, высокая, огромная его неспособность до того не допустила. Голубцова сделали управляющим министерством; а Гурьеву, старее его чином, нельзя было оставаться его товарищем. С тех пор не переставал он думать об этом министерстве и тайно интриговать о получении его. Осторожность, робость и вместе с тем самостоятельность Голубцова не могли нравиться Сперанскому: он почитал его человеком завязшим в старинной, изъезженной колее. Он всё страшился чрезвычайных займов. Бессмысленный! Разве, разве не знал он, что Англия богатеет, благоденствует в неоплатных долгах: этого рода блаженство желал Сперанский доставить России. В учреждении Совета так было всё устроено, что он мог любое министерство или из него любую часть забирать к себе в руки; при тогдашних обстоятельствах финансовая начинала почитаться важнейшею, а от Голубцова не мог он ожидать совершенной покорности. Он даже не хотел ему дать места в новом своем Совете и в указе о его увольнении ни слова не упомянул о его просьбе. После того Гурьев оставался только именем министр финансов; настоящим не переставал быть Сперанский до самого падения своего, не входя впрочем ни в какие внутренние по канцеляриям распоряжения.
Другой раз встречаюсь я с этим Гурьевым, одним из долговечнейших наших министров и всё как будто избегаю входить на счет его особы и управления в какие-либо подробности. Признаюсь, предмет не самый приятный; но так и быть, начну ab ovo, с яйца, из которого он вылупился. Если верить словам одного старинного рассказчика, бывшего при дворе Екатерины, не покидавшего Петербурга, знающего настоящих отцов многих из нынешних пожилых уже людей, яйцо это было не орлиное. Большие баре в старину любили камердинеров своих, домоправителей, управителей выводить в чины; они гордились этим, они даже смотрели равнодушно, иные даже с удовольствием, как, распоряжаясь их имениями, эти люди наживали собственные; в моей молодости это я еще помню. Один из сих управителей, отец Гурьева, был чрезвычайно любим своим господином, которого рассказчик мой[125] назвать мне не умел, но говорил как о деле в его время всем известном. Не только отпустил он его на волю, не только доставил ему штаб-офицерский чин, но малолетнего его сына позволил воспитывать с собственными детьми. Когда мальчик вырос, отец его имел уже хорошее состояние и мог, записав его в артиллерию, дать ему приличное содержание. Гурьев никогда не был ни хорош, ни умен; только в те поры был он молод, свеж, дюж, бел и румян, вместе с тем чрезвычайно искателен и угодителен; ему хотелось во что бы ни стало попасть в люди, и слепое счастье услышало мольбы его. Он случайно познакомился с одним молодым, женоподобным миллионером, графом Павлом Мартыновичем Скавронским, внуком родного брата Екатерины I, отправлявшимся за границу. Гурьев умел ему полюбиться, даже овладеть им, и более трех лет странствовал с ним по Европе. Этот молодой Скавронский, как говорят, был великий чудак: никакая земля не нравилась ему, кроме Италии, всему предпочитал он музыку, сам сочинял какую-то ералаш, давал концерты, и слуги его не иначе имели дозволение говорить с ним как речитативами, как нараспев. Вероятно и Гурьев из угождения принужден был иногда петь с ним дуэты. Когда Скавронской воротился в Петербург, все молодые знатные девицы стали искать его руки, а он о женитьбе и слышать не хотел. Наконец, сам князь Потемкин пожелал выдать за него племянницу свою Энгельгардт, сестру графини Браницкой и княгини Голицыной. Один только Гурьев мог этим делом поладить, но он торговался и требовал по тогдашнему невозможного: он хотел быть камер-юнкером. Всякого другого, но только не Потемкина, это бы остановило; и так сей брак стараниями его состоялся. Не только получил он камер-юнкерство, но сверх того от Скавронского три тысячи душ в знак памяти и верной дружбы. Молодость, иностранная образованность, придворный чин, богатство, всё это позволяло думать ему о выгодной партии, только новость его имени всё еще мешала ему получить право гражданства в аристократическом мире; он скоро приобрел их, женившись на графине Прасковье Николаевне Салтыковой, тридцатилетней девке, уродливой и злой, на которой никто не хотел жениться, несмотря на её три тысячи душ.
Гурьев не даром путешествовал за границей: он там усовершенствовал себя по части гастрономической. У него в этом роде был действительно гений изобретательный и, кажется, есть паштеты, есть котлеты, которые носят его имя. Он давал обеды знатным, новым родным своим, я только им одним; дом его стал почитаться одним из лучших, и сам он попал в число первых патрициев Петрополя.
Восшествие Гурьева на знатность можно почитать пагубной для неё эпохой. Двор Екатерины и Павла, заимствовавший тон и манеры у Версальского, наследовал ему после его падения и рассеяния его представителей, сделался убежищем вкуса и пристойности и начинал служить образцом другим дворам европейским. Мужчины и женщины старались в нём отличаться вежливостью; непринужденно отделяясь от толпы, они приветливо ей улыбались: чем знатнее кто считал себя, тем учтивее был он с теми, кого почитал себя ниже. Восходящие из ничтожества спешили им уподобляться, чтобы сравниться с ними, и подражание начинало распространяться по провинциям, к чему русское добродушие много способствовало. Революция породила борьбу демократии с высшим дворянством во Франции и, может быть, некоторым образом в соседственных с нею землях; мы же оставались вне её действия. Происшествия заставили в Европе настоящих аристократов принять вид неприязненный против притязаний низших классов: им нужно было надменностью осадить заносчивость людей среднего состояния. В России никто не думал оспаривать прав знатности, сколь впрочем они ни были мнимы и ни на чём не основаны: уважали её возвышение, любили её приветливость. Но всё европейское, рано или поздно или невпопад, непременно должно к нам перейти. Кочубей был первый, который берег улыбки для равносильных ему при Дворе, для приближенных своих, необходимых ему по делам службы и по денежным делам его: всех прочих встречало его надменное, угрюмое чело, скупость слов и убийственный холод. Не говоря о давно прошедшем при Анне и Елизавете, в новейшее время он первый начал входить в постыдные для министра спекуляции.
Но обхождение его можно было назвать ласкою в сравнении с дурацкою напыщенностью Гурьева. Если б посредством родственных и других связей заранее не водворился бы он в так называемом высшем кругу, если б по достижении министерства переменил бы он обращение с людьми, его составляющими, то неизбежно постигнуло бы его название … Сего не случилось, ибо в возвышении его русская знать видела торжество своей касты. Семейства обоих, Кочубея и Гурьева, подражая им, сделались в обществе нестерпимы и наглы со всеми, коих не признавали своими, то есть (чин, титул и древность рода в сторону) со всеми, коих богатство и кредит при Дворе были незначительны. Мало-помалу, умножая число своих приверженцев, семейство Гурьевых похитило законодательство и полицию гостиных. Может быть, пример вечно образцовой для нас Франции также действовал тогда: там один только Талейран умел еще быть учтивым; новые же герцоги, маршалы, министры, префекты, равно как и супруги их, все вылезшие из харчевен, конюшен, кабаков, верно не хуже Гурьевых умели подавлять своею спесью. Министерство Внутренних Дел при Кочубее было так обширно, что в нём самом видели первого министра; после того Министерство Финансов при Гурьеве почиталось выше других; наконец, зять этого Гурьева долго управлял и до сих пор управляет Министерством Иностранных Дел; и как бы прежде ни хвалилась Петербургская аристократия своею независимостью от милостей Двора, официальная сила сих трех человек имела на состав её решительное влияние. Все трое известны были алчностью к прибыли, и по всей справедливости можно почитать их у нас основателями явного поклонения златому тельцу, столь пагубного для нашей чести и нравственности.
Трое только из прежних министров сохранили свои портфели: Румянцев, Чичагов и Куракин; последний не на долго. Сперанский, как все гордые и подлые души, для коих благодарность — бремя и скука, не знал, как совершенно отделаться от первого своего патрона и искал только удобного случая его выпроводить; он скоро представился. Дочь императора Австрийского, эрцгерцогиня Мария Луиза, была, как известно, залогом последнего мира его с Наполеоном. Всемирный этот владыка хотел, чтоб и семейные его происшествия были ознаменованы печатью побед и торжества. Подвластные ему короли и королевы должны были лично присутствовать при его бракосочетании; союзные же государи, коих число было не велико, почитали необходимостью отправить вместо себя знатнейших сановников своих, чтобы быть свидетелями сего великого происшествия. Зная, как все Куракины более или менее заражены тщеславием, Сперанский уверен был, что князь Алексей Борисович не откажется от таковой чести и присоветовал Государю предложить ему сию поездку, в надежде воспользоваться его отсутствием, чтобы, как говорится, доконать его. В марте отправился он на свадьбу в Париж, где старший брат его, князь Александр Борисович, переведенный из Вены, находился чрезвычайным послом. По отъезде его, Министерство Внутренних Дел поручено товарищу его Козодавлеву.
По окончании маневров, более чем военных действий, против Австрии в Галиции, по заключении мира с Швецией, всё внимание обратилось на войну с турками. С 1806 года Молдавия и Валахия по Дунай заняты были Михельсоном, который в следующем году умер. Осьмидесятилетний, полумертвый фельдмаршал князь Прозоровский, заступивший его место, более двух лет мирно управлял княжествами и спокойно начальствовал неподвижною армией. Церемонились с ним, не хотели обидеть его, не решались отозвать, а между тем желали расшевелить старика и оживить гаснущую войну. Для того выдумали послать к нему в помощь знаменитого воина, князя Багратиона, который к концу лета 1809 года действительно успел усадить его на коня и перетащить за Дунай. Бранным шумом и движением гальванизированный труп Прозоровского на несколько дней как будто ожил; но это была последняя вспышка догорающей лампы: одним утром нашли его в палатке заснувшего вечным сном. Багратион не принял начальства над армией, которое и без того уже имел, а получил только звание главнокомандующего. Войска было у него не слишком много; однако же, в продолжении осени успел он без всякого кровопролития взять две важные крепости, Браилов и Измаил, а за Дунаем, без главного дела, во всех частных встречах турки были разбиты и прогнаны.
Война с Швецией приучила Петербург к быстрым успехам, и потому действия Багратиона казались весьма неудовлетворительными. «Вот диковинка, что перешел Дунай; лет пятьдесят тому назад можно было этому дивиться, а теперь никого не польстит название Задунайского; нет, брат, ступай за Балканы». Так рассуждали в Английском клубе. В Петербурге неслужащих весьма мало, а праздных людей чрезвычайно много; все те, которые имели претензии на просвещение, старались быть членами этого клуба, чтобы поврать о политике. Не имея понятия ни о трудах, ни об опасностях, ареопаг сей, упиваясь Шампанским, произносил строгие приговоры генералам; к сожалению, находили они отголоски в обществах. «Сражаться с просвещенными Шведами, кажется, труднее, находили они, чем с варварами, не знающими ни дисциплины, ни тактики. Впрочем, этот Багратион и сам невежда, который знает войну только по практике». Между тем и Аракчеев, который мыслил видно не более их, также гневался на него за медленность и начинал уже ссориться. Багратион стал просить об увольнении, не зная еще, что сам Аракчеев получил его. Государь, общее мнение и новый министр Барклай прочили его место графу Каменскому, и потому никаких, может быть тайно ожидаемых им, препятствий к исполнению его вынужденной просьбы не встретилось.
Назначение Каменского главнокомандующим Молдавскою армией всех обрадовало: все любили его, все уважали, всем известны были его воинские таланты; никто не знал его болезненного состояния. Союз с Наполеоном всё еще продолжался, но ясно можно было видеть, что разрыв замедляется единственно жестокими затруднениями, им встречаемыми на Гишпанском полуострове: Гишпанская война, как шпанская муха, оттягивала от нас бедствия. Пока он не успел еще управиться с великодушными, храбрыми кастиланами и арагонцами, надобно было стараться нам кончить все наши расчеты с соседями и блестящим образом, если можно взятием Константинополя, заключить войну нашу с турками. Усиленная всеми войсками, находившимися в Галиции, предводительствуемая Каменским, чего, казалось, не могла совершить Молдавская армия?
В первых числах февраля, благословляемый всею Россией, Каменский отправился в Букарешт. С ним поехал один молодой человек, о котором много и довольно часто говорил я в сих Записках, но о коем давно уже не упоминал. Возвратившись осенью 1808 года в Петербург, я не нашел в нём Блудова. Занимаясь, наконец, деятельно, при товарище министра иностранных дел графе Салтыкове, во время отсутствия Румянцева управлявшем министерством, еще более уважающем его, чем любящем, отправлен был он с Андреевскою лентой к брату Наполеона, голландскому королю Людовику. Молодой корсиканец, от искреннего сердца сделавшись голландцем, как все новые соотечественники его, полюбил Россию; как они, гордился он славою Сардама, которая навсегда связала их с нами, но которою, как мне кажется, мы не слишком должны гордиться. Молодой человек был отменно хорошо принят при молодом дворе, не совсем еще устроенном, и сам король вручил ему бриллиантовый знак вновь учрежденного им Ордена Союза. Через несколько месяцев возвратившись, нашел он, что при Румянцеве сам Салтыков мало имеет занятий, и он опять остался без дела.
Покойная мать его, почти всегда хворая, жила уединенно в Москве, в соседстве и тесной дружбе с статс-дамою графинею Каменской, женою фельдмаршала и матерью главнокомандующего, которая также семейную жизнь предпочитала светской: редко можно было видеть двух сестер столь нежно любящих друг друга. Перед коронацией Александра приехал из Петербурга к графине Каменской родной дядя её, князь Андрей Николаевич Щербатов с женою и дочерью и остановился у неё. Молодая княжна Анна Андреевна Щербатова примечательна была нежными чертами лица, и при Дворе, где она находилась фрейлиной, многие находили в ней сходство с императрицею Елизаветою Алексеевной; одни давали ей преимущество, другие императрице. Присутствие Петербургской девицы оживило однообразие графини Каменской. Не трудно было княжне Щербатовой, с прелестями, которые она еще имела, с ангельскою кротостью, которою всегда отличалась, с знанием приличий большего света, вскружить голову пятнадцати или шестнадцатилетнему кипучему мальчику, не знакомому еще со светским и женским кокетством, совершенно невинному, но в котором от силы воображения страсти успели уже созреть. Она пленила его, хотя никак о том не думала и несколькими годами была его старее. Эта страсть в следующем году привлекла его в Петербург. За нее должен благодарить он Небо: она истребила в нём все порочные побуждения, жар души его направила к добру и чести. Как можно было почти ребенку помышлять о женитьбе? Долго оставалась она для него только кумиром добродетели, источником чистейших помышлений и чувствований. Исключая несовершеннолетие его, к брачному с нею союзу представлялись еще другие препятствия. Княгиня Щербатова, женщина известная своею набожностью, строгими правилами, примерною преданностью и верностью супругу, (тридцатью годами её старее), гордясь его знатностью и своими добродетелями, была сурова и надменна. Многим молодым людям достойным её дочери отказывала она уже в руке её; чего же можно было ожидать малочиновному дворянчику, у которого, правда, была родословная длиною в восемь столетий, наполненная именами бояр и воевод, но что это значит в России? Под словом знатность разумеется в ней совсем новая или, по крайней мере, подновленная знаменитость. Время и постоянство одолевают всё: графиня Каменская, принявшая на себя все обязанности умершей матери Блудова, вступилась в это дело, и гордая княгиня изъявила, наконец, свое согласие. Для доставления скорейшего повышений будущему родственнику, Каменский назначил его правителем своей заграничной канцелярии, что было очень важно для надворного советника, которому не было двадцати пяти лет от роду.
VIII
Императрица-мать на пути в Тверь. — Пензенский губернатор Крыжановский.
Если счастье наконец улыбалось Блудову, то от меня оно совсем отвратило лицо свое; другому я бы может быть позавидовал, а его успехи были для меня утешением.
Я принадлежал к канцелярии министра финансов, которой еще не видал, в которой решительно никого не знал и ни к Кому не являлся. Собравшись с духом, посетил я Озерова[126], которому известны были намерения Голубцова; он откровенно сказал мне, что сам находится в затруднительном положении, не думает долго сохранить места и советовал мне пока оставаться спокойным, повременить, осмотреться, увидеть, какое возьмут направление дела и люди.
Возвратившись из китайского посольства, был я у Гурьева с письмом от сына его. Как им самим, так и супругой его, к которой водил он меня рекомендовать, был я принят учтиво и получил приглашение их посещать, чем вечера два, кажется, и воспользовался. Не мог я жаловаться, не мог я много и хвастаться их обращением со мною; но, чувствуя необоримую антипатию к ним, перестал ездить, после чего, встречая меня в других домах, они меня не узнавали. По прошествии четырех лет возобновление этого знакомства было не только трудно, даже невозможно. К тому же, сын их, чрез которого могло бы сие сделаться, с которым никогда не имел я связей, но и не прекращал знакомства, который по временам то оказывал мне приязнь, то досадно бывал холоден, находился тогда при миссии в Париже. Добрые люди, с которыми я на этот счет объяснялся, советовали мне никаких не делать попыток, уверяя, что, исключая немногих, чиновники, подчиненные Гурьеву, должны почитать себя счастливыми, когда лишены его лицезрения.
Уступая постоянным жестокостям неумолимой ко мне судьбы, я желал только уклониться от её ударов, оставить навсегда службу, зарыть молодость свою в пензенской деревне и обратиться в прилежного хлебопашца. Чтобы склонить отца моего дать на то согласие, нужны были сильные доводы, убеждения; я не надеялся успеть в том посредством переписки и решился воспользоваться последним зимнем путем, чтобы самому отправиться в Пензу. Я пошел за паспортом к г. Дружинину, новому правителю канцелярии (директоров канцелярии тогда еще не было) и без затруднения получил его. О г. Дружинине здесь распространяться не буду, ибо тогда еще мало знал об нём.
Я спешил оставить Петербург, имея причину опасаться, чтобы от распутицы не засесть где-нибудь на дороге. Совершенная оттепель продолжалась около полутора недель, и в тонком черепке на улицах было менее льду чем навозу, как в самый день выезда моего, 12-го марта, воротилась зима в таком виде, в котором не худо бы было ей всегда являться: выпал снег, потом прояснело, по ночам морозы доходили до двенадцати градусов, днем при тихой погоде красное солнце опять согревало воздух, и последний путь сделался лучше и глаже первопутья.
Несколькими часами после меня выехала по той же дороге вдовствующая императрица Мария Федоровна, и я везде встречал радостные ожидания жителей. Она спешила в Тверь навестить Екатерину Павловну, милое, балованное дитя целого семейства. Это была большая жертва в то время, когда царские особы старались оставаться неподвижны в столицах своих, как изображения богов в храмах и, надобно признаться, умножали тем в народе к себе уважение. Как шибко ни скакал я, лошади, приготовленные для Императрицы, видно, были лучше моих, и на станции Хотилове был я настигнут её величеством.
Вместе с народною толпою подошел я довольно близко к зимнему экипажу, из которого, не выходя, остановилась она, пока переменяли лошадей. Ласково улыбаясь, говорила она что-то, невнятно, худым русским выговором; народ слушал с умилением непонятные для него слова, вероятно, думал он, на каком-нибудь божественном языке. В первый раз еще видел я мужиков, ямщиков, млеющих, трепещущих от восторга. Бабы приговаривали: «Матушка, государыня, старушка»[127]. Не знаю, доходили ли слова сии до неё; по крайней мере не казалась ими оскорбленною эта старушка, красивая и которой пятьдесят лет едва ли тогда исполнилось. Когда я приехал в Вышний Волочок, уже смерклось, и я видел Императрицу, отправляющуюся далее при свете факелов; во всех окошках маленького города зажжены были свечки, тут развешаны были фонари, там горели плошки. Радостный шум, гуляющие толпы нашел я также в Твери; огни нигде не потухали, хотя было заполночь, час, в который жители губернских городов обыкновенно давно уже спят.
Таков народ русский: он любить то, чего боится, Бога и тех, кои от Него над ним поставлены. Может быть, писатели Запада и правы, видя в этом врожденную подлость, называя то закоренелым рабством; только, воля их, не всех же уверят они, что долг в соединении с чувством достоин презрения. Там где люди повинуются по необходимости, из одного страха, там они жалки и до некоторой степени гадки; но примешайся к тому любовь, и всё облагорожено. Горе роду человеческому, когда предметами всеобщего посмеяния, а не восторга его, как было доныне, сделаются любовники, тысячу раз готовые жертвовать жизнью для обожаемой женщины, верные долгу супруги, втайне оплакивающие неблагодарность и непостоянство мужей и не думающие мстить им; покорные с нежностью дети к строгим, даже несправедливым родителям. Горе нам, когда в целом свете терпение и кротость будут почитаться признаками низкой души, а всякое возмущение благородством её: тогда мир наш сделается настоящим адом.
Погода всё не менялась. Ясное небо, более свежий чем холодный воздух мало-помалу успокаивали меня, проливали свет надежды в мраком исполненную душу мою; чистоту и неподвижность атмосферы принимал я как предзнаменование безмятежной жизни, которая ожидала меня среди сельской тишины. Увы, никогда не должен был я насладиться ею! По заведенному обычаю, в Москве остановился я на несколько дней. В этом городе, где провел я несколько лет моего отрочества, число знакомых моих с каждым новым посещением приметно убавлялось; в этот приезд совершенно не помню, с кем я виделся и что я делал.
Напрасно останавливался я в Москве в такое время года, когда одних суток достаточно, чтобы испортить всю дорогу. До Мурома доехал я благополучно; за Окой начались дожди, но по крайней мере ехал я зимним путем; от Арзамаса же почти всё должен был тащиться по голой земле и счастлив бывал, когда выдадутся сотни две сажен грязного льду. В гористой Пензенской губернии каждый овраг превратился в речку, через которую в кибитке на полозьях должен был я почти переплывать. Кое-как однако же 20 марта приехал я в Пензу.
Отец мой, для двух или трехмесячного зимнего пребывания в Пензе, купил на Лекарской улице[128] дом, небольшой, но весьма поместительный. Однако же, как нас собралось много (исключая родителей моих и двух незамужних сестер, жил еще зять мой Алексеев с женою, с двумя сыновьями и учителем), то нам становилось немного тесненько. Но, как говорит пословица, в тесноте люди живут, лишь не в обиде; а мы никто друг друга не думали обижать.
К удовольствию моему, Крыжановский царствовал тирански, деспотически. Он действовал как человек, который убежден, что лихоимство есть неотъемлемое, священное право всех тех, кои облечены какою-либо властью, и говорил о том непринужденно, откровенно. Мне, признаюсь, это нравилось: истинное убеждение во всяком человеке готов я уважать. У каждого, кто имел к нему просьбу, без обиняков требовал он денег; в случае отказа сердился и, силою законов, которых он был искусный толкователь, заставлял раскаиваться скупого просителя. Иногда в присутствии пензенских жителей позволял он себе смеяться над недостатком их в щедрости. «Хороша здесь ярмарка! — говорил он им с досадною насмешкой. — Бердичевская в Волынской губернии дает тридцать тысяч рублей серебром губернатору; а мне здесь купчишки поднесли три пуда сахару; вот я же их!»
Что делать? Виноват ли он был, если всегда жил с такими людьми, в таких обществах, где чести, бескорыстию и притворных похвал не слыхивал? Не надобно также забыть его происхождение: сребролюбие у евреев течет с кровью. Нет в мире народа самолюбивее, нет в мире народа более униженного; в горькой участи его, золото — его утешение, его спасение, единственное его могущество. Он любит его более как средство, нежели как цель. Спасительная вода Св. Крещения может скоро смыть с еврея кровавые пятна, на него и на чадах его положенные; но не скоро, разве через несколько поколений, в потомках его вымоет алчность к блестящим металлам. Жители Пензы губернаторство Крыжановского не хотели признавать настоящим, законным управлением; они почитали его междуцарствием, его же самого называли Вторым Лжедимитрием, Тушинским вором.
Надобно признаться, жалки были пензенцы: как новые филистимляне, порабощены были они тогда племенем иудейским. Вице-губернатор, о котором давно уже я говорил, был всё тот же еще Александр Михайлович Евреинов. Поведение сего единокровного губернатору могло казаться упреком: председательствуя в Казенной Палате, имея много случаев беззаконно наживаться, он ими не пользовался, хотя чувствовал сильное к тому поползновение, но чем-то был удерживаем. Он был в явном несогласии, даже во вражде с Крыжановским; каждый из них с удовольствием выслушивал всякое, злословие на счет неприятеля своего, не позволяя однако же ни малейшей шутки касательно предков его. К сожалению, время показало, что честность Евреинова была одна только робость и что ненавидел он Крыжановского, завидуя лишь его смелости.
Сей последний не был из числа тех подлых взяточников, коим нужна одна только прибыль: деньги деньгами, а почесть почестью. На первом, так и быть, пензенские помещики готовы бы были помириться; но необходимость показывать уважение бесстыдному плуту, дерзкому и сведущему в делах, следственно для них иногда опасному, была для них настоящая мука. Жена его была для них еще несноснее: некогда наемная наложница Василия Степановича Попова, она манерами напоминала польских служанок в жидовских корчмах. Раз попав на губернаторство, полагала она, что ей всё позволено: от разговоров, от рассказов её, женщины, даже легкомысленные, с негодованием потупляли взоры, некоторые мужчины с омерзением отворачивались, тогда как другие с подобострастием улыбались. И она же, злодейка, называла это варварством и непотребное свое просвещение думала распространить в обществе, а между тем никому не позволяла с собою слишком забываться. Великая искусница была она давать комиссии: отъезжающему в Петербург любителю музыки поручала она купить фортепиано для дочери; отправляющегося в Москву, где дешев пушной товар, просила она прислать ей оттуда шубу; едущие на Макарьевскую ярмарку должны были привезти ей: кто шаль, кто несколько цибиков чаю. Делая сии поручения, всегда прибавляла она: после сочтемся. Тем, кои отказывались, уверяя, что у них едва достаточно денег для собственных издержек, никогда она не прощала.
Мои родители между тем жили спокойно в селе своем Симбухине, в 13 верстах от Пензы. Первое посещение зятя, который привез с собой свежие лавры, человека военного, веселонравного, который зимой умер бы со скуки в деревне, из неё вызвало их. Этот переезд был весьма неприятен Крыжановскому, который ни старших, ни равных себе не любил видеть в своей столице, однако же как умел, с обоими обошелся он хотя сухо, но учтиво, и стал изредка посещать дом наш. Только вот беда: все те, кои, без явного неудовольствия держали себя хладно-почтительно в сношениях своих с отцом моим, сделались вдруг к нему отменно-нежными; те же, кои, не умели скрывать вражды своей, употребляли все средства, чтобы с ним сблизиться и, не смея подступить к нему, обращались к членам его семейства с изъявлениями покорности своей и раскаяния. Как было не простить кающихся грешников? В губернских городах есть обычай, существующий и поныне, по воскресеньям без приглашения собираться на вечер к женатым губернаторам; лишь только отец мой переехал в город, когда приходили воскресные вечера, в небольшом доме его не было почти возможности поворотиться: становилось тесно, душно, тогда как губернатор сидел дома один с своим семейством. Это, как говорили провинциалы, делалось в пику Крыжановскому. Ему бы на то не обращать никакого внимания, а он стал яриться, бушевать, всех упрекать в измене. Извиняясь невозможностью разделить себя на два вечера, затейливые пензяки выдумали, собравшись миром, нахлынуть к нему в субботу, в день шабаша. эта дурная шутка пуще прогневала его, и в следующую субботу он никого не велел к себе пускать.
Отец мой не искал ни дружбы, ни ссоры с Крыжановским; последней же избежать однако не мог. Господин Миленин (которого читатель помнит, а может быть и не помнит, всё равно) имел столь мало такту, что, сделав обед в честь приезжего генерала Алексеева, позвал на него как нового, так и старого губернатора. Тестю не могло быть неприятно предпочтение сделанное в этом случае зятю его, который был, как говорят французы, героем праздника; Крыжановский же сильно вознегодовал. К концу обеда, вероятно разгоряченный вином, стал он с грубостями придираться к хозяевам и к посетителю, человеку, не весьма терпеливому. Тот сначала отмалчивался, наконец, вышедши из себя, не прибегая ни к каким обинякам, ни к каким колкостям, просто разругал его и чем-то погрозил. Эта угроза имела полезное действие, ибо в миг охладила запальчивость начальника губернии; а между тем хозяйка была вся в слезах, с другими дамами, тут находившимися, сделалась дурнота. Сие происшествие, весьма маловажное, довольно смешное, было однако же как бы сигналом всеобщего возмущения; все взяли сторону более обидевшего, чем обиженного гостя. Ободряя друг друга, с каждым днем пензенцы делались более дерзки, с каждым днем союз против грабителя становился плотнее. Всё это казалось прискорбно отцу моему, и он нетерпеливо ожидал весны, чтобы скорее воротиться в деревню.
Это произошло до приезда моего. Как человек служащий, долгом я счел явиться к губернатору, и он обошелся со мной иначе, как с другими. Он принадлежал к новому поколению губернаторов, воспитанных в страхе министров, и в глазах которых всякий мелкий чиновник министерства имеет некоторую важность. Учтивость свою простер он до того, что посетил меня в бане, в которой жил я за неимением другого места.
В числе тех, кои пожелали вновь сойтись с отцом моим, было и семейство предместника его Ступишина, с тех пор, как говорил я об нём, уменьшившееся и умножившееся. Почтенный старик, Иван Алексеевич, отошел в вечность; роман дочери его с братом моим не мог вечно длиться: от беспрестанной разлуки должна была погаснуть любовь, которая менее была в сердце, нежели в голове. Тщеславная бабка Леонтьева, опасаясь, чтобы зрелая, хотя достаточная внучка не засиделась в девках, нашла средство выписать для неё славного жениха. Человек лет сорока пяти, совсем без состояния, армейский генерал-майор Семен Давыдович Панчулидзев, на дороге в Саратов к брату, роскошному губернатору, должен был мимоездом осмотреть невесту. Первое приветствие его было: «вы совсем не так дурны, как мне вас описывали». После того можно судить о любезности его; но он был крепок и плечист, у него были генеральские шитье и эполеты и несколько крестов в петлице и на шее, и все романические мечты должны были уступить столь надежной сущности. Еще раз не служит ли это доказательством, сколь силен был тогда в России предрассудок чина и как легко было позолотить его выгодным супружеством. К другим горестям брата моего, находившегося тогда в Финляндии, умеющего искренно и постоянно любить, присоединилось еще известие о сем браке. Более года прошло после того, и госпожа Леонтьева приезжала при мне к матери моей объявить о рождении двух правнуков-близнецов, как бы о новом торжестве своем.
Великих усилий стоило мне с матерью и сестрами убедить родителя моего в том, что служба сделалась для меня невозможною. Лишившись одного сына, он недавно сам ее оставил; получено было известие, что и другой сын его, от благорасположения лично знакомого ему нового военного министра Барклая-де-Толли, ничего не требовал, кроме отставки, и получил ее; наконец, последний сын желал того же. По понятиям тогдашнего времени прискорбна была ему мысль, что нигде в служебных списках и имени его уже не встретится. Успев поколебать его твердость и почти уверен будучи в его согласии, я не спешил с отправлением просьбы.
В конце апреля переехали мы в деревню. Я устроил себе уютный уголок, который старался украсить, как можно более цветами; мысленно делил уже я время на часы, посвященные чтению, прогулке, сельским занятиям, семейным обязанностям, отдохновению: из будущей жизни своей сочинил я настоящую идиллию. От брата моего, вышедшего в отставку и остановившегося в Петербурге для сдачи отчетов, получили родители мои письмо; это было 13 мая, ужасное число, которое осталось мне памятно. Сим письмом уведомлял он, что министр финансов приказал чиновников, числящихся по его министерству и не занимающих штатных мест, прикомандировать в ассигнационному банку; тех же из них, кои находятся в отпуску и не явятся к сроку, велел исключить из службы. Вместе с тем заботливый брат мой писал, что по сему случаю виделся он с Никитою Ивановичем Пещуровым, управляющим банком, старым знакомым моих родителей, также и читателя моего, если у него память хороша, и что г. Пещуров обещается сделать служение мое с ним как можно приятнее, доставить мне занятие, соответствующее моему чину и даже по оному выпросить мне жалованье. После того можно себе представить, что родитель об отставке моей ничего слышать не хотел и что я к поддержанию справедливости моих желаний ничего более сказать не мог. Сборы не могли быть велики для человека, который отправлялся на перекладных. Первый раз еще думал я о Петербурге с отвращением и ужасом и о Пензе с сожалением: какой-то тайный голос уверял меня, что надежды уже не мои, а отца моего, и на этот раз еще не сбудутся. Как бы то ни было, дня через три-четыре по получении письма от брата моего, опрометью поскакал я в Петербург, куда 24 мая и приехал.
IX
Ассигнационный банк. — Опочинин. — А. И. Рибопьер. — Граф Н. М. Каменский. — Преобразования Сперанского. — А. Д. Балашов. — Б. Б. Кампенгаузен. — Князь А. Н. Голицын.
Брата, у которого пристал я на квартире, вместо ожидаемой им благодарности, встретил я грустными упреками. И действительно, какой род службы доставался мне на часть в цветущие годы моей жизни!
Государственный ассигнационный банк есть одно из благодетельных учреждений Екатерины. Пока печатные царские векселя не превышают цену государственных имуществ, их даже нельзя почитать государственным долгом. Там, где по примеру европейских городов, исключая столиц, нет нигде банкиров, там они одни облегчают торговые обороты; польза их как для правительства, так и для частных лиц столь очевидна, что распространяться об ней не нужно. Дальновидный и смелый Сперанский, для прикрытия беспрестанно умножающихся издержек, ничего лучше не выдумал, как чрезвычайно великий их выпуск; от чрезвычайного их упадка не ожидал ли он, как во время Французской революции, каких-нибудь важных последствий? Для того, Гурьев нагнал в этот банк всех без занятий находящихся чиновников своего министерства и подписанием ассигнаций занял их праздные руки.
Первые вельможи почитали за честь быть президентами банков. Старшие члены присутствия назывались советниками, младшие директорами; первые состояли в пятом классе, последние в шестом. Сперанский не успел еще коснуться сего состава; однако же подчиненность президента министру финансов заставила управление банка перейти из рук вельможеских в руки великого почитателя их Пещурова. Горько было мне идти к нему являться; делать было нечего. К счастью, нашел я его уже причесанным и напудренным[129], и не принужден был присутствовать при его туалете. Маленькая тень важности была наведена на свет его приветливого взора и улыбки. Он объявил мне, что еще до приезда моего распорядился он таким образом, дабы я мог занять место сверхштатного директора, и что, в случае умножения штата или открытия вакансии, надеется он доставить мне и следуемое по оному жалованье, всего 1200 рублей ассигнациями. Важность моего нового места состояла в том, что я должен был подписывать ассигнацию выше кассира, хотя немного ниже советника.
Я пошел в то прекрасное здание на Садовой улице, лучший памятник архитектуры, коим Петербург обязан Гваренги, которого наружность так прельщает взоры, а внутренность вмещает так много ничтожества и скуки. Я сказался; какой-то присяжный поднес мне пук новеньких печатных бумажек, стиснутых в плоские щипцы, и я пустился их подписывать. Когда рука моя уставала, я озирался и в обширной зале, где нас сидело десятка три подписчиков, старался разглядеть моих сотрудников: что за неподвижность в чертах, что за бессмыслие во взорах! Каноникатств, синекур с хорошим содержанием тогда не было так много; людям неспособным или ленивым тогда не было такого житья как ныне. Те, коим сильные особы хотели благотворить, но которых пугало всё головоломное, как говорили они, должны были, по крайней мере, не даром есть доставленный им насущный хлеб и принимались за рукоделие, на которое без всякой платы был я осужден. Если сим людям скупая к ним природа из милости и пожаловала немного способности мыслить и сколько-нибудь воображения, то оно должно было в них погаснуть, когда ежедневно на несколько часов превращались они в машины и, привыкая к сему состоянию, могли оставаться им довольны.
Обыкновенно, когда, бывало, пробьет два часа, все автоматы сии начнут медленно подыматься один за другим и меняться несколькими словами. Всегда почти один разговор, одни вопросы и ответы: сколько удалось кому подписать бумажек? Тот, который быстротою пальцев успел перещеголять других, скромно объявлял о том; другие слегка ему дивились. Был, помнится, один жирный немец, барон Дольет, который в этом искусстве всех превосходил, и каждый день тысячами считал подписки своего имени. Несмотря на то, не думаю, чтоб оно дошло до потомства, и на всякий случай, в этой сомнительной надежде, помещаю его здесь.
Если б тогда мне дали жалованье по месту, то с отчаяния может быть решился бы я век оставаться автоматом; в счастью сего не случилось. Прошло лето, июнь, июль месяцы, даже более половины августа, и мне приходилось не в мочь. Прогуливаясь раз по Невскому проспекту, встретил я давнишнего знакомого своего Опочинина, которого несколько времени не видал (со стыда и досады я старался никому не показываться). Он ласково остановил меня за обе руки, пристально посмотрел мне в глаза и, видя, что я не спешу начать с ним разговор, спросил, отчего я так уныл? В двух словах объяснил я ему положение мое. Он пригласил меня в себе, чтобы наедине пообстоятельнее поговорить о средствах из него выйти.
Он был величайший эгоист, греха таить нечего; но в кадке его себялюбия, конечно, вмещалась, по крайней мере, ложка необыкновенного добродушия. Он наверно употребил бы все средства, чтобы выдавить, если можно, раздавить человека, стоящего поперек его дороги; он не стал бы много беспокоиться, чтобы сделать добро кому бы то ни было; если же, однако, представлялся случай без всякого груда одолжить хорошего знакомого, он принимался за то с радостью, с сердечным удовольствием. Он только что недавно оставил военную службу; но, продолжая пользоваться величайшею милостью цесаревича Константина Павловича, при коем дотоле был адъютантом, и даже жительством в принадлежащем его высочеству Мраморном дворце, ему не трудно было у Гурьева, из полковников гвардии, с чином статского советника получить место С.-Петербургского вице-губернатора. Это поставило его в частые сношения со всеми матадорами Министерства Финансов, коих он мягкостью характера, приятностью форм умел привлечь к себе. Надобно прибавить, что он женился на любимой дочери полководца Михаила Ларионовича Кутузова и тем умножил связи свои с большим светом. Помощь такого человека, конечно, могла мне быть полезна. Он нашел, что ничего для меня не может быть лучше, как возвратиться к прежнему намерению и занимать в канцелярии министра по кредитной части, если не первое место, как я прежде надеялся, то, по крайней мере, приготовиться к занятию его со временем. Озеров оставил его; преемником его сделался Рибопьер, родственник жены Опочинина, и он предложил мне дружественно рекомендательное к нему письмо. Я знал сего подрастающего вельможу, и предложение Опочинина мне было вовсе не по сердцу; убеждения его однако же были столь сладки, что я наконец согласился нести письмо его.
Часто случается, что люди, сами по себе ничего незначащие, не имеющие никакого особого достоинства или недостатка, порока, делаются примечательны потому только, что носят на себе отпечаток времени и обстоятельств, в коих находились. В этом отношении Рибопьер заслуживает внимания, и я готов просить читателя не отказать в нём изображению его, которое здесь попытаюсь я сделать. Как история происхождения его, так и его собственная довольно любопытны.
Возвратясь из заграничного путешествия, молодой богач и барич Степан Степанович Апраксин, единственный сын умершего фельдмаршала, привез с собою из Швейцарии молодого (говорят) камердинера, которого, но приезде в Россию, произвел в домашние секретари; он назывался Рибопьер. Вожделенный жених всех знатных невест, Апраксин вел себя, как французский roué тогдашнего времени… В числе его жертв была одна фрейлина, помещенная Екатериною жительством во дворце, как сирота, оставшаяся после знаменитого в войне и мире Александра Ильича Бибикова. Молодой секретарь сочинял ему письма к ней, тайно их передавал… Он был сострадателен, она чувствительна, он старался утешить ее и до того успел в том, что она решилась за него выйти замуж. Несмотря на негодование всех родных, на гнев Императрицы, она устояла в своем намерении. Иностранные имена, особенно французские, были тогда в большой моде; гораздо более препятствий встретила бы девица Бибикова, если б пришлось ей соединиться браком с человеком, который бы носил русское неизвестное название, хотя бы старинное дворянское, например Терпигорева. Когда дело было сделано и помочь ему было нельзя, женевского мещанина[130] записали гвардии сержантом и, как водилось тогда, через несколько времени выпустили в армию капитаном. Он был, говорят, красив, благороден и храбр, служил хорошо, на войне получил Георгиевский крест и в чине бригадира, начальствуя каким-то пехотным полком, убит при штурме Измаила. После него остался один малолетний сын, Александр Рибопьер, о котором идет речь.
Необыкновенная красота мальчика, геройская смерть отца и великие подвиги деда заставили строгую иногда по необходимости, но всегда чувствительную и добрую Екатерину… взять отрока под особое свое покровительство: она сделала его офицером конной гвардии, часто призывала к себе и любовалась им. В восемнадцать лет, когда Павел пожаловал его камергером, на плечах у него такая была головка, за которую всякая, даже довольно пригожая, девица готова была бы поменяться своею. В последние дни его царствования, имел он поединок с князем Четвертинским за одну придворную красавицу; бредя рыцарством, Павел, обыкновенно в этих случаях, бывал не слитком строг; но как ему показалось, что любимая его княгиня Гагарина на него иногда заглядывалась, то из ревности велел он его с разрубленной рукой, исходящего кровью, засадить в каземат, откуда при Александре не скоро можно было его выпустить по совершенному расслаблению, в которое он от того пришел. После того сделался он кумиром прекрасного пола. Сам не менее того начал он обожать себя. И могло ли быть иначе после такого младенчества и в таком блеске проведенной молодости?
Мне случилось иногда видеть его довольно важно танцующего на балах с каким-то тихим самодовольствием; также случалось мне встречать его у князя Федора Сергеевича Голицына, в котором видел он своего Пилада, тогда как тот почитал себя его Орестом. Может быть, для твердости дружественных уз действительно необходима противоположность характеров: сколько в Голицыне было веселости, любезности, сообщительности, столько в Рибопьере было неподвижности, расчётливости, учтивой надменности.
Хотя они были ровесники, первый казался принадлежащим в прежнему, последний — к новому изданию русской аристократии; один хотел как будто властвовать над низшими любовью, другой поражать их своим величием. Ума более чем посредственного, этот человек имел однако же дар довольно кстати помещать в разговоры затверженные им фразы; общие места, с тоном приговора им произносимые, людьми несведущими или невнимательными принимались за новые и глубокие мысли. Амур и гений вместе, он пленял в одно время и изумлял Петербургское общество, за которое, право, я готов краснеть. Наконец, сама холодная и гордая Баденская принцесса Амалия, сестра Императрицы, находившаяся тогда в Петербурге, говорила об нём с восторгом, весьма похожим на любовь. Выдумать себя он не был в состоянии, а умел лишь несколько приблизительно быть подражанием Кочубея; он был плохая с него литография. Красотою, умом он не столько еще гордился, как (кто бы подумал?) знатностью своею и, не краснея, часто любил об ней твердить: одних убеждал он в ней, другим беспрестанно напоминал о её свежести. Он был женат на девице Потемкиной, дочери княгини Юсуповой от первого брака и родственников жены и матери своей не иначе называл, как с прибавлением степени родства их с ним: дядя мой Голицын, тетка моя Браницкая, тетка моя Кутузова[131]. Приобщенный к сонму полубогов, он совершенно забывал смертных, единокровных ему Швейцарских молочниц. В обществе многие находили, что столь необыкновенный человек крадет себя у государства, не посвящая ему великие свои способности; а он давал чувствовать, что не его вина, когда не умеют употребить его с пользою. Указ Сперанского о камергерстве заставил его, наконец, искать места; но всё было не по нём. В судьбе, в происхождении и в притязаниях Гурьева и Рибопьера было слишком много сходства, чтобы у последнего не составились связи с семейством первого и с ним самим. Первое место, сделавшееся вакантным в его министерстве, получил Рибопьер, который, принимая его, согласился попятиться, в надежде скоро далее прыгнуть.
Вот к какому человеку был я адресован, вот кому должен был я подчинить себя! Я бы мог употребить на то Федора Голицына; но это никогда не могло бы прийти мне в голову, если бы не прельщения Опочинина, если бы, закупоренный в Банке, я чуть не задыхался.
У начальника отделения, Рибопьера, нашел я весь порядок, заведенный у министров: курьера, прихожую, ожидающих в ней (впрочем, кажется, только одного), докладчика и выход; нового покроя аристократ никак не пренебрег окружить себя канцелярской помпой. «Что, — сказал я себе, — ведь Озерову или мне никак бы не придумать таких затей! Надобно признаться, что глупцы имеют особый дар придавать необыкновенную наружную важность всякому месту, которое занимают». Двери отворились; я подал записку. Хотя г. Рибопьер никогда не удостаивал меня взглядом, однако же невозможно было ему не знать меня: как было ему не заметить человека, который никогда не гнул перед ним выи, слушая его, никогда не изъявлял удивления? «Мне кажется, я вас знаю, сказал он; я где-то вас видел». — «Может быть, не помню», отвечал я с видом смиренным и гордым вместе. Он спросил меня о чине и узнан воскликнул: «возможно ли, в такие лета?» Ему еще не было тридцати; более десяти был он превосходительным, его звали Рибопьер, и он дивился. Впрочем объявил он мне, что желание мое будет немедленно исполнено. Он, право, был совсем не дурной человек; но баловство света для слабоумных еще хуже чем баловство родительское.
В третьем отделении канцелярии, коим он управлял в этом году, число дел весьма умножилось. Завязалась не весьма обширная и не весьма мудреная переписка с иностранными банкирами, особенно с домом Гоппе и компанией; а как никто из служащих в отделении не знал довольно правильно французского языка, чтобы сочинить на нём бумагу или даже без ошибок переписать ее, то в этом случае я пригодился. Составлением этих важных бумаг по-французски занимался сам Рибопьер; когда ему не хотелось или было некогда (что случалось довольно редко), то мне поручал он их. Раза два-три еженедельно ходил я в канцелярию; всё это было веселее, чем банк, но как там, так и тут ничего я не видел впереди. Было довольно без меня практикантов, народа чернорабочего и тем более нужного; некто Никандр Самойлович Рубцов, род вице-начальника отделения, старее меня чином и гораздо старее летами, да еще несколько братьев Ламанских, которые родились, выросли сперва в столе, потом отделении по этой части, состарились в нём и вероятно умрут и из коих, кажется, одному под конец дней удалось в нём быть начальником. Другого места, кроме того, которое занимал Рибопьер, желать я не мог. «Где ему вперед, — думал я, хорошенько разглядевши его: — без покровительства Гурьева не усидеть бы ему и на этом месте».
Надоел я самому себе, а кольми паче читателю беспрестанными повторениями о горестях и неудачах своих. Для того, устраняя себя вовсе от рассказа сего, примусь говорить о том, что в этом году более интересовало публику, о военных происшествиях новой кампании против турок и о великих переменах по гражданской части.
Бури, свирепствовавшие по Дунаю, не ранее половины мая дозволили Каменскому переправиться через него. Кампания открылась самым блестящим образом: войска, под начальством старшего брата главнокомандующего, графа Сергия Михайловича (не сам он, говорят) 24 мая среди белого дня взяли приступом укрепленный город Базарджик. Через несколько дней спустя, 30 мая, сдалась важная крепость Силистрия. После того армия беспрепятственно пустилась в поход к Балкану. К несчастью, наткнулась она на Шумлу, девственную твердыню, вечный камень преткновения для наших войск. Много потерял времени граф Каменский на осаждение этого места, более природой, чем искусством укрепленного, в котором сам визирь засел со всеми своими вооруженными турками. Частые стычки, в которых русские всегда имели верх, ничего не доказывали и ни к чему не вели. Нетерпеливый Каменский, среди принужденного бездействия, изнывая от досады, пожелал хотя на другом пункте нанести неприятелю какой-нибудь новый, решительный удар. Для того по новому направлению пошел он обратно к Дунаю, и 22 июля, в день именин вдовствующей Императрицы, дал он несчастно-памятный штурм неприступной крепости Рущук.
Отражение неприятельское было совершенно поражением нашей армии. О горе, о стыд, о дело неслыханное! Русские побитые наголову турками! Очевидцы рассказывали, что Каменский, увидя совершенную неудачу свою и с отчаянья забыв весь страх, жаждал смерти и становился в самые опасные места, куда из крепости долетали неприятельские ядра. Полагаясь на ум, на дружбу и на усердие Блудова, с печальным известием отправил он его в Петербург. Он надеялся, что он искусно будет уметь ослабить впечатление, которое оно должно там было произвести; это было трудно, это было невозможно. Напрасно лишил он себя Блудова: из числа людей его окружавших, так мало осталось верных его несчастью. Как войско, так и народ в России чрез меру любит победителей: всё готовы прощать им, всё готовы переносить от них, и всегда забывают прежние заслуги побежденных.
Всю жизнь прослуживши в армии, Каменский не был знаком с тонкостями выражений, употребляемыми в столице, которые смягчают выговор, которые слепую покорность военных людей делают им сносною. Привыкнув сам безропотно повиноваться начальству, он в свою очередь требовал строгого исполнения своих приказаний. Любезен, приветлив в обществе, даже с простыми офицерами, он всё забывал, когда дело доходило до службы, особливо во время войны. С усилением его телесных страданий, умножилась и неровность его характера, и те, коим за несколько часов нежно и грустно он улыбался, нередко встречали его с угрозою и бранью на устах. Несколько придворных генералов, между коими были Уваров, Строгонов, Трубецкой, множество штаб и обер-офицеров гвардейских, прискакали в Молдавскую армию за верными успехами и наградами. Они более затрудняли, обременяли его чем были ему в помощь; он не умел довольно скрывать того и не хотел давать им явного предпочтения перед другими заслуженными воинами. Среди них родились неудовольствия на него, возросли, умножились, и еще прежде Рущука окружен он был интригами, в коих не последнее участие принимал француз, Ансельм-де-Жибори, которого имел он слабость взять с собою. После же этого несчастного дела, все тайно против него восстали, и сам старший брат его, этот гнусный, подлый и завистливый Сергий Михайлович публично за обедом пил за здоровье Бошняк-Аги, начальника Рущука, победителя брата своего, как он его называл. В Петербурге чем более возлагали на него надежд, тем менее прощали ему неисполнение их. Отцы семейств, в сем кровопролитии лишившиеся сыновей, кляли его за эту потерю, как будто он был обязан беречь детей их. Одним словом, рущукская пушка убила вдруг его счастье, его славу, общую к нему любовь.
Однако же, отдохнув несколько времени, с остатками войск пошел он против собравшейся новой, сильной, ободренной турецкой армии, и 26 августа (многократными событиями памятный для России день) разбил ее в прах при селении Ватине. Вследствие сей победы пали последние турецкие крепости на Дунае — Журжа и этот ужасный Рущук. Уже был сентябрь, ничего нового предпринять было невозможно, и кампания кончилась не совсем неудачно.
Что происходило в Петербурге, стоило Рущукского дела. В продолжение целого лета всё государственное здание трещало и ломилось под всесокрушительной и всезиждительной десницей Сперанского. Спокойно-величаво стоявшие дотоле коллегии падали одна за другою, и из развалин их скромно поднимались департаменты. Уже название сие перестало было присвоено целому министерскому управлению, а только частям его, которые наследовали покойным коллегиям. Наименование управляющих экспедициями исчезло и заменилось названием директоров. Иерархия мест и лиц сделалась весьма не длинна и не сложна: министерства делились на департаменты, департаменты на отделения, отделения на столы, коими управляли министры, директора, начальники отделений и столоначальники, точно так как во Франции; нового тут ничего не было придумано. Не всё однако же, что на взгляд просто, бывает удобно и легко. Все другие места, ныне в министерствах существующие, суть вставки сделанные позже.
Название директора банка, которое временно и даже минутно носил я, не могло сделать много вреда званию директора департамента: великая разница между ними была слишком очевидна, и никто не стал бы смешивать первого консула Французской республики с нашим консулом в Марсели. Но Сперанский умел уронить, убить титул директора, при самом его создании, распространив его на правителей канцелярий министров. Это приучило сих последних видеть во всех директорах простых, обыкновенных, хотя более чиновных секретарей. А эти люди в новом государственном порядке должны были представлять президентов коллегий, из коих некоторые еще недавно украшались Андреевскою лентой. Я помню изумление одного провинциала, недавно из губернии приехавшего и давно не бывшего в столице, который ожидал министра в его приемной; тут молчаливо сидел в углу человек с портфелем и с Аннинской звездой, директор департамента Политковский; вдруг позвали его громко к владыке, он с трепетом вскочил и с быстротою кинулся к нему в кабинет. Мой провинциал не хотел верить глазам своим. «Как, забывшись воскликнул он: у министров и секретари нынче в лентах!»
Министры с познаниями, с образованием понимают всю важность звания начальника департамента и видят в них своих товарищей, главных своих сотрудников. Но царский выбор не падает ли иногда на грубияна, на невежду, на неуча, взятого из военных рядов, где не годился он? Случайно достигнув власти, иной не думает о пользе, для которой она ему дана, а спешит показать ее над подчиненными. Ближайшими, первыми жертвами его кто? Директора департаментов. Я не стану описывать их мучений при объяснении дел министру несведущему, бестолковому, и между тем самонадеянному, а буду только говорить о форме взаимных их сношений. Во всякое время дня и ночи, министр имеет право призвать директора и заставить его заниматься. Если первый любит точность, то промедление в явке последнего может навлечь ему жесточайший выговор, хотя бы разница была в нескольких минутах и происходила от неверности часов. Когда же, напротив, министр распоряжается своим временем не с великою точностью, то еще хуже для директора. Прибыв по воле его в назначенное им время, по нескольку часов, иногда голодный и изнуренный, принужден бывает он дожидаться, пока начальник его принимает или делает посещения, или забыл о нём, или занимается другим делом; хорошо еще, когда учтивость заставит его слегка пред ним извиниться. Были министры, которые директорам своим говорили: «Эй ты, как бишь тебя!» Я не говорю, чтоб это всегда было, но иногда бывает и всегда беспрепятственно может быть. Скажут, зачем же они это терпят и не виноваты ли они сами, когда не умеют более внушить к себе уважения? В сношениях такого рода мне кажется всё более относится к должности чем к лицу: если б мусью Виктор Гюго принужден был сделаться моим камердинером, и я не имел бы другого слуги, я не знаю, почему не мог бы я сказать ему: «братец, сними с меня сапоги», может, из уважения к его таланту прибавив «пожалуйста». А тот кто не знает по-французски и не любит стихов?
Упадок директорства совершился не вдруг, а постепенно. Аристократы, которых император Александр почти насильно нагнал в гражданское ведомство, вместо того, чтобы его облагородить, были для него настоящею язвою. В малых чинах и местах, они ничего не делали, гнушались своими сослуживцами и, поддержанные целою кастою своею, ругались над ближайшими своими начальниками; те, которые занимали высшие места, сделались скоро добычею бюрократов и немцев. Опытность и раболепство тех и других должны были нравиться их надменности и маловедению. Их тайно предпочитали они людям благородно-рожденным и благородно-мыслящим, покорным, но не согнутым перед ними; их старались выводить, из них министры выбирали директоров, директора начальников отделений. Тщеславию аристократов лестно было видеть в чинах и лентах тех, коих они могли почитать своими челядинцами. Мало-помалу всё то, что сначала могло казаться злоупотреблением власти, в которому начальство не слишком смело приступало, обратилось, наконец, в общепринятый обычай. Никакого права, на которое могли бы опереться сии беззащитные перед министром, Сперанским дано им не было, что не доказывает дурной его умысел, а только недальновидность. Вот почему нельзя винить ни министров, которые слишком забываются, ни директоров, которые всё переносят от них: всё происходит от недостатков в учреждении министерств.
Государи, коим Сперанский так долго докладывал и мог бы объяснить достоинство звания директоров, сами видят в них ничто иное, как канцелярских служителей. Не так давно один из них за описку в какой-то бумаге был посажен на гауптвахту и, через два дня вышедши из неё, вступил опять в управление департаментом. После того, в случае несправедливости министра, как могут поднять они голос? Какой суд могут они найти? В этом случае их подчиненные счастливее: до министра ближе, чем до Бога и Царя. Обиженный директор, вследствие неудовольствия, не вдруг смеет подать и в отставку; в самодержавном правлении и это может быть сочтено за возмущение против власти.
Надобно посмотреть, как и некоторые директора неудовольствия свои вымещают, на подчиненных, как с ними вознаграждают они себя за претерпеваемые унижения! В свою очередь, у себя дома или в департаменте, как мастерски перенимают они роль у министров! Лучше всех из них выполняют сие аристократы, когда случайно занимают такие должности, как недавно видели мы сие в Рибопьере. Им удобнее то делать; подобострастие к министру, в котором не уступают они бюрократам, ценится гораздо выше, и они служащих под их начальством решительно подавляют своею спесью. Те, которые до директорства дошли из низкого состояния, поступками своими напоминают Римских отпущенников, affranchis. Всё министерское управление у нас состоит из деспотов. Сперанский говорил, что точно также и во Франции; но там была революция, а нас Бог избавил от неё.
Если ни аристократов, ни бюрократов ты не хочешь в министерствах, могут спросить у меня, то кого же тебе надобно? Дворян, природных, наследственных русских дворян; кажется, в них недостатка нет. Если между знатными покажутся выродки, чего однако же мне почти никогда не случалось видеть, то почему не сажать их в Сенат, а по испытании их способностей и еще более патриотизма, не делать и министрами? Вообще нашей знати в таком виде, в котором она находится, должны принадлежать исключительно гофмаршальство, камергерство, придворные чины, золотые мундиры и блеск. Первые и вторые места в государственном управлении должны быть достоянием одних родовых дворян; средние и низшие пусть займут семинаристы. Дети их уже могут идти наряду с старинными, так называемыми у нас столбовыми дворянами. Сперанского указы всё перепутали: придворных разослали по канцеляриям, а дворец наполнился разночинцами, людьми с странными и неслыханными именами, от которых стало в нём и душно, и смрадно. Всё умел уронить этот человек. Зачем было смешивать то, что при Екатерине и её предшественниках так мудро было разделено?
Вместо повествования пустился я более в рассуждения; но как они не чужды предмету рассказа моего, то, не перескакивая, могу к нему воротиться.
Ни к одному из министерств не было отмежевано столько департаментов, как министерству финансов. Так как я служил в нём, то позволю себе здесь их перечесть. 1) Департамент внешней торговли, бывшая коммерц-коллегия, до того министерство; 2) департамент горных и соляных дел, бывшая берг-коллегия, с соляною частью, у министерства внутренних дел отнятою; 3) департамент податей и сборов, в который поступили дела бывшей камер-коллегии; 4) департамент казначейства, часть, коею управлял дотоле государственный казначей, почти министр и перешедший в звание простого директора; 5) вновь учрежденный департамент государственных имуществ, составленный из бывшего лесного департамента и частей по разным другим ведомствам рассеянных и, наконец 6) канцелярия, которая обширностью своею могла равняться с другими департаментами. Сверх того три банка: заемный, ассигнационный и коммерческий. Двигателей сей огромной машины, в составе которой, в продолжение более тридцати лет, происходило мало изменений, если не считать Сперанского, было всего два человека.
Что касается до Министерства Внутренних Дел, которое Сперанский любил, образовал, в котором пять лет служил он управляющим экспедицией государственного благоустройства (переименованной им в департамент полиции исполнительной), то оно как будто попало к нему в немилость. Он расколол его надвое, второй половине дав название Министерства Полиции. Точно также было и у Наполеона, следственно и в этом видно одно только подражание. Преобразователь России забыл или не хотел вспомнить, что в положении двух императоров была великая разница. Две трети подданных Наполеона почитали его хищником престола и всегда готовы были к заговорам и возмущениям: пока он сражался с внешними врагами своими, для удержания внутренних был ему необходим искусник Фуше. То ли самое было в России? Сперанскому сильно того хотелось и, может быть, преступные желания свои принимал он за существенность. Как бы то ни было, Министерство Внутренних Дел, которое при Кочубее и Куракине, равно как и везде, во всех других европейских государствах, почиталось всегда первым, никогда не могло подняться после удара, в сем году ему нанесенного. Играя в департаменты, иногда делало, оно некоторые приобретения, но под конец всегда оставалось в проигрыше и беспрестанно коротело.
Мы видели, как в предыдущем 1809 году из экспедиции водяных коммуникаций скоро переделано было для принца Георгия Ольденбургского новое министерство, под именем главной дирекции путей сообщения. В этом году родилось еще три министерства: полиции, о коем сейчас говорено, государственный контроль и главное управление духовных дел иностранных исповеданий. Сперанский раз навсегда показал, сколь мало затруднительно и даже как удобно в России кроить и перешивать министерства и департаменты. Сколько раз потом видели мы, как последних производили в первые, а первым велели быть последними. Если б умножение дел и сложность их, для быстрейшего их производства, непременно требовали умножения мест и ведомств, то кто бы стал не одобрять сего, как мер, принимаемых мудростью правительства? Но как мы видим часто, что сие делается лишь в удовлетворение честолюбия любимцев царских, то как не пожалеть о казне и не опасаться еще более путаницы в делах? Управление Российской империи похоже на новую её столицу: всё идет ломка и перестройка.
Из прежнего министерства Внутренних Дел оставили новому только два департамента: бывшую экспедицию государственного хозяйства, в которой некоторое время я занимался и из которой кое-что повыбрали, чтоб отдать Министерству Финансов, да еще почтовый департамент, недавно в сие министерство поступивший и называвшийся дотоле главным почтовым правлением. Чтобы сколько-нибудь скрыть худобу его, сочинили ему третий департамент, которому не умели сыскать другого названия, как хозяйственного, хотя был уже департамент государственного хозяйства, что сначала в переписке много спутывало губернаторов. Департамент сей должен был заниматься по делам приказов общественного призрения и богоугодных заведений, от них зависящих.
Не знаю, под какими предлогами князя Куракина целое лето держали в Париже. Во время отсутствия его происходили всё большие перемены в его министерстве, с согласия и, говорят, с участием товарища его Козодавлева, которому в награду за покорность обещано было его место. Нет сомнения, что г. Козодавлев согласился бы управлять и отделением, если б только оному было дано название министерства. По возвращении осенью, найдя министерство свое рассеченным, оборванным, Куракин, несмотря на любовь свою к власти и почестям, отказался от него, как товарищ его сие предусмотрел, и сей последний получил его место.
Приверженцы Куракина облагодетельствованного им преемника его обвиняли в предательстве. Но кто же себе добра не желает?
Кажется, я уже познакомил читателя с Осипом Петровичем; только боюсь, неумышленно не дал ли я об нём худого мнения, которого, право, я сам вовсе не имел. Не всё хорошо в людях, не всё и худо. Слабость, которую разделял он с большею частью людей, занимающих в Петербурге высшие места, конечно являлась в нём несколько в преувеличенном виде: он любил Двор до обожания и для получения милости Царя или даже хорошего расположения его приближенных, готов он всё был сделать. Знакомые его могли на нём, как на барометре, справляться о состоянии придворной атмосферы. Готовые мнения получал он прямо из дворца или из кабинета Сперанского и никаких других себе не позволял. Я помню сначала, как он с женой не произносил никогда имени Наполеона без почтительного восклицания. Некоторое время, гораздо позже и то недолго, либеральные идеи были в моде при Дворе: из раболепного подражания находил он тогда холопские чувства в некоторых баснях Крылова. Что это всё доказывает, если не верноподданничество, которое с нынешними испорченными понятиями только может казаться странным? Корыстолюбие его, впрочем весьма умеренное, никто не думал порицать: всякий знал, что он предается ему не с намерением обогатиться, не из алчности к прибыли, а для поддержания высокого сана, на который был он поставлен. Если бы император Александр был пощедрее к своим министрам, то некоторым из них не нужно было бы прибегать к средствам, не совсем одобряемым строгою нравственностью.
Козодавлев был литератор и член Российской Академии. Ему нужно было щегольнуть словесностью в министерстве своем: для того учредил он при нём газету, под именем Северной Почты, и сам наблюдал за её изданием. Весьма мало заграничных известий помещалось в сей газете, всё из опасения, чтобы не провраться; за то все столбцы её наполнялись статьями о свекловице и кунжуте, и о средствах из сих растений выделывать сахар и масло. После того начали появляться в ней мериносы, шерсть и суконные фабрики[132]. Запретительная система была тогда во всей своей силе, и он старался доказывать, сколь выгодно произведения иностранной промышленности заменять отечественными.
Я не скрыл его недостатков; после того грешно бы было умолчать о его любезных, в столичном мире редких, свойствах. Он был поистине добрейший человек, не знал ни злобы, ни зависти: надобно было видеть его радость, когда узнавал он о чьем-нибудь повышении, о чьих либо успехах! Когда же самому удавалось ему выпрашивать награды, спасать кого от беды, то он совершенно бывал счастлив. Без всякого притворства был он исполнен религиозных чувств; после конечно это пригодилось ему; но он показывал набожность, когда еще она не была в моде. Как было разгадать его? Он был умен, просвещен, добр, христолюбив, а со всем тем!.. Может быть, добротою сердца своего измеряя пучину благости Господней, он более надеялся на милосердие Его, чем на правосудие. Со мною продолжал быть он ласков, когда сделался министром; но по наговору окружающих, почитая меня человеком неуживчивым, вечно недовольным, слышать не хотел, чтобы иметь меня под своим начальством.
Министерство полиции, составленное только из двух департаментов (полиции исполнительной и медицинской), было чрезвычайно сильно небольшою прибавкой, в нём сделанною, как иногда в письме post-scriptum изображает всю важность цели его. Сия прибавка названа Особою Канцелярией.
Многие видели в ней возрождение Тайной Канцелярии, стыда и ужаса прошедших времен России, при коронации Александра его благостью уничтоженной. Для чего было создавать ее вновь? Посредством её что можно было узнавать и удерживать? Вся Россия сделалась нескромною, злилась на Государя своего, а всё-таки, без памяти его любя, готова была всем ему пожертвовать.
Со времен царя Ивана Васильевича Грозного секретною этою частью почти всегда у нас заведуют немцы. Мы находим в истории, что какой-то Колбе, да еще пастор Вестерман и многие другие пленники, желая мстить русским за их жестокости в Лифляндии, добровольно остались при их мучителе и составили из себя особого рода полицию. Они тайно и ложно доносили на бояр, на всякого рода людей и были изобретателями новых истязаний, коими возбуждали и тешили утомленную душу лютого Иоанна. С тех пор их род не переводился ни в Москве, ни в целой России. Всякому новому венценосцу предлагали они услуги свои, и чем власть его была колеблемее и сомнительнее, тем влияние их становилось сильнее, как сие видно при Годунове и Лжедимитрии. Оставляя в сторону кровавое их могущество при Петре и Бироне, в новейшие времена находим мы имена Шварца, Толя, Эртеля гремящими в полицейских летописях. Можно было ожидать, что немец будет министром полиции; но на этот раз Небо избавило от того Россию.
Должность сия поручена была человеку, который успел выказать способности свои в звании, сперва Московского, затем Петербургского обер-полицмейстера. Природа дала всё Александру Дмитриевичу Балашову, взамен приятности наружной, в которой отказала ему; дала ему всё что нужно для успехов: хитрость грека, сметливость и смелость русского, терпение и скромность немца. В ученом смысле, как все тогда в России, получил он плохое образование; но, по мере возвышения в чинах и местах, более чувствовал он потребности в познаниях, кидался на них с жадностью и с быстротою всё пожирал. Заронись одна благородная искра в этот необыкновенный ум, воспламени его, и отечество гордилось бы им.
Я его помню еще тогда, когда он служил в Москве и был более товарищем, чем начальником зятя моего Алексеева. Он жил с ним весьма дружно и часто посещал его: видно, правда, что оконечности охотно сходятся. У одного ни одной заповедной думы не оставалось на душе, всё выходило на язык; другой, совсем не молчаливый, однако же, бывало, не выронит лишнего слова. Он ростом был мал, только что не безобразен, и черты лица его были неблагородно выразительны; а когда послушаешь его немного, то начнешь и смотреть на него с удовольствием. Никакого умничанья, умствования, витийства он себе не позволял, ничего любезного, трогательного не было в его разговорах, а всё было просто, хорошо и умно. Светлый зимний день имеет также свои приятности; речи Балашова были столь же ясны, как его рассудок и так же холодны, как душа его…
Он был женат сперва на одной девице Коновницыной, которая оставила ему детей и весьма хорошее имущество; потом женился он в другой раз на девице Бекетовой, которая была еще гораздо богаче первой жены его, и он сими двумя состояниями пока довольствовался, когда его сделали министром.
Доказательством удивительной его ловкости служит то, что он успевал в своих намерениях, никогда не придерживаясь ни Сперанского, ни Аракчеева; последний почитал его даже врагом своим и старался ему вредить. В начале 1809 года удалось ему уже спихнуть начальника своего, беспокойного князя Лобанова, и самому сесть на его место; это еще первый пример человека из обер-полицмейстеров поступающего прямо в военные губернаторы столицы; с сим назначением вместе произвели его генерал-лейтенантом и генерал-адъютантом. С определением в министры сохранил он и должность С.-Петербургского военного губернатора.
По секретной части, в так называемой Особой Канцелярии, однако же дело не обошлось без немца. Правителем сей канцелярии (еще пока не директором) назначен был надворный советник Яков де-Санглен, вероятно потомок одной из французских фамилий, которые бежали в Германию во время гонений на реформатскую веру. Перед тем, кажется, был он частным приставом и прославился наглостью, подлостью и проворством своим. Не знаю, от того ли, что русские были тогда избалованы Александром или от того, что они чувствовали себя сильными единодушием своим, единомыслием, только никто из них не хотел скрывать глубокого презрения к такого рода людям. Сколь ни опасен, сколь ни страшен для каждого из них был этот де-Санглен, никто не хотел ни говорить с ним, ни кланяться ему.
Государственный контроль было единственное изъятие, сделанное из прежнего Министерства Финансов. Когда о сю пору губернский контроль остается только частью казенной палаты, то право не знаю, зачем бы общую ревизию счетов отделять от министра, от которого казенные палаты зависят? Что могло побудить к тому Сперанского? Разве желание доставить министерское место приятелю своему, прежнему сослуживцу (надеюсь не соумышленнику) Кампенгаузену. Части, составлявшие контроль, были столь малы, что Сперанский посовестился дать им название департаментов, а оставил их по прежнему экспедициями. Само министерство, не получив наименования сего, образовалось в виде какой-то просто отдельной части: сам Кампенгаузен принял титул не министра, а государственного контролера[133].
Он с великою пользою мог бы занять и не столь пустую должность. С умом сухим, холодным, но весьма обширным, с характером твердым, соединял он старинную, прежнюю, пространную, добросовестную немецкую ученость, неутомимость в трудах и все познания, нужные для государственного человека. Ему бы быть министром Финансов, а не Гурьеву; но и сам Сперанский не всегда мог противиться дворцовым интригам, к тому же часть сию в Совете взял он под непосредственную свою опеку. Кампенгаузен был управляющим третьею или медицинскою экспедицией в перво — начальном департаменте внутренних дел, когда Сперанский управлял второю, а Таблиц первою. Потом был он градоначальником в Таганроге, которого и можно почитать его настоящим основателем. Оттуда прямо он переведен министром.
Главное управление духовных дел иностранного исповедания сначала было еще миниатюрнее государственного контроля. Это министерство было ни что иное, как один человек, для которого оно было создано. История этого человека любопытна, занимательна. Как бы у нас ни чванились князья без состояния и без чинов, никто на них смотреть не хочет, даже богатые их однофамильцы; хвала тем, кои, отбрасывая родовое пусточванство, принимаются за дело и становятся, наконец, на ряду, иногда и выше других знатных. Один из беднейших князьков Голицыных отдан был малолетним в Пажеский корпус. Он был мальчик крошечный, веселенький, миленький, остренький, одаренный чудесною мимикой, искусством подражать голосу, походке, манерам особ каждого пола и возраста. Весьма близкая к императрице Екатерине, старая, доверенная ее камер-юнгфера Марья Савишна Перекусихина как-то узнала ого, полюбила, тешилась забавным мальчиком и, наконец, представила его государыне, которая, как известно, чрезвычайно любила детей, что обыкновенно служит лучшим признаком добросердечия. Это составило счастье маленького князя Александра Николаевича. Какое умственное образование можно было получать в пажеских корпусах вообще? Всегда были они только школами затейливых шалостей. Верные первоначальной цели учреждения своего, пышности двора, совсем не государственной пользы, пажи хорошо только выучивались танцевать, фехтовать, ездить верхом. Не знаю, в сем последнем успевал ли наш Голицын, только в нём не было заметно и тени склонности к военному ремеслу. Он рожден был для Двора. Счастливым случаем в него попав ребенком, воспитанный, так сказать, у юбки Марьи Савишны, он навсегда должен был в нём оставаться. Это не избежало от благосклонного и проницательного взгляда Екатерины: когда она женила шестнадцатилетнего любимого внука своего Александра и составила ему маленький двор, то поместила в него Голицына, из камер-пажей пожаловав его прямо в камер-юнкеры и доставив ему средства прилично себя содержать. С нежностью его чувств, как было не прилепиться ему ко внуку своей благодетельницы и с забавным его умом, как не полюбиться молоденькому царевичу! Павел произвел его сначала камергером; а потом, за год до своей кончины, по какому-то неудовольствию на сына, отставил от службы, выслал и из особой милости дозволил жить в Москве.
Первый призванный в Петербург, по воцарении Александра, был разумеется, жертва преданности к нему, веселие его домашней жизни. Князь Голицын был столько скромен, благоразумен, что сперва ничего не желал, ничего не требовал, кроме счастья ежедневно находиться при Царе, наслаждаться его лицезрением, иногда рассевать, если нужно, грусть его. Но не таков был расчёт Государя: между окружающими его не хотел он видеть ни единого праздного царедворца. У князя Александра Николаевича была одна из тех камергерских, пустопорожних голов, которые император Александр, наперекор природе и воспитанию, хотел непременно удобрить, вспахать, засеять деловыми, государственными идеями. Это лужочки, которые весьма удобно покрываются цветами; но на неблагодарной почве их посади семена полезных овощей, и они почти всегда порастут дурманом. Только сначала куда было ему в след за Новосильцовыми, Строгановыми, Чарторижскими лезть на министерство. Творя волю пославшего его в Сенат, он там посидел за обер-прокурорским столом, потом сам сделался обер-прокурором. С помощью добрых или недобрых людей, им там найденных, он, видно, этим делом как-то поладил.
Аппетит, говорят, приходит с едою: вот моего князя взяла честолюбивая зачесь; а почему бы и ему не в министры?
Должность обери, прокурора Святейшего Синода сделалась вакантною; это не министерство, но легко можно из того сотворить отдельную часть. Дотоле синодальные обер-прокуроры, точно также как и сенатские, находились в зависимости генерал-прокурора и наследовавшего ему министра юстиции. При получении сего места, Голицын выпросил себе звание статс-секретаря и право вносить доклады свои прямо к Государю, без посредства какого-либо министра. В беспрестанных сношениях с архиереями и монахами, как стареющая дева, теряющая прелести свои, начал он помаленьку вдаваться в набожность; сперва приятным образом занимали его одни церковные обряды, наконец, совсем к тому не приготовленный, принялся он рассуждать о догматах. Прошло несколько годов, и одних православных служителей церкви ему сделалось мало. Министерства Духовных Дел тогда учредить не решались: это было бы уже слишком явно духовную власть подчинить мирской. Гораздо удобнее было сделать сие с духовенством терпимых вер христианских и нехристианских, и потому-то, оставаясь синодальным обер-прокурором, назначен был он главноуправляющим духовными делами иностранных исповеданий.
Этот добрый, этот бедный князь делался всегда собственностью людей при нём находившихся: то сумасбродов, то злоумышленников, то невежд, то изуверов, и деяния его тотчас окрашивались их мнениями и характером. Неисчислимо зло, причиненное целому государству сим кротким созданием, которое, как слон Крыловой басни, с умыслом бы мухи не обидело. Дело чудное, примечания достойное! Все те, кои были его двигателями, все те, кои направляли его к посягательству на священные права нашей веры, все они печальным, даже несчастным образом кончили поприще свое. Правосудное Небо как будто их всех карало: из них кто сослан был в Сибирь, кто сошел с ума, кто живет в заточении, кто подверг себя добровольному изгнанию; его одного доселе щадило оно, как бы не ведавшего что творил. Много бы говорить об нём; но здесь не место: не один раз найдется оно, если только Записки сии продлятся.
После князя Голицына, первым чиновником в главном управлении сделан был многореченный Александр Тургенев, который придумал для себя название управляющего перепиской, ибо с самого начала в карманном министерстве не было ни единой экспедиции, ни единого отделения, а только небольшая канцелярия, зародыш департамента, мне после столь коротко знакомого.
X
Актриса Жорж. — И. А. Крылов. — Князь А. А. Шаховской. — В. А. Озеров. — Русская словесность. — Русские журналы. — Петербургские словесники. — Беседа Любителей Российского Слова. — Общество Любителей Наук, Словесности и Художеств.
Первый цвет моей молодости увял, и я бы мог тогда уже сказать с Державиным:
Не сильно нежит красота, Не столько восхищает радость, Не столько легкомыслен ум, Не столько я благополучен.Не столько уже я любил театр, и это заметить можно из того, что во всей этой части Записок моих ни разу не упомянул об нём. А всё-таки довольно часто бывал он для меня развлечением в горестном положении моем.
После того, что в последний раз говорил я о петербургской французской труппе, сделала она много богатых приобретений и всё становилась лучше. Несмотря на общее недоброжелательство к наполеоновой Франции, лучшая публика продолжала французский театр предпочитать всем прочим. Приехавшая в 1805 году девица Туссен, после того госпожа Туссен-Мезьер, было такое чудо, которому подобного в ролях субреток я никогда не видал: непонятно, как выпустили ее из Франции. В Париже могла бы она поспорить с девицею Марс, хотя и выполняла неодинаковые с нею роли. Вместо состарившегося Лароша, явился в комедии еще нестарый Дюран. В нём было что-то приготовленное, манерное, более выученное чем естественное; это однако же не мешало ему нравиться старым барыням с молодым сердцем, и его искусственная к ним любовь, говорят, не менее того их пленяла. Старик Фрожер из сценических шутов перешел в комнатные, в домашние.
Трагедия Французская в Петербурге высоко вознеслась в 1808 году прибытием или, лучше сказать, бегством из Парижа, казалось, самой Мельпомены. Что бы ни говорили новые поколения, как бы ни брезгали французы старившимся искусством девицы Жорж, подобного ей не скоро они увидят. Голова её могла служить моделью еще более ваятелю, чем живописцу: в ней виден был тип прежней греческой женской красоты, которую находим мы только в сохранившихся бюстах, на древних медалях и барельефах, и которой форма как будто разбита или потеряна. Самая толщина её была приятна в настоящем, только страшила за нее в будущем: заметно было, что её развитие со временем много граций отымет у её стана и движений. Более всего в ней очаровательным казался мне голос её, нежный, чистый, внятный; она говорила стихи нараспев, и то, что восхищало в ней, в другой было бы противно. В игре её было не столько нежности, сколько жара; в Гермионе, в Роксане, в Клитемнестре, везде, где нужно было выразить благородный гнев или глубокое отчаяние, была она неподражаема. Ксавье, великан в юбке, не стыдилась показываться вместе с ней; однако же, как должно было страдать её самолюбие, видя всех прежних рукоплескателей своих превратившихся в шикателей!
Для забавы друга своего Александра, в Эрфурте, и на удивление толпы прибывших туда королей, Наполеон выписал из Парижа труппу лучших комедиантов. Между ними русскому императору более всех игрой полюбилась девица Бургоэнь; заметив то, Наполеон велел ей отправиться в Петербург, чего сама она внутренне желала. Замечено, что Парижские актеры охотно меняют его только на Петербург, и Россия есть единственная страна, которая оттуда умеет сманивать великие таланты. Щедрее ли других она платит, или касаясь пределов Китая и Персии, по весьма извинительному честолюбию в артистах, надеются они, что через нее лишь слава их может достигнуть до концов вселенной? Публике мамзель Бургоэнь очень полюбилась; но Царь и двор его не обратили на нее особенного внимания. Она также играла на обе руки, молодых девиц и женщин в комедиях и трагедиях. Один из зрителей, весьма энергически, совершенно по-русски, прозвал ее настоящею разори ой; и действительно, при милой её рожице и отличном таланте, в ней было что-то чересчур удалое. Когда она играла пажа в Фигаровой Женитьбе, все были от неё без памяти; когда же хотела быть трогательною в Ифигении, невольно располагала всех к смеху. Года полтора или два она оставалась в Петербурге, потом соскучилась о Париже и в него вернулась.
Вместе с Жорж бежал к нам первый парижский танцовщик Дюпор. О причинах их бегства, о связи их, о чей-то ревности, о чьих-то преследованиях, о всех по сему случаю закулисных интригах мне подробно тогда рассказывали; но, признаюсь, я ничего не припомню, и, право, кажется, нет в том большой надобности. Самого же Дюпора я никак не забыл: как теперь гляжу на него. Все телодвижения его были исполнены приятности и быстроты; не весьма большого роста был он плотен и гибок, как резиновый шар; ноль, на который падал он ногою, как будто отталкивал его вверх; бывало, из глубины сцены на её край в три прыжка являлся он перед зрителями; после того танцы можно было более назвать полетами. В короткое время образовал он шестнадцати или семнадцатилетнюю танцовщицу, Данилову, в которую скоро влюбился весь Петербург и которая была превыше всего, что в этом роде он дотоле видывал. Страсть к ней зрителей желая удовлетворить и деспотически распоряжаясь своими воспитанницами, дирекция беспрестанно заставляла ее показываться, не дав ей распуститься, убила ее во цвете, и она погибла, как бабочка, проблистав одно только лето. Для образования её Дюпор, как уверяли, употреблял гораздо более нежные средства, чем жестокосердый Дидело, который между темь всё продолжал быть балетмейстером. Сообразуясь с новым вкусом, он начал ставить на сцену одни только анакреонтические балеты, тем более, что Дюпор в них одних соглашался танцевать. Исключая Даниловой, были тогда еще две замечательные русские танцовщицы; одна из них, гораздо прежде на сцене и гораздо старее летами, должна была вдруг остаться почти без употребления. С выразительными чертами лица, с прекрасною фигурой, с величавою поступью, Колосова, лучше чем языком, умела говорить пантомимой, взорами, движениями; но трагические балеты брошены, и нашей Медее ничего не оставалось, как, пожимая плечиками плясать по-русски. Другая, Иконина, была хороша собою, высока ростом, молода, стройна, неутомима и танцевала весьма правильно; но всякий раз, что появлялась, заставляла со вздохом вспоминать о Даниловой. Вдруг напала на нее ужасная худоба, румяна валились с её сухих и бледных щек, и она сделалась настоящим скелетом. Тогда еще менее она стала нравиться, ибо кому приятно смотреть на пляску мертвецов?
Менее всего в последние семь или восемь лет произошло перемен во Французской опере. Всё та же Филис продолжала царствовать в ней с своим ничтожным Андрие, как бы какая нибудь английская королева с каким нибудь Кобургским принцем. Голос её, кажется, сделался еще сильнее, её искусство еще усовершенствовалось; только одного лица её годы не пощадили. Она не хотела никакого соперничества и к одинаковым с своими ролям подпускала только сестру свою Бертень, да старую Монготье. Попыталась было дочь знаменитого композитора Пиччини, довольно изрядная певица, показаться в операх отца своего; куда! Филис с своим семейством и с своею партией скоро ее выжила. Она даже не хотела другого тенора, как мужа; но это было решительно невозможно; наконец, он стал просто говорить под музыку. Тогда два порядочные певца, Дюмушель и особенно Леблан, приняты дирекцией. Одно семейство, которое знало Филис, было ею самою приглашено; оно состояло из Месса, хорошего баса, жены его для старушечьих ролей, и дочери их, мадам Бонне, для ролей женщин средних лет.
Итальянская опера не могла поддержаться в Петербурге; в 1806 году надолго прекратилось в нём её существование. Однако же она оставила по себе память: она несколько обработала вкус любителей музыки и сделала ее строже и разборчивее к её произведениям. Все мы продолжали любить французские комические оперы; но уже начинали в них чувствовать превосходство Херубини перед другими, и когда в 1809 году показалась Весталка, сочинение Спонтини, французская опера с итальянизированной музыкой, то приняли ее с восторгом.
Чуть было в это время не опротивела нам итальянская музыка от прибывающих старых, отставных примадонн, которые, за ненахождением сцены, давали слушать себя в концертах. Мадам Мара, которой печатные портреты везде продавались и которая долго гремела в Европе, давно уже умолкла. Кто-то подбил ее приехать в Россию: «этим, дескать, северным варварам нужна одна только слава имени, а недостатков пения они не в состоянии будут разобрать». Может быть, действительно, были мы тогда плохие судьи в искусствах; но что касается до свежести лица и голоса, то в этом русские всегда были любители и знатоки. Уважение их к знаменитости таланта также не служило признаком их невежества, и они показали то, в почтительном молчании выслушав Мара. Когда же, одобренная сим полууспехом, явилась другая старуха, Фантоцци Маркетти, то и они нашли, что это дурная шутка, уже не были столь учтивы и расхохотались после первой арии. Странно, что после того обе они остались навсегда в России и кончили в ней век: видно в тогдашней хлебосольной нашей стране всякий мог как-нибудь прокормиться.
Не одни они, но еще и другие обветшалые, поношенные таланты повадились тогда к нам ездить. Приехала мамзель Сенваль, которая гораздо прежде революции извлекала слезы у Марии-Антуанетты и принцессы Ламбаль; но после того прошло около тридцати лет, а она и смолоду была неуклюжа и неблагообразна. Ну, так и быть, подавай ее сюда: графы и князья, которые видели блеск Версаля, утверждают, что она чудо. У каждой актрисы есть своя любимая роль, в которую для дебюта облекается она, как в праздничное платье; Сенваль явилась нам Аменаидой. Я не буду говорить о лице её; но как не содрогнуться, увидев страстную любовницу, малорослую, толстую, кривобокую, с короткою шеей и в карикатурном наряде! В продолжении первых двух действий зрители были удерживаемы от смеха чувством отвращения. Коль же скоро, в третьем действии, осужденная на смерть, показалась она в цепях, в белом платье с распущенными волосами, тогда самый голос её, дотоле охриплый, казалось, вдруг сделался чист и трогателен; из глубины её сердца потекли рекою прекрасные стихи Вольтера. Так было до конца, и между зрителями остались нерастроганными только те, которые на сцене в женщинах ищут одной красоты. Нельзя себе представить, сколько истинного чувства было в этой женщине: она была воплощенная трагедия, к несчастью, в самой безобразной оболочке. Она не думала затмить Жорж (их роли были совсем не одинаковые), но сравнение их наружности было убийственно для бедной Сенваль. Всего еще в двух трагедиях играла она, в Китайской Сироте да в Ипермнестре, только почти без всякого успеха. Со стыда, сердечная, скорее куда-то уехала.
Три четверти петербургской публики из одних афишек только знали, что дают на немецком театре; а чего на нём не давали? Число драматических писателей в последнее двадцатипятилетие в Германии чрезвычайно расплодилось, и каждый из них был отменно плодовит. Сей огромный репертуар беспрестанно умножался еще переводами итальянских и французских опер и английских трагедий. И всё это у нас играли, и немецкая ненасытимость всё это поглощала. Источник такого богатства быль у нас под носом, и никто не думал черпать из него; никто не спешил ознакомиться с гениальными творениями Лессинга, Шиллера и Гёте. Таков был век.
Мы, вслед за французами, почитали Аристотелево правило о трех единствах на сцене нашею драматическою верой, тогда как, в творческой гордости своей, немцы совершенно пренебрегали им. Французы, наши наставники, приучили нас видеть в немцах одно смешное, а мы на счет сих последних охотно разделяли мнение их, по врожденной, так сказать, инстинктивной к ним ненависти. Тогда она чрезвычайно ослабела; лежачего не бьют, говорят русские, а мы того и глядели, что сами ляжем с ними под каблук Наполеона. Несмотря на то, в хорошем обществе кто бы осмелился быть защитником немецкой литературы, немецкого театра? Сами молодые немцы, в нём отлично принятые, Палены, Бенкендорфы, Шепинги, если не образом мыслей, то манерами, были еще более французы чем мы. Некоторые из них со смехом рассказывали сами, как в иных пьесах герой, которого видели юношей в первом действии, в последнем является стариком, как первое происходит в Греции, а последнее в Индии; тридцать или сорок действующих лиц были также предметом общих насмешек. Названия играемых трагедий или драм: Минна фон-Бартельм, Гётц фон-Берлихинген, Доктор Фауст, казались уродливы, чудовищны. И что это за Мефистофель? И как можно чёрта пустить на сцену? Это тоже, что пьяного сапожника представить в гостиную знатной модницы. Всё это казалось неприличием, отвратительною неблагопристойностью. Я помню раз в театре старого графа Строганова, который так и катался, читая Damen, Senatoren und Banditen на конце афишки, возвещающей первое представление Абеллино. Пристрастные к собственности своей, немцы между тем молчали и себе на уме думали, что придет время, когда они поставят на своем. Оно пришло. Никому ныне не осмелюсь я сказать того, но в сей тайной исповеди должен признаться, что в этом отношении о прошедшем времени я часто вздыхаю.
Что бы сказать мне о немецкой труппе? Я уже раз говорил об ней, называл Брюкля, Штейнсберга, Линденштейна; они оставались бессменны. Пьесы давались беспрестанно новые, а играли их актеры всё старые. Упомянуть ли мне об одной, довольно плохой актрисе, о которой много говорено было в обществе молодых людей? Девица Лёве была совершенная красавица; одни только неимущие обожатели сей расчетливой немки находили, что она достойна своего имени, что в ней жестокость львицы; щедрые же богачи видели в ней кротость агнца. Уверяли, что прежний мой начальник, скупой граф Головкин, для неё только был отменно чив.
Русским театром хочу я заключить: успехи его тесно связаны с успехами нашей словесности, и переход от одного к другой будет естественнее. Об одном, как и о другой говорил я очень мало в предшествующей второй части сих Записок; да и правду сказать, говорить много было бы трудно: успехи обоих шли слишком медленно в первое пятилетие нынешнего века.
Пристрастие ко всему иностранному и особенно к французскому, образующегося русского общества, при Елизавете и Екатерине, сильно возбуждало досаду и насмешки первых двух лучших наших комических авторов, Княжнина и Фон-Визина, как оно возбуждало их тогда и возбуждает еще и поныне во всех здравомыслящих наших соотечественниках. Если бы что-нибудь могло ему противодействовать, то, конечно, это были забавные роли Фирюлиных в Несчастии от кареты, и в Бригадире — глупого бригадирского сынка, которого душа, как говорит он, принадлежит французской короне. Но течение подражательного потока, в их время, было слишком сильно, чтобы какими-нибудь благоразумными или даже остроумными преградами можно было остановить его, тогда как не только нам, потомкам их, едва ли нашим потомкам когда-нибудь удастся сие сделать.
Воспитанный в их школе, Крылов, если можно сказать, еще быстрогляднее их на несовершенства наши, думал, что приспело к тому время, когда, в надменности нашей, при Александре, забыли мы даже сердиться на немцев и, казалось, в непримиримой вражде с революцией и Бонапарте. Он жестоко ошибся. Что могло быть веселее, умнее, затейливее его двух комедий, Урока Дочкам и Модной Лавки, игранных в 1805 и 1806 годах? Можно ли было колче как в них осмеять нашу столичную и провинциальную галломанию? Во время частых представлений, партер был всегда полон, и наполнявшие его от души хохотали. Конечно, это был успех, но не тот, которого ожидал Крылов. Только этот раз в жизни пытался сей рассеянный, по-видимому, ко всему равнодушный, но глубокомысленный писатель, сделать переворот в общественном мнении и нравах. Ему не удалось, и это, кажется, навсегда охолодило его к сцене.
Высшее общество, более чем когда, в это время было управляемо женщинами: в их руках были законодательство и расправа его. Французский язык в их глазах был один способен выражать благородные чувства, высокие мысли и все тонкости ума, и он же был их исключительная собственность. И жены чиновников, жительницы предместий Петербурга, и молодые дворянки в Москве и в провинциях, думают смешным образом пользоваться одинаковыми с ними правами. Какие дуры! Спасибо Крылову, и они одобряли его усилия и улыбались им. Что может быть общего у французского языка, сделавшегося их отечественным, с тем, что происходит во Франции? И она, грозившая овладеть полвселенной, в их глазах находилась в переходном состоянии. Таково было упорное мнение эмигранток, их воспитывавших, которое они с ними усердно разделяли. И к счастью, они не ошиблись.
Всё это гораздо легче Крылова мог подметить другой драматический писатель, более его на сем поприще известный, князь Александр Александрович Шаховской. Сперва военная служба в гвардии, где он находился, потом придворная, мало льстили его самолюбию. Он рожден был для театра: с малолетства все помышления его к нему стремились, все радости и мучения ожидали его на сцене и в партере. Как актер, утвердительно можно сказать, он бы во сто раз более прославился чем как комик: не будь он князь, безобразен и толст, мы бы имели своего Тальму, своего Гаррика. Согласно его склонностям, был он впоследствии определен управляющим по репертуарной части императорских публичных зрелищ, под начальством главного директора Александра Львовича Нарышкина. Тогда он сделался бессменным посетителем дома своего начальника, в котором соединялось и блистало всё первостепенное в столице, но в котором оставалось много простора для ума и где можно было (однако же не забываясь) предаваться всем порывам веселости. Странен был этот человек, странна и судьба его; и стоит того, чтобы беспристрастно разобрать как похвалы, некогда ему расточаемые, так и жестокие обвинения на него возводимые.
Права рождения, воспитания спозаранку поставили его в короткие сношения с людьми, принадлежащими к лучшему обществу; вкус к литературе сблизил его с писателями и учеными; наконец, страсть к театру кинула его совершенно в закулисную сволочь. Первую половину жизни своей беспрестанно толкался он между сими разнородными стихиями, пока под конец совсем не погряз он между актерами и актрисами. Много дано ему было природою живого, наблюдательного ума, много чтением приобрел он и познаний; всё это обессилено было в нём легкомыслием и слабостью характера Каждое из сословий им посещаемых оставляло на нём окраску; но невоздержность, безрассудность, завистливость жрецов Талии всего явственнее выступала в его действиях и образе мыслей. Оттого-то всякая высокоподрастающая знаменитость, особенно же драматическая, приводила его в отчаяние и бешенство, которых не имел он силы ни одолеть, ни скрыть. Против одной давно утвердившейся знаменитости не смел он восставать и одной только посредственности умел он прощать. И со всем тем он был чрезвычайно добр сердцем, не злобив, не злопамятен; во всём что не касалось словесности и театра, видел он одно восхитительное, или забавное, или сожаления достойное.
Как ни горячился он, но, почти живши в доме у Нарышкиных, всегда имел он сметливость не идти против господствующего мнения в большом обществе. Он охотнее нападал на тех, коих более почитал себе под силу. Петербург мало дорожил тогда Москвою. Карамзин, живущий в ней, казался ему безопасен. Карамзин, предмет обожания москвичей, весьма преувеличенного молвою, приводил его в ярость, и он хватил в него Новым Стерном. Он уверял, что хочет истребить отвратительную сентиментальность, порожденную будто им между молодыми писателями и, в тоже время, сознавался, что метит прямо на него. После того, в двух комедиях, впрочем весьма забавных, Любовная Почта и Полубарские Затеи, без милосердия предавал он осмеянию деревенских меломанов и учредителей домашних оркестров, трупп и балетов, все как будто похитителей принадлежащих ему привилегий и монополий. Потом с каждым годом, становился он плодовитее. Сделавшись властелином русской сцены, он превратил ее в лобное место, на котором по произволу для торговой казни выводил он своих соперников. Надобно, однако же, признаться, что страсть его, не совсем дворянская и княжеская, имела самое благодетельное действие на наш театр: его «комедий шумный рой», как сказал один из наших поэтов, долго один разнообразил и поддерживал его. Что еще важнее, он был неутомимым и искусным образователем всего нового, молодого поколения наших лицедеев.
Около описываемого мною времени, жил он в большом согласии с одним поэтом, мало дотоле известным, хотя он был уже в чинах и довольно зрелых летах. Мне случалось видеть и не один раз разговаривать с Владиславом Александровичем Озеровым, потому что он был двоюродным братом Блудова и что сей последний, по чрезвычайной молодости лет, кажется, с начала приезда своего был поручен его попечениям. Многие утверждали, что он ума не обширного; мне казалось совсем противное: я слушал его с величайшим удовольствием, а от произведений его бывал вне себя. Только в конце 1804 года началась его литературная известность, самым блестящим образом. Все старые трагедии Сумарокова и даже Княжнина, по малому достоинству своему и по обветшалости языка, были совсем забыты и брошены. Переводу Шиллеровых Разбойников названия трагедии давать не хотели, и казалось, что разлука наша с Мельпоменой сделалась вечною. Вдруг Озеров опять возвратил ее нам. Появление его Эдипа в Афинах самым приятным образом изумило Петербургскую публику. Трагедия эта исполнена трогательных мест и вся усыпана прекрасными стихами, из коих многие до сих пор сохранились еще в памяти знатоков и любителей поэзии. Много способствовал также успеху этой пьесы первый дебют молоденькой актрисы Семеновой в роли Антигоны: с превосходством игры, с благозвучием голоса, с благородством осанки, соединяла она красоту именно той Музы, которой служению она себя посвящала.
В конце следующего года показался его Фингал. Тут было гораздо более энергии, и дикая природа Севера, которою отзываются характеры всех действующих лиц, нашим северным зрителям, Spectateurs du Nord[134], весьма пришлась по вкусу. Едва прошел год, и Дмитрий Донской был представлен в самую ту минуту, когда загорелась у нас предпоследняя война с Наполеоном. Ничего не могло быть апропее, как говаривал один старинный забавник. Аристократия наполняла все ложи первого яруса с видом живейшего участия; при последнем слове последнего стиха: Велик Российский Бог, рыдания раздались в партере, восторг был неописанный. Озеров был поднят до облаков, как говорят французы. Сие необычайное торжество, увы, было для него последнее. Столь быстрых, столь беспрерывных успехов бедный Шаховской никак не мог перенести.
Сколько припомню, в 1808 году, поставлена была на сцену последняя трагедия Озерова, Поликсена. В пособиях, которыми дотоле Шаховской так щедро наделял его, как сказывали мне, сталь он вдруг ему отказывать и, напротив, сколько мог, во всём начал ставить ему препятствия. Наша публика, неизвестно чьими происками предупрежденная не в пользу нового творения, на этот раз не возбуждаемая более патриотизмом и не довольно еще образованная, чтобы быть чувствительною к простоте и изяществу красот гомерических, чрезвычайно холодно приняла пьесу. Ничто не могло расшевелить ее, и даже пророчество Кассандры, которым оканчивается трагедия и в котором, предрекая грекам падение их и возрождение, она говорит им, что придет народ
от стран полнощных Оковы снять с Ахеян маломощных.Сии стихи, которые бы должны были наполнить наши груди восторгом благородной гордости (и которые, кроме меня, едва ли кто помнит) были лебединою песнью несчастного Озерова.
Он всегда расположен был к ипохондрии; чрезвычайная раздражительность нервов его к тому располагала, и оттого-то так сильно принимал он к сердцу всякую неудачу. Последняя поразила его, и он видел в ней совершенное свое падение. Он начал убегать общества, уединялся, дичал, наконец бросил службу и скрылся в какой то отдаленной деревне. Там решился он ума и, к счастью, вскоре потом и жизни.
Но пример его прошедших успехов был заразителен для целой толпы недавно проявившихся мелких стихотворцев: все захотели быть трагиками. Одному только из них, Крюковскому, удалось сладить с оригинальною трагедией, Пожарский, довольно хорошими стихами писанною; все же другие думали прославить себя одними переводами. Молодой воин Марин перевел Меропу, и старый Хвостов Андромаху[135]. По следам их Гнедич перевел Танкреда, Жихарев Атрея, а Катенин Сида и Аталию (по его Гофолию). Затем уже составилась целая компания переводчиков, которые надеялись иметь успехи посредством складчины дарований своих: граф Сергей Потемкин, какой-то Шапошников, какой-то Висковатов и еще другие, по-двое или по-трое вместе, пустились взапуски, кто кого хуже, изводить известные французские трагедии, чтоб угодить общему вкусу. Необходимость в помощи Шаховского для постановки сих искаженных классических творений на время окружила его искателями. Ему приятно было покровительствовать новые, только что на свет показавшиеся таланты, тем более, что и в глазах его они в будущем ничего не обещали. Каждая из сих трагедий имела по нескольку представлений, и наша покорная публика, которой воспрещено тогда было не только свистать, но даже и шикать, первые раза два довольно спокойно и терпеливо их выносила; но вскоре потом отсутствием споим, как единым средством ей на то оставленным, пользовалась она, чтоб изъявлять неодобрение свое. Весь этот поток через сцену прямо утекал в Лету; Меропа и Танкред одни только на некоторое время удержались. С самодовольствием окинув взором всю толпу сих бездарных людей, но в тоже время увлекаемый примером, сам Шаховской задумал высоко подняться над ними; этого мало, он затеял в творчестве состязаться с самим Расином, и для того в Библии начал искать сюжет для оригинальной своей трагедии. Немалое время мучился он и, наконец, разразился ужасною своею Деборой. С любопытством все кинулись на нее; устрашенные же, скоро стали от неё удаляться. Но не так-то легко как других, можно было одолеть театрального директора: с каждым представлением зала всё более пустела, а Дебору всё играли, играли, пока ни одного зрителя не стало.
Переводных комедий было очень мало: по всей справедливости, Шаховской не любил их и не подпускал к нашей сцене. Водевили, если делом изредка показывались, то словом, то есть именем, тогда неизвестны были на русском театре. Зато операми заимствовались мы у всех, у французов, у немцев, а когда стали побогаче голосами, то и у итальянцев. Началось с бесконечной Donauweibchen; её веселые, легкие, приятные венские мелодии не трудно было перенять нашим плохим тогда певцам, не трудно было ими пленить и наших слушателей. Всё это, вместе с богатыми декорациями, беспрестанными превращениями и уморительным шутовством Воробьева, около года привлекало многочисленную публику и умножало барыши дирекции. Ее переименовали Русалкой и сцену перевели на Днепр, что также немало полюбилось бородатым зрителям. Когда заметили, что она им пригляделась и посещения становятся реже, то, чтобы возбудить к ней погасающую в них страсть, создали ей наследницу, вторую часть, или Днепровскую Русалку. Следуя всё той же методе прельщений, через некоторое время сочинили и третью часть, уже Лесту, Днепровскую Русалку. Сильная к ним любовь совсем истощилась, когда показалась четвертая часть под именем просто опять Русалка, без всякого прибавления; успех её был довольно плохой. Между Русалками восстал Илья Богатырь, волшебная опера, которую написать упросили Крылова. Он сделал это небрежно, шутя, но так умно, так удачно, что герой его неумышленно убил волшебницу-немку, для соблазна русских обратившуюся в их соотечественницу.
Их вкус между тем всё исправлялся и чистился. Декорации переставали им быть необходимы; они более стали понимать музыку, но всё-таки ее одну без слов не любили. Тогда (я всё говорю о среднем и низком классе) начали переводить для них французские оперы, Калифа Багдадского, Мнимый Клад, Двое Слепых, а наконец и Водовоза. Познакомив их с Боиелдиё, с Мегюлем, приготовили их быть способными чувствовать и Херубини. Глядь, и Деревенские Певицы Фиорованти явились перед ними. Своих композиторов у нас тогда еще не было: произведения Кавоса, управлявшего оркестром, были так слабы; к тому же он был чужестранный, итальянец, что и считать его нечего. Кажется, не заставляя себя трудиться, легче бы было ходить им во французский театр; нет, подавай им свое: там ни слова они не понимали, а звуки могли им быть приятны только в соединении с мыслями. Правда, у них не было Филис, за то не было и Андриё. Место первой в русской опере занимала недавно образовавшаяся, молоденькая, хорошенькая актриса, Черникова, с небольшим, но приятным голоском. У молодого же тенора, Самойлова, был такой голос, который итальянцы превозносили и ему завидовали. Впоследствии выучился он очень хорошо играть, и если б не спеша насладиться успехами доставленными ему чудесным, природным его даром, он прилежно постарался его усовершенствовать, то наверное можно сказать, что не менее Рубини прогремел бы он в Европе. По примеру Филис и Андриё, и сия чета соединилась законным браком. От частых родов голос у Самойловой начал слабеть и упадать.
Как бы ей на смену, театральная школа произвела нечто чудесное. Еще не выпущенная из неё воспитанница Болина красотой затмевала подруг своих, а голосом едва ли не более еще пленяла чем красотой. Только одну зиму насладилась ею публика. Один молодой дворянин, Марков, сын умершего богатого отца, имевший более сорока тысяч рублей доходу, совершенно свободный, влюбился в нее без памяти. Он предложил ей руку, а дирекции выкупу, сколько бы ни потребовалось за её воспитание и освобождение. Согласиться с его желаниями до выпуска её никак не было возможно. Тогда решился он увезти ее, обвенчаться с нею и за то целый месяц должен был просидеть на гауптвахте. На ней толпами посещала его безрассудная молодежь, видя в наказании его жестокую несправедливость, при всеобщем тогда неудовольствии на правительство, думая дразнить его тем и забывая, что для неё иссяк источник живейших удовольствий и, что Марков был похитителем их. Какие у нас обо всём ложные понятия! Права казны и общества должны быть еще неотъемлемее прав частной собственности. И что же? Осьмнадцатилетняя певица, которая могла бы долго быть украшением сцены и упиваться восторгами ею производимыми, сделалась несчастнейшею из помещиц. Сперва из ревности, а потом стыдясь неровного брака, муж всегда поступал с нею жестоко и не давал ей нигде показываться. Не получив в школе приличного воспитания будущему её званию, ни светского образования потом, из неё вышло нечто совершенно пошлое. Лет двадцать спустя, по его приглашению, случилось мне раз у них обедать: о Боже! в Грации, которою я некогда так восхищался, нашел я что-то хуже деревенской барыни, простую кухарку, неповоротливую, робкую, которая не умела ни ходить, ни сидеть, ни кланяться, и как будто не смела и говорить. Я узнал после, что Маркова сделали губернатором: ну, подумал я, для жены его роль губернаторши будет потруднее ролей Зетюлбе и Алины.
В школе, в запасном магазине драматических талантов, не нашлось ни одной девочки, которая бы могла заменить Болину. Попеременно их выставляли; одна только Карайкина, в замужестве Лебедева, могла некоторое время удержаться.
Не в театральной школе должен был образоваться великий талант для нашей оперы. В Петербурге был тогда один дом, в котором еженедельно собирались большие любители музыки и лучшие виртуозы. Дом этот сенатора Теплова, который имел и собственный славный оркестр, был совершенно музыкальный. Познакомившись в нём через сына Теплова, бывшего товарища моего во время путешествия по Сибири, я нередко посещал их вечера. На одном из них услышал я пение немочки, дочери придворного музыканта Фодора, и оно показалось мне писком. Мне непонятно было, как могли великие знатоки восхвалять его и в пророческом восторге судить ему славу. В этом деле и в это время, петербургская публика, видно, столько же смыслила как и я; ибо года три спустя, когда Фодор явилась на русской сцене, была она принята ею с удовольствием, не совсем преувеличенным. В большом обществе так много еще было тогда пристрастия ко всему французскому, что в нём обижались сравнениями, которые некоторые позволяли себе делать между нею и стареющею Филис. Не для того ли чтобы поднять себя в его мнении и несколько офранцузить себя, вышла она после за французского комического актера Менвиеля? Нет, ничто не помогло. Имея однако же в себе чувство превосходства своего, наконец, стала она требовать по крайней мере прибавки жалованья; ей и в этом отказали; тогда Россию она навсегда оставила. Вся Европа узнала ее потом, засыпала золотом и заглушила рукоплесканиями.
Гораздо более Фодор-Менвиель полюбилась семнадцатилетняя красотка, которая хотя после неё, но еще при ней показалась в опере. Это была Нимфодора, меньшая сестра трагической актрисы Семеновой. Голосок у неё был только что изрядный, за то быть милее её в игре было трудно. Красотою обе сестры были равны, только в родах её различествовали между собою. У старшей был греческий профиль и что-то великолепное в чертах; меньшая выполняла все условия русской красоты, белизну груди, полноту и румянец щек, живость в очах, тонкость и пристойную веселость в улыбке. Исключая небольшой разницы, и судьба сих сестер была одинакова. Обе соединились незаконным браком с действительными тайными советниками: старшая, Катерина, с князем Иваном Алексеевичем Гагариным, меньшая с графом Василием Валентиновичем Мусиным-Пушкиным-Брюсом. Одна старшая умела обратить его, наконец, в законный.
Ничего более о театре сказать я не имею. Читатель, может быть, скажет: «да кажется и этого не слишком ли много?» На это позволю я себе заметить ему, что большая половина этой главы посвящена была драматической литературе, а она в это время едва ли не составляла всю нашу словесность.
Итак об ней остается мне мало говорить, но много о множестве словесников, как о сделавшихся в это время известными, так и об оставшихся с тех пор неизвестными.
В последние годы царствования Екатерины Второй, между литературами двух столиц возникли какие-то несогласия; но не только до расколу, ни даже до сильных распрей дело не доходило. При Павле, в Москве, куда бо́льшая часть писателей удалилась, от столкновения несогласных начали взаимные неудовольствия умножаться и превращаться в нечто похожее на вражду. Исключая старого Хераскова, который в старой Москве доживал свой век, всех знаменитее были Дмитриев и Карамзин; с ними в тесной связи находился Тургенев, директор Университета, отец многореченного в сих Записках Тургенева, не писатель, но великий друг просвещения. В том же Университете, одним из трех кураторов был Павел Иванович Голенищев-Кутузов, человек умный и сведущий, но как стихотворец никем не замеченный, не хвалимый и не осуждаемый. Вероятно сие невнимание встревожило его самолюбие и возбудило досаду на двух сочинителей, более его счастливых. К нему, как бы в виде наперсника, пристал Шатров, поэт с большими дарованиями, которые преимущественно посвятил он переводу псалмов. Он усердно вдавался в мартинизм подобно Тургеневу и также как Карамзин в первой молодости был поддержан и поощряем Николаем Новиковым, главою мартинистов. Вот почему не понятно, как впоследствии сделался он врагом столь почтенных людей.
Под именем критики разумели тогда брань и поношение, мало знали ее, мало употребляли. Не знаю, правда ли, но меня уверяли потом неоднократно, будто который-то из сих господ (и полно, не оба ли) прибегли к другому средству нападения, к средству постыдному и жестокому, к ложному доносу на Карамзина: они обвиняли его в якобинизме, и перед кем же? Перед Павлом! Конечно, как все великодушные и неопытные юноши, в первоначальных порывах к добру, создавал он некогда утопии, веровал в свободу, в братскую любовь, в усовершенствование рода человеческого Когда началось его воспитание, в России, по примеру других европейских, даже самых деспотических государств, наставники воспитанникам всё указывали на блеск греческих республик, на величие римской; твердили, что с свободой их были неразлучны добродетели, счастье и слава, и что с её утратою они всего лишились; в веках ближе к нашему старались они возбуждать их восторг к Швейцарии и Вильгельму Телю, к Нидерландам и Эгмонту; наконец, Северная Америка с своими Вашингтоном и Франклином должна была осуществить для них прекрасные мечты их отрочества. С такими поучениями, с чистою и пылкою душой, в самой первой молодости Карамзин отправлен был путешествовать по Европе, которая тогда полна была надежд и ожиданий благополучнейших последствий от едва начавшейся Французской революции. Возвратившись, некоторое время не скрывал он своих благородных заблуждений, пока вид Польши, погибшей от и посреди безначалия, и Франции, политой кровью, не разочаровал его. Чад его давно прошел, но незабытый врагами послужил к его обвинению. Невежество или доброта людей, управлявших тогда делами, спасли его: в гнусном деле увидели они одно литературное соперничество и с пренебрежением бросили его, не доводя до Императора. В первобытной невинности наших правительственных лиц (не хуже, чем в преступном знании нынешних) так мало обращали внимания на то, что касалось до словесности, политики и религии, так мало вникали в настоящий смысл преподаваемых злонамерением правил (лишь не говори напрямки), что переводились, печатались и с дозволения цензуры продавались все забавные, веселые и богомерзкие романы Вольтера, Кандид, Белый Бык и Принцесса Вавилонская; за ними даже показался и Кум Матвей. Вот новое и еще сильнейшее доказательство этой беспечности или неведения. Со времени Екатерины, через всё царствование Павла и долго при Александре издавался в Москве неким Матвеем Гавриловичем Гавриловым Политический Журнал. Если где нибудь уцелели экземпляры его, то пусть заглянут в них и подивятся: там между прочим найдут целиком речи Мирабо, жирондистов и Робеспьера. Такая смелость должна бы была произвести, по крайней мере, удивление; никто не ведал про содержание журнала, и никто его ныне не помнит. Ленивые цензоры с рассеянностью пропускали его номера, а название политического пугало и отталкивало праздных тогда и невежественных москвичей; малое же число читателей, тайно принимающих живое участие в сохранении его, не спешило разглашениями. На это никто не доносил, и горе тому, кто бы осмелился сие сделать, искони старая Москва любила потворствовать всякого рода маленькому своеволию. Сам издатель, Гаврилов, неведомо откуда имевший средства к поддержанию себя и журнала своего, лично был знаком с немногими, чуждался сношений с известными писателями, выставлял свое имя и скрывал свою особу, и как будто любил мрак, в который старался погрузиться.
Также особняком, только не в тени, жил и писал тогда в Москве еще один сочинитель, князь Иван Михайлович Долгорукий, бывший при Екатерине Пензенским вице-губернатором. В творениях его было столько же ума, оригинальности и безобразия, как, говорят, и в наружности его; только о первых могу я судить, последней же никогда не видывал. Мне кажется, ему не довольно отдавали справедливости: между стихами его много таких замечательных по силе чувства, мысли и выражения, что не затверживая сохранил я их в памяти.
Всё это при Павле. Число литераторов при нём было не весьма большое в большой столице, Но сколько в обеих столицах существовало их неприметным образом, сколько скрывалось по деревням, сколько зреющих и даже назревших талантов, чтобы воспрянуть, дожидалось как будто назначенного часа. Он пробил 12-го марта. Я был тогда в Москве и помню этот час; откуда что взялось? Как будто из земли выросло! Всё с истинным, равным восторгом, но не с равным искусством пустилось приветствовать и славословить Александра; всё кинулось, кто к трубам и к лирам, кто к балалайкам и гудкам, принимая одни за другие, всё загремело, запело, запищало; одним одам счету не было; старый Херасков и студент Мерзляков удачнее всех воспели пришествие молодого Царя.
Прошел год; всё поустоялось, поутихло, и приметно увеличившееся сословие начало приниматься за дело, еще мало писать, но составлять из себя общества и избирать предводителей. Настоящих партий, кроме Петербургской и Московской, быть не могло. Петербургская не замедлила обнаружить свой честолюбивый и нападательный дух; она рассуждала логически: там где Царь, там должна быть и первенствующая власть. Московская же, по примеру не главы своего, а образца и кумира, Карамзина, старалась сколь можно более сохранять спокойствия и равнодушия к сим нападениям.
Впрочем, кажется, и довольно трудно было бы кому-либо из сей партии вступить в ратоборство. Все эти тогдашние московские литераторы по большей части были народ смирный. Постараемся перечесть и изобразить их.
Первым, после главных, почитался Василий Львович Пушкин, о котором сказали, что эпиграммы его делают более чести его сердцу, чем уму. Сибарит, франт, светский человек, он имел великое достоинство приучать уши щеголих, княгинь и графинь к звукам отечественной лиры. Стихи его не были гениальны, зато благозвучны и напоминали собой благовоспитанный круг, в котором родились. Только под конец, разгневанному до неблагопристойности, случилось ему в одно время выйти из себя и превзойти себя. В таком расположении, с помощью природных добродушия и веселонравия, удалось ему написать небольшую сатиру Опасный Сосед, которая изумила, поразила его насмешников и заставила самых строгих, серьёзных людей улыбаться соблазнительным сценам, с неимоверной живостью рассказа, однако же с некоторою пристойностью, им изображенным. Напечатать такого рода стихов не было возможно; но тысячи их рукописных копий, кажется, еще доселе сохранились. Не в первый раз приходится мне говорить о сем Пушкине, может быть и не в последний.
О Мерзлякове говорить мне будет трудно: много слышал я о нём и о сочинениях его, только без внимания, и оттого их почти, а его вовсе не знаю. Мне сдается, что в словесном деле был он тоже, что в военном искусстве великий тактик, которому не удалось выиграть ни одного сражения. На нападки, на придирки из Петербурга, кажется, смотрел он как на дрязги, недостойные его внимания. Гораздо, гораздо после был он первый, который читал публичные лекции о русской словесности и в университетской зале зале собирал вокруг себя многочисленных слушателей и слушательниц.
Жуковский еще мало был известен в первое пятилетие Александрово. Куда ему было вступать в полемику, когда всю жизнь он её чуждался? Просторечивый и детски или, лучше сказать, школьнически шутливый, он уже был тогда весь исполнен вдохновений, но стыдливый, скромный, как будто колебался обнаружить их перед светом. Не помню, в 1803 или в 1804 году, дерзнул он показаться ему. Первый труд его, перевод Греевой элегии Сельское Кладбище, остался не замечен толпою обыкновенных читателей; только немногие, способные постигать высокое и давать цену изящному, с первого взгляда в небольшом творении узнали великого мастера. Года два спустя, узнали его и, не умея еще дивиться ему, уже полюбили, когда, подобно певцу о полку Игореве, в чудесных стихах оплакал он падших в поражении Аустерлицком. Видно в славянской природе есть особенное свойство величественно и трогательно воспевать то, что другие народы почитают для себя унизительным; доказательством тому служат и Сербские песни.
В Белевском уединении своем, где проводил он половину года, Жуковский пристрастился к немецкой литературе и стал нас потчевать потом её произведениями, которые по форме и содержанию своему не совсем приходились нам по вкусу. Упитанные литературою древних и французскою, её покорною подражательницей (я говорю только о просвещенных людях), мы в выборах его увидели нечто чудовищное. Мертвецы, привидения, чертовщина, убийства, освещаемые луною, да это всё принадлежит к сказкам, да разве английским романам; вместо Геро, с нежным трепетом ожидающей утопающего Леандра, представить нам бешено-страстную Ленору со скачущим трупом любовника! Надобен был его чудный дар, чтобы заставить нас не только без отвращения читать его баллады, но, наконец, даже полюбить их. Не знаю, испортил ли он наш вкус; по крайней мере создал нам новые ощущения, новые наслаждения. Вот и начало у нас романтизма.
Много говорил я о нём и о таланте его во второй части Записок моих. Боюсь повторять себя, но о необыкновенном человеке всегда сыщется сказать в прибавках что-нибудь новое. В беседах с короткими людьми, в разговорах с ними часто до того увлекался он душевным, полным, чистым веселием, что начинал молоть премилый вздор. Когда же думы засядут в голове у него, то с исключительным участием на земле начинает он искать одну грусть, а живые радости видит в одном только небе. Оттого-то, мало создавая, всё им выбранное на ней спешил он облекать в его свет. Всё тянуло его к неизвестному, незримому и им уже сильно чувствуемому. Не такою ли нежною тоской наполнялись души первых христиан? От гадкого всегда умел он удачно отворачиваться и, говоря его стихами, всю низость настоящего он смолоду еще позабыл и пренебрег. В нём точно смешение ребенка с ангелом, и жизнь его кажется длящимся превращением из первого состояния прямо в последнее. Как я записался о нём и как трудно расстаться мне с Жуковским! Когда только вспомню о нём, мне всегда становится так отрадно: я сам себе кажусь лучше.
Чтобы переход от него к глупцам сделать менее резким, назову я Макарова. Только не надобно смешивать; между литераторами тогда в Москве их было двое: Петр и Михаил; один был чрезвычайно умен, другой… не совсем. Этот Петр Иванович Макаров был отличный критик, ученый, добросовестный, беспристрастный, пристойный. Он подвизался в журнале, им самим издаваемом, кажется, в Московском Меркурии и, разумеется, более за Карамзина. Это продолжалось недолго: он умер слишком рано, едва в зрелых летах, как много других у нас полезных и достойных людей. А Макаров 2-й уцелел; я уже упоминал о нём, как о товарище моем в Московском Архиве Иностранных Дел, как о трудолюбивом, бездарном, бесконечном, нескончаемом писателе.
Каков бы он ни был, этот Михаил Николаевич Макаров, мне всё непонятно, как мог он Шаликову позволить взять перед собой первенство? Разве из уважения к старшинству лет и заслуг. Между сими двумя мужами и еще одним третьим составился крепкий союз, долго существовавший. У меня глупая привычка всегда узнавать имя и отчество человека и потом сохранять их в памяти. Итак третьего звали Борис Карлович Бланк (хорошо, что и это еще упомнил, за то уже ничего более о нём не знаю). Эти люди, в совокупности с какими-то другими, много, много, долго, долго писали, а что они писали? Этого ныне в Москве почти никто не помнит, и их творения, еще при жизни их, только с трудом отыскивались в собраниях древних редкостей. Все они, не спросясь здравого рассудка и Карамзина, даже ему незнакомые, принялись его передразнивать; и это в Петербурге назвали его партией.
Один только из них, Шаликов, и то странностями своими, получил некоторую известность. Еще при Павле писал он и печатал написанное. Как во дни терроризма, под стук беспрестанно движущейся гильотины, французские поэты воспевали прелести природы, весны, невинную любовь и забавы, так и он в это время, среди общего испуга, почти один любезничал и нежничал. Его почти одного только было и слышно в Москве, и оттого-то вероятно между не весьма грамотными тогда москвичами пользовался он особенным уважением[136]. У него видели манеру Карамзина и почитали будущим его преемником.
Карамзин довольствовался тем, что у себя никого из сих господ не принимал, но полагал, что для них жестоко обидно будет, если он явно станет отрекаться от них. Они же оставались преспокойны, почитая себя в совершенной безопасности от петербургских нападений и думая, что все стрелы недоброжелательства должны падать на избранного ими. Правда, в Петербурге об них и не думали, а наоборот изречения: «поражу пастыря и разыдутся овцы», хотели, нападая на паршивых овец, истребить пастыря, который им никогда даже не бывал.
Только Димитриев окружал себя этим народом и в особенности любил тешиться Шаликовым. Оно, конечно, довольно забавно видеть ворону, которая воркует голубком; но, кажется, скоро это должно прискучить. Вот до чего нас, старых холостяков, доводит иногда скука одиночества! Не знаю, как Димитриев мог с этим ладить. Он очень дорого ценил высокое звание свое и умел его поддерживать, а до министерства своего и после него, жил в Москве всегда в обществе так называемых литераторов. Известно, что все эти мелкие писачки, всё люд заносчивый и тщеславный: напечатает четверостишие и думает уже иметь права на бессмертие и на равенство с Вольтером. Если б Данте и Шекспир воскресли, мне кажется, что самый последний из них не задумавшись сел бы с ними рядом и начал говорить им ты. Ничего не может быть труднее, как удерживать тварей, всегда готовых положить ноги на стол, а этой работе посвятил себя Иван Иванович. Он стоял так высоко, что она ему была легче, чем кому другому; однако же не раз и он вынужден был забывающим себя отказывать от дому. И как ни говори, это несколько роняло его в мнении и приготовило то нестерпимое обращение словесников, которое мы ныне видим. Нет, я придерживаюсь французской поговорки, что лучше быть одному, чем худо сопровождаемому.
Ни с Жуковским, ни с Шаликовым не нашел я приличным назвать вместе Владимира Васильевича Измайлова. Он, говорят, был человек почтенный и добрый, только также чересчур вдавался в ложную чувствительность. Недавно попытался я прочесть Путешествие его в полуденную Россию; и что же? слогом отменно опрятным написаны всё пустяки, о коих не стоило говорить. Нет возможности читать это наркотическое произведение: скука и зевота так и одолевают.
Около 1806 года Карамзин перестал издавать Вестник Европы и передал его молодому другу своему, Жуковскому. Я говорил уже об этом журнале в предшествующей части сих Записок. Примечательно в нём было быстрое развитие таланта издателя, и до того уже необычайного; он рос не по дням, а по часам, так что сама Бедная, милая Лиза уже казалась девчонкой в сравнении с величественною Марфой: что эта за красота, и что за сила в её изображении! С этого времени он умолк и предался великому, бессмертному труду, с высочайшего соизволения им предпринятому.
Про другие московские тогдашние журналы слышал я только вскользь. Помню, что еще до Вестника при Московских Ведомостях еженедельно выдавался литературный листок, под названием Ипокрены, и что сей мутный, неприметный ручей тек без всякого шума. После, если не ошибаюсь, были и Эфемериды; а после еще и Меркурий, издаваемый Макаровым, про который я уже говорил. Вдруг вздумалось затейнику Макарову 2-му, который первому совсем не не был родня, объявить об издании Амура, под вымышленным именем небывалой княжны Елизаветы Трубецкой. Дорого было пришлось ему расплатиться за эту совсем неумную проказу: все Трубецкие восстали, и начальство архивское едва могло дело сие утушить. Эротическими названиями надеялись эти господа привлекать и женщин. Таким образом явилась и Шаликовская Аглая, и были читатели, которые дуру эту принимали за Грацию.
Совсем в ином духе, в ином роде показался, наконец, Русский Вестник. Для успехов более всего нужно умение выбирать время. Когда изданием сего журнала Сергей Николаевич Глинка сделался известен, москвичам начинало уже тошниться от слащенного рвотного, приготовляемого другими журналистами и их сотрудниками, и любовь к отечеству приметно возрастала с видимо умножающимися для него опасностями. Глинка был истинный патриот, без исключения превозносил всё отечественное, без исключения поносил всё иностранное. Пусть ныне смеются над такими людьми: я люблю их непреклонный характер целиком. В обстоятельствах, в которых мы тогда находились, журнал его, при всём несовершенстве своем, был полезен, даже благодетелен для провинций.
Они с Николаем Николаевичем Муравьевым в одно время сделались в Москве основателями двух своекоштных, военных, патриотических школ. Воины были тогда нужнее всего. Муравьев взялся образовать молодых дворян для пополнения ими великого недостатка в офицерах, чувствуемого в генеральном штабе и по части артиллерийской и инженерной. Преподавая им высшие математические науки, он вселял в них и высокие чувства народной гордости. Глинка захотел быть просветителем донских казаков и принялся за ум и за сердце пылких, диких мальчиков. Довольно грубым, но пламенным и им понятным языком вливал он в них любовь к познаниям и к великому их Российскому отечеству.
Кто ныне решится на столь славные и бескорыстные подвиги? Кто хвалит их, или кто помнит их? Или, лучше, кто знает об них? Конечно патриотизм, эта неземная любовь к земному, есть чувство, которое в самом себе находит муку и отраду: его ни поощрять, ни награждать нечего. Но всё-таки кажется, что совершенное забвение и, еще хуже того, строгое наказание не должны же быть следствием сей, по крайней мере, простительной страсти. Один из тех, о коих говорил, давно забытый, окончил век в сельском уединении; другой просидел на гауптвахте за неумышленное упущение по цензуре, но скорее за чистосердечную неукротимость свою, что навсегда и положило хранение устам его. Почтенные люди, если после меня в каком-нибудь углу уцелеют небрежно составляемые мною Записки, то потому уже почитаю их достойными хранения, что о заслугах ваших скажут они более нас, может быть, благодарному потомству.
Да что же ты ничего не говоришь о сенаторе-кураторе Кутузове? Скажут мне, что с ним сделалось? Или что он делал? Он отмалчивался, ни с кем не ссорился и оставался представителем и корреспондентом Петербурга.
Гораздо опаснее его и гораздо его сердитее был новый противник, который сначала тайно, а потом явно восставал на Карамзина. Он, также как и Зоил, был родом и душою грек, находился профессором истории в Московском университете и назывался Михаил Трофимович Каченовский. Все недруги его, а их было много, отдавали справедливость его уму и учености; но вместе тем имел он все те ненавистные свойства, которые отличают греков нынешнего и всех прошедших времен и которые после имел я случай так коротко узнать: беспокойный дух, ужасное высокомерие, пронырство, неблагодарность, раздражительность и вечная жажда мести. Можно себе представить, как всё выше и выше полет Карамзина должен был терзать его мрачную душу. Долго, весьма долго один парил, как орел; а другой не переставал шипеть, как змея.
В это же время в Москве явилось маленькое чудо. Несовершеннолетний мальчик Вяземский вдруг выступил вперед, и защитником Карамзина от неприятелей, и грозою пачкунов, которые, прикрываясь именем и знаменем его, бесславили их. Один из богатых и просвещеннейших московских вельмож, князь Андрей Иванович Вяземский, вручил судьбу и руку прекрасной любимицы своей, дочери сердца своего, другу своему Карамзину и, чувствуя приближение смерти ему же поручил воспитание и будущую участь единственного малолетнего своего сына. Со всею силой нежного и пылкого сердца, ребенок привязался к зятю, опекуну, второму отцу своему; а этому казалось, что Бог даровал ему сына, и какого же? — исполненного благородства, ума и чувствительности. Может быть, снисходительность, слепое к нему пристрастие его, после, во многом повредили отроку, который слишком рано захотел быть юношей и мужем, Карамзин никогда не любил сатир, эпиграмм и вообще литературных ссор, а никак не мог в воспитаннике своем обуздать бранного духа, любовью же к нему возбуждаемого. А впрочем что за беда? Дитя молодое, пусть его тешится; а дитя куда тяжел был на руку! Как Иван-царевич, бывало князь Петр Андреевич, кого за руку, рука прочь, кого за голову, голова прочь. И это было в Москве, где всегда с нежным восторгом говорят о Западе и стараются подражать ему, а между тем в обыкновенном быту сохраняют все навыки Востока, где глупцы всегда стояли и стоят еще под защитою законов целого общества, высшего, низшего; где животные всякого рода хранимы также всеобщим скотолюбием, как в Цареграде собаки и кошки; где юродивые почитаются существами священными, как делибаши во всей Азии. В этом странном, старинном русском, европействующем городе, где всякий, не опасаясь названия клеветника, не обинуясь, может по заочности такого то и такого-то, иногда весьма честного человека, назвать мошенником, вором, злодеем, беда если кто острым словцом заденет дурака; а из Вяземского они так и сыпались.
Он мог бы пострадать: как ни зубаст он был, его бы заели; но он был молод, богатый жених и чрезвычайно влюбчив. И женщины-матери, и дочери, охотно видя в нём будущего зятя, любовника или мужа, стояли за него горой. К тому же везде женщины более способны понимать тонкости ума и во всех странах любят смелость мужчин: то и другое они в нём находили и всем составом своего пола, отстаивали его. И не одни еще: он скоро сделался идолом молодежи, которую роскошно угащивал и с которою делил её буйные забавы. Да не подумают, однако же, что этот остряк, смельчак был с кем бы либо дерзок в обращении; он всегда умел уважать пол и лета. Баловень родных, друзей и красного пола, при постоянных успехах и среди многих заблуждений своей счастливой молодости, он никогда не зазнавался, всегда оставался доброжелателен, сострадателен и любящ. Он служил доказательством, что остроумие совсем не плод дурного сердца, а скорее живого, веселого нрава. О чрезвычайном стихотворном его таланте пока ни слова; будет еще место и время поговорить об нём, если поживется.
Мне, однако же, пришла охота показать здесь образчик этого таланта, тогда еще не созревшего. Шаликов объявил всем о намерении своем отправиться за границу; за одним стало дело, за деньгами. Вяземский воспел сие несостоявшееся отбытие. Я помещу здесь только то, что из этих стихов припомню.
С собачкой, с посохом, с лорнеткой, И с миртовой от мошек веткой, Поднизан розовым плотном, В кармане пара мадригалов. С едва звенящим кошельком, Вот как пустился наш Вздыхалов По свету странствовать пешком.Прежде того, прощаясь с друзьями, Шаликов говорит им:
Прости, Макаров, Фебом чтимый, И ты, о Бланк неистощимый, Единственный читатель мой.Недавно делал я поиски, и в сведениях только что мною полученных открыл бездну литературных сокровищ того времени, зарытых в забвении, и сим кладом хочу поделиться с читателем. Исключая Вестника Европы (о котором ошибочно сказал я, что Карамзин передал его прямо Жуковскому, тогда как сей последний гораздо после два года издавал его вместе с Каченовским, тогда еще не обнаруживавшим свои прекрасные свойства) было еще несколько неназванных мною журналов, и вот их названия: 1) Журнал приятного, любопытного и забавного чтения, с 1802 по 1804 год, издаваемый Панкратием Сумароковым, 2) Новости Русской Литературы с 1802 по 1805 г., издаваемые Сохацким и Победоносцевым, 3) Друг Просвещения, в 1804 г., издаваемый двумя сенаторами: графом Хвостовым и Кутузовым, 4) Журнал для милых, в 1804 же г., издаваемый, разумеется, Макаровым 2-м, 5) Патриот, журнал воспитания, в 1804 же г., издаваемый Владимиром Измайловым, 6) Московский Курьер, в 1805 и в 1806 гг., издаваемый опять Макаровым 2-м, 7) Ученые Ведомости, в 1805 и 1806 гг., издаваемые при университете каким-то профессором Буле.
Недаром Дмитриев в одной эпиграмме сказал тогда:
Журналов тысячу, а книги ни одной.С Москвою кое-как еще я справился; не знаю как-то будет с Петербургом.
Державин находился в нём в том же самом состоянии успокоившегося патриарха, как Херасков в Москве, и тем самым перед нею давал уже ему перевес, в отношении к словесности. Заживо он сопричтен уже был к сонму богов: два верховные жреца, Шишков и Шаховской, ему поклялись и именем его управляли толпою мелких служителей, дьячков, пономарей, звонарей Аполлона.
О счастливой мысли первого посредством славянских изречений и оборотов украсить и усилить русский язык я уже говорил. Она родилась в голове совсем не гениальной; тем не менее должны мы чтить память весьма почтенного, хотя немного смешного старца. Много говорил я и о последнем, может быть, слишком много.
О Крылове неоднократно упоминал я. В изображении русского театра об Озерове высказал всё, что знал. Мне остается еще представить множество рядовых писателей, которые слепо шли под знаменами двух вышесказанных предводителей, особенно же Шишкова; простых работников, которые словесностью, как ремеслом, втихомолку промышляли. Их ничтожество давно поглощено забвением, я не вижу ни возможности, ни нужды их оттуда вытаскивать. Если же который взбредет на память, то, да простит мне читатель, я не оставлю назвать его.
Между сими мелкими лицами, в памяти моей возникает одно крупное лицо, которое раза два мимоходом пришлось мне назвать. Дмитрий Иванович Хвостов, первый и предпоследний граф сего имени (ибо пожилой сын его вероятно не женится), был известен всей читающей России. Для знаменитости, даже в словесности, великие недостатки более нужны, чем небольшие достоинства. Когда и как затеял он несколько поколений смешить своими стихами, этого я не знаю; знаю только по наслышке, что в первой и в последующих за нею молодостях, лет до тридцати пяти, слыл он богатым женихом и потому присватывался ко всем знатным невестам, которые с отвращением отвергали его руку. Наконец, пришлась по нём одна княжна Горчакова, которая едва ли не столько же славилась глупостью, как родной дядя её Суворов — победами. Этот союз вдруг поднял его: будучи не совсем молод, неблагообразен и неуклюж, пожалован был он камер-юнкером пятого класса — звание завидуемое, хотя обыкновенно оно давалось осмнадцатилетним знатным юношам. Это так показалось странно при Дворе, что были люди, которые осмелились заметить о том Екатерине. «Что мне делать, — отвечала она, — я ни в чём не могу отказать Суворову: я бы этого человека сделала фрейлиной, если б он того потребовал».
Тут начинается его известность. Придворный чин, родство с Суворовым, большое состояние, всё это высоко ценилось; при этом поэзия его шла даром: никто не обращал на нее внимания. А в ней-то и видел он надежды на будущее свое величие. Обер-прокурорство, сенаторство, лента, наконец графское достоинство, в память Суворова Сардинским королем ему дарованное, всё это, конечно, тешило его тщеславие, но не удовлетворяло честолюбия: ему хотелось прославиться, жить в веках. Обманывал ли он сам себя насчет дарования своего, или морочить хотел людей, чтобы — при жизни насладиться их рукоплесканиями, вот что трудно разобрать. Всю долголетнюю жизнь свою просуетился, промучился он напрасно только из того, чтоб его похвалили; желание это обратилось у него в болезнь, в чесотку, в бешенство. Чего он не делал? Подличал известным авторам, дарил сочинения свои книгопродавцам и нераспроданное сам покупал, чтобы приступить к другому изданию; кормил, угощал голодных стихотворцев, ссужал их деньгами. Хвалить его было им невозможно: никто не решился бы на столь позорное дело; совестливые молчали, а бессовестные над ним же ругались в стихах. Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него оттачивали перо свое, и без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие; входя в лета, уступали его новым пришельцам на Парнас, и таким образом целый век молодым ребятам служил он потехой.
Такое общее ожесточение можно бы назвать бесчеловечием, если бы сам он поступками своими не беспрестанно подавал поводу к насмешкам. За всё брался он: сочинял, переводил трагедии, комедии, поэмы, оды, послания, басни, одно хуже, одно нелепее другого; метромания нигде еще не являлась в столь смешном, неугомонном и запачканном виде. Он имел характер неблагородный, наружность подлую и наряд всегда засаленный. Неизвестно, примечательная нечистоплотность от жены ли к нему привилась, или от него к ней; только неопрятность обоих супругов была баснею Петербурга. Кажется, сам он никогда не умывался, а в комнатах его, подобных хлевам, до того дышало заразительным воздухом, что мефетизм стали знать под названием хвостовизма. Он не принадлежал ни к какой партии, но втирался без разбору во все литературные общества и во всех оставался нулем, хотя, разумеется, нигде в глаза не смели его дурачить.
Примечательны были также два украинца: один поэт в отставке, другой в сем звании только что поступивший на службу. Оба они, несмотря на единоверие, единокровие, единозвание, на двухвековое соединение их родины с Россией, тайком ненавидели ее и русских, москалей, кацапов. Это были Капнист и Гнедич.
Василий Васильевич Капнист женился на родной сестре жены Державина, и даже эти брачные узы не могли привязать его к России. Он много написал стихов и весьма хороших и, заключив поприще свое великим творением своим, называемым Ябеда, опустился на лавры. Не обращая внимания на наши слабости, пороки, на наши смешные стороны, он в преувеличенном виде, на позор свету, представил преступные мерзости наших главных судей и их подчиненных. Тут ни в действии, ни в лицах нет ничего веселого, забавного, а одно только ужасающее, и не знаю почему назвал он это комедией. Лет сорок спустя, один из единоземцев его, малорослый малоросс, коего назвать здесь еще не место, движимый теми же побуждениями, в таком же духе написал свои комедии и повести. Не выводя на сцену ни одного честного русского человека, он предал, нас всеобщему поруганию в лицах (по большей части вымышленных) наших губернских и уездных чиновников. И за то, о Боже, половина России провозгласила циника сего великим!
Природа поставила Николая Ивановича Гнедича на той самой точке, где кончается глупость и начинается ум; но в него с этой точки довольно часто умел он делать набеги. Лицо его, которому говорят, суждена была красота, изуродовано и изрыто было оспою, которая в опустошительной ярости своей лишила его глаза. Муза его была чопорна, опрятна, суха и холодна, как он сам; на выдумки не была она великая мастерица, да и в подражаниях и переводах более всего отличалась точностью и верностью. По приезде его первый раз в Петербург, обстоятельства его, видно, были до того плохи, что он решился на неслыханное средство, на искание покровительства и помощи графа Хвостова. В послании в нему, которое, к счастью его, не было напечатано, но с которого, к несчастью его, не все успел он потом истребить копии, в сем послании, где умоляя его, старается он его разжалобить, находится между прочим этот стих:
И дурен я, и крив, и денег не имею.Счастье ему помогло: он скоро нашел другого покровителя посильнее, поумнее и поблагороднее Хвостова, который, во вверенных управлению его частях, успел доставить ему покойных места два с хорошим содержанием. Тогда задумал он приступить к труду важному, долголетнему, который успешно он продолжал и счастливо кончил, к переводу Илиады. Для поддержания его в сем труде испрошено ему было великое поощрение, пенсион в полторы тысячи рублей от великой княгини Екатерины Павловны. Всё, кажется, налагало на него долг благодарности к России, а он питал к ней совсем противное чувство, которое гораздо после, против воли его, мне часто обнаруживалось в коротких с ним беседах.
Говоря о русском театре, я называл несколько человек, переводивших трагедии. Литературные их достоинства были так слабы, что сего было бы достаточно, если бы в некоторых из них не было бы чего другого примечательного. Например, Преображенский офицер, потом полковник и флигель-адъютант, Сергей Никифорович Марин, переводчик Меропы, был военный остряк, от которого в стихах крепко доставалось и словесникам, и светским людям. Они с Шаховским, будучи бессменными у Александра Львовича Нарышкина, сделались почти его домашними поэтами. Был еще к ним в прибавку и третий автор, не на одной ноге с ними принятый. Не знаю, как попал в этот дом один бедный, своенравный и самолюбивый грек, воспитанный в кадетском корпусе и в нём же потом служивший. Имя его было Геракос, которое на славяно-российский язык перевел он Гавриилом Гераковым и любил, чтобы так его называли. Известно, что между греками для ума нет среднего состояния: всё богачи или нищие и что им убогие всегда горды душою. Тогда в России стоило что-нибудь написать, да только напечатать, чтобы приписаться к цеху даже ученых; столько было сметливости в Геракове, чтоб это увидеть, и он начал что-то писать и отдавать в печать. Его тщеславие беспрестанно тревожили и кололи, а когда начинал он выходить из терпения, то спешили успокаивать его какою-нибудь похвалой или лаской; право похвастать тем что он короток в знатном доме было лучший бальзам, врачевавший раны, наносимые его кичливости, и ослепление его на счет его достоинств не позволяло ему видеть, что вход в него доставляет ему единственно титул шута. Марин был его казнью; в пародии стихов Державина на рождение порфирородного отрока он собирает у колыбели его колдунов и таким образом заставляет их предрекать его будущность:
Будешь, будешь сочинитель И читателей тиран. Будешь в корпусе учитель, Будешь вечно капитан. Будешь, и судьба решили, Ростом двух аршин с вершком, И все старцы подтвердили: Будешь век ходить пешком.Он пылал страстью ко всему прекрасному полу, восхвалял его в прозе и вечно ругал нежных своих московских соперников. Этим угодил он Шишкову и заслуживал от него самые лестные отзывы.
Несколько слов еще об одном военном стихотворце, однополчанине Марина, об офицерчике Павле Александровиче Катенине, переводчике Цида и Гофолии. Круглолицый, полнощекий и румяный как херувим на вербе, этот мальчик вечно кипел как кофейник на конфорке. Он был довольно хорош с Шаховским, ибо далеко превосходил его в неистощимой хуле писателям: ни одному из них не было от него пощады, ни русским, ни иностранным, ни древним, ни новым, и Вергилий всегда бывал первою его жертвой. Мудрено завидовать людям две тысячи лет назад умершим; может быть, ему не хотелось быть наряду с обыкновенными людьми, почтительными к давно признанным достоинствам, и смелостью суждений стать выше их; а скорее не было ли это следствием страсти его к спорам? В новейшее время мы также знали одного поэта, только настоящего, который в словесной борьбе находил величайшее наслаждение; но он брал диалектикой, умом и всегда умел сохранять в ней учтивость и хладнокровие[137]. Катенину же много помогали твердая память и сильная грудь; с их помощью он всякого перекрикивал и долго продолжал еще спорить, когда утомленный противник давно отвечал ему молчанием. Не из угождения Шишкову (ибо он никому не хотел нравиться, а всех поражать), а так из оригинальности, в надежде служить примером, Катенин свои трагедии, стихотворения без меры и без искусства начинял славянизмами. И что это было? Верх безвкусия и бессмыслия! Видал я людей самолюбивых до безумия, но подобного ему не встречал. У него было самое странное авторское самолюбие: мне случилось от него самого слышать, что он охотнее простит такому человеку, который назовет его мерзавцем, плутом, нежели тому, который хотя бы по заочности назвал его плохим писателем; за это готов он вступиться с оружием в руках. Если б он стал лучше прислушиваться, то ему пришлось бы драться с целым светом.
И граф Сергей Павлович Потемкин был тоже поэт и офицер, и того же Преображенского полка. Тройственный союз его с Шапошниковым и Висковатовым не долго продолжался. Стихотворство у него была прихоть богача, роскошь его: он любил не театр, а актрис, не литературу, а маленькое меценатство. Он соскучился, женился, переехал в Москву и там принялся за другого рода роскошь, более блистательную, в которой показал он гораздо более вкуса и уменья, но которая довела его почти до нищеты. Оба товарища его пропали потом без вести, как будто канули в воду. Наши предки, которые, вероятно, слыхали о Лете, под этим разумели быть поглощенным забвением.
Была еще пара писателей, которые, по сходству названий, всегда вместе близнецами приходят мне на память. Один из них, Евстафий Станевич, кажется малороссиянин, переводчик Юнговых Ночей, с душою мрачною, почитался у нас Рембрандтом поэзии. Другой, Анастасевич, поляк, употребляем был графом Хвостовым для разных послуг, замечателен был тем, что в русские свои переводы и сочинения вводил множество польских слов, западных императоров называл заходными и слуг именовал всегда холуями.
Пора мне остановиться. Я ведь не взялся писать биографии литераторов и историю тогдашней литературы, а представить только то, что в это время об ней придет мне на память. Чем дальше в лес, тем больше дров, и я вижу, что если стану подбирать все щепки, то никогда не кончу сей главы.
Вообще в первое десятилетие Александрово, петербургский, так называемый, ученый мир молодечеством и самохвальством старался взять верх над московским; а в сей последней, как бы смотря с презрением на варваров, хотели отличить себя от них любезностью и нежностью, и как Дон-Кишот, в Дмитриевой басне, говорит грубиянам: «не бей меня, но пой», одни облекались в броню и вооружались мечом, другие венчались розами и в руках держали свирель. Жаль только, что петербургские писатели со смелостью соединяли мало ума и таланта и что вечные похвалы их отечеству, как например в Храме славы Российских ироев, Новгородского губернского прокурора Павла Юрьевича Львова, никого не воспламеняя, на всех наводили сон и зевоту.
Владея бесспорно Парнасом, не дозволяя никому иметь литературного мнения противного их мнениям и полагая, что мнимые их противники осуждены никогда не покидать Москвы, петербургские главные писатели не могли предвидеть, что против их неограниченной власти может скоро составиться союз и заговор. И действительно, в целом Петербурге всего на всё был один только не с большим двадцати лет молодой человек, Блудов, полный ума и вкуса, который позволял себе явно осмеивать их недостатки и претензии и писать на них эпиграммы. Для обуздания его хотели они, хотя тщетно, употребить даже высшую власть. Прибывший в 1805 году Александр Тургенев пристал к нему, но был более его осторожен. Я слушал их с удивлением: мне казалось странно и непонятно живое участие, принимаемое ими в сем деле. Мне было не до Шишкова: я бредил тогда. Нагарном, Парни, Фонтаном и Шатобрианом.
Вдруг пришла ужасная весть. В Твери, у Екатерины Павловны, Карамзин читал императору Александру несколько глав своей истории, этой истории, где по словам их должны были встречаться всё одни милые Святополки и нежные Мстиславы. Не прошло месяца как Дмитриев назначен министром юстиции и скоро прибыл в Петербург; и он прибыл не один, а привел с собою немногочисленную, но избранную дружину. Его сопровождали три юноши, Милонов, Граматин и Дашков; первые два были только что поэтами, последний тем, чем бы только захотел он быть. Огромный талант Милонова можно сравнить с прекрасною зарей никогда не поднявшегося дня; много было его и в Граматине, но он также далеко не пошел. Первый талант свой потопил в вине или лучше сказать в водке; последний зарыл его в деревне, куда навсегда переселился хозяйничать. О Дашкове, о незабвенном Дашкове, о котором воспоминание останется всегда прекраснейшим в моей жизни, здесь говорить не буду: в эту минуту я не чувствую себя способным достойным образом изобразить его.
Глава Славянофилов или Варягороссов, как их тогда называть начали, со товарищи видели в министерстве Дмитриева опасность для своего всемогущества, тогда как обязанности государственного сановника вовсе не оставляли времени Дмитриеву заниматься литературой. Правда, он часто принимал у себя Блудова и Тургенева. За тихою трапезой с ними и с живущим у него Дашковым часто любил беседовать о любимом предмете, между ними почитал себя как бы главою семейства, был отечески ласков и оказывал нежную снисходительность и покровительство Граматину и Милонову. Конечно, всё это можно было почитать зародышем оппозиции; но её еще не было, а противники замышляли уже задушить ее при самом рождении.
Этого мало: им хотелось, в случае первой неудачи, поставить твердый оплот против распространения её дальнейших успехов. Российская Академия была тогда ветхое укрепление, почти на две трети защищаемое ветеранами литературы. И хотя Шишков был уже её душою и убылые в ней места пополнял одними своими клевретами, но всё еще упрямился жить и президентствовать в ней полумертвый, действительный тайный советник Андрей Андреевич Нартов, не совсем ему покорный. Надобно было из-за неё воздвигнуть твердыню, которая, содержа ее в повиновении, служила бы ей в одно время и защитою. Следствием глубоко-обдуманных мер, плодом начертанного стратегического плана было, в октябре месяце 1810 года, рождение Беседы Любителей Российского Слова.
Обстоятельства чрезвычайно благоприятствовали её учреждению и началам. Мудрено объяснить состояние умов тогда в России и её столицах. По вкоренившейся привычке не переставали почитать Запад наставником, образцом и кумиром своим; но на нём тихо и явственно собиралась страшная буря, грозящая нам истреблением или порабощением; вера в природного, законного защитника нашего была потеряна, и люди, умеющие размышлять и предвидеть, невольно теснились вокруг знамени, некогда водруженного на Голгофе и вокруг другого невидимого еще знамени, на котором уже читали они слово: отечество. Пристрастие к Европе приметно начало слабей, и готово было превратиться в нечто враждебное; но в ней была порабощенная Италия, страждущая и борющаяся Гишпания, Германия, которая тайно молила о помощи, и Англия, которая не переставала предлагать ее. Воспрянувшее в разных состояниях чувство патриотизма подействовало, наконец, на высшее общество: знатные барыни на французском языке начали восхвалять русский, изъявлять желание выучиться ему или притворно показывать будто его знают. Им и придворным людям натолковали, что он искажен, заражен, начинен словами и оборотами, заимствованными у иностранных языков, и что Беседа составилась единственно с целью возвратить и сохранить ему его чистоту и непорочность; и они все взялись быть главными её поборницами.
Маститый Державин, который воспел все минувшие славы России, для заседаний Беседы отдал великолепную залу прекрасного дома своего на Фонтанке. В этой зале, ярко освещенной, как во храме бога света, не помню сколько раз, зимой бывали вечерние, торжественные собрания Беседы. Члены вокруг столов занимали середину, там же расставлены были кресла для почетнейших гостей, а вдоль стен в три уступа хорошо устроены были седалища для прочих посетителей, по билетам впускаемых. Чтобы придать сим собраниям более блеску, прекрасный пол являлся в бальных нарядах, штатс-дамы в портретах, вельможи и генералы были в лентах и звездах, и все вообще в мундирах. Часть театральная, декорационная была совершенство; заправлял ею, кажется, сам Шаховской. Чтение обыкновенно продолжалось более трех часов и как содержанием, так и слогом статей отнюдь не отвечало наружному убранству великой храмины. Дамы и светские люди, которые ровно ничего не понимали, не показывали, а может быть, и не чувствовали скуки: они исполнены были мысли, что совершают великий патриотический подвиг, и делали сие с примерным самоотвержением. Горе было только тем, которые понимали и принуждены были беспрестанно удерживать зевоту. Модный свет полагал, что торжество отечественной словесности должно предшествовать торжеству веры и отечества.
На подобие Государственного Совета, составленного из четырех департаментов, и Беседу разделили на четыре разряда, и так же как у него, в каждый посадили по председателю, да еще каждому дани по попечителю. Это был сущий вздор, ибо в предметах занятий между разрядами не было никакого различия. Потом было в каждом из них по нескольку членов и по нескольку членов-сотрудников, которые составляли как бы канцелярию Беседы. Вообще, она имела более вид казенного места чем ученого сословия, и даже в распределении мест держались более табели о рангах, чем о талантах. Попечителями были председатели в Совете, граф Завадовский и Мордвинов и министр просвещения граф Разумовский; как будто на смех, четвертым посадили министра юстиции, Дмитриева. Почти все вышепоименованные писатели попали в члены, коих список украшался именем Крылова, как вечерние собрания их оживлялись немного чтением его басен. В числе сотрудников находились и наш Жихарев, который тогда еще был не наш, и Греч, о котором я тогда не имел еще никакого понятия. Крылов, хотя и выдал особу свою Беседе, но, говорят, тайком подсмеивался над нею. Доказательством тому поставляют вскоре после её открытия выданную им басню Квартет, где проказница мартышка, осел, козел, да косолапый мишка спорят о местах, и автор говорит им: «Друзья, как ни садитесь, а в музыканты не годитесь».
Чтобы ни говорили, а Беседа, может быть, не весьма с похвальными намерениями основанная, по мнению моему, была во многом полезна. Во-первых, самого Карамзина грубости Шишкова сделали несколько осмотрительным; он указывал ему на средства дать более важности и достоинства историческому слогу (более он сделать не мог), а тот с своим чудесным умом и талантом не оставил ими воспользоваться. Несколько молодых писателей были поудержаны от жеманства, в которое, по неопытности, могли бы впасть, глядя на московских вздыхателей. Наконец, покровительство и уважение, оказываемые в столице отечественной словесности правительством и высшими сословиями, имели благотворное действие на провинции и некоторым образом способствовали сближению разных состояний и согласию между ними, столь необходимых в эту памятную эпоху.
Как ни велико было авторское полчище, набранное Беседою, всё еще оставалось много людей, упражняющихся в литературе, которых она восприять не захотела или которые сами в ней быть не пожелали. В это время число их до того увеличилось, что можно было, по примеру Ривароля до революции, составить в одном Петербурге маленький словарь маловеликих людей. Служащий в министерстве просвещения Димитрий Иванович Языков, человек ученый, переводчик Шлецерова Нестора, нашел, что из сих остатков можно создать еще новое особое общество, предложил им о том, получил их согласие, для заседаний выпросил одну из зал опустевшего Михайловского замка и сделался первым президентом Общества Любителей Наук, Словесности и Художеств.
Никто из членов его не смел и подумать вступить в соперничество и борьбу с Беседой; хотя Дашков, Милонов и Граматин были приняты в число их, однако же умели сохранить некоторую от неё независимость. Между ними были примечательны два человека: Петербургский Измайлов, которого звали Александр Ефимович, да еще Александр Христофорович Востоков, который из любви к России бросил немецкое прозвание Остенек.
Первый был всем известный баснописец вроде Крылова. Между ними была та разница, что Крылов умел облагораживать простонародный язык, а этот сохранял ему всю первобытную его нечистоту. Одним словом, и все в том соглашались, это был Крылов навеселе, зашедший в казарму, в харчевню или в питейный дом.
Востоков, кажется, был нечто вроде Мерзлякова, более профессор поэзии, чем поэт, искусный учитель пения, у которого не было голоса. Он заикался, и это напоминает мне стихи его, о самом себе написанные:
Язык ему не додан смертных, Но дан язык богов.Многие уверяли, что и на этом он заикается.
Еще было одно общество, но не столько литературное или ученое, сколько приятельское. Оно состояло тогда из пяти или шести человек и собиралось только отобедать, потолковать или провести вечер у мецената своего, Алексея Николаевича Оленина, о котором также не здесь, а далее должен буду много говорить. Принадлежа ко всем и ни к которой из партий или обществ, члены Оленинские даже в доме его, хлебосольном, для всех открытом, и принимая участие в общей веселости, составляли какой-то особый мир, имеющий особые мнения, особые правила. Отличнейшими или отличенными между ними были Крылов и Гнедич. Других не назову кроме одного, Александра Ивановича Ермолаева, скромного, молчаливого и ученого человека по части русских древностей. Он был из числа тех людей, кои, оторвавшись от житейского, всем духом своим погружаются в любимую науку.
Труды свои одна только Беседа издавала периодически, книжками, после каждого собрания и публичного чтения. Журналов в продолжение этого времени было много в Петербурге, всё менее, чем в Москве; но как уже я сказал, я мало ими занимался и немногие помню. Северную Почту называть бы не следовало, ибо это была официальная газета, называемая политическою, но которой страницы обыкновенно наполнялись только одними почти известиями об успехах выделывания свекловичного сахара и кунжутного масла, что было следствием продолжавшейся у вас, по милости Наполеона, запретительной системы торговли. Она издавалась при Министерстве Внутренних Дел, под управлением и покровительством самого министра, Козодавлева, который хотел показать, как усердно он занимается мануфактурною частью[138].
Еще был С.-Петербургский Вестник, да еще Улей, журнал непозволительно-безобразный и глупый, как по содержанию своему, так и по наружной форме: оберткой служила ему тёмно-серая, толстая бумага с волосьями, а издателем Анастасевич, под руководством графа Хвостова.
Как бы мне еще не забыть Сионский Вестник и им заключить сию длиннейшую изо всех глав моих Записок. Издателем его был Александр Федорович Лабзин, конференц-секретарь Академии Художеств, часть, которою он совсем почти не занимался. Сказывали, что он был человек строгой нравственности, живого и пылкого характера и что чистосердечие его часто обращалось в грубость. Он был ученик Николая Новикова, и журнал его, можно сказать, был продолжением Утреннего Света и Вечерней Зари, тех, кои наставник его некогда издавал в Москве. Нужно ли говорить, что он был чисто-религиозного содержания, но в духе мартинизма, им исповедуемого, и наполнен был мечтательностью, отвлеченностями, немногим понятными, и что оттого немногие и читали его? По моему мнению, христианский журнал тогда только может быть у нас полезен, когда он будет верующих еще более утверждать в Православии и распространять свет его между неверующими, а Сионский Вестник был явным посягательством на его права. Сильное действие его обнаружилось после, когда источником мистицизма сделалась сама верховная власть, и он усиливался разлиться по всему лицу земли русской. Здание ему, в охранение и в честь его воздвигнутое, Библейское Общество, внезапно рушилось, расшиблось, и редко где ныне можно встретить его дребезги.
XI
Пожар Большего театра. 1811. — А. У. Болотников. — А. Д. Копиев. — Поездка в Финляндию.
Несчастным происшествием начался печальный 1811-й год. В то самое время, когда все тешились и плясали, встречая его, Большой каменный театр, близ Коломны, заново отделанный, славный и обширный, ровно в полночь загорелся; никакими средствами не могли унять пламя, и зарево его до утра освещало весь испуганный Петербург. Люди, которые ждут беды, во всём готовы видеть худое предзнаменование. Один только главный директор театра, Нарышкин, не терял веселости и присутствия духа: он сказал по-французски прибывшему на пожар, встревоженному Царю: «Ничего нет более: ни лож, ни райка, ни сцены, всё один партер, tout est par terre».
Я шел в это время пешком к себе на Малую Воскресенскую улицу с Фурштатской, от сестры и зятя Алексеевых, которые за неделю до того приехали. На столь дальнем расстоянии, меня так и обдало светом. Вылечившись совершенно от ран, генерал Алексеев спешил в Финляндию принять начальство над доставшейся, в мирное время, ему на часть бригадою и недели через две потом туда уехал.
По убеждению Александры Петровны Хвостовой, с которою дружба всё продолжалась у нас по-прежнему, с самой осени жил я против её квартиры в доме одного сенатора Болотникова. Забор этого не совсем еще достроенного дома, близ Литейного двора, выходил прямо на Неву, и тем представлялось мне приятное удобство спокойно прогуливаться во всякое время, даже ночью, по гладким, всегда вычищенным гранитам её набережной.
Согласно желанию той же Хвостовой, познакомился я и с хозяевами дома, и они должны непременно войти в опись встреченных мною в жизни странных людей. Начнем с супруга.
Во время первой молодости графа Бобринского, когда императрица Екатерина могла еще надеяться, что из него выйдет что нибудь путное, велела она между кадетами Сухопутного Корпуса выбрать двух молодых людей, которые бы от других отличались особым прилежанием к наукам и примерным поведением, чтобы сопутствовать ему за границу, куда посылала она его для довершения его воспитания. Выбраны были Борисов и Болотников, произведены в гвардии офицеры и отправлены путешествовать. Про Борисова я ничего не знаю; а степенный, неподвижно-серьёзный Болотников, вероятно, должен был находиться в вечном разладе с невоздержанным, расточительным Бобринским; они воротились неприятелями. Несмотря на то, Государыня не лишила его своего покровительства, и неимущий, мелкий дворянин, с самым малым состоянием, но с великою бережливостью и порядочным пособием мог поддержать себя в гвардии до капитанского чина. В Шведскую войну, при Екатерине, находился он в походе, влюбился во вдову убитого подполковника Фон-Бушена и женился на ней. Она была дочерью шлиссельбургского достаточного фабриканта, крещенного еврея Лемана, и от того и денежные его обстоятельства значительно поправились. Он был полковником и командовал каким-то пехотным полком, когда Павел воцарился; при нём успел он быть произведен генерал-лейтенантом и при нём же, как водилось, успел он быть отставлен. «Будет с меня», сказал он, поселился в деревушке, где то в соседстве с Аракчеевым, и редко являлся в Петербурге.
Елизавета Христиановна, вдова Фон-Бушен, урожденная Леман, имела все права называться немкой, и она воспользовалась ими, чтобы сделаться любезною и угодною графине Ливен, воспитательнице великих княжон. По ней, и второй супруг её, Алексей Ульянович, пользовался милостью и покровительством графини, тем более что расчётливость его и точность, совсем нерусские, ей были очень известны. Когда просватали Екатерину Павловну за принца Ольденбургского и начали заниматься составлением ей особого двора, то графиня Шарлотта Карловна рекомендовала генерала Болотникова вдовствующей императрице, как человека самого способного в занятию должности гофмейстера, а с другой стороны Аракчеев поддержал это предложение у Государя. И действительно, с качествами хорошего немецкого эконома соединял он усердие и смелость русского дядьки, который барское добро бережет как глаз и, в случае нужды, может поудерживать молодых господ. С этою мыслью отправился он в Тверь и, принявшись за дело, целый двор заставил во всём нуждаться. Всё вопияло, и когда великая княгиня позволила себе ласково заметить ему, что в таком усердии есть некоторая преувеличенность, то получила в ответ, что обязанность его смотреть за тем, чтоб она не предавалась излишней расточительности и, в доказательство своих прав, её самоё начал он морить с голоду. Я заметил, что для людей и особенно для женщин, одаренных необыкновенным умом, нет более мучения, как обязанность всегда находиться в обществе и в беспрестанных сношениях с людьми самодовольными и бестолковыми; это у них обращается в некоторого рода болезнь, которую другие не хотят, или не могут понять. Можно себе представить досаду женщины, довольно самонравной, именем и головою подобной своей великой бабке, смотря на неподвижное бревно, во всех самых простых действиях её жизни загораживающее ей дорогу. Долее пяти месяцев он при ней оставаться не мог, и окружающие ее находили и это удивительным. Заставили этого человека Богу молиться, а он лоб расшиб, только к счастью не больно.
Он долго служил в Семеновском полку вместе с Дмитриевым. Вероятно сей последний находил его странности забавными, тайком подсмеивался над ним, ласкал его как нужного для себя человека, а тот привязался к нему, и наконец сам Дмитриев был нежно к нему расположен. Его сделали министром юстиции в то самое время, когда шло дело об избавлении Екатерины Павловны, об удалении Болотникова из Твери. Он мог неприятным образом быть отставлен; но Дмитриев, пользуясь первоначальным кредитом своим у Государя, выпросил ему сенаторство, с сохранением придворного мундира и всего весьма большего содержания, по званию гофмейстера им получаемого. Ведь всегда же счастье… нет, не скажу кому.
Несмотря на безрассудность его поведения при дворе великой княгини, слыл он человеком чрезвычайно дельным, и по всей справедливости называли его весьма трудолюбивым. Он хотел быть беспристрастным и сведущим судиею и вникнуть в существо каждого дела, а понять дела самого простого не мог без величайшего труда. Оттого Дмитриев в шутку, хотя и в глаза, называл его Долбилиным, находя, что каждый вопрос долбит он, чтобы добраться до его смысла. С этим сравнением я не согласен; по моему, напротив, каждую мысль надобно было как гвоздем вколачивать в твердый как гранит его череп и в одеревенелый мозг. Я что-то ему не полюбился: во мне еще оставалось довольно живости и откровенности, чтобы в глазах его это казалось вертопрашеством. Он на меня косо смотрел, едва мне кланялся и мало со мной говорил, чему, признаюсь, я очень был рад, ибо он мне казался нестерпимо-скучен. Отношений у нас друг к другу, кажется, никаких не могло быть, кроме исправного платежа денег за квартирку мою. Так зачем же ты у него бывал? спросят меня. Знакомство с Болотниковыми есть грех, который должен лежать на душе моей любезной Хвостовой.
Она по соседству познакомилась с Елизаветой Христиановной и полюбила ее; и было за что: она была весьма приветливая, прегостеприимная и предобрая барыня. Видя меня у неё несколько раз, она пожелала увидеть у себя в доме и просила ее меня на то склонить, после того довольно часто присылала приглашать на вечер и всегда осыпала ласками. Я долго не понимал, на что я могу быть ей надобен; Александра Петровна взялась мне это объяснить. Ей хотелось женить меня на старшей из трех дочерей своих от первого брака[139]; но на такого рода предприятие я не дерзнул бы решиться. Софья Николаевна была девочка худенькая, собой не весьма красивая, с желто-синеватым цветом лица и вечно как будто в лихорадке; к тому же (непростительная тогда вина в моих глазах) не говорила по-французски. Она часто весьма неосторожно побрякивала ключами в кармане и за всякой безделицей из гостиной беспрестанно бегала в кладовую и на погреб. Раз случилось, что в день какого-то званного обеда, когда кого-то долго дожидались, она вбежала с беспокойством и при всех объявила вотчиму, что если ожидание продлится, то клецки разварятся и суп никуда годиться не будет. Одним словом, в ней видна была воспитанница Алексея Ульяновича, и она достойна была называться не падчерицей, а родной его дочерью. Её мать часто говорила мне о её хозяйственных добродетелях и уверяла, что муж должен найти в ней сущий клад; я же оставался весьма равнодушен к сим внушениям, ибо никогда не приходило мне в голову искать счастья в брачном союзе с ключницей. Да впрочем, как у нас у обоих ничего не было, то и запирать было бы нечего. Начиная с самого Болотникова, всё в этом доме находил я ультра-мещанским. А что было делать? Живши в одном доме нельзя было, всякий раз отказываться от приглашений. Иногда, скрепя сердце, дозволял я себе подступать с разговорами к девице; а она всегда казалась в смущении, в смятении, только совсем не любовном. Нет, мы, видно, не рождены были друг для друга.
Изредка посещал моих хозяев один мой знакомый, мой земляк, пензенский помещик, отставной генерал — майор Алексей Данилович Копиев. Это лицо было гораздо примечательнее тески своего Болотникова, с характером которого имело и некоторое сходство и много противоположностей. Он был известен всей России, в сих Записках часто мимо его проходил я с пером в руке; не знаю как он ускользал от него; теперь не должен увернуться. Начертание его биографии если не для читателя, то для меня самого будет весьма занимательно.
Правда или нет, что отец его был еврейского происхождения, какое мне до того дело; довольно с меня и того, что Даниил Самойлович Копиев (которого знаю только по наслышке) принадлежал к нации благородно-мыслящих и действующих людей. Он был первым вице-губернатором в Пензе, когда Ступишин был губернатором; они равны были честностью, а не умом; но в том было его еще достаточно, чтобы его уважить в Кошеве и пользоваться им. Вдову его, Надежду Карповну, урожденную Ельчанинову, я знавал; она до глубокой старости оставалась в Пензе, где и скончалась. Говоря по большей части о недостойных или ничтожных людях, в чей живущих, я не смел между ними назвать эту праведницу. При большом природном уме, не было ни одной женской добродетели, которой бы она не имела, а слабость одну — чрезмерную любовь к детям своим. В злости людской видела она одну только болезнь и молила Бога об исцелении ею одержимых. И в городе, где были довольно равнодушны к сверхъестественным доблестям, все ее уважали, ибо смирение её было исполнено достоинства.
От этой четы, сверх четырех или пяти дочерей, родилось одно чадо мужеского пола; это наш герой. В нём не было ни злости, ни недостатка в уме, ни одного из пороков молодости, которые иногда остаются и в старости; а со всем тем трудно было бы приискать что-нибудь ему в похвалу. Все его молодые современники щеголяли безбожеством и безнравственностью более в речах, чем в поступках, и это давало им вид веселого, но нестерпимого бесстыдства: он старался их превзойти. Будучи офицером гвардии в Измайловском полку, он прославился насмешками над честным, довольно-строгим, но слабодушным начальником своим, Арбеневым, о котором я уже говорил. Всё сходило ему с рук, по добродушию и невниманию этого начальника, и всё более умножало его смелость. Его репутация, как остряка и балагура, дошла до князя Зубова, который, по примеру князя Потемкина, имел свиту огромную, бесчисленную, составленную из адъютантов, ординарцев и чиновников для поручений; он поместил его при себе с чином армейского подполковника. В продолжении нескольких лет, последних царствования Екатерины, все покровительствуемые Зубовым и при нём состоявшие пользовались совершенною безнаказанностью. Копиев был еще довольно молод, а молодости если не всё, то многое прощается; проказничал же он более речами, и к его забавной наглости были снисходительны даже в большом обществе. Он не замечал, что нечувствительным образом превращался в княжеского шута и что сего рода людям в России всё дозволялось. Только лестно ли таким правом пользоваться?
По вступлении Павла на престол Зубов низвергнут, и Копиев остался без подпоры с своими пресловутыми фарсами. Всех возмущала тогда перемена мундирной формы по старинному прусскому образцу, все возроптали, и Копиев пожелал угодить общему мнению. Он, как говорили тогда, выкинул штуку: заказал себе в преувеличенном виде всё, ботфорты, перчатки с раструбами, прицепил уродливые косу и пукли, и в этом шутовском наряде явился к Павлу, который шутить не любил. Но в первые дни он хотел казаться милостивым и снисходительным, удовольствовался тем, что виновного посадил на сутки под арест и велел отправить в драгунский полк, к которому он принадлежал и который стоял в Финляндии. Анекдотов про него была куча; он не унимался, по старой привычке неосторожно врал и ругательными насмешками продолжал преследовать Царя. Тут ему даром не прошло: он разжалован в рядовые и записан в гарнизонный полк там же в Финляндии. В сем горестном положении влюбился он в единственную дочь одной небогатой помещицы, которая, к его счастью, согласилась ее за него выдать[140]. Донесением этого события умели искусно растрогать, разжалобить императора, который велел отставить его прежним подполковничьим чином, но там же в Финляндии оставить на жительстве. Тогда сам он купил там поместье и думал поселиться в нём на веки. В первые месяцы при Александре, Пален и Зубовы делали что хотели; они вызвали Копиева из заточения и в сравнении с сверстниками доставили ему прямо чин генерал-майора; но времена переменились, и после того никогда уже он употреблен быть не мог.
Он теперь более чем в пожилых годах. Не один десяток лет оставался он, можно сказать, в неподвижном состоянии; самые черты лица его почти не изменялись, но отношения к нему общества совсем переменились. Бесчинство и богохульство в старости во всяком должны производить омерзение; его циническая неопрятность и совершенно еврейская алчность к прибыли, без всякого зазрения совести и как бы на показ выставляемая, должны были рождать к нему отвращение. Странно, как с умом его он был всегда нечувствителен ко всеобщему неуважению: лишь бы сорвать улыбку, хотя бы презрительную, и он оставался доволен. С Болотниковым он сходствовал скупостью; но у того хоть всё было в обрез, за то всё опрятно, а у этого и мебель, и люди, и сам он всё оборвано, всё запачкано, всё засалено, не от небрежности, а от износки. Он век проходил в зеленом фраке; уверяли, что для того скупает он поношенное сукно с билиардов, и что заметны были даже пятна, напоминающие места, где становились шары. И он же всегда ругался над графом Хвостовым, утверждая, будто его назвать нельзя без «с позволения сказать». Веселый ум всегда встречал я с удовольствием, и я вкушал Копиева, как говорят французы; но, признаюсь, иногда и мне от него тошнилось.
Я не назвал его между литераторами, потому что он совсем с ними не водился, хотя, так про себя, и писал стихи и драматические творения. Его шутовски-забавные комедии: Лебедянская Ярмарка, Княгиня Муха и другие были играны при Екатерине с успехом и напечатаны. Он любил русить иностранные слова; у него выше сего заимствовал я слово апропее; про лифляндских помещиков говорил он, что у кого из них более поместьев, тот и фонее. Из множества стихов, коими иногда душил он меня, одно четверостишие осталось у меня в памяти. Он питал любовь к какой-то княжне, которая на нее не отвечала, что приписывал он холодности её сердца, и он написал:
Боже Ты, ее создавши, Иль мой пламень утуши, Иль все прелести ей давши, Дай хоть крошечку души.Кажется, как бы легко сделаться ему порядочным человеком. Он никогда не был развратник, а только что срамослов; всегда шутил над семейными и супружескими добродетелями, а был верен и предан жене своей, благонравной, скромной и пристойной, и без памяти любил детей; ни против кого не имел ни злобы, ни зависти, а не о ком не умел сказать хорошего слова; для красного словца, как говорилось тогда, не щадил он, если не отца, то матери и сестер, к коим, впрочем, чрезвычайно был привязан. Наклонности, полученные нами в первой молодости, видно, ничто исправить не может.
Раз, вечером, встретил я его у Болотниковой, и он вдруг предложил мне прокатиться с ним в Финляндию, для свидания с сестрою и зятем. Это было в конце марта, и между многими другими препятствиями заметил я ему, что совершенная распутица; он уверял меня, что зимний путь там еще месяц простоит. Вот какая была у него цель: он жену и весь дом давно уже отправил на всё лето в деревню, а при нём находился один только человек, которого непременно надобно было ему оставить в Петербурге; он рассчитывал, что при мне верно будет слуга и что в зимней перекладной повозке, издержки пополам, езда будет стоить ему дешевле, и что таким образом выиграет он и деньги, и прислугу, и общество. Не знаю, как он сделал, только меня подговорил. Не видя никакой надежды скоро получить место с жалованьем, я всё реже стал являться в канцелярию к Рибопьеру и едва в месяц раз туда показывался; для кратковременной отлучки мне отпуска просить было не нужно, так я думал по крайней мере. Подорожная была у Копиева, и сборы мои не могли также быть велики.
Мы выехали или, лучше сказать, мы вышли из Петербурга 30 марта, в четверг на Страстной неделе. Как выше сказал, я жил на берегу Невы; он зашел ко мне, и мы стали перебираться по настланным мосткам через гибкий и местами треснувший лед на Выборгскую сторону; за нами несли наши чемоданы. На противоположном берегу в это время обыкновенно дожидаются повозки с конями; но как на улицах была везде одна жидкая грязь, то, положив в них пожитки наши, мы сами не сели, а предпочли идти пешком по доскам, возле домов, до самой заставы. За нею едва ли было лучше, и мы шагом до станции Дранишниковой должны были тащиться по голой земле. Далее, действительно Копиев был прав, и мы нашли зимний путь, если не лучший, то, по крайней мере, возможный.
Мы лежали покойно в известных Чухонских, длинных и крытых санях, которых, не знаю, сохранилось ли еще употребление. Веселость его, которую никакая печаль не в силах была омрачить, многоречие его, которое никакое приличие не могло остановить, дорогой, в темноте, сначала служили мне приятным развлечением; но когда сон стал меня одолевать, то превратились в столь нестерпимое мучение, что я, наконец, принужден был униженно просить его превосходительство, чтоб оно умолкло.
На другой день, рано поутру, приехали мы в Кексгольм, сделав всего только 140 верст и остановились на всё утро у какого-то финна, приятеля г. Копиева. Я ходил смотреть упраздненную крепость, и в ней показывали мне семейство Пугачова, не знаю зачем, всё еще содержавшееся под стражею, хотя не весьма строгою. Оно состояло из престарелого сына и двух дочерей: простой мужик и крестьянки, которые показались мне смирными и робкими. Обедали мы не весьма вкусно: нас потчевали чухонским кушаньем; между прочим кормили салакушкой с молоком, и в молоке же вареною черникой, да кнакебрё, сушеными лепешками, а поили швадриком, квасопивом. После обеда отправились мы прямо на мызу Копиева, от Кексгольма в 20 верстах лежащую.
Какой странный был он человек! Ко всем другим недостаткам своим присовокуплял он удивительное хвастовство или, попросту сказать, бесстыдную ложь. Мы ехали к нему, и он уверял меня, что я увижу чудеса, замок на скале, с идущею вниз мраморною лестницей прямо к озеру и стоящему на нём маленькому флоту из мачтовых судов разных величин. Он не подумал, что часа через полтора, через два, обман его должен мне открыться. Мы подъехали, и действительно тут были скала и озеро (земля финнов ими изобилует); но на скале, вместо замка, стоял самый простой деревянный дом, какие внутри России бывают у мелкопоместных дворян; неправильно выдолбленные в граните ступени заменяли выдуманную им лестницу, и две рыбачьи лодки, затертые еще льдом, составляли его флот. Взглянув на это, я не утерпел, улыбаясь, заметить ему, что 1-е апреля еще не наступило, а будет только завтра, и он ни мало не рассердился. Добрая хозяйка меня встретила с удовольствием, хотя несколько смутилась от ожиданного моего приезда: ей совестно было кому-нибудь из Петербурга показать свое деревенское житье. Однако же её попечениям остался я обязан за тощий ужин и опрятную постель, которые мне дали. Сам же хозяин чрезвычайно торопил меня ехать, чтобы мне поспеть к светлому празднику в назначенное мне место, до которого оставалось еще 150 верст. Чтобы не дать мне у себя обедать, он без всякого дела провел то утро в Кексгольме и рано на другой день отпустил меня без чаю.
Названия Копиевской мызы я теперь не знаю; только помню, что оно оканчивалось на ярви или на лакс. Из неё путешествие было для меня не совсем веселое: я мог на каждой станции быть остановлен. К счастью, в этом захолустье ни на одной не было смотрителя, и нигде не спрашивали у меня подорожной, которой у меня не было. Ужасы дикой природы могли бы летом быть очаровательны, а зимой я не прельщался ими даже среди Алтайских гор; ехал я не шибко, ибо местами санный путь прерывался, и я тащился по обнаженным уже камням; наконец, что всего досаднее, целые сутки я голодал, ничего не находя, кроме черствого ржаного с мякиной хлеба, и последний день поста был осужден на самый строгий пост. Ночью сделалось очень холодно; морозу, я думаю, было градусов пять или шесть; закрытый в повозке, я вдруг услышал вопли. Пойга, как зовут чухонских мальчиков, который вез меня, плохо одетый, весь оборванный, рыдал и плакал; высунувшись, мы с человеком моим спросили: о чём? Бедняжка, весь окоченев, не мог и на своем языке нам отвечать и уже не держал вожжей. Слуга мой предложил сесть на его место и на волю Божию править лошадьми, а его положить в повозку и прикрыть бывшим со мною заячьим одеялом. Это было около полуночи или за полночь. Вот положение, подумал я, когда добрые люди, православные христиане, стоят у заутрени, молятся и радостно внимают восклику Христос воскресе, я не знаю даже, не потерял ли дороги и не пропаду ли среди незнакомых мне мест. Однако же Бог помог, и мы приехали на станцию, на которой и сдали мальчишку с отмороженными пальцами на одной ноге; а часу в десятом утра и в самый город Нейшлот, где находился штаб бригады и полка моего зятя.
Он меня совсем не ожидал, и от того приезд мой в такой день, в такой пустыне, его с женой еще более обрадовал. Я сам на несколько минут позабыл свой голод, но потом с необыкновенным рвением приступил к куличу, к пасхе и к крутым яйцам. Долго я не хотел оставаться; но родные просят, сегодня да завтра, постой да погоди, так что я пробыл тут до 15 апреля, следовательно более чем достаточно имел времени узнать всё нейшлотское общество; да узнать-то было почти нечего.
Два немецких семейства, Брамбург и Шаренберг, не знаю как туда попавших, да третье финское Таваст, составляли это общество. Последние два жили больно скромно, а первый г. Брамбург почитался роскошным человеком, мотом. Судя по вечеринке, которую он дал нам на мызе своей, в двух верстах от города, можно было полагать, что проматывать ему нечего. Был также в крепости русский комендант, подполковник Лопотев, со своею комендантшей, прекурьезно-забавною женщиной, дочерью какого-то генерал-майора Горемыкина, о чём она беспрестанно твердила. Примечательнейшее же лицо был бургомистр или ратман, русский купец Илья Родионов, который славно выучился по-шведски и по-фински, для которого, кажется, нарочно придумано название продувной и который там всем ворочал. Такие люди, если уметь их употребить, довершают завоевание края, начатое оружием. Вообще же у всех русских и нерусских видны были чистота и бедность.
Один весьма небогатый человек жил между ними царьком, это Алексеев; но он был хлебосол, был русский генерал с русскими привычками. На его частые и сытные обеды, хотя немноголюдные по тесноте дома, приходил попеременно откармливаться весь этот голодный народ: из кушанья, сколько бы его ни было, ничего не оставалось, ниже крохи хлеба. Дивясь чересчур почтительному его обхождению с пастором и важности, с которою сей последний принимал ото всех приветствия, я спросил его о причине. «Что делать, братец? — отвечал он мне, — я люблю хорошо поесть, а эти проклятые чухонцы без его приказания за мои же деньги ничего не смеют мне отпустить; по его милости я всегда сыт». Над низшим сословием, над мужиками имел он ту же моральную власть, которую Родионов имел тут над высшим.
Как ни мал был городок Нейшлот, но в нём находился тогда танцевальный клуб, помещавшийся в невысоком и весьма необширном доме. В продолжении двухнедельного моего там пребывания, семь раз я видел танцы: два раза в клубе, четыре раза у зятя моего и один раз у Брамбурга. Там где есть немочки, кавалерийские офицеры и полковая музыка, и нет больших прихотей, там состряпать бал дело весьма нетрудное. Только странно, что между танцующими девицами и молодыми женщинами не находил я ни одного путного лица; оттого-то еще прелестнее казалась жена полкового командира Митавского драгунского полка Родиона Федоровича Гернгроса, Анна Федоровна, урожденная Фон-Брадке. Она была великая мучительница, ибо была прекрасна, привлекательна, привлекающа и недоступна.
Одна улица, не слишком длинная, выстроенная на продолговатой скале, составляет весь город Нейшлот. Крепость, коей стены выложены камнем, построена на каменистом острове большущего озера Соймы, величиною уступающего одному только Ладожскому, ему соседнему озеру. Посредством небольшого моста, чрез узкий пролив; крепость соединяется с городом. От безделья, мне часто случалось гулять по крепостному валу и глядеть на необозримое водное пространство, не оживляемое ни одною ладьей, и это зрелище, даже освещаемое ярким солнечным светом, всегда наводило на меня ужасную тоску. Мне сказывали, что крепость эта ныне упразднена; она прежде находилась на самой шведской границе, но года за полтора до этого граница была уже отодвинута на восемьсот верст.
Воротиться по той дороге, по которой я приехал, сделалось невозможно. Мне оставалось одно средство — ехать небольшими озерами, еще покрытыми крепким льдом, по другой дороге, сделав небольшой крюк. Итак, взяв подорожную на имя моего служителя, я отправился в обратный путь. Далее маленького города Вильманштранда сей удобною ездой я пользоваться не мог, но всё-таки некоторое время мог ехать на полозьях. Известно, что в Финляндии употребляются большие треугольники для расчистки и углаживания зимних дорог; они, раздвояя снег и отбрасывая его по обеим сторонам, наконец образуют из него две высокие стены, между которыми едешь как в ящике. Когда наступит весна, то беспрестанно сметаемый с дороги снег скоро на ней исчезает, и ящик, наполняясь водой, превращается в канаву. Это нашел я; но, на счастье мое, в вечеру сделался изрядный мороз, от которого поверхность снежной стены окрепла и оледенела, и по этой гладкой равнине всю ночь быстро проскакал я до самого губернского города Выборга.
Мне хотелось на него хорошенько взглянуть, и для того на почтовом дворе часа на два остановился я в нём. Наружность его мне довольно понравилась; я мог почитать себя в одном из Петербургских предместий, тем более, что на улицах встречал я почти один русский народ и слышал один русский язык. Также как и в Нейшлоте, во всех других малых городах Старой Финляндии, Карелии или Саводакса, все главные лица от купеческих и мещанских выборов были из русских. Оно иначе быть не могло: на столь близком расстоянии от первенствующего града царства русского, его победоносные жители, в продолжении почти целого столетия, должны были в сем краю заступить место удалившихся шведов и взять верх над слабыми финнами и карелами, его населяющими. Удержусь на этот раз от горьких и досадных размышлений, возбуждаемых во мне воспоминанием о добровольном отчуждении сего края от России: скоро придется мне о том говорить.
В Выборге[141] должен был я уже сесть в чухонскую одноколку, короткий ящик на двух довольно высоких колесах. Оставалось мне еще 132 версты, и всякий шаг вперед к Петербургу было всё менее снега. Эта езда мне показалась гораздо беспокойнее, чем на наших перекладных: я должен был сидеть на корточках, согнутый вдвое. Утонившись, измучившись, ночью на какой-то станции решился я остановиться, чтобы несколько часиков отдохнуть. На другой день, 18 апреля, рано поутру, был уже я на берегу Невы, через которую мосты еще не были наведены, хотя уже шесть дней до того она очистилась от льду. Итак, я переплыл ее в лодке прямо к моему болоту, то есть к Болотниковскому дому.
Вся эта моя финляндская экспедиция показывает много безрассудности, много легкомыслия, но вместе с тем доказывает, что молодость моя не совсем еще исчезла. Главная во всём этом деле ошибка была — напрасная потрата денег, и я должен был восчувствовать её последствия. Еще в начале апреля по моему расчёту должен был я получить следуемые мне от родителей деньги; я ходил справляться на почту, повестки не было, и приближался срок уплаты за квартиру неумолимому, жестокому Болотникову. Кое у кого перехватил десятки рублей, расплатился с хозяином, но затем остался почти без гроша. Надобно же случиться такой беде! У приятелей моих кошелек в это время был почти также пуст, как и мой, и занять было не у кого; знакомые, к которым за просто мог ходить обедать, были нездоровы или в отлучке, кухарке должен был отказать и довольствоваться пищею моего слуги: совершенная нищета угрожала мне. А по беспечности, всё-таки действию юных лет, видел я более смешную, чем ужасную сторону моего положения, в котором первый раз в жизни, впрочем, я находился.
Наступил памятный мне, страшный день, 29 апреля. Слуга пришел мне сказать, что он в последний раз напоил меня чаем, который весь вышел, что он сам не знает чем этот день прокормится, что ложки и часть посуды заложены, и что в лавочке копейки более верить не хотят. Стоически дотоле переносив бедствие, я тут пришел в совершенное отчаяние. Я не знал что начать; оделся и хотел идти со двора, чтобы дорогой придумать как пособить горю. Но лишь только спустился с лестницы, как встретил какого-то отставного унтер-офицера, присяжного или сторожа; в сюртуке с галуном и с огромным ин-фолио под мышкою, который спросил у меня, тут ли я живу? «Это я, что тебе от меня надобно, любезный?» отвечал я. Расписаться в этой книге, был его ответ. В замешательстве, в смущении, в котором я находился, мне покажись, что на меня падает какое-то казенное взыскание; не знаю что сказал я унтер-офицеру, — только он отвечал мне: «да нет, ваше высокоблагородие, это вам деньги; извольте их наперед получить, а потом распишитесь».
Что же вышло? Чиновники, отряженные в банк для подписывания ассигнаций, вопияли, что работают без всякого возмездия, и министр финансов согласился, наконец, не назначая им жалованья, выдать трудящимся и трудившимся за прежнее время по сту рублей на месяц; таким образом и на мою долю досталось с лишком четыреста. Как с неба они мне упали. Нет, утопающий, которого вытащили из воды, не может ощутить той радости, которую я чувствовал! В тот же день, разумеется, явились опять чай и кухарка, а на другой день получил я и повестку с почты.
Вскоре после этого, случилось у меня другое, небольшое домашнее беспокойство. Раз, в мое отсутствие из дому, слуга мой и кухарка по какой-то надобности пошли со двора, и первый, на случай моего возвращения, оставил ключ от комнат моих одному из слуг Болотникова, живущему на одной со мною лестнице. Когда я воротился домой прежде моего Василия, то этот человек отпер мне двери, но ключа отдать мне не хотел, утверждая, что он похищен из комнат его господина, хотя я и уверял его, что он более шести месяцев находится у меня в руках. Совсем не забавно было думать, что посторонние люди без меня, когда захотят, могут безвозбранно входить в мое жилище.
Утром на другой день пошел я жаловаться г. Болотникову. Выслушав меня со всею важностью судьи, он приказал позвать своего лакея; я думал за тем, чтоб его побранить и велеть отдать мне отнятое. Ни мало; он потребовал от него объяснений против обвинения моего. Смешно и досадно было мне слушать, особенно когда он обратился во мне с вопросом, что имею я против этого сказать? Ничего, отвечал я: дело самое простое, вы можете мне верить или слуге вашему, с которым, признаюсь, никак не откидал тягаться и стоять на одной доске. Строго взглянув на меня, он отвечал, что во всём любит справедливость и никогда односторонне не судит, и что я должен перед ним не забываться. На это возразил я, что в настоящем случае имею дело не с сенатором, а с хозяином дома, и что если бы следовать справедливости, то я имел бы право на него просить полицию; но для скорейшего прекращения предпочитаю оставить дом его, в полном смысле, так чтобы нога моя никогда в нём не бывала. Он затрясся от досады, грозно посмотрел на меня, но ни слова не молвил, а я с поклоном вышел. И эта дубина, несколько лет спустя, более года временно управляла Министерством Юстиции и, наконец, засела в Государственном Совете!
Я приказал слуге моему немедленно отправиться искать мне квартиру, какую бы то ни было и где бы то ни было, туда перенести мои пожитки и только адрес её оставить дворнику, а сам пошел по городу шататься. День был прекрасный, какие изредка бывают в Петербурге весною; я загулялся и когда уже смерклось пришел справиться о новом своем жилище. Адрес был сделан очень глупо, выставлено название части, квартала и номер дома, а не означена ни улица, ни прозвание владельца. Днем отыскать было легко, а ночью весьма затруднительно: одним словом, около часу не знал я, где живу и чуть было не принужден был ночевать на улице.
Служитель мой исполнил приказание мое в точности, отыскал мне квартиру какую-нибудь: она находилась в самом верхнем жилье, на весьма узком проходном дворе между Миллионной и Мойкой, куда никогда солнце не заглядывало и где жили всякого рода люди. Это было одно из тех жилищ, кои, по примеру Эжена-Сю в Таинствах Парижа, сочинители романов ныне так любят описывать, одно из убежищ, знакомых или пороку или крайней бедности и милосердию, приносящему ей утешение и помощь. Первый, который открыл меня в моей трущобе, был Блудов, и нашел, что я живу не en petite maîtresse. Я объяснил ему причину моего внезапного перемещения, прибавив, что не знаю куда бы не бежал, чтоб избавиться от Болотникова. Тот же день собирался я сам искать новую квартиру; но Блудов меня уговорил покамест тут остаться, ибо на Петербургской Стороне, близ Аптекарского острова, нанял он на всё лето большой дом г. Фока с пребольшим садом и предложил мне сожительствовать с ним на этой полудаче. На такое предложение кто бы не согласился на моем месте, и дня через три перешел я от зловония к благорастворенному воздуху, в наипрекраснейшую майскую погоду.
Таким образом прошла для меня первая треть 1811 года, которая, равно как и глава эта, вся наполнена была двумя Алексеями: Болотниковым и Копиевым. С первым хотя иногда и встречался, но в счастью ни дел, ни даже никаких сношений с ним более в жизни не имел.
XII
Турецкая война 1811. — П. К. Лебедев. — Тяжба с Тютчевым.
Предчувствуя, предвидя общую для нас войну с Западом, весь Петербург в 1811 году нетерпеливо желал скорейшего окончания частной войны нашей с турками. Никто уже не мечтал о том, чтобы наш молодой полководец, по примеру и по следам Олега, прибил русский щит ко вратам Цареграда; но все были уверены, что граф Каменский, хорошо познакомившись с местностями Задунайскими, будет уметь в следующую кампанию нанести неприятельскому войску столь сильные удары, что принудить турок к выгодному для нас миру, как вдруг, в конце февраля, получено было известие, что сей, с небольшим тридцатилетний воин лежит в Бухаресте на смертном одре.
Кому было вместо его поручить армию? В это время вопрос сей был довольно затруднителен. Искусный старик, Михаил Ларионович Кутузов, лучше других знал Турецкую войну: во время первой при Екатерине в 1770 годах, когда был он еще молод, и в продолжение последней, когда был он в зрелых летах, беспрестанно отличался он под начальством Румянцева, Потемкина и Суворова и, наконец, по заключении последнего мира, находился чрезвычайным послом в Константинополе. Но он был разобижен; после не им проигранного Аустерлицкого дела, он, в звании военного губернатора, отправлен был в Киев, почти как в ссылку; оттуда был он вызван для второстепенной роли дядьки при впадающем во младенчество главнокомандующем Прозоровском, который его ни в чём не слушался, с ним ссорился и которому он был пожертвован, отозван и заменен Багратионом, однако же знали его честолюбие, и он охотно согласился принять начальство над Молдавскою армией, к которой поспешно и отправился.
Он нашел молодого предместника своего распростертого, безгласна, бездыханна, окружил его самыми нежнейшими попечениями (старик был самый привлекательный, когда хотел), и как скоро в южном краю наступило теплое время, с бережливостью отправил его в Одессу, в сопровождении адъютантов его и медиков. Я говорил уже о причинах расстройства его здоровья; но действия их не могли развиться с такою быстротой, тем более что всю зиму чувствовал он себя совершенно здоровым. После вечера, проведенного у жены одного грека, консула не помню какой державы, на котором выпил он стакан лимонаду, приключилась с ним сия скоропостижная болезнь, и подозрения в отраве были единогласны. Ненависть всегда охотно взводит клевету на врагов; многие уверены были, что сие сделано по наущению генерала Себастиани, бывшего французским посланником в Константинополе. Это не стоит опровержения; ибо где примеры, чтобы Наполеон пытался чрез доверенных своих изводить сильных и опасных противников, которых так много было на свете? Скорее в этом видно нечто византийское, фанариотское. По прибытии в Одессу он прожил недолго; он таял как воск и, говорят, что как воск были мягки его кости, когда, после кончины его, около половины мая, вскрывали его тело Его смерть можно было сравнить с кончиной другого русского молодого героя, князя Скопина-Шуйского; но о сем последнем никто тогда не ведал у нас. Мы жили вместе с Блудовым почти загородом, когда получено сие известие, которое хотя и было вседневно ожидаемо, но со всем тем крайне его опечалило. Потеря друга-начальника и, может — быть, скоро родственника и для равнодушного человека была бы чувствительна. Тогда между благовоспитанными русскими всё еще существовала мода писать французские стихи, и он, в подражание надписи к портрету Паскаля, сделал ей подобную в изображению графа Каменского. Я помню только последние три стиха!
…Balança sous Dantzig les destins de la France, Enchaîna la Finlande et fit trembler Byzance. Admirez et pleurez: il mourut à trente ans.Третий раз в продолжении этой войны русская армия перешла через Дунай. Она была под предводительством опытного полководца; все крепости, затруднявшие начало кампании, были в наших руках, а со всем тем войско, уменьшенное на половину и не видя начальников своих, одушевленных блестящими надеждами предыдущего похода, лишалось бодрости и нравственной силы. Однако же всё исполняло свой долг, и в половине июня Кутузов одержал немаловажную победу над собравшейся довольно многочисленною турецкою армией. Потом всё лето в частых встречах с неприятелем русские всегда брали верх, и за каждым успехом последовало предложение о мире, который один был только целью желаний правительства и войска. Главным его условием всё-таки оставались Молдавия и Валахия, столько раз нами занимаемые, которые полтораста лет, как клад, нам не даются.
Осенью узнали, что Наполеон перенес Францию за Эльбу и её гранью поставил Любек на Балтийском море, и таким образом захватил не только Ганзеатические города, но и владения герцога Ольденбургского, России преданного и многими родственными узами с императорским домом связанного. Тогда не осталось ни малейшего сомнения на счет намерений всемирного завоевателя, быстро к нам приближавшегося, никаких надежд не только на продолжение с ним мира, но и на кратковременную отсрочку войны. Мы с турками сделались уступчивее, сбавили спеси и, вместо двух больших княжеств, стали ограничиваться рекою Прутом и узкою Бессарабией, мне после столько знакомою. С этим делом скорее можно было поладить; прошел даже слух, что Бутузов, столько же дипломат, как и воин, успел уже подписать о том и трактат, и Марин, более царедворец, чем поэт и воин, успел уже на этот случай написать стихи, в которые вклеил каламбур, что старик наказал мусульман и мечем, и Прутом. Ожидания не сбылись: хотя трактат и действительно был подписан, но стараниями французского посольства в Константинополе не был ратификован, и всю зиму на этот счет остались мы в беспокойном со стоянии.
Я говорю всё мы, разумея под этим большую часть жителей Петербурга, а внутри России только тех людей, кои, одарены будучи рассудком и чувством, имели довольно просвещения, чтобы видеть опасность, грозящую их отечеству и скорбеть о том. Число бесчувственных невежд, разумеется, было всотеро больше, и они, как говорится о мужиках, тогда только перекрестились, когда гром грянул над ними.
Мне хотелось им уподобиться и по крайней мере в продолжении этого прекрасного лета вести жизнь беззаботной твари. Я старался ничего не делать, как только пить, есть, спать и разгуливать по дачам без всяких мыслей, и сначала мне сие удавалось. Вдруг одно небесное явление смутило меня: показалась на горизонте ужасная, великолепная, блестящая комета с огромным хвостом, которой подобной я во всю жизнь мою не видывал ни прежде, ни после. Всё лето, вплоть до осени, горела она на нашем небе и освещала мои вечерние и ночные прогулки. Как простолюдин, веровал я в сие страшное знамение и в мрачных мыслях невольно стал переноситься в будущее.
Один случай, который можно было бы назвать приятным, если бы причина его не была весьма не забавная, неожиданный для меня приезд моих родителей, еще более нарушил то животное спокойствие, которое в это лето надеялся я сохранять. Предупредив меня письмом только дня за два, прибыли они 24 июня. Неприятный процесс, какие впрочем все они бывают, вызвал их в столицу.
Прежде нежели объясню я несправедливость, с какою Сенат поступил против моей матери, да позволено мне будет, чтоб отдохнуть от тогдашнего грустного настоящего, ныне прошедшего, перенестись в давно-прошедшее и приняться за рассказ, которому не здесь место, а при самом начале сих Записок. Но подробности некоторых семейных обстоятельств мне не были известны, когда я приступил к сему труду: покойная родительница моя никогда не хотела их мне открывать, и только после, одна девяностолетняя старуха, сохранившая твердо память, передала мне слышанное от своей матери. Всё нижеследующее мой читатель может пропустить; я писал более для потомства моих братьев и сестер.
Когда при царе Алексее Михайловиче, в 1666 году, Пенза сделана была городом, то первым в нее воеводою посажен был мой пращур, Иван Кондратьевич Лебедев, иною уже упомянутый, человек великомощный, богатый и щедрый. В шести верстах от города поселил он крестьян, построил им деревянную церковь и основал село Лебедевку, ныне принадлежащее моему племяннику. А потом в самом городе, за рекою Пензой воздвиг он на свой счет каменную церковь во имя Казанской Божией Матери и через реку построил мост, который доселе носит его фамильное имя, называется Лебедевским; всё это для того времени было очень важно. У него было два сына, между которыми, по его смерти, разделилось его имущество: старшему, которого не знаю как звали, отдал он вотчины свои близ Казани, откуда он был родом; меньшому же Ивану (от кого мы происходим) — приобретенные имения около Пензы, где он был пришельцем. Старшая от него отрасль сохранила, если еще не умножила, его богатство; меньшая не столько была счастлива. В проезд мой через Казань, зимою 1806 года, правнук его Евграф Алексеевич Лебедев, внучатный брат моей матери, принял меня не так как дальнего, а как близкого родственника, и в славном каменном доме своем радушно и роскошно угостил. Я о том забыл упомянуть; но, право, всего вдруг не припомнишь.
Прадед мой Иван Иванович Лебедев, уже вдовый, умер довольно молод и оставил по себе единственного сына, осмилетнего сироту, деда моего Петра Ивановича. С горестью надобно признаться, что Татарское иго надолго истребило между русскими чувство справедливости и поселило между ними смелую, бесстыдную наклонность к похищению чужой собственности. Богатому мальчику дана была опека, которая, беспрестанно грабя его, в несколько лет успела сделать его почти нищим; и он, решившись искать счастья в службе, вступил простым рядовым в гвардейский Измайловский полк. Тут начинается рассказ моей старухи.
В это время в Петербурге славился своею честностью, прямодушием, любовью к истине генерал-аншеф Василий Иванович Чулков, любимый императрицею Елизаветою Петровной и ею из простых придворных истопников возведенный на знатную степень, которого, может быть, читатель мой помнит (по крайней мере, я того желаю). К сему известному защитнику от притеснений, для всех доступному вельможе, решился прибегнуть робкий, обиженный дед мой. «Что тебе надобно?» спросил он его в просительской прихожей; тот объяснился, как умел. «Да что за хорошенький! Ну точно писанный мальчик!» сказал он, погладил по головке и велел на другой день в назначенный час быть у себя, чтобы выслушать наедине.
Когда тот явился и обстоятельно рассказал ему свое горе, завязался между ними следующий разговор. «Сколько тебе лет?» — «Восемнадцать». — Хочешь ли жениться? — «У меня о том и в помышлении не было». — «Ну а если я тебе сыщу хорошую невесту?» И вместе с этим велел вывести падчерицу свою, Марфу Григорьевну Бривскую. Она была девица лет тридцати, толстая, черная, рябая и, как сказывали (боюсь прогневить её тень), ума более чем ограниченного. Обомлел мой бедный малый и с простотою невинности отказал наотрез; предложенная удалилась. «Ну, так послушай же, — сказал Чулков, — тебя никто не неволить; но знай, что если ты не согласишься, я в дело твое не вступаюсь. И то всего имения спасти не берусь, а только выручу тебе хороший кусок хлеба. Пораздумай хорошенько, и что придумаешь, приди мне сказать». Ни жив, ни мертв вышел несчастный. Такая грубость была тогда еще в нравах, что человек действительно-добрейший, благонамереннейший, не посовестился воспользоваться безнадежным положением сироты, чтобы навязать ему свою падчерицу.
У жениха, кроме состояния было всё: он был совершенный красавец, мил, добр и чрезвычайно умен; у невесты ничего, ни даже состояния. Недели две (говорит предание старухи) поплакал он, погрустил, помолился Богу и, видно, воля небесная положила ему на сердце принести себя в жертву: его женили и возвратили ему часть его имения (без этого вынужденного брака и меня не было бы на свете). Таков русский человек: неволя его не убивает, как людей других наций, а напротив делает во всему способным, и он всегда готов покорить себе волю свою, а сам покориться обстоятельствам. Женившись дед мой прожил всего только восемь лет и умер офицером того же Измайловского полка. Трое детей были плодом сего союза, впоследствии довольно счастливого: дочь Елизавета, семью годами старее моей матери, бывшая в замужестве за надворным советником Сергеем Семеновичем Тухачевским, сын Илья, умерший в малолетстве, и наконец, меньшая дочь, мать моя, Мавра, родившаяся три недели после кончины отца своего.
Моя бабка, которой так трудно было сыскать первого мужа, легко нашла второго. В сем втором браке с Иваном Львовичем Трескиным прожила она недолго и умерла, оставив ему двух малолетних детей, сына Петра, всегда остававшегося холостым, и дочь Надежду, вышедшую после за одного господина Тютчева. Законная седьмая часть, во вдовстве полученная ею из Лебедевского имения, разумеется досталась сыну, за исключением трех мелких дробей дочерям. Отчим Трескин успел склонить своих падчериц (моих — тетку и мать), еще несовершеннолетних, к подписанию отречения от мелких дробей своих в пользу брата. Прошли десятки лет, и когда сей брат, Петр Иванович Трескин, скончался бездетен, то имение, полученное им от матери, разделилось между её тремя дочерьми. Младшей, Надежде Ивановны Тютчевой, уже не было на свете, и её место заступал малолетний сын.
Вступив в совершеннолетие, он стал жаловаться на несправедливость дележа, утверждая, что тетки его, отречением от следуемых им после матери долей, отказались и от прав на всякое после неё наследство. По неясности законов, всякое у нас неосновательное притязание служило доселе предлогом к тяжбе; уездный суд и гражданская палата присудили в нашу пользу, и дело по апелляции поступило в Сенат. Московские его департаменты, не находясь под близким надзором Министерства Юстиции, всегда известны были леностью, беспечностью или пристрастием сенаторов, лихоимством обер-секретарей и секретарей. Один из сих последних Шлыков, в ведомостях вызывая тяжущихся, поставил будто по ошибке, титулярную советницу Марью Васильеву, вместо тайной советницы Мавры Вигелевой, дабы тем устранить с нашей стороны хождение по делу. Как бы то ни было, оно нами проиграно в Сенате. Престарелого отца моего взволновало такое мошенничество, и вследствие его столь явная несправедливость (как будто он не целый век прожил в России!), и он решился ехать в Петербург, с намерением, не доверяя никому, самому хлопотать чрез Комиссию Прошений о высочайшем повелении пересмотреть дело в общем собрании департаментов[142].
Живши почти на даче, я не инако как на другой день после приезда моих родителей мог узнать о нём и с того дня, разумеется, находился на бессменном дежурстве при них, ночевал же у Блудова; но только редко, после обеда, мог отлучаться домой.
Я содрогнулся, когда, после годовой разлуки, в первый раз я увидел отца моего; мне казалось, что не его самого, а только его тень я вижу перед собою. Хотя, конечно, был уже ему семьдесят второй год от роду, но с небольшим за год перед тем был он еще довольно свеж и бодр, а потом в столь короткое время совершенно рухнулся. Горести долго подкапывали и, наконец, сломила эту твердую натуру. Обидная отставка без вины, обвинения и просьбы, потеря любимой невестки, а вскоре после неё одного из сыновей, неудачное служение оставшихся, долги, опасное состояние отечества, самая жизнь в провинции, где он прежде начальствовал и сошел на степень небогатого помещика, наконец этот глупый процесс, всё соединилось, чтобы убивать его безотрадную старость; надежда ни откуда ему не светила. Он всё был на ногах, с самого утра до вечера одет с головы до ног; у него была не болезнь, а расслабление всех нравственных и физических сил, совершенное их разрушение. Нервная система до того поражена была в нём, что он сделался раздражителен, нетерпелив, как ребенок. Увы! Что сталось с этим человеком! Ох, как тяжело и жалко было смотреть на него. Чего не делали мы с матерью и с прибывшею из Финляндии для свидания с ним сестрою, чтобы как нибудь его развеселить, развлечь, ободрить! Усилия наши почти всегда оставались тщетны.
Я вообразил себе, что шум, многолюдство, блеск празднества могут сколько-нибудь оживить, так сказать, гальванизировать сие гаснущее, дорогое мне существо. Приближался день именин императрицы Марии Федоровны, 22 июля, в который ежегодно бывал в Петергофе всенародный праздник; я стал уговаривать его туда поехать и не без труда мог получить на то согласие. Чтобы не утомить его в один день более чем пятидесятиверстным путешествием взад и вперед, мы приготовили ему в Стрельне, на квартире конногвардейских офицеров, двух братьев Беклемишевых (племянников зятя Алексеева), удобный и покойный ночлег, и накануне праздника туда отправились; на другой день только после обеда мы были в Петергофе. И что же? Всё его сердило. Зачем тянется эта несносная, бесконечная цепь экипажей? Зачем толпы народа так весело спешат на праздник? Зачем такое бесчисленное множество огней? Это скорее похоже на пожар, чем на иллюминацию. И хоть бы, по крайней мере, был гнев, досада, пусть бы брань; а то всё неудовольствие — какой-то брюзгливый, невнятный ропот. Мы были при нём безотлучно, как три няньки; на нас совсем были нерадостные лица, и куда как не весел был нам этот вечер! Переночевав опять в Стрельне, на другой день воротились мы в город.
Желание его исполнилось: дело с Тютчевым велено пересмотреть в общем собрании Московских департаментов Сената, и он, несколько успокоенный, начал собираться в обратный путь. В первых числах августа проводил я моих родителей до Средней Рогатки, что ныне называется Четыре Руки; прощаясь с ними и чувствуя, что с отцом расстаюсь на веки, не мог я удержаться от слез, и это скорее огорчило его, чем тронуло. Возвратясь к себе на Петербургскую Сторону, начал я жить не веселее, но несколько покойнее, в обществе постоянного утешителя, скорого помощника моего Блудова. Через месяц надобно было подумать о переселении опять в центр города.
XIII
Казанский собор. — Царскосельский Лицей. — Обособление Финляндии. — Петербург в начале 1812 года.
Осень стояла сначала столь же ясная, тихая и жаркая, как лето; многие приписывали это действию кометы, которая всё продолжала еще бедой сверкать нал в очи. Эта осень замечательна была двумя событиями в столице: окончанием и освящением Казанского собора и основанием Царскосельского Лицея.
Вообще цари, и особенно самодержавные, любят оставлять потомству огромные памятники своего царствования; и замечательно, что чем более народ был угнетен, унижен, тем выше они воздымались: доказательством тому служат в преданиях существующий Вавилон, пирамиды, Колизей и всё египетское и римское гигантское зодчество (греческие произведения в сем роде более отличаются грацией и совершенством форм). Когда император Павел окончил свой по мнению его чудо-дворец, что ныне Михайловский или Инженерный замов, и на короткое время поселился в сем сооруженном себе храме, то задумал воздвигнуть другой храм и Божеству, и незадолго перед смертью своею заложил новый Казанский собор. Старый, даже при Елизавете, стоял почти на краю нераспространившегося еще города, над мутным ручьем, называемым Черною речкой, что ныне вычищенный, но всё-таки грязный Екатерининский канал. Подобно некоторым, находящимся доныне в Петербурге церквам, был он ничто иное как продолговатый, просторный каменный сарай с довольно-высоким деревянным куполом; позади его находилось обширное место, избранное для помещения его великого преемника.
Великим строителем нового храма назначен был граф Александр Сергеевич Строгонов. Он всегда был покровитель художников и любитель художеств, не знаю до какой степени в них сведущий; с иностранным воспитанием и вкусами сочетая русские навыки и хлебосольство, жил он барски, по воскресеньям угощал у себя не одним рождением, но и талантами отличающихся людей. Он был старик просвещенный, умный и благородный, однако же, вместе с тем, довольно искусный царедворец, чтобы ладить со всеми любимцами царей и пользоваться благосклонностью четырех венценосцев. Ему удалось устранить от строения собора, строившего Михайловский замок, самозванца архитектора Бренну, весьма любимого Павлом, бывшего в Италии едва ли посредственным маляром[143], и предложить доморощенного своего зодчего Воронихина. У Павла совсем не было вкуса, у Александра очень много; но в первые годы своего царствования чрезвычайно любил он колонны, везде они были ему надобны, и оттого-то сохранил он утвержденный отцом его план, ибо на нём находились они в большом изобилии.
Всё огороженное место вокруг новостроящегося храма, равно как и вход во внутренность его, когда строение его начало приходить к окончанию, оставались открыты для любопытных; не так как ныне, когда никому, исключая самых избранных, не дозволяется взглянуть на работы, производящиеся десятки лет, когда как будто опасаются, чтобы порядочно одетые люди днем не утащили лежащие кирпич и известку, когда фиглярство строителей хочет какою-то таинственностью закрыть от народа совершаемые им чудеса. Мне иногда случалось входить в достраивающееся здание, и нельзя было не подивиться богатству, расточаемому для внутреннего его убранства. Мраморный узорчатый помост, необъятной величины полированные монолиты, составляющие длинную колоннаду, серебряные решетки, двери и паникадила, покрытые золотом и облитые бриллиантами иконы, всё должно было изумлять входящих во храм. Некоторые однако же позволяли себе сравнивать архитектора с неискусным поваром, который, начиняя все кушанья свои перцем, имбирем, корицей, всякими пряностями, думает стряпне своей придать необычайно приятный вкус.
Ровно через десять лет посл венчания на царство императора Александра, 15 сентября, происходило освящение нового храма. Все носящие мундир, без изъятия, были допущены во внутренность его; у меня мундира не было, и я на улице скромно стоял между фраками и крестьянскими кафтанами, в народной толпе. День был жаркий, ни ветра, ни облачка на небе, и умиленный народ радостно смотрел на крестный ход и на светлые очи и веселый дик идущего в нём Царя, что уже так редко случалось ему видеть. Тут первый раз в жизни узрел я пятнадцатилетнего мальчика, будущего властелина моего, будущую судьбу мою, Николая Павловича.
В этот день Государь был щедр: старика Строгонова из действительных тайных советников пожаловал он в первый класс, награда столь редкая, что почиталась тогда происшествием. Всякое сильное ощущение в старости служит придиркою для смерти: печаль и радость равно убивают ее. Отчего же, если не от радости, через десять дней скоропостижно было умереть здоровому графу Строгонову? Незадолго, 26 августа, видели его на даче, когда он праздновал именины сватьи своей Голицыной, гуляющего вечером в шелковых чулках и башмаках. Тело его предано земле в построенном под надзором его соборе. И в этом увидели худое для России предзнаменование.
Не столь блестящим образом, в октябре было открытие Царскосельского лицея. Кто подал мысль или кто первый имел ее о его основании, не знаю, но если не ошибаюсь, то кажется сам Государь. В первоначальные счастливые годы его царствования, любил он свою простонародность (слово, которым я думаю заменить употребляемое ныне популярность)[144]. Наскучив пышностью и величием, среди коих возрос, всегда любил он также простоту, как в одеянии, так и в образе жизни. Изо всех дворцов своих, самый укромнейший, совсем забытый Каменноостровский дворец, выбрал он летним своим местопребыванием. Одна сторона его обращена была к реке, другая в саду, в котором два большие входа, один против другого, делали его проходным, так что люди всякого звания, даже простые мужики, могли безвозбранно толпами ходить (и ходили) под самыми окнами, не высоко над землею стоящего царского кабинета и почти в него заглядывать. Это его чрезвычайно тешило и радовало. Так было до Тильзитского мира, после которого стал он предпочитать Царское Село.
Странная была участь этого казенного городка и дворца его! Он никогда при начале, а всегда под конец царствования государей делался любимым их убежищем. Место подаренное Петром Великим Екатерине I-й, в стороне от большой Московской дороги, тайком от него засадила она липовыми деревьями и построила на нём трехэтажное высокое, но не обширное здание. В августе 1724 года в первый раз угощала она тут своего дарителя; всё ему чрезвычайно понравилось, и он возвестил, что не только гостить, но даже часто будет жить у неё; в следующем январе он скончался. Говорят, что Анна Ивановна перед смертью неоднократно сбиралась туда переехать, но что Бирон всегда ее отговаривал от того. Елизавета Петровна строила Зимний дворец, а в окрестностях Петербурга, на островах Крестовском, Петровском, на Средней Рогатке, на мызе Пелле, небольшие крестообразные дома, величаемые дворцами, не для жительства своего, а для отдохновения во время частых своих прогулок. Постояннее всего жила она в Петергофе; в Царское Село никогда не заглядывала, как вдруг, во второй половине своего правления, пленилась им, растянула фасад построенного её матерью дворца, не будучи расточительна, посадила в него миллионы и сделалась настоящею основательницей сего истинно-царского жилища. Несколько лет Екатерина II также предпочитала Петергофский вид на взморье другим увеселительным местам своей столицы, пока не прилепилась к Царскому Селу; тогда наложила она на него свою могущественную руку и тут, как и во всём что предпринимала, творила чудеса, так что сын её, малолетний, когда она вступала на престол, всё почитал тут её созданием. Конечно не из сыновней нежности совершенно бросил он Царское Село и на поддержание его никаких сумм не велел отпускать; всё начало глохнуть, порастать крапивой, покрываться тиной, всё портиться, валиться, и сие грозящее разрушение певец Екатерины, Державин, грустно изобразил в стихах своих, под названием Развалины. Окружающим Павла I жалко стало русского Версаля, и они, убедив его, что оно творение не одной матери его, но бабки и прабабки, склонили в июле 1800 года в него переехать. Он прожил тут до сентября, с быстротою, с которой от одного чувства переходил к другому, нашел место сие очаровательным, гораздо лучше его Павловска, и объявил намерение свое каждое лето проводить в нём по два месяца. Он не мог его исполнить: в марте его не стало.
Я помню то почтительное удивление, смешанное с тоской, с которыми раза два случалось мне посетить сад и дворец Царскосельские, в первые годы Александра. Присмотр за тем и за другим казался действием одного приличия; небрежность, с какою сохраняют у нас пышные надгробные памятники, и тут была заметна: везде царствовала пустота. Всё это переменилось в 1808 году. Император Александр стал убегать сближения с подданными, в преданности коих начал сомневаться; в расположении духа, в котором он находился, уединение сделалось для него привлекательно: он поселился в Царском Селе и часто бывал в нём и зимой. Густой, сосновый бор, обнесенный каменною оградой, называемый Зверинцем, но в котором не дикие звери были видны, а одна дикая природа, нередко посещал он и любил теряться в чаще его вековых деревьев с мрачными мыслями, глубоко в голове его затаенными; гораздо после украсил он сие любимое место и превратил его в бесподобный парк.
Но надобно было сколько нибудь оживить сию пустыню. Чадолюбие было всегда отличительною чертою характера четырех братьев, сыновей Павла I-го, и этим они совсем не походили на отца. Два раза надежда поманила родительским счастьем и два раза она обманула Александра. Но вчуже не переставал он любить нежный детский возраст и полагал, что рассадник будущих, верных ему служителей, составленный из невинных, веселых отроков, будет утешителен для его взоров. И для того, кажется, и поместил он его подле самого дворца, в высоком и длинном павильоне, построенном Екатериною для великих княжон, малолетних её внучек.
При торжественном открытии лицея находился Тургенев; от него узнал я некоторые о том подробности. Вычитывая воспитанников, сыновей известных отцов, между прочим назвал он одного двенадцатилетнего мальчика, племянника Василия Львовича, маленького Пушкина, который, по словам его, всех удивлял остроумием и живостью. Странное дело! Дотоле слушал я его довольно рассеянно, а когда произнес он это имя, то в миг пробудилось всё мое внимание. Мне как будто послышался первый далекий гул той славы, которая вскоре потом должна была греметь по всей России; как будто вперед что-то сказало мне, что беседа его доставит мне в жизни столько радостных, усладительных, а чтение его столько восторженных часов.
Как водится в природе, за осенью пришла зима, в этот год для меня скучная, невыносимая. Чтобы не раздражить слабости родителя моего, я продолжал всё числиться на службе, нуждаться во всём и жить день за день, ничего лучшего не видя впереди. В этом состоянии я охотно принял приглашение сестры моей встретить у неё новый год в Финляндском уездном городке, уже не в Нейшлоте, а гораздо ближе, в Кексгольме, куда бригада и полк мужа её были переведены. Туда отправился я на третий день после Рождества.
Помещение имели тут супруги гораздо удобнее и просторнее, чем в Нейшлоте: большой одноэтажный каменный дом, бывший комендантский, в упраздненной крепости. Припасы все были дешевы, а некоторые предметы роскоши, поблизости, можно было легко выписывать из Петербурга; житье, да и только! У меня на сердце до того было не весело, что из новых лиц, посетителей и посетительниц, я никого не замечал, никого не помню. Чтобы сколько-нибудь развеселить меня, хотя на один вечер рассеять и собственную тоску и весело начать наступающий год, добрая сестра моя накануне 1 января затеяла большой пир. Как не верить приметам? Ведь этот начинающийся год был наш роковой двенадцатый год; что ни делала бедная сестра, судьба так устроила, чтобы нам печально его встретить. Вечером полученные с почты бумаги и приезд одного человека расстроили все наши намерения и на несколько часов даже не дали забыть нам горе. Вечеринку, однако же, не отложили; но для нас с сестрой она совсем не была забавна. Молодые люди обоего пола веселились, плясали; а я, хотя по летам и принадлежал еще к их возрасту, смотрел на них с досадою и удивлением, как будто бы они обязаны были разделять мои чувства.
От военного министра тот вечер получено приказание зятю моему, по воле Государя, отправиться в Абов, для принятия временного начальства над пехотною дивизией генерала Демидова, заболевшего и уволенного в отпуск. Это было знаком доверенности, совсем не несчастьем, но в тоже время величайшим расстройством в домашних обстоятельствах.
Другая весть была для нас не менее тревожна. Вместо матери, которая не в силах была уже писать, брат и сестры уведомляли нас из Пензы, что наш отец совершенно упадает духом и даже приметно слабеет и телом; и хотя всё на ногах и продолжает выезжать, но они мало имеют надежды долго сохранить его.
Наконец, прискакавший Алексей Данилович Копиев с бодрым духом и не совсем сокрушенным сердцем объявил им еще весть, которая мне показалась бедственною. Перед отъездом, я тоже что-то слышал, но никак не мог тому поверить, чтобы Выборгскую губернию захотели отнять у России и, присоединив к новым завоеваниям, составить из них какое-то отдельное от неё государство, под названием Великого Княжества Финляндского. Как ни тайно производилось о том дело, хлопотун Копиев, заблаговременно о нём проведав и зная, какое плохое житье будет русским под управлением высшего сословия туземцев, всё одних Шведов, ненавидящих Россию, зная, что русские владельцы вынуждены будут за бесценок кидать свои имения, первый поспешил довольно выгодным образом сбыть свою мызу, получить за нее деньги и приехал совершить только продажный акт. Конечно и Копиеву не совсем приятно было расстаться с гнездом им самим свитым, куда летом мирно удалялся он с семейством, откуда в столице имел всегда свежие запасы, и он не старался скрывать своего сожаления; но по крайней мере без убытка лишался он своего приюта. Другие же тут случившиеся русские чиновники и владельцы, пораженные сим известием, точно как одурели.
Манифест о сем событии, в этом краю столь важном, положено было обнародовать в новый год; следовательно тут он не мог еще быть получен. Такими подарками, étrennes, при наступлении года, Государь, с помощью Сперанского, любил нас дарить. В эту же эпоху, во всём, что было вредно и постыдно для России, всегда находишь руку Сперанского. Император Александр имел некоторые собственные мнения, которые лучшими доводами трудно было поколебать; например, мысль о маленьких царствах, ему подвластных, а от России вовсе независимых, нет сомнения, родилась в его голове. Но всякий приближенный к нему патриот и честный человек обязан был объяснить ему весь вред, который может произойти от того для главного государства. Сперанский, имея свои особенные виды, того не сделал; напротив, он одобрил намерение, поощрял приступить к его исполнению и предложил себя главным орудием в этом деле.
«Какое право имеете вы, государь, можно было бы сказать ему, без бою, без всякой видимой причины, без многократных поражений и следствия их (вынужденного примирения), не для спасения целого государства, по одному произволу вашему, отрывать от России области, не вами, а вашими предками и их подданными приобретенные? Для чего делаются завоевания, если не для усиления государственного тела? Они достояние не только еще царя, как народа, их совершившего; он старается распространить пределы земли своей для того, чтобы внутри её пользоваться большею безопасностью; а вы опасности опять к нему приближаете. Знаете ли вы историю этого народа, государь? Читали-ли вы ее? Если вы сведения ваши о ней почерпнули только из уроков вашего Лагарпа или из чтения невежды и лжеца Рюльера, то плохо же вы ее знаете. Стало быть, вам неизвестно, что этот народ, ослабленный, изнеможенный, со всех сторон теснимый, давимый сильными, лютыми врагами, более его в ратном деле сведущими, татарами, турками, поляками, Литвою, Ливонией и Швецией, медленно приподнявшись и поддержанный единою верою отцов своих и силою великого своего имени, не убоялся подставить им грудь свою, пять столетий на смерть с ними бился и, о чудо! устоял и всех одолел. И теперь, когда, благодаря его вековым усилиям, вы, потомок избранных им Романовых, красуетесь и возвышаетесь пред другими земными владыками, задумали вы в руки злодеям его, побежденным, но не обезоруженным, предать детей ваших, их победителей, их прежние жертвы. О горе! О стыд! В истории народов найдите мне другой пример столь несправедливому действию необузданной воли царской: ни великий Петр, ни могущий Наполен ни на что подобное бы не решились. Откуда взяли вы, что вам дана власть, по прихоти вашей, единым почерком пера и одною каплею чернил, уничтожать то что сотворено сотнями тысяч штыков и целыми реками крови? Нет, нет, будьте велики, но да будет велика и Россия ваша! Само Провидение доселе вело ее за руку, и не вам дано будет разрушать то что в вечной мудрости Своей Оно устраивает». Так конечно в презираемой нами старине заговорил бы не один брадатый боярин, зная, что вместе с тем под топор подставляет он голову свою. Теперь по большей части своекорыстные льстецы и обманщики, тайные неприятели, а при случае и мятежники, а не верные и смелые слуги государей, окружают их в Европе.
Всё вышесказанное, разумеется, не столько относится к Финляндии, как к другой, гораздо обширнейшей стране, которую впоследствии намеревались отмежевать от России. Кажется, само Небо насылало внезапные происшествия и некоторых людей, каковы Карамзин, Поццо-ди-Борго, чтобы препятствовать исполнению дурного умысла, коего последствия могли бы быть ужасны. Незлопамятный народ русский давно забыл вековые обиды, врагами нанесенные; но главе его не должно их забывать, не для отмщения, а для истребления возможности им возобновиться. Бог любил еще Александра: Он не попустил ему совершить замышляемое преступление.
Может быть, Сперанский полагал, что при всеобщем неудовольствии столь смелая несправедливость Царя еще более восстановит против него подданных. Ни мало: он ошибся, и такой поступок, который в другом государстве взволновал бы всех, остался незамеченным. При неизмеримом пространстве земель, коим владеет Россия, некоторые только посмотрели на то как на уступку немногих десятин, богатою вотчиною, другой небольшой соседней деревне, одному же с нею помещику принадлежащей. Все взоры устремлены были на Запад и на Юг, а до Севера никому дела не было. Лучше сказать, никто почти не узнал о том; в этом случае Россия была, как огромная хоромина, для изображения величины которой есть поговорка, что в одном углу обедают, а в другом не ведают. По самому названию, присоединение Старой Финляндии к Новой показалось делом весьма естественным, простой правительственной мерою, совсем не политическим фактом.
Ныне плоды этого отчуждения видимы очень явственно, но никто не хочет взять труда заметить их. Старания правителей изменить наших соотечественников имели совершенный успех; как говорить простой народ, русским духом там уже нигде не пахнет; он нетерпим, и в шестидесяти верстах от столицы можно себя почитать совсем в чужой земле. В военных и торговых приморских городах, где стоят или куда показываются наши корабли, люди, составляющие их экипажи, не могут иметь никаких сношений с жителями высшего разряда, а только пируют по трактирам, да веселятся и пляшут с непристойными женщинами. Число русских, заглядывающих в Финляндию, ничтожно; через нее лежит дорога только что в Стокгольм, а кому охота туда ездить? Да к тому же морем можно сделать сие скорее, и покойнее, и дешевле. Летом, во время морских купаний, бывает много охотников, которые, пользуясь близостью расстояния и удобностью пароходства, из Ревеля делают прогулки в Гельсингфорс. Там, оглянув город и его окрестности, накупив дешево множество иностранных, у нас запрещенных, а там дозволенных товаров и ни с кем не познакомившись, через несколько дней спешат оттуда воротиться. Бывают также летом из Петербурга поездки любопытных, чтобы полюбоваться водопадом Иматры, который охотно назвал бы я русской Ниагарой, если б тут что-нибудь русского оставалось; эти путешествия бывают, так сказать, мгновенные, и ни те ни другие никаких следов за собою не оставляют. Вот все сношения, которые остались у России с покоренным ею краем. Благодаря бешенной страсти нашей к заграничным путешествиям, нет итальянского или немецкого небольшого города, где бы ныне не нашли вы более русских, чем в главном городе Финляндии.
Ни мы, ни шведы — не коренные её жители. Кроме права завоевания, ни мы, ни они другого права над нею не имеем и, кажется оно обыкновенно принадлежит последнему. Для бедных финнов совершенно равно, кто бы ни управлял ими — южные или западные их завоеватели, лишь бы управляемы они были правосудно. Кому же пожертвованы права, честь и выгоды государства? Горсти иноземных его врагов. Будь всеобщая война, к которой Швеция непременно против нас пристанет, и тогда мы увидим, как поступят сии новые верноподданные. Впрочем и теперь, чтобы увидеть это, стоит только побывать в Гельсингфорсе: почти ото всех посетивших его единоземцев моих слышал я о ненавистных, дерзких взглядах, коими тамошние авторитеты встречали их в публичных местах, коль скоро узнавали, что они русские. В Петербурге оно не совсем так: Шведо-финские бедные красавицы охотно выходят за русских богачей, и у них только можно изредка встречать небольшое число их земляков, в столице живущих. Некоторые из них числятся при дворе и являются на придворных и званых балах, короткости ни с кем из русских не имеют, всех их вообще чуждаются. Надобно правду сказать, что и наши не очень охотно ищут их общества.
Так как с тех пор никогда не случалось мне и надеюсь никогда не случится более быть в Финляндии, то я нашел, что здесь единственное место, где могу я говорить об ней и о причинах, которые вечно совершенно отделять ее будут от России, если в отношениях их никакой перемены не последует[145].
В день Крещения Господня, в который был точно крещенский мороз, видел я зрелище изумительное. Не знаю, как там теперь, а тогда русские священники ходили еще в этот день с крестами на воду, к устроенной для того Иордани. Лишь только освящение воды кончилось, откуда ни возьмись голая женщина, которая с необыкновенною быстротой кинулась в прорубь, пробыв в ней с минуту, выскочила и также быстро исчезла. Это была семидесятипятилетняя вдова русского унтер-офицера, у которой на душе тяготел какой-то важный грех, и она ежегодно таким образом старалась очищать себя от него.
На другой день поехал я обратно в Петербург.
Возвратясь после краткого отсутствия, я нашел его жителей несколько уже в тревожном ожидании. Находясь гораздо более в соседстве с Европой, по образу жизни и по всякого рода сношениям принадлежа к ней более, чем внутренние части государства, Петербург сильнее чуял приближающуюся грозу, которая однако же не над ним должна была разразиться. Трудно объяснить состояние, в котором находились тогда умы; не видно было уныния, отчаяния, но также и смелой в себе уверенности: заметно было какое-то грустное чувство, не совсем лишенное надежды. Казалось, все думали, а многие и говорили: ну что делать, увидим, что-то Бог даст! В высшем кругу старались веселиться, чтобы показать или придать себе более бодрости. Так иногда испуганные громко распевают, чтобы заглушить в себе страх.
Забыты прежние неудовольствия на правительство. Против чрезвычайного умножения налогов, требования добровольных приношений не поднялся ни малейший ропот: все чувствовали, что при наступлении решительной, окончательной борьбы, государству нужны всевозможные вспомогательные средства. Гвардии велено приготовиться к выступлению в поход и, нежно смотря на нее, наперед все уже напутствовали ее благословениями; офицеры вдруг все выросли и в глазах граждан сделались существами священными. Воззрение на спокойно-печальный Петербург было тогда истинно-трогательно. В нём много иностранного и иностранцев; за то он заключает в себе всё лучшее, что производит земля русская, цвет юношества её и всё что в ней есть образованнейшего. Его русских жителей упрекают в холодности к отечеству единственно оттого, что в другой древней столице чувства выражаются обыкновенно с чрезвычайным преувеличением; но это свойство скорее простонародия, чем образованных классов.
Расставшись с мужем, к концу января, сестра моя привезла в Петербург двух малолетних сыновей, которые, в награду за заслуги отца их, пожалованы были пажами, но только не определены еще в Пажеский корпус. Она приехала о том просить; ибо в кочевой жизни, которая вновь ей предстояла, десяти или двенадцатилетние мальчики были бы для неё великою обузой.
Мы поселились вместе и, как умели, старались друг друга утешать, как вдруг получили странное письмо от брата из Пензы. Он, который во всём был примером точности, так неясно, так неопределенно, с таким приметным смущением писал о внезапно умножившейся болезни отца нашего, что понять истину было бы не трудно, если б люди до последней минуты не отказывались верить тому, чего страшатся. Он прибавлял, что отец не только соглашается на мой приезд, но и сам изъявил желание скорее меня видеть, и что он с своей стороны приглашает меня поспешить отъездом. Сборы мои, в том числе и получение отпуска, продолжались не более суток; 14 февраля оставил я Петербург и в слезах горестную сестру.
До Москвы я быстро домчался, но в ней взяло меня раздумье. К чему я спешу? подумал я. Если б я был уверен, что в нашем доме всё благополучно, то и часу бы не остался; если бы, по крайней мере, мог ожидать, что приму его последний вздох, то, кажется, не остановился бы и на минуту; но теперь, дня на два, на три пусть хотя неведение заменит мне надежду.
Я остановился в доме трех братьев Товаровых, из которых с меньшим были мы великие приятели. Этот большой деревянный дом находился (и что удивительно после всего около него происходившего, находится и поныне) близ Кузнецкого моста, на конце Газетного переулка. Мой милый хозяин Александр Григорьевич, чувствительный, сердобольный, скрывал от меня ему уже известную истину, старался всячески развлекать и для меня отказался от пиршеств наступившей суматошной масленицы. Зато старшие братья, великие московские гранты, без памяти веселились. Беспрестанно появлялись и исчезали посетители, то собирались шумною толпой, то рассевались по лицу разгульной Москвы. Я только что оставил Петербург, и такая противоположность меня поразила. Вследствие сделанных мною расспросов, узнал я, что масленица совсем тут не виновата и что так продолжается всю зиму. Молодежь никогда еще столько не вертопрашничала, франтихи никогда еще пестрее и смешнее не одевались, никогда столько не разорялись на наряды, простой парод никогда еще столько не пил и не буянил. Один богатый и скупой старик, Позняков, который век копил деньги, при конце дней своих вздумал купить огромный дом, великолепно отделал его и эту зиму пустился прометываться на пиры.
Невольно приходилось мне иногда заговаривать о предмете, который, несмотря на собственное горе, не переставал еще наполнять мое воображение, о грядущем на нас урагане; а весельчаки не весьма учтиво принимались хохотать. Один из них, близкий родственник Товаровых, Макаров 2-й, известный читателю, сказал мне: «Да какое нам дело до Европы? Пусть там воюют, дерутся, мирятся; мы здесь веселимся, пируем и ничего знать не хотим». Какие-то молодые люди, которые за ним начинали карабкаться на Парнас, и также, как он, вечно обрывались, ему поддакивали с улыбкой. «Гнев Господень над старою грешницей, подумал я; несдобровать русскому Вавилону». Может быть, я ошибаюсь; но бывали минуты в моей жизни, в которые мне казалось, что я одарен ясновидением. Бывало на старый, на священный Кремль не взгляну я без благоговения, а тут смотрел на него с ужасом: мне чудилось, что на башнях его вижу я Мане-Фекел-Фарес, те странные слова, которые невидимая рука огненными буквами писала на стене во время пиршества Валтазарова.
Оставил я город, который уже в ином виде должен был узреть. В самую минуту выезда моего из Рогожской заставы, вместе со мною проехала чья-то погребальная процессия, и потом, странное дело, во всю дорогу всё говорило мне о смерти, всё напоминало об ней. На станции Мошки, близ Мурома, захотелось мне отдохнуть; я был тогда неприхотлив и растянулся на голой лавке. На ней же, повыше меня, лежало что то длинное, покрытое простыней; входя в избу, спросонья мне показалось, что это собранный холст. Проснувшись поутру, я увидел, что это труп покойника, положенный под образа, и что я проспал у ног его. На другой станции за Муромом нашел я в почтовой избе вынос тела младенца. Далее за Арзамасом, глас смерти сделался мне как будто еще слышнее; у меня правил лошадьми молодой, красивый парень, который так и заливался слезами; когда я спросил его о причине, он отвечал мне: «Да что, барин, у меня и руки и ноги трясутся, я себя не помню; ребята сказывали, что у меня отец помер на той станции, куда мы едем. Ох, да кабы ты знал, как я люблю его!» Подъезжая ночью к Саранску, в сильном волнении, сквозь слезы смотрел я на чистое небо, усеянное звездами; вдруг одна отделилась от них и упала. Я упрямился, а небо не хотело оставить мне минуты сомнения. Я всё это помню как диво, хотя и очень знаю, что не для меня многогрешного могут твориться чудеса, и передаю это просто, как оно было, читателю: поверит ли он мне или не поверит, мне всё равно. С этого времени началось мое суеверие.
Наконец, в Саранске безжалостный станционный смотритель поспешил объявить мне известие, к которому более недели я был приготовлен. Несмотря на то, что произошло со мною, не буду описывать. Рано поутру, 21 февраля, привезли меня в Пензу.
Я здесь остановлюсь В продолжении немногих лет совершаются величайшие перемены в судьбах нашего отечества, равно как и целого мира, Для меня тоже начинается новая жизнь. Не знаю, для изображения сих перемен едва ли достаточно будет одной, последующей части.
Часть четвертая
I
Последние дни жизни отца. — Кончина отца. — Обуза хозяйства. — Поправка денежных дел. — Расплата с долгом.
Ужаснейшую и славнейшую эпоху нашего времени приходится мне описывать. Но прежде нежели приступлю к исполнению обязанности, которую, не спросясь моих читателей, возложил я на себя, будто для их пользы и удовольствия, постараюсь на время потерять их из виду; равномерно и их охотно разрешаю, может быть, от скуки читать сию первую главу. Я буду писать ее единственно для внуков и правнуков братьев и сестер моих; им посвящаю ее и в ней изображу последние минуты примерной жизни того необыкновенного человека, происхождением от которого имеет право гордиться тот из них, который будет сколько-нибудь достоин называться его потомком.
Я приехал в опустелый без него дом. Он мне показался трупом, от которого отлетела душа, хотя унылая, обессиленная, но дотоле всё одна его оживлявшая. В избытке горести, моя мать казалась даже нечувствительною к приезду любимого сына. Выражение этой горести иным могло бы показаться преувеличенным, и неестественным только тем, которые не знали беспредельной её любви к покойному мужу; в Пензе же никто не позволял себе осуждать ее, все изъявляли участие и сожаление; даже дивились, как она могла пережить свое несчастье. Я нашел, что занавески у кровати матери моей, равно как и у окошек её комнаты, были черные, закрытые, того же цвета были одеяло и чехлы на креслах; этот усиленный траур, этот мрак, которым она окружала себя, все знаки глубокой скорби её, одни были для неё усладительны. Она лежала неподвижна, бессловесна. Врачи опасались, что продолжение такого состояния будет иметь самые вредные последствия вообще для здоровья её и особенно для рассудка, и для того, чтоб выводить его из онемения, одеревенения, прибегали к средству сильному, к припоминанию причины её горести. Успех бывал ужасен; нечеловеческий, страшный и тяжкий стон, раздирающий душу присутствующих, начинал выходить из глубины её груди. Одному только простодушному, святому старцу, епископу Афанасию, самому удрученному болезнями, удавалось врачевать её душу. Его сердце было исполнено человеколюбия, а уста нежных, утешительных словес; о предчувствуемом небе умел говорить он как о знакомом почти месте. Слушая его, она тихо проливала потоки слез и чувствовала на время облегчение сердечной скорби своей.
Так продолжалось около двух месяцев. Наконец, Небо послало ей некоторую твердость, и она начертала себе новый образ жизни, которому следовала до конца её. Ровно двадцать лет осуждена была она влачить свое вдовство, и ничто не изменилось в принятом ею порядке. Она всегда носила черное платье, только по большим праздникам надевала белое. Прежде любила она играть иногда в вист; на карты наложено запрещение в доме ее; не только в какие-нибудь собрания, ни даже запросто ни к кому она не ездила, посещала одни Божии храмы, да навещала больных и скорбных. Одним словом, без пострижения, вела она всегда иноческую жизнь. О печали, которая никогда её не покидала, никому не говорила; за то трудно было дождаться улыбки на лице её, прежде всегда веселом, довольном.
Возвратясь из Петербурга, как мне рассказывали, покойный отец мой несколько было ожил. Он принялся опять за любимую страсть свою, продолжал отделывать вновь им выстроенную каменную церковь в селе Лебедевке и доканчивать новый, большой деревянный дом в селе Симбухине, который начал возводить он, не имея средств отделать другой каменный трехэтажный дом, тут же давно им построенный. К этому примешалась еще другая страсть. В первой части сих Записок говорил уже я о привязанности его к меньшой дочери, которую любил он паче всех других детей своих: он не видел в ней никаких несовершенств, хотя, к сожалению, они были. Ее призвал он на совет при составлении плава нового строения; она не имела понятия об архитектуре и так, шутя, наобум стала проводить линии карандашом. Этот странный чертеж решился он привести в исполнение, тешась мыслью, что он творение любимой дочери. К счастью, вышло что-то совсем необыкновенное, но не совсем дурное. Разумеется, и во внутреннем небогатом убранстве следовали её же вкусу. Наконец, дом поспел, и 14 ноября, день именин его, жители Пензы за 13 верст во множестве приехали праздновать с ним новоселье. Веселились, пили, ели, танцевали, и звуки музыки тут последний раз раздавались в доме нашем.
Конечно, эти строения расстраивали всё более семейное состояние; но как они были последнею, единственною его утехой, то бедная, бережливая мать моя не хотела, показывая ему истину, отговаривать его от сих непомерных издержек. Когда дом был совсем окончен, и прекратились его занятия, он опять начал впадать в уныние и тоску; это было совершенно состояние больного дитяти, которого можно только развлекать игрушками. К Рождеству уговорили его переехать в город; почтительное сострадание вкралось в сердца прежних врагов его: все оказывали ему знаки непритворного уважения; ко всему оставался он невнимателен, равнодушен.
Вдруг 25 января захворал он сильною простудой, перестал выезжать из дому, однако не слег. Отменно досадно казалось ему, что он не может быть на каком-то пире, на каком-то бале, который дворянство, не знаю по какому случаю, хотело дать в Благородном Собрании своем, и там полюбоваться пляскою дочери. Часу в двенадцатом вечера, 27 числа, когда все улеглись, кроме его, но еще не спали, побрел он в комнату дочерей, присел на кровать меньшой и велел подать новое бальное платье, в котором она должна была явиться на помянутом пире. Посмотрел на него грустно, потом встал и, прощаясь с необыкновенною нежностью, поцеловал обеих дочерей. Среди ночи, часу в четвертом, мать моя была пробуждена каким-то странным шорохом, и при свете лампады, веред образом зажженной, увидела его как тень бродящего по комнате. Он сказал, что чувствует сильное кружение головы, прилив к ней крови и надеется, что ходьбою оно пройдет. Потом, уставши, прилег на диван и минут через десять страшно захрипел. Его не стало.
С криком бросилась к нему испуганная супруга. Менее чем через четверть часа весь дом был на ногах, и гонцы верхом посланы за священником и врачом. Они явились; к счастью, мать моя находилась тогда в совершенном беспамятстве, и это брату моему дало возможность сказать ей простительную в сем случае ложь, будто в это время покойный на несколько минут открыл глаза и успел причаститься святых тайн. С её набожностью, без этого успокоительного обмана, она бы промучилась всю жизнь. Через три дня жители Пензы, в том числе множество простого народа, 13 верст провожали тело бывшего начальника губернии, до села Симбухина, где недавно праздновал он временное новоселье, а этот раз поселялся на вечное. Там, в им же построенной каменной церкви сего поместья, которое от первой супруги по наследству ему досталось и носит её фамильное имя, лежит он, подобно графу Глейхену, близ неё и рядом со второю супругою своей.
Не одна тяжкая печаль ожидала меня в Пензе, но и заботы дотоле мне вовсе незнакомые. Всё имение, состоявшее не с большим из шестисот душ, было опутано долгами, так что десятками тысяч рублей их считалось. Прежде предохранявшая его от разорения, заботливая мать первоначально отказалась от всего и объявила детям, чтоб они спасались как хотят и умеют, а что ей ничего не нужно. Из двух сестер одна близилась к сорока годам, другая едва перешла за двадцать. Старшая дала обет никогда не отлучаться от матери, совершенно посвятить себя ей и не иметь иных забот. Меньшая никогда их не знала, думала об одних только нарядах и удовольствиях жизни, которые по возможности были ей доставляемы; ничем несколько серьёзным не умела заниматься, ни чтением, ни даже рукоделием. Первое горе, ее постигшее, и самое для неё тяжкое, не могла она, по примеру сестры, перенести с покорностью к воле Божией, и отчаяние её походило на сумасшествие. Наконец, старший брат Павел давно замышлял омыть хотя бы своею кровью незаслуженное пятно, которое правительство и общее мнение наложили на провиантское ведомство, к которому он принадлежал. И для того, еще при жизни отца, умолял он военного министра Барклая-де-Толли, лично его с хорошей стороны знавшего, об определении его по прежнему и с прежним чином в военную службу. Тот отвечал ему, что воспользуется первым удобным случаем, чтобы выполнить его желание, но что это для него самого даже трудно: ибо с 1807 года не было примера, чтобы кто-нибудь, служивший в провиантском штате был принят в службу армейским чином. С недели на неделю ожидая решения судьбы своей, он также совершенно не мог приступить к управлению имением.
Итак вся обуза должна была лечь на меня. Много помогали мне сначала советы старшего опытного брата. Изо всех затруднительных обстоятельств жизни моей, при всей моей торопливости, часто необдуманности поступков, всегда выходил я довольно благополучно. Не смею и подумать, чтобы чем-либо заслужил особое милосердие Божие, но оно одно всегда явно выводило меня из пучины зол мне угрожавших. Как же мне было не любить и не страшиться этого невидимого всемогущества? Как от всей души не веровать было в него, посреди общего почти неверия? И в этом случае явило оно благодать свою надо мною и над моими, так что к концу года денежные дела наши взяли самый благоприятный оборот.
За Сурой, в большом лесном участке, нам принадлежащем, называемом Кичкилейна, был у нас винокуренный завод. Такого рода заведения обыкновенно дают значительный доход; только нужен хороший присмотр, а его-то последнее время и не было. К тому же десятилетнее существование этого завода истребило лес и разорило мужиков. Необходимость заставила его погасить. После него осталось большое количество медной посуды, которую можно было продать только на вес; к счастью, один добрый сосед, который в это время приступал к такого же рода предприятию, не стал торговаться, а купил посуду почти по той же цене, по которой она нам обошлась, и таким образом можно было выручить несколько тысяч рублей. Еще другие тысячи получили мы благодаря угасшему заводу. Правительство, полагая, что все северо-западные области изобилуют рогатым скотом, обратилось к ним с предложением пожертвовать некоторую часть оного для прокормления собравшейся на границе армии. В Симбирской и в Саратовской губерниях, особливо же за Волгою, было тогда еще более, чем ныне, необозримых степей, на которых тысячами паслись стада: для них эта жертва была совсем не значительна. Но для Пензенской губернии, которая так туго заселена, где так мало пастбищных мест, которую мясом по большей части продовольствуют соседи, для неё это было довольно накладно. Приятно было видеть радостную готовность, которую, несмотря на то, изъявило пензенское дворянство в сем случае: она в моих глазах, по крайней мере, была предзнаменованием того великодушного всеобщего, дружного восстания, которое не замедлило потом обнаружиться во всей России. Положено было купить 2400 быков, по какой бы то цене ни было, и с надежным чиновником, на дворянский счет, отправить к войску, разложив сумму, для того употребленную, на помещиков по числу душ ими владеемых. На нашу долю пришлось весьма мало, или лучше сказать, ничего, или лучше сказать, меньше чем ничего: на нашем заводе были десятки быков, которых содержание дотоле нам приходилось даром, которые сделались не нужны, а кормить их становилось дорого. Представился единственный случай их дорого сбыть с рук, и я не упустил им воспользоваться.
Один Нижегородский откупщик Мартынов, за проданную и поставленную ему водку, был должен пятнадцать тысяч рублей отцу моему, но под разными предлогами отказывался уплачивать сии деньги, как ни просили его и на него, так что долг сей почитали мы пропавшим. Видно, вдруг ему стало совестно, ибо он прислал мне эту сумму сполна, при письме, в котором объясняет, что, узнав о стесненном положении нашего семейства, хотя и сам находится в затруднительных обстоятельствах, далее откладывать уплаты не хочет.
В душевной тоске и телесном расслаблении, метаясь, можно сказать, не зная куда, отец мой задумал было поселиться в Москве и для того последнею осенью купил в ней за шесть тысяч рублей небольшой деревянный дом в каком-то переулке, близ Арбата; этот дом намерен был он после себя отдать любимой дочери. В благополучные дни нашего семейства, было у матери моей и у сестер несколько алмазов, в том числе одна сохранившаяся бриллиантовая нитка, которая имела некоторую ценность и была предназначена старшей сестре, более в виде капитала, чем украшения. Той и другой предметы сии были обещаны, а не отданы. Однако же, для продажи я счел долгом испросить их согласия, и они, без малейшего затруднения, дали его. Но где было сыскать покупщиков в такое время, когда все, чуя приближение черного дня, берегли про него деньги, а многие даже прятали их? Судьба послала их. Один богатый помещик, Вельяшев, просватал в это время единственную дочь свою за богатого же помещика Ранцова и хотел дать ей приличное обоим состояниям приданое: бриллиантовую нитку купил он у нас за пять тысяч рублей. Сыскался и другой, человек неблагоразумный, неосторожный, которого прозвания не запомню, но которого не мне осуждать: он купил московский дом за десять тысяч рублей, четырьмя тысячами дороже того, что он был заплачен, дом, который, через два месяца спустя, с тысячью других, должен был обратиться в пепел.
Было еще несколько таких неожиданных, благоприятных случаев, о коих говорить не буду и которые помогли мне в полгода совсем почти выпутать из долгов семейство мое. Все эти мелочи, подробности, может быть, вовсе незанимательны, не скажу только для читателей моих (от них уже отрекся я в начале сей главы), но даже и для потомков моих родителей. Но мне не упоминать о них было бы и стыдно, и грешно, когда во всём этом видел я несомненные знаки милосердия небесного к осиротевшему семейству честнейшего человека в мире, которое простодушием и любовью к ближним было его достойно, и к неопытному молодому человеку, пожираемому желанием быть полезным еще более ему, чем самому себе. Один умный человек сказал, что то в чём черствые души видят один слепой случай, не что иное, как инкогнито Провидения, и что одни чувствительные, благодарные сердца способны Его угадывать.
Осенью другие заботы мне представлялись, и тогда, закрыв свою комиссию погашения долгов, все дела при верном отчете вручил я матери моей, которая, изъявив мне свое удовольствие, к счастью, в состоянии была опять успешно и прилежно заниматься ими.
II
Проводник губернаторши. — Новый пензенский губернатор. — Князь Г. С. Голицын. — Князь Ф. С. Голицын. — Подражание князю Потемкину. — Пензенская барыня. — А. Д. Копиева. — Губернатор играет на арфе. — Князья Голицыны. — Европейская аристократия. — Происхождение русской знати. — Выдержки из книги Успенского.
Около года Крыжановского не было в Пензе. Грубиян, бесстыдный лгун, грабитель, который явно лез ко всем за пазуху, и непотребная жена его, которые два года наполняли ненавистью и омерзением целую губернию, были живым упреком правительству, таких людей для управления областями употребляющему. Молва о их неслыханных деяниях разнеслась по всем соседним губерниям и достигла столицы. Министерство Внутренних Дел, как видели выше, раздвоилось, и губернаторы поставлены были более в зависимость министра полиции. Балашов был не из числа тех людей, которых возмущают дела Крыжановских; не знавши его лично, он, кажется, его покровительствовал, и вероятно при нём он долго усидел бы на месте. Хорошо, что человек, который пожелал этого места, имел большие связи при дворе и умел о непристойностях Крыжановского распустить слухи даже в гостиных большего света. Таким образом дошло до самого Государя, и он велел министру немедленно сменить его. По какому-то инстинктивному благорасположению к такого рода людям Балашов, однако же, спас его от простой отставки, а выпросил дозволение причислить его по особым поручениям в своему министерству. Имея его под рукой, мог он ожидать, что употребит его с большею пользою.
При получении о том известия, в Пензе случился довольно забавный анекдот. Будучи тайно предуведомлен о своем падении, Крыжановский стал наскоро сбирать жену свою в дорогу, дабы не губернаторшей ей тут и дня не оставаться. Так как она внутри России никогда еще одна не путешествовала, то он предложил приверженцу своему Андрею Сергеевичу Мартынову быть её проводником до Москвы, на что сей последний охотно согласился. С этим Мартыновым я уже познакомил читателя, но это было давно, во второй части сих Записок; знакомство вероятно забыто, и я осмелюсь вновь его представить. В сем дворянине древнего происхождения и весьма достаточном была врожденная склонность подличать. Во время сборов догадался ли он или проведал о чём, только отказаться уже не смел. Доехав до Саранска, на первом ночлеге прикинулся он больным, кричал, жалуясь на нестерпимые боли в животе, в голове, не хуже Жилблаза в Роландовой Пещере, так что перепугал спутницу свою. Она должна была отправиться одна далее; а он, как Сикст Пятый, вскочив, захохотав, спросил у предстоящих, каково сыграл он комедию? Когда в Пензе спросили его, зачем он так дурачился, он отвечал, что ведь указ об увольнении еще получен не был[146]. Когда же его получили, еще до возвращения Мартынова, то г. Крыжановский, совсем готовый к отбытию, немедля ускакал. Проводов ему не было: его отъезд похож был на побег.
Вскоре прибыл его преемник; но полно, так ли я сказал? Это было не вступление в должность губернатора, а восшествие, воцарение владетельного князя. После смерти князя Сергия Федоровича Голицына, в начале 1810 года, неутешная вдова его, Варвара Васильевна, решилась удалиться от света в любимую свою Зубриловку, куда из Галиции и привезено было его тело[147]. При ней находились неотлучно младшие сыновья её, на службе числящиеся, и самый старший, отставной князь Григорий Сергеевич с женою и семейством. Но как поладить с тем, чтобы, не разлучаясь с нею, могли один продолжать службу, а другой поступить в нее опять? Вот почему князь Григорий, будучи в генеральском чине, начал искать места пензенского губернатора и получил его, вместе с дозволением каждое лето за 180 верст ездить в деревню в матери. Весною и осенью мог он проживать у неё под предлогом обозрения губернии, а зимою могла она приезжать в нему. Меньшие три брата были все камер-юнкеры; только средний, Василий, был пожалован до издания указа о сем звании и состоял в пятом классе, а другие два (Павел) и Владимир, после, и имели только обер-офицерские чины. Их определили к брату чиновниками по особым поручениям, а Василия поместили советником, сверх штата, в Губернское Правление. Разумеется, все сохранили право жить в Зубриловке, когда они или мать их того пожелают.
Я нашел князя Голицына утвердившегося на своем губернаторско-княжеском престоле. Но прошествии шестинедельного траурного срока явился я к нему и был милостиво принят; но и до того не один раз имел я случай его видеть. Моя мать была им отменно довольна: из уважения к званию предместника, он был распорядителем похорон отца моего и потом раз или два в неделю посещал ее. По старинному знакомству как с ним, так и с братьями, по приятностям тогдашней светской их образованности, мог я действительно дом его почитать для себя отрадою; но, в продолжении пребывания моего в Пензе, не всегда мы ладили, как увидят после.
Большая часть пензенцев были от него без памяти, и как не быть? После смутных времен Крыжановского, им казалось, что настал для них настоящий золотой век: губернатор, еще молодой, красивый, ласковый, приветливый, принадлежащий к княжескому роду, почитаемому одним из первых в России, в близком родстве со всем, что Петербург являет высокого и знатного при дворе. Обыкновенно эти люди, когда невзначай попадали в провинцию, чтобы не остаться одним, поневоле сближались с почетнейшими из её жителей и совсем не скупились на любезности, которыми, по крайней мере, в прошедшее время они славились. В столицах дело было другое; не переставая быть учтивыми, их обращение приметно делалось холоднее со сделанными там знакомствами, и наши добрые люди никак не могли понять причин такой перемены. Итак, мои тщеславные земляки были очарованы: «ну, подлинно, говорили они, можно сказать, что барич так барич, не то что иной, другой какой-нибудь, наш брат рядовой дворянин». Знавши так давно и так коротко всю эту Голицынскую семью, я не мог разделять их восторгов, но и не думал стараться умерять их.
«И как такому вельможе захотелось у нас поселиться?» говаривали иные. Действительно, оно могло казаться странным и тогда, а еще страннее ныне, когда губернаторские места более упали в общем мнении. Восемнадцати деть был он уже генерал-майором, генерал-адъютантом и докладчиком по военному ведомству при императоре Павле; но как один царский каприз создал его, так другой уничтожил, и никогда уже с тех пор не мог он подняться. Когда при Александре воротились все изгнанные отцом его, то он стал проситься в службу при особе Государя; нашли, что он годится только в действительные камергеры; а как и это звание почиталось тогда во сто раз важнее, чем ныне, то он охотно его и принял. Заметив, что этот титул совсем не в почете у нового Царя, стал проситься в военную службу прежним чином, и его приняли с состоянием по армии и с нахождением при отце, тогда Рижском военном губернаторе; с ним вместе опять вышел он в отставку. После того, во время первой милиции 1807 года, не вступая в действительную службу, находился он при нём же по каким-то поручениям; но как, видно, знати, что он тут (как и везде) ничего не делал, то и сочли достаточным дать ему Аннинской крест на шею. В армию против австрийцев с отцом он не поехал, а остался при матери. Большего света он не любил, хотя в нём везде был принят, но вовсе незамечаем. Государь, который его лично знал, был весьма плохого мнения о его способностях я только вследствие одного сильного ходатайства[148], назначил его губернатором, с переименованием однакоже в действительные статские советники. И наши пензенцы находили, что он спустился на губернаторство.
Будучи малолетним, около года прожил я у Голицыных в селе Казацком и, кажется, довольно верно изобразил характер княгини. Полагая, что того не забыли читавшие меня, почитаю излишним как повторять сказанное мною, так и указывать на него. Оба они, мать и сын, не очень любили видеть равных себе, ибо между ними находили по большей части превосходящих их в образованности. Гораздо приятнее им было окружать себя существами подчиненными, подвластными; ей — деревенскими барынями и барскими барынями; ему, пока он ни над кем не начальствовал — избранными холопами, из которых творил он собеседников. В отдаленном краю, где сходятся две губернии, Саратовская и Тамбовская, и по соседству с Пензенской, создала себе княгиня Голицына маленькое царство, которое, по назначении сына её в правители, чрезвычайно умножилось присоединением в нему целой губернии.
Наш князь Григорий Пензенский был аристократ совсем особого покроя, совершенно отличный от брата своего Федора, который настоящей тогдашней аристократии служил образцом. Он находил, что не иначе можно блистать как в столице и при дворе; а как все усилия ума его, которого у него было довольно, к тому были направлены, то он совершенно и успевал. Много способствовал ему выгодный брак с единственною дочерью фельдмаршала князя Прозоровского, у которой было 14 тысяч душ, из коих после едва ли осталась у неё десятая доля. Его ласково вежливое обхождение не допускало однако же никакой короткости с теми, с кем он иметь её не хотел. Старший же брат, напротив, охотно балагурил, врал, полагая, что со всеми может безнаказанно быть фамильярен. Он любил угощать у себя, попить, поесть, поплясать. По моему он был прав: такими только манерами можно было тогда понравиться в провинции; grand-genre князя Федора там бы не поняли. Два брата были верным изображением-один новейшего аристократизма, заимствованного у Запада, другой — старинного русского барства. Только, к сожалению, легкомыслием, прихотями, странностями он совсем не походил на древних бояр, которые от толпы обязаны были отличаться основательностью в мыслях, обдуманностью в поступках.
Наш губернатор был чрезвычайный оригинал, и главные черты его характера непременно я должен здесь представить. С природною смышленостью, русские равно способны и к изобретательности, и к переимчивости; но с природною же их ленью и с навыками, которые даны им лет полтораста тому назад, превратились они совершенно в постоянных подражателей всего западного. В каждом из нас более или менее есть что-то обезьянное, кого-нибудь или что-нибудь должны мы непременно копировать; ваш Голицын всех нас превзошел, избрав себе не один, а несколько образцов. Ему было лет двенадцать, когда умер дедушка Потемкин; он очень хорошо мог помнить открытую грудь, босые ноги, халат нараспашку, в котором принимал он первых вельмож, сырые репу и морковь, которые, всем пресыщенный, при них же он грыз; помнил также царскую его представительность и все алмазы Востока, коими потом он осыпался. До губернаторства не имел он случая, подобно ему, являть попеременно такую простоту и такое величие. Жаль только, что он не имел сокровищ, коими владел его дед образец: из десяти тысяч душ, после смерти отца разделенных между семью братьями, на долю его досталось не слишком огромное состояние, и он проматывал его, стараясь, елико возможно, не отставать от великолепного князя Тавриды.
Известно, что император Александр умел скрывать свой гнев и народу являл всегда одну милостивую улыбку. И это довольно удачно умели мы перенять. По воскресным дням, вместо собора, князь с своею княгиней предпочитал ездить к обедне в женский монастырь; там от святых ворот до храма было пространство, которое надобно было проходить пешком и которое наполнено бывало народом, и он шествовал об руку с супругою, ласково кланяясь направо и налево восторженной толпе. Княгиня Катерина Ивановна, жена его, урожденная Сологуб, своею кротостью и благовидностью, совсем не думая о том, была действительно сколком с Елизаветы Алексеевны.
Он любил ее и уважал и всегда был ей верен, но полагал, что владетельной особе для вида необходимо иметь метресс, как их тогда называли. Он слыхал о Людовике XIV, и кто же из находившихся тогда при дворе не слыхал о нём? Две пожилые женщины, одна вдова, другая дева, влюбились в князя, и он обрадовался тому, как способу в глазах света — сих мнимых наложниц выдавать за настоящих.
Род есть один из древнейших в русских родословных книгах. Последний, кажется, из него, надворный советник, Лев Васильевич жил в Пензе. Он был старичишка весьма неглупый, маленького роста, с маленьким в морщинах лицом и с сверкающими плутовскими серыми глазами. Известен был он как скряга, ростовщик и бесстыдный подлец, который, искусство раздражая своих должников, часто терпел от них побои, дабы заставить их после заплатить себе за бесчестие и увечье. Зато от 150 душ нажил он более тысячи и вместе с полумиллионом денег оставил их меньшому сыну и детям вдовы старшего. Эта вдова, опекунша малолетних наследников, Александра Степановна урожденная Топорнина, была действительно топорной работы, баба здоровенная, провинциалка с ног до головы и, кажись простая, но как говорили тогда, себе на уме. При жизни свекра, который умер не задолго до прибытия Голицына и который ей ничего не давал, с собственным малым состоянием, жила она скромно, скудно, об ней мало было слышно, и презрение к покойному, ею совсем незаслуженное, как будто разливалось и на нее. Тут она воспрянула: заметив, что Голицыну очень хочется, чтоб его обожали, стала прехладнокровно его обожать, начала для него делать обеды, принимать гостей; за то он пожаловал ее маркизою де-Монтеспан, и помнится я подсунул ему этот титул. Она всегда составляла его партию в бостон, и как лучше его играла, то всегда обыгрывала; сверх того, давала ему деньги взаймы, только за высокие проценты и на верные векселя, за что к первому её титулу он прибавил второй, мадам ла-Ресурс. Вот, кажется, чем ограничивались любовные связи Монтеспан с пензенским Людовиком. Ни про нее, ни про её свекра, я доселе ни слова не сказал; но пензенское дворянство неисчислимо и, право, всех не припомнишь.
Другая связь была гораздо интереснее. Сестре многореченного в предыдущей части Алексея Даниловича Копиева, девице Александре Даниловне, было гораздо за сорок лет; нескромная толщина тела и смуглость её не молодили, но для пылких сердец нет возраста. В молодости она полюбила какого-то майора Неймича, а смерть похитила её возлюбленного, когда он готовился быть ей супругом. Убитая горестью, она хотела идти в монастырь, убежище всех мучениц чувствительности. Чтобы приготовить себя к тому, оставила она свет, надела черное платье, постом и молитвой старалась заглушить память об ожидавшем ее блаженстве; устремившись мыслью к Богу, надеялась забыть боготворимого. Время, видно, истребляет все впечатления, все воспоминания (кроме моих). Оно успокоило её сердце, а свет приманил ее опять к себе, но когда пленяться ей было еще легко, а пленять уже поздно. Никогда еще у брата с сестрой не было менее сходства, как у этих Копиевых. Она была тиха, скромна и до того не злоречива, что когда один раз при ней стали говорить о человеке уличенном в отцеубийстве, она вскрикнула: ах как он дурно сделал! Никого не могла она ненавидеть, но за то слишком расположена была любить. Чтение французских романов пуще воспламенило ее воображение; в мнении её мадам Жанлис оспаривала первенство у мадам Сталь и всегда одерживала верх; главною же её любимицей была мадам Коттен. Уважая её добрые, милые свойства, никто из провинциалов не хотел заметить её смешной стороны и для потехи показать чувство, которого не имел. Напрасно: это оживило бы её тоскливое существование. Наконец явился спаситель, — это был Голицын. Возбужденною в ней страстью он гордился, смеялся над ней, выставлял ее на позор, а она не в силах была ее скрывать. Она вся предалась ей; не суждено было ей узнать сущности любви, она прилепилась к её призраку. В уме у неё недостатка не было, и она должна была заметить, что всё это вздор и что она сделалась посмешищем целого города; но что делать, так и быть! Она тешилась в мечтах и, казалось, говорила: обманывай, обманывай меня, ради Бога не переставай! Ее посвятил он в девицы ла-Валлиер. И, что всего забавнее, он заставлял жену показывать чрезвычайную холодность к обеим сим дамам. Я воображаю, как этой почтенной женщине тяжело было в угождение ему дурачиться.
Продолжая примеры свои брать свысока, он захотел быть и преобразователем Пензы, как Петр Великий. В чём же состояли предпринятые им перемены? Он нашел в одежде мужчин и женщин много отсталого, запоздалого; легкими, но часто повторяемыми шутками насчет их нарядов он многих заставил переодеться по моде. Странность экипажей также не избегла его замечаний и насмешек; скоро начали исчезать старые колымаги и четвероместные дрожки-линейки, столь удобные для живущих в провинции недостаточных семейств. Все крепко держались привилегии, данной первым чинам до статского советника включительно, ездить цугом или шестерней; штаб-офицеры ездили четверней, а обер-офицеры не смели у себя впрягать более пары лошадей; тут было нужно нечто похожее на насилие, чтоб у пятиклассных отпрячь пару и припрячь ее к каретам людей четырнадцатого класса. У этого человека ни о чём настоящего понятия не было. Таким образом, с одной стороны, стараясь распространить всё новосветское, с другой он любил придерживаться старины, во всём что только могло умножить личное его величие. О святках всегда создавал он маскарады и на них являлся один без маски, в богатом длинном платье старинных русских бояр, стараясь разыгрывать их роль, тогда как все другие, в угождение ему, были в личинах и как можно шутовски наряжены: ему казалось, что всё это дворня, которая на игрище тешит своего боярина. А иногда так у себя дома облекался он в тот же аксамит, бархат и парчу. Сиятельный изволит тешиться, говорили иные с подобострастием, а некоторые уже с насмешливою улыбкой.
Куда какой он был затейник, этот князь Григорий Сергеевич! Кого бы вы думали поставил он в число образцов своих? Давида, Иудейского царя-пророка. В первой молодости, говорят, выучился он довольно изрядно играть на арфе, потом бросил ее, и на губернаторстве уже, видно от нечего делать, принялся опять за сие музыкальное искусство. По утрам находили его иногда в ка ком-то костюме, драпированного, за этим инструментом, с звуками коего сочетал он голос свой и на напевы разных песен или арий, При долинушке стояла, Выйду ль я на реченьку или Lison dormait dans un bocage, воспевал он псалмы. Вообще он имел небольшую склонность к набожности, а вкус к церковным обрядам. В деревне, как уверяли, наряжал самого себя и любимейших слуг в стихари, певал с ними на клиросе и читал апостольские послания. Утверждали, что он читает духовные книги; я уверен, что одни только литургические, за то уже других никаких в руки не брал. С этой стороны, то есть со стороны любви к церковнослужительству, опять сближался он в сходстве с высокомощным дедом своим.
Нужно ли говорить, что он составил себе двор? Между прочим для молоденьких писцов канцелярии своей, из низкого происхождения, нанял он где-то танцмейстера, одел их на свой счет и представил в свет, где все девицы обязаны были с ними танцевать. Он называл их своими камер-юнкерами, и они отличались от других однообразным цветом жилетов. Секретарь жаловался, что некому переписывать в канцелярии, что они ничего делать не хотят; он велел набрать других, их считать сверх штата, и дал им от себя содержание.
Всему, что до него относилось, умел он давать какой-то державный вид. Занеможет ли у него жена, по всем церквам велит он служить молебствия о её выздоровлении. Родится ли у него сын, он своеручно пишет церемониал его крестин: от губернаторского дома до собора, по улице, несут младенца на подушке, окруженного разряженными повивальною бабкой, нянькою, кормилицей и для прислуги девочкою; впереди и сзади два ливрейные лакея; курьер открывает шествие, другой замыкает его. Весною, при отправлении в Зубриловку (за 130 верст), семейства, свиты, живущих, дворни и конюшни, соблюдались также официальные формы, составлялся также маршрут, поезд делился на три отделения, назначались роздыхи, ночлеги, и по дороге рассылались копии с письменного распоряжения.
При таких мелочных, но многоразличных занятиях, когда ему было входить в дела по управлению губернией? Он решительно ничего не делал. Тот же плут Арфалов, уже не секретарь губернаторский, а советник Губернского Правления, который вкрался в доверенность к отцу моему, который сдружился с Крыжановским, при нём самовластно всем заправлял.
Человек этот был и не глупый и не злой; умным и добрым опять назвать было его нельзя. Да что же был он? Да так, Бог знает что-то такое. Только утвердительно могу сказать, что в нём не было ни искры чувства, ни капли рассудка. Проказам, причудам его не было конца. Меня, признаюсь, часто они весьма забавляли; но иногда, глядя на них, становилось и досадно, и скучно.
С удивлением должно заметить, что все члены не одного этого семейства, но всего многочисленного, бесчисленного рода Голицыных, более или менее, все на один покрой: довольно не глупы, иные весьма остроумны, веселонравны, храбры, услужливы; всё это прекрасно… Правда, когда загорится война, они бросаются в службу, во многих из них удальство пробуждается; видно, что кровь Литовских героев кипит еще в их жилах; но настанет мир, они погружаются в прежнюю праздность. Это напоминает дикие времена их великих предков; но в нынешний век, именующий себя просвещенным, не совсем это ловко. Весьма немногие из них (а их так много!) пытались быть поэтами, музыкантами, даже живописцами; ни один не стал выше посредственности, ни один не обещает России хорошего полководца или искусного государственного человека. Я всё говорю не о прошедшем, а об настоящем.
Некоторые из внуков Гедемина явились при Василии Дмитриевиче в Московской России, когда, после кровавого хаоса, начинала понемногу принимать она тень устройства. Сперва женились они на дочерях великокняжеских, сроднились потом с другими русскими князьями и породили Голицыных, Куракиных, Корецких, Трубецких и иных. Впоследствии потомство их, размножаясь, стало наравне, ни выше, ни ниже других княжеских семейств племени Рюрикова, В истории Голицыных что-то не видать[149] до правления Софии Алексеевны; при ней любимец её Василий Васильевич между ними вдруг вырос, как великан. Могущество его в государстве равнялось силе его ума. Сия чета должна была вместе пасть в борьбе с юношей сильнее её и гением и правами. Карая достойных его противников, Петр Великий всеми мерами возвышал крепких мужей, сподвижников своих, как все великие государи, которые не страшатся соперничества с необыкновенными людьми своего государства. При нём два брата, близкие родственники погубленного им Голицына, заняли первые места, один в армии, другой во флоте, оба в думе государственной; он осыпал их богатствами, а они покрыли себя славою, коей блеск разлился на всех однофамильцев их, тогда еще не столь многочисленных. Пять лет после его кончины воцарилась Анна Ивановна; при ней руссоненавистник Бирон между русскими искал преимущественно высоких жертв; имя Голицыных паче других тогда возносилось, и казнь и заточение сделались уделом главнейших из них. За то наступило для них время нового рода знаменитости, всенародной любви и участия. Пережившие жестокие гонения с торжеством возвратились ко двору Елизаветы. С тех пор их порода приметно стала меркнуть, хотя еще далеко было до нынешнего полного её затмения: они всё более плодились и мелели. Во второй половине прошедшего столетия только трое из них сделались известными: первый фельдмаршал князь Александр Михайлович, которого по доказанному неискусству пришлось отозвать от начальствования армией, несмотря на взятие им приступом пустого, никем не защищаемого Хотина с брошенными пушками; другой также князь Александр Михайлович, плохой дипломат, которого из вице-канцлеров перевели в обер-камергеры; наконец, третий князь Сергий Федорович, отлично храбрый генерал, которого судьба, к счастью или к несчастью его, никогда не допустила показать себя хорошим полководцем. Еще был четвертый князь Дмитрий Михайлович; честь и хвала ему, воздвигнувшему себе памятник — Московскую Голицынскую больницу.
Взысканные царскими милостями, обогащаемые царскими щедротами, немногие из них умели по крайней мере умножать собою блеск двора. Век Екатерины был для них особенно пагубен именно потому, что она особенно к ним благоволила. Несмотря на её философствование, в Царском Селе ей хотелось Версали: в её угождение из Голицыных богатая молодежь разъездилась по чужим краям и во Франции обрела рай, по возвращении же награждаема была камергерством и камер-юнкерством. Из-за границы вывезли они новые понятия о преимуществах аристократии и стали почитать себя по крайней мере наравне с дюками и пэрами той земли, где их величали принцами; начали, и не одни, свой новый аристократизм прилаживать к русскому боярству; начали явно пренебрегать не столько еще простым народом, как мелкими, хотя бы и старинными дворянами и стараться понизить их до своей домашней прислуги, которую выводя в мелкие чины, старались с ними сравнять. В их предприятиях большою помощницею была княгиня Наталья Петровна, умная и гордая женщина, с твердым, даже крутым нравом, вошедшая в их семейство; она лучше всякого мужчины умела поддержать на некоторой высоте, род их, клонившийся к падению. Они, не думая о том, хотели вводить к нам всё то, что раздражая самолюбие средних классов, породило ужасную революцию 1789-го года.
А между тем некоторые отдаленные ветви и тогда уже ее цвели, а прозябали пустоцветом в провинциях, вдали от твердого еще своего корня. В Саранске было пять бедных Голицыных, родных братьев и двоюродных князю Сергию Федоровичу, из которых трое не служили. А как они, так и другие неимущие их соплеменники, несмотря на свою малозначительность, кичились своим именем и полагали, что после императорской фамилии их род есть первый в России! Кто это вложил им в голову? И не странно ли, что с такими предрассудками соименные им, счастливые и могущие в Петербурге, без всякой причины чуждаются их? Сколько раз приходилось мне от них слышать: «да, они тоже Голицыны, да только не из тех». — Да из каких же. Леность, тщеславие и мысль, что их имя выше достоинств, приобретаемых заслугами, всё более и более отдаляют их от дороги, по которой могли бы они дойти до прежней высоты. Множатся же они не по-княжески, а по-мещански. Потому-то части богатого наследства предков едва ли доходят до третьего поколения, от беспрестанного дележа, от безрассудности, нерасчетливости и неимоверной жажды к наслаждениям, одним словом от мотовства потомков. Особенное свойство этого уже не рода, а народа, есть страсть не столько к женщинам, как к женитьбе, какое-то матримониальное бешенство, которое впрочем чрезвычайно для них бывает полезно: женитьба всегда восстановляет разрушенное их состояние. Можно, но трудно найти немца или Голицына, который бы женился не по расчёту, на бедной девице; они так стерегут богатых невест, как Ливония и Литва в старину добычи всегда искали в России. Имя Голицыных, несмотря на то, что носящим его скоро нужно будет сделать особую перепись или ревизию, и поныне имеет еще некоторую цену в глазах провинциалов, хотя с другой стороны насмешливые прозвища рябчиков, куликов показывают, что она много понизилась. И хотя бы брачными союзами приобретаемые имения сохранялись в роде! Но нет, они также истребляются для поддержания великого имени великою роскошью. Наконец, что такое ныне Голицыны? Люди, которые, не хотевши знать ни подчиненности, ни трудов, ни порядка, по получении первых офицерских чинов оставляют службу, женятся, чванятся жениным имением, проживают его, множатся и плодятся. У одного князя Григория Сергеевича, о котором я здесь так много говорил, пять сыновей малочиновных, отставных, женатых, невоздержных и плодородных. Все вкупе представляют они нечто, как бы чудище обло, озорно, о тысяче зевах, поглощающих плоды долголетних усилий трудолюбивых семейств, но которые насытить его не могут; или как бы всё ширеющий канал, чрез который богатства земли только что протекают. В этом только отношении конечно они полезны государству; ибо, приводя в движение расточаемые ими капиталы, они способствуют развитию промышленности; да сверх того, при беспрестанном переводе имений из рук в руки, пошлинами обогащают казну. И пусть бы, так и быть, разорялись сами в России; этого им мало: с некоторого времени начали они и ее разорять. Самые богатейшие из них[150] продают здесь свои имения, селятся за границей, переводят туда миллионы и передают их в руки иезуитов, лютейших врагов Православия. Если между русскими захотите вы узнать изменников вере отцов своих, не ищите их в других семействах, их там нет; всех найдете вы между одними Голицыными обоего пола.
Увы, всё, что сказал я о сих падших, до некоторой степени может относиться и до большей половины моих соотечественников из дворян, почитающих себя просвещенными, разумеется только в гораздо уменьшенном виде.
Вся эта Голицынская история приводит нас к вопросу, который неоднократно сам себе и другим я делал и который ни я, ни они никак разрешить не могли: в чём состоит у нас знатность, аристократия или высшее сословие? То, что под сим именем разумеют на Западе, не имеет ничего общего с тем, что мы у себя называем вельможеством. Там оно веками утвержденное, хотя в иных местах пошатнувшееся, но всё еще довольно прочно существующее состояние; оно имеет смысл: у нас оно состояние преходящее. Там оно — замок в развалинах, у нас оно — великолепная палатка.
Когда германские готские племена стали нападать на порабощенные Римом народы, они совсем не сильны были числом: силу свою получали они от воли Всевышнего; их отчаянную храбрость избрала она как орудие для сокрушения человеческой гордости, злости и пороков, олицетворенных обладателями тогдашнего мира. Жители Галлии, Испании, Лузитании, части Британии и, наконец, самой Италии, раздавленные Римским ярмом, потеряли энергию предков, не могли долго сопротивляться диким варварам Севера и перешли под новое иго. Начал исчезать весь прежний быт, и с ним вместе названия патрициев и плебеев; их заменили названия завоевателей и завоеванных. Первые последних начали делить как стада, но только с немецкою точностью, с своим особым законодательством, и составили феодализм. Главные их предводители, несколько олатинившись, начали охотно из кёнигов, герцогов и графов переименовывать себя в рексы, дуки и комесы. Все эти народные волны, всемирною бурею на высоты земные вознесенные, на них остались и как будто окаменели. Главные вассалы, вспомнив, что предки их, во время завоевания, повиновались королям, как равные старшему или главному между ними и, пользуясь слабостью Карловингов, сделались почти независимы; в свою очередь их подвассалы (arrières-vassaux) также небезусловно им покорились; вся Европа покрылась бесчисленными, разностепенными, крупными и мелкими государствами. На прочном основании воздвигнутое Готическое здание устояло против действия времени, простояло десять столетий. Наконец, и давно уже (первоначально во Франции) гордые и хищные бароны стали покидать свои каменные гнезда; опустевшие после них замки, некогда устрашавшие путников, ныне пленяют их взоры. Подобно кризалиде, перерождающейся в мотылька, сбросив рыцарские латы, превратились они в напудренных, раздушенных маркизов, в шитых бархатных кафтанах, в шелковых чулках, с фарфоровыми шпагами и красными каблуками. Но и тут названия провинций, городов и замков, ими носимые, богатства, сохранившиеся посредством майоратов, блеск двора, в воем наследственно занимали они первые места, долго внушали к ним невольное уважение других сословий, пока разврат и мотовство совсем — не уронили их в общем мнении еще до начала революции. Ныне они почтенны в глазах моих, когда против всех упорно защищают древние права свои еще не столько из тщеславия, как по священной обязанности, завещанной им предками.
То ли же самое было в России? При рождении её, каких иноземцев покорили мы или кем были покорены? Новгородцы добровольно призвали Рюрика с горстью варяг, чтобы защищал их и водворил между ними правосудие. Преемник его с умножившеюся дружиною быстро и безвозбранно протек всю нашу землю до Киева, где встретил первое сопротивление, и изо всех племен славянских от Севера до Юга разом сплотил великую Россию; его наследники между славянскими же народами расширили ее на Запад и на Восток. Но какими особенными правами пользовались малочисленные сподвижники Олега, Игоря и Святослава? И где их потомство? В родословных книгах находим мы только Одинцовых да Блудовых, которые показаны из киевлян; все прочие пришельцы-позднейших времен, кто из татар, кто будто из Рима, будто из Англии; всё какие нибудь фигляры, потешники великих князей или мастеровой народ, им так нужный. Столь сильный сперва Рюриков род один умел удержать за собою верховную власть. Так тому и следовало быть; славянские народы, последние выходцы из неведомых стран Востока и Азии, сохраняли их дух и верования: великих завоевателей принимали за богов, в одних потомках их видели нечто божественное, отделяющее их от земнородных и возвышающее их над ними. Так было некогда с Арзасидами, так было с потомством Чингис-Хана, с Гиреями в Крыму, так существует поныне Оттоманский дом: им одним предоставлены священные на следственные права. В правителях же областей, в военачальниках своих видел всегда народ равных себе людей, временно, случайно над ним поставленных, дуновением венценосцев созданных. Сами вольные Новгородцы, несколько сблизившиеся с германизмом, чрез торговлю с Ганзой и соседство с Ливонией, преимущественно избирали в князья или предводители войска потомков некогда избранного ими Рюрика.
Эти Рюриковичи, сыны небес в глазах предков наших, к несчастью России и их потомства, имели чрезвычайно производительную силу и были слишком чадолюбивы. Беспрестанно раздробляемые ими владения между детей составили уделизм, нечто похожее на феодализм Запада. Татары еще не положили ему конца, но только начали дело, довершенное Иоанном III-м. Сей гордый властелин, почитавший себя наследником Византийского престола, последний удел истребивший, хотел поставить неизмеримое пространство между собою и единокровными мелкими князьями, дабы заставить их даже забыть, что они одного с ним происхождения. В этом случае он похож был на людей из низкого состояния, заслугами или Фортуной на высокую степень возведенных, которые гнушаются своими родственниками. По крайней мере ни с одним из них не хотел он вступить в ближайшее родство: сперва женился на дочери последнего владетельного Тверского князя, почти ему равносильного; во второй брак вступил с известною Софиею Фоминишною, племянницею последнего Восточного императора Константина Палеолога; старшего сына женил на дочери еще сильного владетельного государя Молдавского Стефана Воеводы. Он старался князьков вдавить в толпы других своих подданных, и это не трудно было ему сделать: во время двухвекового владычества татар, они не переставали размножаться, беднеть от беспрестанных поборов, которые истощали тогда Россию, и до того упали в народном мнении, что подобно простолюдинам стали получать от него прозвища, которые перешли к их потомству, так например: Лыко, Буйнос, Касатка, Гагара, Тюфяк, Голица. Княжеский титул до того сделался пошлым, что многие семейства сами собою от него отказались, как например Татищевы, Ржевские, Всеволожские, Еропкины.[151] Всенародное обожание осталось одной счастливой ветви великих князей Московских; даже самые жестокости Иоанна IV-го почитал народ исполнением, воли Божией, Его наказанием, когда царский род внезапно прекратился смертью Федора Иоанновича, какого князя пожелали русские видеть на престоле. Ни об одном даже не подумали они; все бросились к простому боярину, честолюбивому шурину последнего царя. Вдруг слух прошел, что священная для них кровь не иссякла, что жив еще сын бича их; с какою неимоверною радостью, с каким легковерием ухватились они за тень его, и восстали на старого и мудрого правителя своего. Обман открылся стараниями одного русского князя; тогда с остервенением, равным их недавним восторгам, сокрушили они кумир свой. Наскоро, не одумавшись, на его место посадили они возмутившего их князя, и не потому что он был князь, а потому что он первый им попался. За то неповиновением, презрением к его власти четыре года казнили они его на троне и безжалостно предали его в руки врагов своих. Дело почти неслыханное в истории русской, чтобы подданные были гонителями своих государей. А что перетерпели от них Годуновы, Лжедимитрий и Шуйский? Они видели в них святотатцев (сперва по их же желанию), осквернивших собою место, принадлежащее единому роду, Богом избранному, престол, под названием которого равно мы разумеем и трон, и алтарь. Среди всеобщего волнения, когда Россия без кормчего неслась прямо в бездну, кому решились вручить кормило? Были воеводы сильные княжеского рода, освободившие Москву от поляков, Пожарский, Трубецкой; об них никто и не заикнулся. Из стен монастыря извлекли испуганного отрока, ни от Рюрика, ни от Гедимина не происходящего. Но он был по тогдашнему родочислению внуком царицы Анастасии, коей добродетели жили еще в памяти народной; он был двоюродный племянник кроткого, христолюбивого, последнего законного царя; он был сын посвятившего себя Церкви мученика, изменнически похищенного ненавистными поляками, и почтенной инокини, в страхе Божием воспитавшей его; он казался России как бы весь озаренный небесною благодатью. В страшные годины народ русский мало ждет помощи от людей, а молит о ней Всевышнего; избрание Романова было делом веры, и в этом случае сбылись слова Господни: «Вера твоя спасет тя». В дни безначалия, всякий имел право оспорить этот выбор; но радостные вопли миллионов людей подтвердили его.
При Романовых князья начали опять подыматься. Как юный Михаил, так и преемники его, чувствовали себя слишком прочно утвердившимися, чтобы мысль о каком либо с ними соперничестве не показалась им безумною, даже для них обидною. Однако же и при них никакими особыми преимуществами перед другими они не пользовались, и в старинных делах мы часто находим, что князь на боярина и боярин на князя бьет челом за место. Счастливые войны, которые вел уже Алексей Михайлович, а еще более сын его, дали им средства поделиться завоеванным с храбрыми князьями, участвовавшими в их победах. Вот начало их нового богатства; другие же не столь чистые источники, из коих черпали они золото, были воеводства и наместничества, на которые их часто сажали. Петр Великий многих из них насильно стал посылать путешествовать за границу (охота же ему была!), им стерпелось и слюбилось. Там познакомились они с польскими магнатами, с немецкими марк-ланд-бург-алт-вильд и рейс-графами, с французскими дюк-э-пэрами, с английскими лордами, с испанскими грандами и с итальянскими принчипе; более всего пленились они регентством Орлеанским и его милыми, знатными злодеями, которые так весело, так остроумно и безнаказанно ругались над народом и развращали его. «Вот житье, — подумали они; — а мы несчастные, какая наша участь! Этот грубиян, этот неуч с своим плотничьим топором (вероятно продолжали они, как гуси Крыловской басни) забывает, что его предки были подданными наших; всё твердит о трудах и о пользе; пусть требует их от черни, она и создана на то». Действие, произведенное на них зрелищем европейской аристократии, скоро обнаружилось. После кончины Петра II-го, когда не знали которой из наследниц его принадлежит право ему наследовать, не которые из них в Москве составили из себя временное правление, которое надеялись превратить в вечное, начертали какую-то конституцию, которая всю власть предавала в их руки и, желая показать, что они могут располагать короною, предложили ее вдовствующей герцогине Курляндской, мимо старшей сестры её, мимо дочери Петра Великого и малолетнего сына её старшей сестры. Вместе с тем предписали они ей условия, которые все она приняла и ни одного не исполнила. Первым их нарушением был приезд Бирона, главнейшая из воспретительных кондиций. Заметив, что новый образ правления совсем не в духе народном, что он вовсе ему не нравится, поспешил он так круто поворотить делом, что все олигархи с высоты своей стремглав полетели в Сибирь. Так часто немцы неумышленно делают услуги России. Но разъяренный латыш тем не довольствовался: во всё время владычества своего не переставал он мстить высшему дворянству, казнить, вешать его и тем самым для будущих времен оказал еще новую услугу, ибо породил столь сильную вражду к немцам, что решительно овладеть Россией они никогда уже не могут. Чувствуя всю свою немощь при Елизавете, князья попритихли, а Екатериной были окованы, очарованы.
Но вопрос всё еще не разрешен: да разве кроме князей в России нет аристократии? Как не быть, да еще бесчисленная; княжеские фамилии суть только самомалейшая часть её. Да из кого же состоит она? Это трудно было бы объяснить, если бы не было ответа императора Павла королю Шведскому: «у меня нет в России других знатных, кроме тех, с которыми говорю и пока я с ними говорю». А между тем сколько раз случалось мне слышать от людей, принадлежащих к высшему кругу, что они совсем не нуждаются в милостях двора и существуют совсем от него независимо. И тогда было нечто на то похожее. Я помню, жена князя Федора Голицына, урожденная Прозоровская, раз спросила у меня: «Я слышала, вы знакомы с Козодавлевыми (министр внутренних дел и жена его, урожденная Голицына же); скажите мне, что это за люди и что у них за общество, я понятия о том не имею; их племянница Щербатова очень искала моего знакомства, я бы не прочь, да как то случая не было». Другой раз уже г-жа Козодавлева сказала мне: «Я вчера провела вечер на бале у Барклаевой; мужья, наши министры, и я принуждена была туда ехать; я встретила там вашу сестру и чрезвычайно ей обрадовалась, как единственной своей знакомке. Что это за фигуры! Вы понимаете, что это совсем не мое общество». Так все старались стать одна выше другой. До революции аристократию составляли все те, коим хорошо было у двора; а ори дворе Екатерины хорошо было всем тем, кои с весьма известным именем, с большим состоянием умели приятно объясниться и более или менее быть любезными. После революции число аристократов умножилось прибытием из Парижа бежавших их собратий, которые потеряли прежнюю веселость духа и везде видели плебеев-заговорщиков; тогда высшее общество совсем офранцузилось, сделалось гордее, недоступнее, стало отталкивать тех, кои не имели предписанных им форм и, по наущению эмигрантов, начало сражаться с фантомами, которым наконец дало существенность. При Александре оно было просто когерия, которая взяла себе девизом: никто ни умен, ни знатен, кроме нас и наших. Странно вспомнить: ни высокий чин, ни княжеское старинное имя, ни придворные звания камергеров и камер-юнкеров, ни большой ум и познания преимущественно никак тут не давали прав, в этот храм не отпирали дверей, а одни только прихоти заключающихся в нем. Например, один торгаш, грек Пали, весьма проворный, изворотливый, но вместе с тем надменный, помогал мотоватым великим господам занимать деньги; кажется, должность не высокая, но он умел себя поставить на такую ногу, что обходился с ними как с равными, около них же наживаясь; в их кругу прожил век и состарился, из него на всех смотрит свысока и беда тому, о ком он скажет: я его вовсе не знаю. Другие мерзавцы знатным особам обоего пола помогали в их любовных делах, за эти великие услуги были ими всюду вводимы, всюду приняты. Иногда хорошенький юноша, ничем не отличающийся кроме силы и красоты, полюбится какой — нибудь старой или молодой боярыне и тотчас под её покровительством между знатью получает право гражданства. А скольких Гагариных, Волконских, Трубецких, весьма порядочных и образованных людей, которым отказано было в приеме, знавал я. Я не совсем это осуждаю: нельзя знакомиться с целым миром; но если хочешь быть уважен, умей выбирать своих знакомых и приятелей; а если они дурны, не презирай тех, которые лучше их.
Ныне всё это совершенно изменилось Было некогда у нас увесистое боярство, после того довольно верная копия с французской аристократии прошедшего века. Что такое ныне? Право, не разберешь. Немного есть еще людей, которые хвастают тем, что ездят на скучные вечера старых штатс-дам играть с ними в вист или в бостон; всё стремится к наслаждениям, туда, где раззолоченные салоны, где объедение, шум, музыка и пляски. В Петербурге между теми, коих мы называем знатными, есть довольно еще людей богатых, чтобы общество не имело нужды бросаться на вечера к людям, коих известность и Фортуна вчера созданы; в Москве же барская спесь совсем преклонила выю перед золотым тельцом. Лучше ли это? По моему, нет. Но обо всём этом еще речь впереди.
Не смешны ли иностранцы, когда в печатных сочинениях своих они так важно рассуждают о могуществе древней русской аристократии, коего само правительство имеет причины опасаться? И г. Альмагро[152] кажется, утвердил их в сем мнении. Долго почти все мы знали о себе только из французских и немецких книг; нам казалось, что до Петра Великого у нас был хаос, тьма, времена неизвестные, мифические. Были однако же писатели, Ломоносов, Щербатов, Татищев, Болтин, которые усердно и пристально занимались отечественной историей; но их читали только люди, исключительно посвятившие себя науке. Первый Карамзин, очаровательным слогом своим осветив нашу древность, показал нам, сколь она привлекательна; но в огромной картине творения своего не мог он поместить всех подробностей. Тогда для любопытных, им разохоченных, желающих проникнуть в эту глубину, явилось множество небольших светильников. В числе их находится один писатель, мало в свете известный, а по моему мнению в этом деле более всех оказавший услуги, трудолюбивый профессор Харьковского университета Успенский, сочинитель опыта Повествования о древностях русских. Если бы прежде прочтения его книги меня кто-нибудь стал уверять, что до Петра Великого у нас не было родового наследственного дворянства, я бы сказал ему, что он врет. В этой книге так ясно и просто изложены доказательства о том, кто из наших и какими правами пользовался, что всякий скоро поймет, и мне хочется сказанное в ней как можно вкратце передать читателю.
Успенский утверждает, что у нас первоначально было только два класса свободных людей, из коих одни перед другими пользовались большими преимуществами; одни пленные были рабами. Он сравнивает это с обычаями древних германцев, у коих также были Mânner и Leute; он основывает это более на сходстве имен: мужи или бояре и людины. Если оно было так, то верно уже не между славянами, а вероятно введено норманами-варягами, единоплеменными и, если можно сказать, единообычными с германцами. Только после утверждения великого княжения в Москве, при Димитрии Донском, начинает показываться то, что мы ныне называем чины и места. Также как ныне четырнадцать, первых было тогда восемь степеней, и вот они: 1) бояре, 2) окольничие, 3) думные дворяне, 4) стольники, 5) стряпчие, 6) дворяне, прежде гридни, 7) жильцы, 8) дети боярские. Носящие сии звания могли занимать вместе и должности воевод, наместников, печатников, стряпчих с клюнем (камергеров), по военной части становщиков и знаменщиков и рынд (род фл.-адъютантов). Одни только думные дьяки, дьяки и поддьяки, все из духовного звания, были нечто отдельное, не очень любимое, но при тогдашней всеобщей безграмотности по необходимости многопочитаемое: это были наши статс-секретари, обер-секретари и секретари. Все те же первостепенные, вышепоказанные (назовем их чиновники) занимали и главные должности при дворе: 1) дворецкого, обер-гофмаршала, 2) конюшего, и 3) ясельничего, обер-шталмейстера и шталмейстера, 4) крайчего, обер-шенка, 5) постельничего, обер-камергера, 6) оружейничего, 7) казначея, 8) ловчего, обер-егермейстера, 9) сокольничего, егермейстера и 10) чашника, мундшенка. Потом люди из тех же чиновников пониже занимали мелкие должности комнатных дворян, путевых ключников, шатерничего и других. Также подробно входит он в описание состояния смердов, половников, холопей, кабалы, всех низших классов; но сие до предмета моего не касается. Выбрав из него некоторые места, постараюсь показать, какая в старину у нас была знатность.
Во времена Владимира и вообще до нашествия татар, когда были бояре да люди, говорит он, «к потомкам, отличившим себя храбростью и прославившимся в ратоборных подвигах народ всегда сохранял преимущественное уважение, которое они должны были поддерживать или богатством своим, или личными достоинствами; а без того, лишась своего наследственного пред другими преимущества, входили в сословие людей. Сии, потом находясь под начальством и руководством бояр, могли опять приобретать богатства, почести и уважение службою, трудами и храбростью; а, снискав оные, паки удобно поступали в сословие мужей и звание сие оставляли иногда в наследие детям своим».
Гораздо далее вот что еще говорит он: «В старину дворянин был у нас тот, кто в сей чин жаловав по указу государеву лично. Сие достоинство давалось тогда на одну особу, но в род и детям в наследство не переходило; словом, дворянство составляло чин, а не звание. Дворяне назывались от двора государева, к которому имели всегда свободный доступ и отправляли при оном некоторые должности. В дворяне жаловали государи не токмо жильцов, но часто из думных людей, и даже княжеские дети в сем чине служить начинали». Из князей жаловать в дворяне! Да от этого вскрикнешь.
Вот еще слова его: «Ни в котором архиве, — говорит ученый Миллер, — точных указаний о дворянстве до времен Петра Великого не находится и, кажется, — продолжает он, — что и в самом деле оных не было; потому что если б они были и утратились, то бы когда-нибудь, по каким ни есть делам, в грамотах, указах, челобитных, приговорах и выписях на оные ссылались; но сего вовсе не видно. Вместо указаний служили древние обыкновения».
Я продолжаю выписывать из Успенского. «В старину не было в российском языке такового слова, которое бы означало то, что мы ныне разумеем под названиями дворянин и дворянство. Равным образом и на других славянских языках такого слова нет; а польское шляхтич и шляхетство заимствовано от немецкого Geschlecht. Чин дворянина был невысокий и не наследственный, хотя из него происходили в стольники и доходили иногда до боярства. Нестерпимо было бы тогда боярину, если б сказали ему, что он дворянин. Когда же, при Петре Великом, старые чины были оставлены, то слово дворянин введено в употребление за общее название всех, которые находились в старых чинах. Миллер справедливо удивляется, что таковая немаловажная перемена во всей России произведена с великим единомыслием, без особливого о том указа и без народованного от верховных судебных мест определения; а известно-де только то, что перемена сия последовала по возвращении Государевом из первого путешествия в чужие край».
О князьях вот что он глаголет: «Иоанн Васильевич, совокупя под единоначалие удельные княжества, включил в число бояр и удельных князей, а потомки их остались в числе простого дворянства. Некоторые из князей, пришедши в бедность, записались в дети боярские и титул княжеский оставили. Когда царства Казанское и Астраханское присовокуплены к России, тогда находившееся в оных многочисленное татарское дворянство, известное под названием мурз, опасаясь, что их сравнят с простолюдинами, просили победителя о своем от простого народа отличении наименованием их князьями».
Вышесказанное не доказывает ли нам, что в продолжении нескольких столетий, несмотря на перемену названий, мы всё держимся прежнего порядка и сохраняем прежние поверия? Обычай есть сильный царь, которого Петр Великий не совсем победил. Как у древних, так и у новейших Восточных народов нет такой привилегированной касты, праздной, бесполезной, которая бы с тем вместе пользовалась наследственным правом на уважение других сословий. Не знаю, как было в Византийской империи; чего не знаю того сказать не могу; только кажется, что после падения её, потомки побежденных должны бы сохранить какие нибудь письменные или словесные предания о преимуществах предков своих; а этого нет. У турок, сын верховного визиря, пока не поступит в султанскую службу, равен сыну всякого поселянина. Замечено, что особенно все славянские народы имеют врожденное отвращение от всякой наследственной аристократии, наследственного дворянства.
Чтобы составить себе понятие о том, что в старину была Россия, стоит только, съездить в Молдавию и Валахию. Там найдете вы и поныне пять крупных чинов под общим славянским названием бояр; другие пониже и, наконец, несколько мелких чинов, всего четырнадцать. Между ними найдете вы и латинский титул спатаря, и славянский постельничего, исправника, шатраря, и греческий логофета, и турецкий аги. Там чин есть должность; но, по оставлении последней, сохраняется первый. Не подумайте однако же, чтобы шатрари, медельничеры, жигничеры могли надеяться когда либо попасть на высокие степени: веками засевшие в боярстве Стурдзы, Россеты, Бальши, Гики и другие их к ним не подпустят; они берегут эти места для сыновей, которые, не заняв их и гнушаясь последними местами, остались бы в податном состоянии. Все эти вышепоименованные мною первостатейные семейства крепко держатся между собою, и ни которое из них не согласилось бы войти в брачный родственный союз с каким нибудь Балачаном, Прункулем или подобным им, хотя бы разбогатевшим человеком. Вот аристократия на деле (de fait), а не по праву (de droit). Когда Бессарабию от Молдавии отмежевали к России, и нужно было приступить к выборам, то подавай дворян. А где их взять? Их никогда и не бывало. Ну вынь, да положь. Что делать? Так и быть: всех мелкочиновных молдаван пожаловали в сие звание, и как молдавский язык наполовину состоит из славянских слов, то между ними это неведомое название и легко нашло себе место.
Подобно сему, если и у нас не было наследственного дворянства, то было нечто лучше его: были знаменитые роды, родословные люди, как их тогда называли. Они с точностью вписывали в книги имена детей своих, числа их рождения и брава, их и свои деяния, награды за то от царей получаемые и с сими документами, не совсем бесполезными для самой Истории, считались с равными и местничали. Чтобы не упасть, чтобы с целым племенем своим удержаться на вершине, нужны им были величайшая деятельность, беспрестанно возобновляемые усилия. Я уверен, что все обрадовались наследственному праву, которое даровал Петр Великий созданному им дворянству. Это умножило его силу и число приверженцев его; в стремлении своем подражать Западу скоро установил он и майораты. Сии ошибки великого человека при нём не могли быть очень важны (еще не было дано вольности дворянству), и посреди его водрузил он чин, что на русском языке в настоящем смысле значит порядок или степень[153]. Не раз приходится мне сказать, что немцы часто неумышленно делают много добра России. Бирон, в бешеной злости своей на русскую знать, склонил императрицу Анну уничтожить закон о майоратствах и тем целой России оказал великую услугу. Зато другие немцы, подальновиднее его, более ознакомленные с характером нашей нации, предложили Петру III-му издать знаменитую грамоту о вольности дворянства. Они были уверены, что, обеспеченные на счет прав своего потомства, ленивые наши дворяне станут убегать от службы, и все места, вся власть останутся в их руках. Но древний обычай служить не мог так скоро измениться; презрительное название недоросля всем было противно, и Екатерина, особенно в сем деле действительно мудрая, умела дворянство заманивать в службу, возбуждая в нём честолюбивую зачесь и в молодости облегчая ему все средства к быстрому повышению; за то умела также останавливать нетерпение его при достижении высших степеней. Всё предвиденное немцами Петра III-го должно было в наше время только сбыться.
Все славянские народы менее или более одарены храбростью, добродушием и смышленостью; но греха таить нечего, с тем вместе они ленивы, нетерпеливы, алчны к чувственным наслаждениям, золоту, их доставляющему, небрежны, тщеславны более, чем горды и честолюбивы: почти у каждого из них на высоте кружится голова. Оттого-то везде должны были они уступать и покоряться или дикой энергии турок или твердости германских народов, не более их храбрых, но гораздо более их хладнокровных, терпеливых, осторожных, рассудительных и расчётливых. Одна Россия, выросшая под прессом тяжких испытаний, выправленная, направленная к великому, могла в двести лет совершить так много чудес. У славян для вельможей, аристократов, в чаду их личных успехов, нет отечества; во времена мирные, спокойные, нет его у народа и у людей среднего состояния; одна только царская власть дорожит им: ибо её выгоды тесно связаны с его благосостоянием. Олигархия всегда была гибелью славянских государств. Галицкое княжество или королевство лишилось существования, благодаря хищности бояр своих, продававших его попеременно то Венгрии, то Польше, и навсегда отторгнуто от единоплеменной России. Источниками всех несчастий Польши были несметные богатства и необузданная власть её магнатов, вечных противников короля. Из видов корысти или честолюбия предавали они отчизну: Чарторижские — Австрии, Браницкие, Потоцкие, Коссаковские — России. Оковы, в которых Австрия держит Богемию, суть также Лобковичи, Кинские, Седлницкие, Коловраты, Чернины и другие первые вельможи чешские. А у нас бояре (разумеется, не все) искони любили не свое, питали вражду к непреклонным, благородным, верным сынам отечества, не сгибающим пред ними хребта, и покровительствовали изменников, льстивших их самолюбие. Не они ли умного Алексея Михайловича умели почти поссорить с доблестным Хмельницким и отравить последние дни почтенного мужа, подарившего нас Украиной? Не они ли были друзьями Мазепы? Не они ли на счет его ввели в заблуждение прозорливого Петра и склонили выдать предателю двух верных обвинителей его? А ныне что уже и говорить! Даже те, которые занимают первые места в государственном управлении, половину жизни проводят за границей; а если в отставке, то непременно там поселяются. Как быть, не мила им Россия, и особенно противна их женам. Вся вина возлагается на дурной климат, везде одинаковый от Торнео до Ленкорана. Пагубный пример сих господ множество русских, даже провинциалов, превращает в странствующих жидов. Примечательно, что русский народ, в том числе купцы и малочиновные, имеет инстинктивное отвращение от аристократии[154]. Вообще этот народ слепо повинуется по необходимости, не любит над собою властей, обожает одну только царскую, и то сильную и победоносную. Мне случалось иногда в присутствии самих аристократов объясняться несколько откровенно на счет сомнительности их прав; тогда, взглянув на меня с презрением, давали они мне чувствовать, что почитают меня якобинцем; а мне хотелось отвечать им стихом Буало:
Qui n’aime pas Cotin, n’aime pas son roi Et n’a, selon Cotin, ni Dieu, ni foi, ni loi.Теперь нам известно, что такое были бояре в старину. Знаем также, что в новейшие времена аристократия наша была довольно верной копией с французского подлинника: гордость свою прикрывала учтивостью и нестрогую нравственность благопристойностью. Всего затруднительнее представить последнюю её метаморфозу — нынешнее загадочное её состояние. Здесь не место, а найдется при описании настоящих времен. Конечно во все времена аристократия была у нас царство прозябаемых, которые не иначе могли зреть и возрастать как согреваемые сильными лучами солнышка-царя; однако же были и люди, более всех пользующиеся доверенностью Государя, которые аристократами не почитались и о коих они говорили с презрением, например Аракчеев. Я уверен, что если б он говорил по-французски, ездил в общества и имел у себя швейцара, то между ними был бы не последний. Но этот странный человек почитал себя их выше и довольствовался тем, что видел всех их ползающими у ног его.
Нынешняя Россия является мне как бы высокая гора, коей вершина ярко озарена светом царского величия. С одной стороны толпы людей взбираются, лезут по дороге, к ней ведущей, уставленной гранями; некоторые, более счастливые или проворные, бегом бегут по крутизне; иные, устав, останавливаются; иные же совсем обрываются. Одно, два, много три поколения остаются на теме горы; потом с противоположной стороны начинают спускаться всё ниже и ниже, многие из них вниз катятся кубарем в ту мрачную долину, которая у подошвы горы наполнена миллионами людей. Однако же исход из неё открыт: вместе с теми, которые никогда из неё не выходили, падшие могут опять подыматься вверх. Мне кажется, ничего не может быть естественнее этого кругообращения. Пусть бы оно так и оставалось, пусть бы аристократия наша продолжала существовать в том бестолковом виде, в котором находится; дай Бог ей много лет здравствовать! Но увы, большие общие перемены не перестают угрожать нам; один Господь знает, что мы такое: консерваторы или реформаторы? Давно уже сбираются истребить чины, то есть порядок, учрежденный Великим Петром, которым заменил он прежний порядок, который ничем заменить нельзя и который один исправил все его ошибки. Говорят, что общее мнение того требует. Действительно, ленивое и тщеславное дворянство наше твердить о том; сотни тысяч отставных поручиков и регистраторов, владельцы сотни; двух или трехсот душ, населяющих Москву и провинции, желают, чтобы их праздность, бесполезность, ничтожество поставлены были наравне или даже выше заслуг трудолюбивых людей; злонамеренные же люди замышляют из рук правительства, похитить важнейший способ к поощрению ему преданных.
Не знаю, правда ли, а говорят, что затевают нечто еще худшее, что хотят восстановить майораты. Да к какой стати? спрашивается. Или смешная, жалкая страсть к подражаниям так еще в нас сильна, что мы хотим вводить у себя даже обветшалое на Западе, то, что, подобно полуразрушенным его замкам, сегодня или завтра должно упасть. К счастью, можно предсказать, что сначала это встретит большие затруднения в исполнении. Но кто может знать будущее? Огромные состояния будут возрастать и увековечиваться в руках немногих семейств и умножать силу владельцев своих. Несмотря на слишком поздно принятые меры, дворянство беспрестанно будет размножаться и тяжестью числа непременно канет на дно. Места привлекают еще к себе большим жалованьем; но их так умели уронить в мнении, что в отставке носимые их названия никакого не будут возбуждать уважения: чины уничтожатся. Что же останется? Высокомощие бояр. Тогда-то водворится у нас Европа; тогда-то воскреснут между нами средние её века; о, блаженное время! Или лучше сказать, постигнет нас участь благополучной Польши с её завидной анархией, и наши Юсуповы будут сзывать сеймы, составлять конфедерации. Хороши мы тогда будем! Право, уже лучше бы удельные княжества! Вот вам судия, господа великие законодатели наши, великие преобразователи; делайте по своему, только будете отвечать Ему и потомству. Если все наши государи, подражая Петру Великому, захотят всё перестраивать, то неизбежно ослабнут подпоры государственного здания и, наконец, оно рухнется вместе со спасительною в существе, но неискусно употребленною их властью.
Удалившись от сует мира сего и его превратностей, мне бы хотелось и следовало жить только в прошедшем и даже в давно прошедшем и о нём только вещать. Но как быть? Я еще жив, не ослеп, не оглох, не могу не знать и не видеть происходящего вокруг меня Таким образом, говоря о былом, как избегнуть того, чтоб иногда не коснуться настоящего? У меня нет ни родных, ни друзей, я всё пережил, всего лишился, ко всему охладел; даже между оставшимися у меня родными нет ни одного, в котором бы я мог найти сочувствие, единомыслие: состояние горестное! Но есть чувство, которое, в милосердии Своем, сам Создатель, кажется, вложил мне в сердце; оно одно животворит меня и привязывает к земле, на которой не знаю долго ли буду скитаться. И хотя оно было для меня источником многих горестей, я не могу расстаться с ним. Я не назову его: на каждой странице сих Записок оно само собою выказывается. Всё к нему относится, и если иногда на бумагу изливалась желчь моя, если я позволял себе порицать моих сограждан, то клянусь, что с сокрушенным сердцем. Если бы я мог вдохнуть в них национальное самолюбие, которому непременно уступило бы место жалкое, мелочное, личное их самолюбие, с какою радостью я осыпал бы их похвалами! Я то и делал, когда случай к тому представлялся. Было время, когда в России некого было осуждать, и я приступаю к его изображению.
III
Весть о ссылке Сперанского. — Причина опалы Сперанского. — Граф И. В. Гудович. — Граф Растопчин. — «Вести или живой убитый». — Заслуги графа Ростопчина. — П. В. Чичагов. — 12 июня 1812 года. — Ярмарка в Пензе.
Менее полутора тысяч верст отделяют Пензу от Петербурга. В нашем необъятном государстве, кажется, пространство не слишком великое, а насчет любопытных известий оттуда мы жили словно в Иркутске. Горизонт наш был весьма ограничен; еще менее чем в Москве думали мы о том что нас ожидает, и вседневный вздор, который слышал я вокруг себя, неприметно успокаивал волнуемую страхом душу мою.
Первая важная весть, которую получили мы в конце марта, была о неожиданных отставке и ссылке Сперанского; но эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был человек, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не искал погибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, который, мало показываясь, в продолжении многих лет трудился в тишине кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все пак на Пандорин ящик, наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою всё наше отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его виновности открыли, наконец, глаза обманутому Государю; только дивились милосердию его и роптали. Как можно было не казнить преступника, государственного изменника, предателя, и довольствоваться удалением его из столицы и устранением от дел! Не менее того сию меру, слишком строгую, если человек был безвинен, торжествовали как первую победу над французами. Многие, помню, приходили меня с этим поздравлять и, виноват, я принимал поздравления.
Непонятно также казалось молчание хранимое ведомостями о столь важной перемене, тогда как они всегда возвещали об отставке чиновников, невысокие места занимавших. Оттого многие не хотели верить своему счастью, пока из соседнего Нижнего Новгорода, совсем не ужасного места заточения его, не были получены точные сведения о прибытии его туда, о снисходительном приеме сделанном ему губернатором и об уединенном образе жизни, который он начал там вести. Между тем слух о его измене, настоящей или мнимой, распространился и между простым народом: не подозревая того, летом отправился он взглянуть на Макарьевскую ярмарку; проходя гостиным двором, он едва не был умерщвлен разъяренною чернью и спасся через лавку знакомого ему купца. Главное тогда областное начальство, желая будто спасти дни его, а вероятно движимое местью, отправило его на жительство в холодный, скучный губернский город Пермь.
Уже давно всё это было, уже давно нет того, кто был благом и казнью Сперанского, его самого уже нет; а повесть о его изгнании всё еще остается для нас загадкою, и вероятно даже потомством нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется тоже что во Франции история о Железной маске. Я полагаю, что он был виновен, но не совсем. Сопровождая Александра в Эрфурт, он был очарован величием Наполеона; замечено уже, что все люди, из ничего высоко поднявшиеся, не смея завидовать избраннику счастья и славы, видели в нём свой образец и кумир и почтительнее других ему поклонялись. Мало заботясь об участи отечества, будучи уверен, что Наполеон одолеет нас, мог он от последствий сей войны ожидать чего-то для себя полезного, мог питать какие-нибудь неясные надежды; но чтоб он вошел в тайные сношения с неприятелем, это дело невозможное: он был слишком осторожен. Как ни воздержен был он в речах своих, но приятных, сильных своих ощущений при имени нашего врага он скрывать не мог. В глазах людей, окружавших Царя, и особенно сестры его, Екатерины Павловны, это одно уже было великое преступление и было важнейшим орудием к обвинению его. В беспокойстве духа, в котором находился Государь при ожидании великих событий, предался он подозрениям и решился величию обстоятельств принести великую жертву. Вся Россия требовала её, и на этот раз только в гласе народа послышался Александру глас Божий. Иначе я этого дела объяснить не умею.
Не помню, какой-то французский писатель (ныне их так много), но уже верно не добрый человек[155], сказал, что в несчастьях самих друзей наших, для всякого из нас есть всегда какая-нибудь отрадная сторона. Мне кажется напротив: я не скрою, что, падение Сперанского мне было приятно, ибо я разделял общее мнение об нём; но с тем вместе, вспоминая его счастливые дни, представляя себе страдания его при переезде из одной ссылки в другую, под проклятиями народными, грустное чувство против воли моей закрадывалось мне в сердце.
На место его посажен был старый вице-адмирал Александр Семенович Шишков, плохой писатель, но самый пылкий патриот. Везде, где говорил я о литературе нашей, имя его всегда поминается. Вскоре потом, в апреле, отправился он к армии с Государем в Вильну. Из его назначения мог я заключить, что люди, отличающиеся особою любовью в отечеству, должны быть все в ходу. Мнение сие подтвердилось другими назначением, сделанным в следующем месяце.
С 1809 года начальствовал в Москве старый фельдмаршал, граф Иван Васильевич Гудович. В армии был он известен как храбрый генерал, отнюдь не как полководец. Он умел хорошо поддерживать высокое звание главнокомандующего в столице, т. е. заставлял себе повиноваться, окружал себя помпой и давал официальные обеды и балы. Может быть, в зрелых летах имел он много твердости, но под старость она превратилась у него в своенравие. Несмотря на то, так сказать выжив из лет, он совершенно отдал себя в руки меньшего брата графа Михаила Васильевича, который слыл человеком весьма корыстолюбивым. Оттого-то управление Москвою шло не лучше нынешнего: всё было продажное, всё было на откупе. Подручником последнего был какой-то медик, французо-итальянец, если не ошибаюсь, Салватори, и они между собою делили прибыль. Так по крайней мере все утверждали, и в тоже время были уверены, что медик не что иное как тайный агент французского правительства. Москва находилась далеко от театра могущей быть войны, но по какому-то предчувствию на состояние ее обращено было особое внимание правительства. Надлежало непременно сменить Гудовича, и Государь сделал сие с обычными ему привлекательными формами, при весьма лестном рескрипте, препроводив к нему портрет свой алмазами украшенный.
Можно сказать, что Александр был вдохновен свыше, когда в преемники ему выбрал графа Растопчина. Я говорил только о действии, произведенном на меня угрюмым лицом его, когда в Петергофе, будучи еще отроком, трепетною рукою подал я ему просьбу об определении меня в Иностранную Коллегию, а об нём собственно ничего не говорил. Когда он был еще министром, а я находился под его главным начальством, отец его, Василий Федорович, стал часто посещать зятя моего Алексеева, тогда полицеймейстера в Москве. Не раз случилось мне слышать рассказы его о том, как он выкупился из крепостного состояния, вступил на службу, получил небольшие чины, нажил небольшое состояние, и как ничего не щадил, чтобы дать хорошее воспитание единственному сыну своему. За то сын хорошо ему и отплатил: пользуясь удобною минутой у щедрого Павла, из отставных майоров выпросил ему прямо чин действительного статского советника и Аннинскую ленту. С природным необыкновенным умом и полученным образованием, молодой Растопчин не мог бы иметь столь великих успехов, если бы не женился на родной племяннице Анны Степановны Протасовой, любимицы Екатерины Второй. Через нее попал он к большому двору, но предпочел ему двор наследника в Гатчине. Это составило его счастье.
Некоторые люди видели в Растопчине препятствие к исполнению их тайных замыслов; они знали его как человека благородного, твердого, который ни за что не изменит благодетелю своему и готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти дни его. Их происки успели ниспровергнуть его за несколько дней до кончины Павла. Первый год скрывался он в деревне, а потом постоянно жил в Москве. Там скоро стал он наряду с вельможами, сошедшими с поприща, коих пребыванием она так гордилась. Это было не легко: все они были семидесяти или шестидесятилетние старцы, а он едва перешел за сорок; все они более или менее были древнего происхождения, а он своим хвалиться не мог. Зато всех выше был он душою и чувствами, и большую часть из них превосходил умом. Но это самое несколько вредило ему в мнении москвичей. Одна из принадлежностей необыкновенных умов есть живость их; она отнимает у разговоров их ту тяжеловесную важность, которая так почтенна в глазах глупцов: искры ума и воображения им кажутся или опасными для них, готовыми их обжечь, или потешным огнем, для их забавы сжигаемым. Известное острословие свое умел Растопчин удерживать, пока был государственным сановником; но тут, сделавшись мирным обитателем старой столицы, он захотел сложить оковы этикета, налагаемые на людей, находящихся в высоких должностях. Тогда дал он волю речам своим, но скоро увидел с кем имеет дело. Можно было найти тогда в Москве довольно людей, которые, как говорится, были ему по плечу, уже верно более чем ныне: им одним мог он передавать высокие думы свои, сообщать свои оригинальные рассказы. С прочими же обходился он просто, был словоохотен, любил пошучивать и употреблял с ними язык, которым говорят совершеннолетние, играя с детьми. Его не поняли: «Да это видно наш брат, — сказали москвичи, а некоторые даже: — да он просто шут». Между тем прилежно изучал он нравы как дворянства московского, так и простого народа. Отравный, непонятный был он человек! Без малейшего отвращения смотрел он на совершенное отсутствие мыслей московских, даже высших обществ, и чрезвычайно забавлялся их нелепыми толками, сплетнями, пересудами.
Вместе с тем вспоминал он дни славы своей, время управления его Министерством Иностранных Дел и союза нашего с Австрией, когда русские войска стояли на границе Франции и готовы бы ворваться в её пределы. С бешенною яростью, какую могут только чувствовать сильные души истинных патриотов, в 1807 году видел он, что дело пошло наоборот, и Наполеон недалеко уже от Немана. Кажется, что в раздраженном состоянии, в коем он находился, наконец, надоела ему болтовня московских пустомелей, и он излил свою на нее досаду в горькой, язвительной шутке, в небольшой комедии, под названием: Вести или Живой Убитый. Ее прочитали, одни посмеялись, другие посердились, и вскоре потом забыли; а она весьма примечания достойна, как изображение тогдашних нравов. Где-то отыскал он или выдумал Силу Андреевича Богатырева, одного из тех кремней, из коих при Екатерине составлена была вся неодолимая русская армия: такие люди во множестве доживали почтения достойный век свой по закоулкам Москвы, и никто не знал об них. Этот просватал дочь свою за офицера; жених на войне, и он ждет от него известий, как вдруг деятельнейшая из вестовщиц безжалостно спешит объявить ему, что будущий зять его убит, с такими подробностями, которые не оставляют ни малейшего сомнения насчет истины её слов. Всё семейство в отчаянии, ибо все без памяти от храброго молодца; а он получивши отпуск, является посреди его жив и здоров. Тут-то Растопчин, под маскою разгневанного старца, принимается позорить злую вещунью, ее и подобных ей особ обоего пола, а она отбранивается по своему. Вот неважное содержание пьесы; последняя сцена составляет две трети оной и, кажется, для неё она была и написана[156].
Когда в 1809 году Император посетил Москву, то в первый раз по воцарении увидел Растопчина, стал разговаривать с ним и был увлечен силою и ясностью ума его. Тут же он сошелся с Екатериною Павловной, и вследствие её приглашений не раз навещал ее в Твери. Затем получил он еще лестнейшее приглашение прибыть в Петербург, где его сделали обер-камергером и членом Государственного Совета, с дозволением жить в Москве, откуда, по сделанной привычке, он редко отлучался. Говорят, что он был в числе обвинителей Сперанского и что письмо его о сем предмете сильнее всего на Государя подействовало.
Все жители Москвы чрезвычайно обрадовались, когда в исходе мая 1812 года назначили его к ним главнокомандующим, с переименованием в военный чин; только радость была не продолжительна. Он выпрямился во всю вышину роста и ума своего, и вдруг явился грозным повелителем, с своими нахмуренными бровями, как бы Юпитером-громовержцем. Это было необходимо. Он совершенно знал дух непокорности дворян, знал также своеволие, предрассудки, поверия простого народа; он знал, что сей последний в свирепом виде всегда предполагает смелость и силу. Сжав тех и других в мощной руке своей, он в тоже время умел овладеть их умами и привязать к себе. Искусство удивительное, которое не умели у нас довольно оценить. Если вспомнить, что Москва имела тогда сильное влияние на внутренние провинции и что пример её действовал на всё государство, то надобно признаться, что заслуги его в сем году суть бессмертны.
Третье известие порадовало меня не менее двух первых. Когда совсем потеряли надежду на мир с турками, его заключили в Бухаресте 26-го мая. Он был если не весьма славен; то по крайней мере весьма выгоден для нас. Граница наша от Днестра отодвинула к Пруту, на протяжении нескольких сот верст; что важнее того, русские опять стали на берегах, давно, при первых их князьях, знакомого им и никогда не забытого Дуная, воспетого в их старинных песнях; Бессарабия, мне после столь известная, присоединена к России.
Сказывали, что Кутузов, столь же искусный дипломат, как и воин, проведав, что, скучая медленностью, с какою ведет он переговоры, Государь решился назначить ему преемника (да еще какого же?), тайно просил о пособии английское посольство в Константинополе, единственной столице, где оно могло встретиться с французским. Англия, с которою не был еще возобновлен у нас союз, но которой желательно было умножить силы наши против заклятого её врага, употребила старания свои, чтобы помочь Кутузову в сем деле. Княжеское достоинство с титулом светлости было его наградою.
Через два дня после подписания мирного трактата, прибыл в Бухарест адмирал, Павел Васильевич Чичагов, бывший морской министр, и Кутузов тогда с удовольствием передал ему главное начальство над армией. Он по жене был англичанин. При таковом звании в 1807 году счел он для себя неприличным оставаться в министерстве, когда Россия примирилась с неприятелем им избранного отечества. Однако же к этому неприятелю отправился он в Париж и там, видно, имел великий вес, ибо сам собою пошел прямо к Наполеону объявить ему, что при его свадьбе не подобает русской великой княгине Марье Павловне находиться в толпе королев и великих герцогинь, долженствующих окружать его молодую императрицу. Смелость его была не безуспешна, и по возвращении его в Россию для него не бесполезна. Этот самолюбивый и мстительный человек за всё хватался и ни в чём не имел удачи, а может быть, по нелюбви его к родимому краю, неудачи его были и умышленные. Такого человека, право, безгрешно можно подозревать, особливо после знаменитого дела, коим заключил он свое поприще.
Все эти вести утешали и несколько успокаивали меня среди скорби, которая меня окружала, и забот, в кои я был погружен. В это время одно небольшое горе, если только можно назвать его сим именем, посетило наше семейство. Вследствие неотступной просьбы к Барклаю, тогда начальствовавшему над главной армией, старший брат мой, Павел, был принят в военную службу прежним майорским чином и определен в Курляндский драгунский полк. Его по крайней мере это чрезвычайно обрадовало: это стирало с него провиантское пятно, и его уведомляли, что он должен принять сие как знак особой милости, ему оказанной. Но для нас разлука с ним была весьма тягостна, особенно для меня, который терял в нём опытного помощника и друга. В первых числах июни отправился он в армию.
Сколько лет семейство мое праздновало 12 июня, день рождения покойного родителя нашего! В этом году матери моей угодно было, чтобы сей день отпразднован был печальным обрядом поминовения над его могилою. Ни сама она, ни меньшая сестра, по совершенному расстройству нерв, не могли там находиться. Мы одни с старшею сестрой отправились в село Симбухино и встретили там архимандрита и соборных протоиереев с церковным причтом. По окончании обедни и торжественной панихиды, довольно роскошно угощали мы их трапезой, в доме, недавно отделанном покойником. Горесть мою время смягчило, ослабило и во время богослужения молился я усердно о душе давшего мне жизнь, но признаюсь, без чувства первой глубокой печали. Во время же обеда и совершаемой по нём тризны, вдруг почувствовал я сильное волнение в груди; непонятные мне грусть и тоска овладели мною, и, стараясь скрыть невольные слезы, я даже зарыдал. Дело чудное: в сем тяжком чувстве был какой-то и восторг. Пусть не верят предчувствиям, пусть смеются над ними, а мне столько раз возвещали они печали и радости, что я принужден в них верить. Наполеонова армия в этот день переправлялась через Неман.
С конца мая в Пензе царствовала мертвая тишина: все помещики разъехались по деревням, и сам губернатор Голицын, пользуясь данным ему правом, с семейством и братьями жил у матери в Зубриловке. Я тоже только два раза в неделю покидал Симбухино, чтобы навестить мою мать, которой отсоветовали жить в деревне и которая, оставив прежде занимаемый ею собственный дом, где, как говорила, лишилась она своего счастья, жила на горе, близ рощи, в самом уединенном углу Пензы, в небольшом домике, состоящем из трех или четырех келий. Я не скучал деревенскою жизнью и моим одиночеством; занимался хозяйством, читал книги из множества в последнее время отцом моим накупленных, гулял по саду, им насажденному, бродил по рощам, наше селение окружающим, иногда для перемены ездил верхом. Ничто не говорило о войне, лето стояло прекраснейшее, и всё было так успокоительно. Переда ярмаркой, к 24 июня, все опять начали сбираться. В это время был тут, не помню из армии или из Петербурга, какой-то свитский полковник Энгельсон, проездом в Оренбург. Он всем рассказывал, что ничего еще не слыхать о разрыве с Наполеоном, что посол его Лористон всё еще находится в Петербурге и со многими бьется об заклад, что войне не бывать, и что сам он полагает, что без неё дело обойдется. Я не видел его, но слышанному поверил с провинциальным легковерием. Находят же на людей дни глупости, и на меня чаще чем на других. Газеты наши, правда, были скромнее нежели когда либо; однако же и в них видели мы, что Наполеон прибыл в Дрезден, что он председательствует в сонме королей, как бы для совещания о великом предприятии, что сам тестюшка, император Австрийский, явился тут более в виде главного вассала, чем союзника его и, наконец, что король Прусский (точные слова газеты) всячески старается ему угодить и ни в чём не смеет отказывать. И после того думать, что громовые тучи, со всех концов сошедшиеся, сгустившиеся, навислые, без столкновения опять разойдутся! Однако же, оно было так и, что всего страннее, в Вильне точно также, как и в Пензе. И если бы даже предполагать возможность возобновления союза с этим человеком, то можно ли было надеяться, что сие будет без величайших пожертвований для чести и выгоды России? А в таком случае всякому благородно мыслящему русскому должно было желать войны, как последнего, отчаянного средства. Но мы были как боязливые люди, которые, встречаясь с чем-нибудь ужасным, закрывают глаза.
Ярмарка была чрезвычайно многолюдна и шумна. Сделавшись сперва гораздо спокойнее, стал я и повеселее: не отказывался от званых обедов и даже в Петров день, 29-го июня, конец кратковременной ярмарки, хотя будучи в трауре и не имел права быть на бале, который дворянство давало во вновь выстроенной большой галерее, разгуливал, однако же, в освещенном вокруг её саде и всё видел. Я попросил бы читателя припомнить себе некую Катерину Васильевну Кожину, урожденную княжну Долгорукову, жену любителя и содержателя театра, а тут уже вдову, которая, имея гораздо более сорока лет, любила еще невинным образом пококетничать. Она избрала себе в обожатели равного себе, князя Василия, одного из меньших братьев губернатора Голицына: он будто бы влюблен был в нее, а я будто бы ревновал. Где-то на вечере 30-го июня, пригласила она обоих нас на следующее утро к ней завтракать; а мы уговорились между собою, чтоб играть у неё роли, ему торжествующего, а мне отчаянного любовника. В приятном ожидании этой комедии, заснул я, не зная что на другой день меня ожидает.
IV
Набор ратников. — Ссыльные в Пензе. — Граф Н. С. Мордвинов. — Комитет по ополчению. — Смоляне в Пензе.
Часу в одиннадцатом утра, 1-го июля, зашел я к Голицыным, которые жили отдельно от брата в купленном их матерью особом доме. Я стал торопить князя Василия, чтоб он скорее одевался, и мы совсем готовы были в поход, как вдруг вбежал самый меньшой из братьев Владимир, всегдашний повеса и вечный хохотун, в столь смущенном виде, что вероятно, он раз в жизни только его имел. Он пришел от князя Григория, и вот что он нам рассказал: чиновник, посланный от губернатора с гуртом быков, пожертвованных дворянством, не мог довести их до места их назначения, ибо довольно далеко от него встретил он армию, поспешно ретирующуюся и с трудом мог добиться кому их сдать. Он воротился на курьерских и сказывал, между прочим, что Наполеон уже в Вильне. Я был поражен известием, но не менее того изумлен действием, которое произвело оно на Василия Голицына: он побледнел, и право не от страха, и выронил из рук трость, которую держал. Как? И это те легкомысленные мальчики, которым от роду серьёзная мысль не входила в голову! О, Господи, подумал я, дай, чтобы вторжение французов во всех произвело подобное действие, и мы спасены. «Нет, видно нам сегодня не идти к Кожиной», сказал Василий. «И я тоже думаю», отвечал я, и мы послали слугу с извинением.
Задумавшись медленными шагами пошел я домой, и вот как рассуждал я. Невозможно, чтоб армия так быстро отступала, не проиграв генерального сражения: теперь где она остановится? Этому человеку открыт путь во внутрь России, и что с нами будет! Я один занимал собственный дом, в коем скончался отец мой, до вольно далеко от наемной квартиры, которую мать моя занимала, и всё временил, чтобы идти к ней, не зная, как ей объявить нерадостную весть; но я нашел, что она об ней уже знала и гораздо более меня.
Почта из столиц обыкновенно приходила по понедельникам, чем свет; в этот день, который также был понедельник, она опоздала несколькими часами. В Московских Ведомостях, которые привезла она, находился рескрипт Государя на имя графа Салтыкова, председателя Государственного Совета, который можно было почитать объявлением войны[157]. В прибавлениях припечатано было известие о попятном движении корпусов первой армии, дабы более сосредоточить ее. Рескрипт был от 13 июня из Вильны; пока он дошел до Петербурга, оттуда до Москвы, там напечатан и по почте у нас получен, прошло 18 дней. Газеты поспешили доставить к матери моей и до меня еще успели ей прочитать их.
Нельзя мне было не удивиться внезапной перемене, которую нашел я в ней. Она с мужем похоронила свое счастье, все радости свои и почитала себя чуждою всему что происходит в мире сем. Так оно и было, пока голос отечества не отозвался в сердце её; погибель ему грозящая дала ей почувствовать, что на свете есть еще что ей любить, за что ей страшиться. Она как будто ожила и вместе с тем укрепилась верою: я нашел ее почти спокойною. Видя мое уныние, она сказала мне только: «молись, молись; поверь, это одно только может спасти нас». Итак, появление врага, особ разного пола и возраста в один миг заставило забыть и горе, и веселие.
К печальному и великому как часто примешивается и смешное. Вскоре после меня приехала к матери моей разгневанная Кожина и самым неучтивым образом принялась упрекать меня в неучтивости: она никак попять не могла, что с полученным известием может иметь общего приготовленный на славу ею завтрак; я даже не хотел и слушать её. Наконец вступилась за меня мать моя, которая гораздо старее ее была летами и подобно ей не была воспитана в Смольном монастыре, но гораздо её богаче была умом и чувствами. Она сказала ей: «И, матушка, полно, об чём тут толковать! Да пропадай твой завтрак; до него ли, помилуй». Тогда меня она оставила в покое.
По прочтении газет у меня немного отлегло на сердце. Стало быть, армия цела, сказал я сам себе; да еще их четыре, как вижу из газет; первою и второю начальствуют Барклай и Багратион, третья резервная под начальством Тормасова, а четвертую из Молдавии ведет Чичагов. Если б им сойтись на каком-нибудь укрепленном пункте, то, кажется, трудно будет Наполеону разбить их. Не менее того ободряло меня совершенное перерождение большей части наших помещиков: они не хвастались, не храбрились, а показывали спокойную решимость жертвовать всем, и жизнью, и состоянием, чтобы спасти честь и независимость России. Весьма немногие не об ней думали, а о своей особе и о своем ларце, и те втихомолку только вздыхали. Всё это похоже было на чудо, совершающееся в глазах наших.
Я опять уехал в деревню, но жизнь моя там не была уже как прежде спокойна и безмятежна; часто не понимал я что читаю и, прогуливаясь, иногда сбивался с дороги. Более всего страшил меня поносный мир после решительной победы над нашею армией. В город ездил я только по почтовым дням за новостями; в газетах ничего не видел такого, что бы могло умножить наши опасения, зато и ничего утешительного в них не находил. Казалось сперва; что войска наши хотят упереться на Двину; но потом заметно было, что и за эту линию намерены перейти. Так оно было по 19 июля.
В этот день к вечеру приехала навестить меня осмидесятилетняя старушка, мамушка моя, Аксинья Ивановна, которую можно найти в начале моих воспоминаний о давнопрошедшем. Между разговорами сказала она мне, что в городе большая суматоха, что пришел-дескать указ, и назначен престрашный рекрутский набор, по четыре человека со ста душ. Это меня озадачило. Что-то не к добру, подумал я: ведь это почти поголовщина. Ночью я мало спал и рано поутру поскакал в Пензу.
Дело совсем не было так страшно, как я вообразил себе. Никакой победы француз еще не одержал над русскими, но 18-го числа получен был с курьером знаменитый манифест из Полоцка от 6-го июля, в коем Государь, величая дворян Пожарскими, купцов Миниными и духовенство Палицыными, всех призывает к оружию. Ему неизвестно, кажется, еще было, что силы, Наполеоном против нас собранные, несметны: шестьюстами тысяч воинов предводительствовал этот искусный и счастливый полководец, и его европейская орда посильнее была Батыевой. И, о диво! этот манифест, sauve qui peut, который мог бы привести в отчаяние жителей другой страны, вдруг возвысил дух наших сограждан. Они увлечены были величием зрелища, в коем отечество наше готовилось сразиться с целою частью мира, и почувствовали, что хотят и должны быть в нём действующими лицами.
Губернатор дожидался только распоряжений правительства, чтобы созвать дворянство; они получены с почтою 22 июля. Народное ополчение должно составиться из трех главных отделений; главноначальствующими над ними назначены: в Петербурге, прибывший из Бухареста князь Михаил Ларионович Кутузов, в Москве граф Растопчин, в Нижнем Новгороде граф Петр Александрович Толстой, бывший военный губернатор в Петербурге, бывший посол в Париже; по полученным в тот же день известиям сей последний прибыл уже к месту назначения своего. В состав третьего отделения входила и Пензенская губерния, которая одна должна была выставить 10 тысяч ратников.
По письмам из Москвы, с тою же почтой полученным, узнали мы, что Государь, оставив армию, явился в ней печальный, встревоженный. Описывали в них почтительное к нему сострадание дворянства и купечества, трогательные их сцены с ним; как один смелый купец подступил к нему и сказал: «батюшка, посмотри здесь сколько нас, а в России у тебя нас в тысячу раз больше; когда ни одного не останется, когда всех перебьют, тогда только унывай». Между тем, сгорая огнем любви к отечеству, отважный, неутомимый Растопчин всеми силами раздувал благородное пламя между жителями вверенного ему города; он успел в них пробудить, давно уснувший в лени и праздности, доблестный дух предков их. Подобно нашим знатным, был он воспитан за границею и знал в совершенстве иностранные языки, но тем отличался от вельможных, что славно выучился и отечественному и не гнушался даже простонародным. Он пригодился ему, когда, среди волнения, произведенного грозными обстоятельствами, ежедневно разговаривал он с народом посредством печатных афишек, которые приправлял он разными прибаутками и коими веселил, ободрял и воспламенял его к добру. Эта была не война обыкновенная государства с государством, а великое восстание, общее дело, в котором необходимо было и простой народ сделать участником.
Всё с тою же почтой семейство наше обрадовано было письмом от брата из армии. Более месяца не имели мы об нём никакого известия после последнего письма его из Москвы. Он уведомлял нас, что пользуется особым случаем писать к нам, а что сообщения весьма затруднены. Мы не понимали, отчего это, вероятно, чтобы внутри государства не знали наверное, что происходит в армии.
Известия из неё, официально объявляемые, становились однако же живее и любопытнее. Поражениям французов Платовым при Мире, Остерманом при Островне и Багратионом при Дашковке мы что-то плохо верили и почитали их более стычками, в которых едва удалось неприятелю дать отпор. Я был не великий стратег и не умел понять, что дело Багратиона стоит великой победы; ибо он пробился сквозь французскую армию, чтобы соединиться с Барклаем, тогда как намерение Наполеона было непременно отрезать его. Но первая настоящая победа графа Витгенштейна при Клястицах всех чрезвычайно восхитила. Не было обеда, даже семейного, на котором бы не пили за здоровье победителя. Имя его, дотоле вовсе неизвестное, с шумом пронеслось по всей России; все находили, что спасение часто приходит к нам оттуда, откуда мы его не ожидаем, и оттого еще более утверждались в вере на помощь Всевышнего.
В Москве, после посещения сделанного ей Государем (который, пробыв два дня, отправился в Петербург), всё закипело, всё запылало усердием в великому делу спасения отечества. Всё в ней делалось на широкую руку. Но боярское тщеславие и тут не забыло себя выказать: молодые люди, знатные и богатые, не владеющие однако же миллионами, метившие в вельможи или, лучше сказать, по ораву наследства почитающие себя ими, предложили на свой счет сформировать полки, с тем условием, чтоб они назначены были их шефами и полки носили их имена. Отставной гвардии ротмистр, граф Салтыков, добрый малый, о котором мне случалось упоминать, сын графа Ивана Петровича, обремененный долгами, взялся поставить гусарский полк; казачий конный полк начал собирать надменный мальчик граф Мамонов, который впоследствии от спеси сошел с ума, сын одного из любимцев Екатерины, первый из Мамоновых родившийся графом; камер-юнкер князь Николай Сергеевич Гагарин хотел набрать егерский полк, а Николай Никитич Демидов, всех их вместе гораздо богаче, чтобы не отстать, довольствовался простым пехотным. Купцы не брались формировать полки, но так и посыпали золотом. В Петербурге без шуму, без преувеличения, без возгласов, дело шло точно также: не щадили капиталов, поспешно и деятельно собирали и вооружали войско.
Дошла и до нас очередь. В конце июля съехалось дворянство, чтобы приступить к расчёту сумм, потребных на обмундирование и вооружение десяти тысяч воинов и к назначению мер для исправного собирания их с помещиков по числу душ ими владеемых; также должно оно было поспешить избранием как начальника всего ополчения, так и полковых и сотенных начальников. Дело пошло как нельзя лучше. Отставных военных штаб и обер-офицеров не было и десятой доли против нынешнего, а всё-таки их было много; не сыскалось ни единого, который бы пожелал остаться дома, все явились на службу. Однако же для пополнения всех мест их было недостаточно; дозволено было гражданским чиновникам, служащим и отставным, вступать в ополчение, только с потерею двух или трех чинов; это никого не удержало: сотни предложили свои услуги. И это были не одни помещики и дети их: канцелярии присутственных мест начали пустеть. Наконец, множество семинаристов, сыновей священников и церковнослужителей, бросились в простые рядовые, впрочем уверены будучи, что, как людей письменных, грамотных, не замедлят их сделать урядниками.
Начальником Пензенского ополчения был выбран отставной генерал-майор Николай Федорович Кишенский, который давно уже не служил, однако же был еще не стар. Он решился жениться на чрезвычайно безобразной и хворой единственной дочери Александра Васильевича Салтыкова, не знаю почему прозванного а-ла Кок, который умер, не успев промотать последнее имение свое, тысячи полторы душ в селе Бессоновке, под самой Пензой находящейся. Госпожа Кишенская прожила недолго и, умирая, всё имение отказала мужу. Он был человек дюжий, широкоплечий, довольно простой, ласковый, даже чересчур, ибо обходился со всеми, как говорится, запанибрата. Его генеральский чин, мужественный вид, обходительность и большое состояние решили выбор дворянства.
Многие из помещиков опасались, что приближение французской армии и тайно подосланные от неё люди, прельщениями, подговорами возмутят против них крестьян и дворовых людей. Напротив, в это время казалось, что с дворянами и купцами слились они в одно тело. Ничто так не раздирает душу, как зрелище обыкновенных рекрутских наборов: отовсюду слышны стон и вой. Мирные поселяне, от самого рождения привычкою прикованные к земле, не имеют других желаний, кроме хорошего урожая; повышение, слава суть для них слова непонятные; вдруг отрывают их от всего родного, привычного; они трудолюбивы и не знают боязни, но неведомое ужасает их; все ближние их заживо хоронят; что удивительного, если горький плач и ропот всегда бывают при исполнении сего насильственного действия? Тут, при наборе ратников, видели мы совсем тому противное: радость была написана на лице тех, на коих пал жребий; семейства их, жены, матери осыпали их ласками, целовали, миловали, дарили чем могли. «Голубчик, ведь ты идешь за нас, да за Божье дело», повторяли они.
Названия дружин, ратников ополчения, совершенно отечественные, всем были приятны. Самый наряд ополченных, совсем уже не богатый, но отличающий их от линейного войска, чрезвычайно всем понравился. Он состоял из казацкого платья, кафтана и шаровар светло-серого простого сукна с зеленым воротником, цветом пензенского герба. Офицеры и их начальники имели право носить тонкое сукно и наплечники (имя, которое хотели дать тогда эполетам); ратникам же, имеющим бороду, дозволено было и даже велено не брить её. Вооружение состояло из самых простых сабель и пик; других оружий достать было негде и не на что; правительство обещало само доставить их. Наконец, шапка, украшенная медным крестом, к которому, подобно Людовику XI, многие из ратников прикладывались, прежде чем ее надевали, довершала давать этому сборищу вид воинства Христова. Всё это было в таком восторженном состоянии, что, право, описать его нельзя.
Читателю покажется удивительным, что, при описании всеобщего сильного движения умов, я ничего не упоминаю о себе. Человек этот видно толковал всё о любви к отечеству, пока дело не дошло до опасности, скажет он. Я никогда не хвастался храбростью, и мне приятно думать, что сограждане мои в этом году превзошли меня в патриотических чувствах. Но в прекрасном чаду, в котором кружились тогда все головы (и который, увы, в следующем же году рассеялся) никто не думал о жизни; и мне оставалось, никого не возбуждая, следовать только общему примеру: я так и сделал. Ни с кем не посоветовавшись, пошел я к генералу Кишенскому и предложил ему себя, не имея никакого понятия о фронтовой службе и полагая, что под неприятельским огнем всё равно быть, начальствуя ли взводом, исполняя ли приказания начальника. Я сказал ему, что мне бы приятно было находиться при его высокой особе. Тогда, приняв вид уже главнокомандующего, объявил он мне, что число желающих окружать его очень велико и что потому затрудняется он исполнить мою просьбу. Не обидясь отказом человека, с которым несколько дней перед тем, опасаясь скуки, я не охотно вступал в разговоры, так почтительно, так убедительно повторил я свою просьбу, что наконец изъявил он согласие и через два дня велел подать просьбу.
Но в тот же день успел он рассказать в городе о молениях моих, о моей настойчивости. Если не обманывает меня самолюбие, то я вижу тут маленькое его хвастовство: в Пензе не прослыл я человеком слишком низкопоклонным. Разумеется, на другой же день дошло это до матери моей, которая, призвав меня, слезно стала убеждать оставить мое намерение. Она обратила ко мне сию для самолюбия моего не совсем лестную речь. «Послушай: брат и зять твой на войне, имение расстроено, ты видишь в каком я положении, мы с сестрами твоими без тебя совершенно сироты; я знаю, мужчинка ты ледащий, да всё-таки мужчинка; пока ты тут, всё-таки есть у нас опора и защита. Подумай, и в крестьянской семье последнего не берут в рекруты; много ли в войске одним собою ты прибавишь? Ну, если Всевышнему так угодно, чтобы злодей добрался до нас, тогда удерживать тебя не буду, ступай с Богом; я сама благословлю». Не знаю, на моем месте кто-либо другой поступил ли бы иначе, как я. Скоро представился случай в этой экстраординарной службе и мне не остаться бесполезным.
С той же почтительною покорностью, с которою ходил я просить генерала Кишенского, пошел я благодарить его за данное мне позволение и объяснить невозможность воспользоваться им. В Пензе, где дворянство почти всегда не в меру было спесиво и где состояние всегда предпочиталось чинам, вы бы с удивлением увидели почтение и послушание, оказываемые людьми довольно богатыми, вступившими в ополчение, тем, кои становились их начальниками. Самолюбие было первою жертвой, которое дворянство, в этот чудный год, предавало закланию на жертвеннике отечества. Самый простой народ сделался гораздо смелее в поступи и речах[158], за то в действиях никогда не показывал такого повиновения. Право, глядя на всё это, сердце не нарадовалось. Это всегда спасало Россию и отличало от других государств, как например от Польши или от Франции: там лишь народ почует, что узда опущена и что он делается нужен, начнет шуметь, бурлить, и с ним не сладишь.
В первой половине августа начали появляться у нас, еще не эмигранты из захваченных Наполеоном областей (дотоле всё были одни так называемые польские губернии), а ссыльные по высочайшему повелению.
Первою из них была графиня Рыщевская, урожденная Холопевская, богатая и пожилая полька, которая слишком много любила заниматься политикой. Волынский губернатор, Михаил Иванович Комбурлей, не мог остаться равнодушен, зная о воззваниях её к помещикам, когда неприятельская армия показалась в России: по праву ему данному, в критических обстоятельствах, в коих находилась его губерния, он именем Государя отправил ее во внутренние губернии, и Пензе досталась она на долю. Некоторые, только весьма немногие, обвиняли Комбурлея в жестокости к слабой женщине, знатной и образованной; но вскоре все ее раскусили. В ней был самый злой полонизм, умеряемый светским знанием и приятным обхождением, и если в глубине России, в заточении своем, она не хотела скрывать ни желаний, ни надежд своих, видя себя окруженною народом, вооружающимся для сопротивления их исполнению, то можно посудить о деяниях её, когда она находилась на свободе и на Волыни. Она наняла самый лучший дом в Пензе, привезла с собой славного повара и сделала визиты всем дамам, из коих весьма немногие их отплатили ей. Мать моя, которая ни к кому не ездила и, не зная иностранных языков, не могла с ней объясняться, передала ее моему угощению. Мы очень хорошо сошлись; было нам о чём потолковать. Я должен был прикидываться разделяющим не чувства её, а мнения насчет неизбежного падения России. Но однако же, всегда оканчивал я тем ваши разговоры, и начинал, как умел, указывать на средства к её спасению и даже возвеличению. Сии часто повторяемые однако же начинали ее сердить, и как она была женщина умная, то и не могла не догадаться, что я всепокорнейше ее дразню. Она не вытерпела и стала мне грубить; я тоже снял маску и самым учтивым образом язвил её национальное самолюбие. Мы, слава Богу, наконец совсем поссорились.
Другой изгнанник был француз в русской службе, полковник Радюльф, который сослан был за то, что не согласился идти воевать против соотечественников. Все косились на него; а мне понравился он, как человек скромный, честный, который, не принадлежа к дореволюционной Франции, хотел исполнить долг свой; в самой ссылке его видел я одну меру предосторожности правительства. Третий, вероятно, по ошибке попал в Пензу: его бы следовало отправить в Нерчинск, ибо он был совершенно каторжный. Я слыхал и читывал о санкюлотизме, бывшем в ужаснейшие и отвратительнейшие дни Французской революции, а не имел об нём настоящего понятия; он мне предстал в лице г. Магие. Наглость и дерзость, безнравственность и неверие, перешли в нём за границы возможного. Не понимаю, как пустили его в Россию, а еще менее как одна нежная и попечительная мать могла поручить ему воспитание любимейшего сына. Мальчик, с сердцем нежным и благородным, с умом быстропонятливым и любознательным, с дарованиями необыкновенными, которые могли бы послужить к чести и пользе отечества, от пагубных правил почти в младенчестве внушенных ему сим отравителем, сделался почти преступным и кончил несчастную жизнь, едва перешедши за обыкновенную половину пути её. И в глубокой старости, гордая и упрямая мать не хочет сознаться, что она была главнейшею, единственною виной погибели сыновей своих. Я бы ее назвал, но теперь еще не до неё. В последнее время находился он при образовании безобразного сына уродливого графа Хвостова, которого шурин князь Алексей Иванович Горчаков управлял тогда министерством военным, на время командования Барклаем одною из действующих армий. Вслушавшись в дерзкие речи его, Горчаков счел его опасным и отправил в Пензу; а он там рассказывал, будто это сделано было с намерением разорвать любовные связи его с какою-то кузиной, княжной Горчаковой, как всякий француз, который самохвальству своему честь женщины приносит в жертву. Но никто не хотел ему верить.
Накануне Успеньева дня пришли мне сказать, что некто Мордвинов желает меня видеть. Я оделся наскоро, чтобы к нему выйти и, взглянув на него, изумился: я не имел понятия о необыкновенной красоте, которую может иметь старость. Передо мною был человек не с большим лет шестидесяти, невысокого роста, одетый с изысканною опрятностью, в черном фраке не нового покроя, с расчесанными и на обе стороны распущенными белыми волосами, с чрезвычайною живостью во взорах, с удивительною приятностью в голосе, что-то напоминающий собою Вакефильдского священника: передо мною был прославившийся в государстве Николай Семенович Мордвинов. Приехав накануне вечером в Пензу, он с семейством своим, состоящим из жены, трех молодых дочерей и малолетнего сына, остановился в каком-то заезжем доме, в нижней части города. Неизвестно, по каким причинам, находясь в службе, намеревался он провести у нас всю зиму и для того искал для себя удобную квартиру. Как лучший дом был занят полькою Рыщевской, ему указали на наш, который не велик и не красив был, однако же чрезвычайно поместителен; но мать моя, переехав из него, не хотела ни отдавать его в наймы, ни сама возвращаться в него, а оставить его в том виде, в котором он находился в минуту кончины отца моего. Смущенный внезапным появлением г. Мордвинова, я не умел порядочно с ним объясниться и почтительно повел его показывать ему комнаты. Он остался доволен как числом, так и расположением их и вдруг спросил меня о цене? Еще более смешавшись, я запросил 1500 рублей в год, сумму тогда необъятную в провинции, в надежде, что он начнет торговаться, и я могу отослать его к настоящей владелице дома. Но он этого не сделал и в миг согласился дать мне требуемую сумму. Тогда решился я объявить ему, что мне нужно переговорить о том с матерью, а он сказал мне, что за ответом сам придет к ней после обеда. Скорее побежал я к ней и не без труда мог получить её согласие, представляя ей, что само Небо, кажется, со всех сторон посылает нам средства к скорейшей уплате долгов наших.
Неожиданный приезд столь знаменитого человека, как Мордвинов, бывшего морского министра, настоящего председателя одного из департаментов Государственного Совета, в другое время взволновал бы весь наш губернский город. Тут этого не было. Голицынская спесь заставила губернатора оказать приезжему совершенное невнимание: чтобы не совсем показаться ему неучтивым, поспешил он уехать на ярмарку в Саранск. В Петербурге от Мордвинова совершенно зависели принадлежать к высшей аристократии, но он любил делать всё по своему. Женившись в Ливорно на скромной девице, дочери английского консула Кобле, всегда вел он с нею жизнь довольно уединенную, в кругу своего семейства, в кругу близких и дальних родственников, старинных, просвещенных и достаточных дворян, которые не думали гоняться за знатностью; охотно принимал он у себя также ученых, артистов и литераторов. От того между аристократами прослыл он вольнодумцем, республиканцем; внутри России почитали его усердным, смелым патриотом. Ничего этого не было. У него была страсть риторствовать, изумлять довольно смелыми, на Западе совсем не новыми мыслями; но сильных, внутренних убеждений, но положительных, твердых мнений ни о чём у него не было. Пожалуй, это можно назвать беспристрастием, умеренностью. Например, он был одним из основателей Беседы Российского Слова и почитался задушевным другом руссомана до безумия Александра Семеновича Шишкова, нового дарственного секретаря; в тоже время всем известны были связи его с Сперанским, и он явно и громко порицал строгость, употребленную с сим падшим временщиком. Неизвестно, немилость ли к нему двора, или его собственное неудовольствие на правительство, заставили его выехать из Петербурга. Так по крайней мере казалось; и это, в тогдашних обстоятельствах, вместе с внушениями Голицына, удержало дворян от изъявлений знаков должного к нему уважения, от которых, впрочем, и сам он уклонялся. За год перед этим, рассчитывая на плодородие Пензенской губернии, купил он в ней тысячу душ; но имение было малоземельное, и он никакого почти не получал с него доходу: он хотел накупить земель в Саратовских степях, чтобы переселить туда половину крестьян, и по словам его, вот была причина появления его между нами.
Итак, я стал тесниться в бане, на одном дворе с матерью моей, оставив чертоги свои; но, по приглашению нанимателя, иногда посещал их. Супруга его Генриетта Александровна, милая и почтенная дама, в уединении своем (ибо никто к ним не ездил), всегда мне была очень рада; но молоденькие мисс Мордвиновы были отменно дики и, казалось, страшились дуновения мужчин. Самого же Николая Семеновича я всегда слушал с жадным любопытством и, кажется, иногда понимал; я находил много ума, бездну познаний, но, признаюсь, толку никакого. К несчастью моему, осенью маленькое семейное его общество умножилось прибытием к нему одного молодого ученого, весьма почтенного Гульянова, который впоследствии сделался так известен соперничеством с Шампольоном в объяснении иероглифических знаков. Он всё рассуждал со мною о санскритском языке, которого даже названия я дотоле не слыхивал. Не подозревая, что он говорит со мною о прародителе нашего русского и всех славянских языков, мне казалось, что дело идет о священном писании, sancto scripto, и это недоразумение, обнаруживая всё невежество мое, совершенно погубило меня в мнении Мордвинова; я заметил это и совсем отстал от дому его.
Со всеми этими приезжими я как будто потерял из виду великий предмет, который тогда всех и каждого, беспрестанно, исключительно занимал, как будто позабыл о войне. Правда, недели две уже никаких почти о ней известий не было, всё как будто поумолкло, попритихло, и что-то такое похожее на надежду стало оживлять нас. Мы знали или, лучше сказать, слышали, что две главные армии, Барклая и Багратиона, должны были соединиться или уже соединились под укрепленным Смоленском, над трудною переправой через Днепр. Этот оплот был упование наше, мы в нём для Наполеона видели столпы Геркулесовы, за которые сила его не прорвется.
Между тем губернатор отправился в Саранск совсем не на ярмарку, а более для свидания с главноначальствовавшим над ополчениями графом Петром Александровичем Толстым, для совещаний с ним и для принятия его приказаний по делу вооружения. В воскресенье 18-го августа (мне так памятны все эти числа), день был прекрасный, вечер теплый и ясный, и мне почти было весело. Гуляя по городу, вдруг повстречался я с канцелярским чиновником, любимцем Голицына, которого брал он с собою.
— Вы уже опять здесь, — сказал я ему, — как вы скоро воротились!
— Да, что делать, — отвечал он: — беда, пришло ужасное известие, была большая резня, и в самый день Преображения французы штурмом взяли Смоленск; граф в отчаянии поспешил обратно в Нижний Новгород, и нам уже без него в Саранске ничего не оставалось делать.
Было уже поздно; как одурелый побрёл я домой и не зашел к матери, чтобы не испугать ее отчаянным видом своим.
Это был третий электрический удар, который раздался по всей России, который, поражая печалью сердца русских, как будто всякий раз всё более возжигал в них мужество и усердие защищать отечество. На другой день, в понедельник, 19-го числа, многие сбежались на почту, в том числе и я. Вот какие вести привезла она нам: Государь отлучался из Петербурга для свидания в Абове с шведским кронпринцем, бывшим французским генералом Бернадотом. Хотя то и показалось нам несколько унизительным для императорского достоинства, но такое согласие успокаивало нас насчет опасности для Петербурга и нашей крайней северной границы. Узнав о взятии Смоленска, Государь прискакал обратно в Петербург, чтобы назначить искусного полководца, старика князя Кутузова, главнокомандующим над всеми действующими армиями. Приписывая все неудачи наши разброду, в котором как будто они находились, мы ободрены были мыслью, что главная власть сосредоточится в одних руках; жалели только, что не ранее о том подумали. К тому же, самое имя Кутузова напоминало Екатерину и победы.
В это время были у меня еще другие заботы, в которых, к удовольствию моему, мать моя принимала деятельное участие. Покойный отец мой, не столько из усердия к православию, как по известной читателю архитектурной его страсти, в продолжении пяти лет, исподволь, экономическим образом сооружал в приданом матери моей селе Лебедевке каменную, небольшую, но хорошенькую церковь во имя Владимирской Божией Матери, коей икона была её же родительским благословением. Строение церкви было окончено, и она внутри совсем почти была отделана, когда смерть его постигла. Лето прошло у нас в сборах; надобно было, наконец, подумать о её освящении, и для совершения того мать моя назначила 26-е августа, день, в который празднуются чудеса сказанной иконы. Обряд сей, в селениях всегда радостный, веселый, призывает к себе обыкновенно всех соседних помещиков и их крестьян и долго остается у них в памяти. Тут, к сожалению, ничего этого не было.
У всех на уме было тогда одно только: Москва. Более двухсот верст еще отделяли ее от неприятеля; большая, сильная армия, еще не истребленная, находилась впереди её, и, как утверждали, все её жители готовы были пасть с оружием в руках. Но буря шла прямо на нее; сколько раз уже потоки литовских, польских и татарских полчищ истребляли ее! Какая ждет ее участь? Мы хотели верить спасению её и не могли. Нашему воображению представлялась она венчанною мученицей, с христианским терпением, спокойно ожидающею неизбежной казни. О, как величественна и прекрасна была она тогда в глазах наших, сия родная Москва, наша древность, наша святыня, колыбель нового могущества нашего! Нет, разве только дети в последние минуты жизни обожаемой матери могут так трепетать, видя приближение конца её.
Итак, в самый день Бородинской битвы, 26-го августа, происходило у нас, в шести верстах от Пензы, освящение нового храма. Маленький дом не был достаточен для помещения прибывших из города гостей; для большей половины их стол был накрыт в особливой палатке. Воздух был теплый, удушливый, и ни один листок не колыхался; небо было темно-серого цвета, и сквозь облака ни единое голубое пятнышко не проглядывало. Преосвященный Афанасий, хворый старец, с добродушным взглядом своим и грустною улыбкой совершал богослужение; по слабости нервов он не мог выносить громогласного пения, и от того в голосе певчих было нечто заунывное. Всё было тихо и печально. Мать моя в этот день старалась укрепиться духом и в первый раз после кончины супруга нарядилась в белое платье; во время служения не проронила ни одной слезки, не испустила ни единого вздоха, но когда вместо многолетия создателю храма возгласили вечную память, она упала замертво и верно бы расшиблась, если бы не успели ее поддержать. После того была одна неожиданно-трогательная минута: когда вокруг церкви понесли икону Владимирской Божией Матери и запели ей известный тропарь: «Днесь светло красуется славнейший град Москва, яко зарю солнечную восприемше чудотворную Твою икону… Молися воплощенному Христу Богу нашему, да избавит град сей», все от первого гостя до последнего мужика в один голос зарыдали.
Грустно подумать, что в это самое время и в этой самой Москве, для нас провинциалов столь священной, находились люди без ума и без сердца, которые смотрели не только равнодушно на приближение врага, но еще радовались тому. После описанного мною, дня через два мог я в том удостовериться. В день Ивана Постного, 29-го августа, мне сказали после обеда, что из Москвы приехали два пензенских помещика, года три туда переселившиеся. То были: Савва Михайлович Мартынов и Владимир Егорович Жедринской. Последний, провинциальный франт и соблазнитель, несколько уже знаком моим читателям. Первый был в некотором с нами свойстве: отец его, Михаил Ильич, был женат на тетке моей матери, и дети от сего брака приходились ей двоюродными; будучи уже стар, вступил он в третий брак с дочерью какого-то подьячего Дрындина, и последним плодом оного был этот Савва. С ребячества был он примечателен гнусным безобразием и чрезмерным самолюбием; в первой молодости, получив первый офицерский чин и владея только ста душами, оставил он службу и начал думать о средствах заменить искусством скудость даров Фортуны. Он начал, как говорится, служить четырем королям и веровать в одного Вольтера, которого, выучившись по-французски, он одного только прочитал: можно посудить о его правилах и религиозных чувствах. Посвященный наконец во все таинства картежной игры, он приметно начал разживаться; удачно и расчётливо выставляемая им роскошь и смелая болтовня дали в Пензе большой ему вес. Но он оставил ее, ибо Москва представляла ему гораздо богатейшую добычу. Жедринской, малый простой, пошел к нему в опеку, но никогда не мог подняться до высоты его, хотя, впрочем, я гениальность Мартынова не простиралась далее обмана и фанфаронства. Оба они в Пензе щеголяли французским диалектом; у Жедринского был выговор лучше, зато Мартынов говорил бегло и безошибочно: это вероятно дало им надежду, что Наполеон, покорив Россию, назначит их, прапорщика и титулярного советника, префектами в завоеванные им провинции. Вот к каким людям побежал я за известиями, может быть, утешительными! Я нашел их в самом веселом расположении духа; на вопрос мой отвечали они мне, что оставили Москву, так сказать, почти накануне ее сдачи. «Согласитесь, — улыбаясь сказал мне Мартынов, — что смешно и безрассудно противиться великому человеку, у которого полмиллиона войска и две тысячи пятьсот □ушек» Негодование сковало мне язык; но, видно, глаза мои выразительно говорили, ибо в обоих скоро заметил я смущение и досаду. Не говоря ни слова, встал я и вышел, и долго молчание мое с ними не прерывалось. И эти люди прямо из православной, — подумал я; ну, если подобных им много там? А впрочем, что за важность: и в самих Божиих храмах, по небрежности церковнослужителей, часто разводятся крысы и всякая гадина. Однако же, их слова навели на меня неизъяснимую тоску, которая могла несколько, быть рассеяна только трудными занятиями, мне предстоявшими.
Во всякой из ополчающихся губерний учреждался комитет для принятия и хранения как от дворянства поступающих, так и другими сословиями жертвуемых сумм, для производства жалования ратникам, для обмундирования, вооружения и продовольствия их, до выступления в поход за пределы губернии; одним словом, для каждого ополчении учреждалась особая комиссариатская и провиантская вместе комиссия. Председателями сих комитетов везде были губернские предводители дворянства. Но по несогласиям пензенского Колокольцева с губернатором, сей последний выпросил у графа Толстого, чтоб от дворянства был выбран особый председатель. К 1-му сентября собралось оно для выборов на убылые места поступивших в ополчение, и так поспешно поворотило делом, что в два дня всё было кончено.
Комитет пожертвований для ополчения должен был состоять из председателя и трех членов, одного от правительства, другого от дворянства, третьего от купечества. В председатели выбран был бывший Екатерининский гвардии капитан, отставной бригадир Николай Степанович Кашкаров, человек лет около шестидесяти, родной дядя описанного мною меломана того же имени. Трудно сказать, чего более был он достоин, любви или уважения. В действиях и речах его было нечто особенно-благородное, отличающее его от других дворян. Членом избрали дворяне отставного гвардии поручика, Алексея Гавриловича Караулова, человека довольно пожилого, степенного, который слова выпускал на меру и на вес, у которого немного было идей, но довольно смыслу, чтобы по пустому не говорить. Купцы посадили в комитет торговца, не весьма богатого, доброго и толстого простака, Петра Васильевича Козицына. Не знаю, какие были толки у матери моей с князем Голицыным; но в одно утро предложили они мне место члена от правительства в сем комитете. Я принял это предложение с удовольствием и благодарностью, ибо тяжело бы мне было во всеобщем движении оставаться простым зрителем всего происходящего. Я продолжал числиться в Министерстве Финансов и в отпуску, и об этом назначении мне стоило только уведомить мое начальство. Сверх того, в наш комитет назначены были секретарем: Иван Ефимович Афанасьев, малый проворный, великий писака, и казначеем — Андрей Сергеевич Мартынов, помещик весьма достаточный, известный губернаторский и архиерейский угодник, самый добрый и откровенный из подлецов и трусов.
Заседания наши открыли мы в понедельник, 2 сентября, день также весьма памятный в этом году. Среди занятий наших мы однако же нетерпеливо ожидали прибытия почты; она пришла и привезла нам, увы, последние московские газеты. В них прочитали мы реляцию о великом Бородинском деле 24 и 26 чисел; узнали, что поле битвы осталось за нашими и… не смели радоваться. Кто победитель? Кто побежденный? Этого определительно сказано не было, и сие недоумение нас пуще тревожило. А между тем воздух охолодел, дождик лил ливмя; город был наполнен приезжими, и по грязным улицам его в этот день скакали они из дома в дом, в какой-то тоскливой суете.
Куды как всю эту неделю тяжело было у меня на сердце! К счастью, заботы по новому временному служению моему оставляли мне немного часов для грустных размышлений. Набор ратников почти уже кончился; с одной стороны требования, а с другой деньги начали поступать к нам в большом количестве; надобно было наскоро завести канцелярский порядок и счетную часть; с помощью моих добрых товарищей, в сем деле столь же неопытных как и я, всё как-то уладилось. В русской земле, когда нужда того потребует, всё должно скоро вскипеть и поспевать.
Как странно было видеть, в продолжение этой недели, что при постоянно сырой, ненастной погоде, на пензенских улицах затрудняется проезд от множества неизвестных экипажей, запачканных, забрызганных грязью, карет, колясок, колымаг и целых дорожных обозов. Мы сначала подумали, что все семейства уездных помещиков решились поселиться в губернском городе; но вскоре узнали, что то были эмигранты из Смоленской губернии, которые хотели у нас приютиться и с трудом искали квартир: за довольно большие деньги находили они себе помещения в небольших домах мелких чиновников и мещан в нижней части города.
Никто не хотел или не умел в их появлении между нами видеть одно из чудес царствования Екатерины. Древний русский город Смоленск, в несчастное время смут, Лжедимитриев и междуцарствия, сделался добычей Польши; силою оружия царь Алексей Михайлович возвратил его опять России, но в короткое время польского владычества, он до того ополячился, что еще внука сего самого Алексея Михайловича, государыня Елизавета Петровна, к кому то писала: «Как мне быть с смолянами? Я ли их не тешу? Но как видно по пословице, как волка не корми, он всё в лес глядит». Настоящей преемнице её, Екатерине Второй, которая не тешила и не угнетала их, достаточно было тридцати четырех лет, чтобы совершенно перелить их в русских, да еще в каких! Самых верных и преданных престолу и своему истинному отечеству.
Такими явили они себя в начале этой войны. Некоторые помещики сами собою вооружили дворовых людей и крестьян и составили из них небольшие партизанские отряды, которые при переходе французов тревожили их, нападали на их обозы и захватывали отсталых, и таким образом подали пример и мысль о партизанской войне и всеобщем вооружении. Один из них, доблестный Энгельгардт, попавшийся в плен, правосудным французским начальством был расстрелян. Семейства свои, после падения Смоленска, с полною доверенностью отправили они в самую глубь родной России. Сначала не могли они слишком быть довольны гостеприимством Пензы; но вскоре потом, как объясню я далее, поступлено было с ними истинно по-братски.
Приблизился, наконец, тот день, в который, лишившись последней надежды спасти наше сокровище, мы вместе с тем освободились от всякого страха: день сильного перелома, в который война совершенно превратилась в отечественную, в народную, и, для пришельцев наступило время погибели.
V
Простонародье в 1812 году. — Спасающиеся москвичи. — Пензенское гостеприимство. — Пенза в 1812 году.
В воскресенье, 8 сентября, день Рождества Богородицы, пошел я на поклонение губернатору, как будто уже моему начальнику. Я нашел его в зале, провожающего князя Четвертинского. Я худо поверил глазам своим, и у меня в них помутилось. Не будучи с ним лично знаком, много раз встречал я в Петербургских гостиных этого красавца, молодца, опасного для мужей, страшного для неприятелей, обвешанного крестами, добытыми в сражениях с французами. Я знал, что сей известный гусарский полковник, наездник, долго владевший женскими сердцами, наконец сам страстно влюбился в одну княжну Гагарину, женился на ней и сделался мирным жителем Москвы; знал также, что, по усильной просьбе графа Мамонова, он взялся сформировать его конный казачий полк. Какими судьбами он в Пензе? Что имеет он с нею общего? Оборотись к одному из братьев Голицыных и на него указывая: «что это значит?» спросил я. «Он приехал, отвечал он мне, навесил жену свою, которая теперь с матерью находится в Пензе, проездом в Саратовское имение». — «А что армия?» спросил я. — «Он видел ее на Поклонной горе, где собирались, кажется, дать последнее решительное сражение». Приезд Четвертинского мне всё сказал. Он не хочет быть дурным вестником, подумал я, и на день, на два оставляет нам еще надежду.
Целый день ходил я как шальной, избегая, елико возможно, делать вопросы. Вечером навестили меня братья Ранцовы, из коих старший был некогда моим товарищем в Министерстве Внутренних Дел; вид их показался мрачен и угрюм. Говоря о том о сем, «завтра понедельник, — сказал я, — что-то привезет нам завтрашняя почта?» — «Нет, — сказал мне младший Ранцов, — не ждите её, она уже не придет», и… объявил мне истину. Четвертинский не мог скрыть ее от губернатора, а сей скромный человек сказал ее на ухо двум или трем столь же скромным людям, так что к вечеру, кроме меня, почти весь город знал, что Москва сдана без бою.
Не помню, что было со мною в следующие дни; только кажется, что без забот комитета я сошел бы с ума. В эти горестные дни семейство наше, 11 сентября, было несколько утешено и обрадовано приездом брата моего, который на время отлучился от армии для свидания с родными. Рассказ сего достоверного очевидца в семейном кругу, сколько припомню, передаю здесь читателю.
От самого Смоленска, Курляндский драгунский полк, в коем он служил, находился в арьергарде и прикрывал отступление нашей армии, следственно ежедневно имел или сильную драку или, по крайней мере, перестрелку с неприятелем. На великом пространстве, коим проходило войско, каждый день и каждую ночь самые печальные зрелища представлялись ему. Не проходило ночи, чтобы горизонт во многих местах не был освещаем заревом окрест пылающих сел. Кто зажигал их? Неужели французы? Это было бы верх безумия: как истреблять всё по единственной линии сообщения их с Польшей и Европой? Разве только наше войско? Но пожары всегда были видны позади его, в той стороне, куда приходило неприятельское. В иных местах, может быть, отчаяние жителей предавало огню то чего не хотелось им отдать в руки нехристей, как они полагали; а в других, может-быть, причиною была неосторожность при разведении биваков. В селениях, куда приходили они днем, везде находили они крестьян или убирающих скромные свои пожитки, или уже их уложивших на возы и готовых к отъезду; всюду спрашивали они их: «скажите, батюшки, далеко ли еще злодей-то, изверг рода человеческого?» Женский пол являл сцены трогательные, раздирающие душу. Старые крестьянки, в обыкновенное время столь крикливые и сварливые, казались молчаливо-сердиты. Молодые же, в избытке чувств и горести, по-своему красноречиво выражали ее, расставаясь с родимым гнездом. «Прости, моя милая горенка; долго холила, чистила и мыла я тебя; теперь, видно, пришлось в последний раз омыть тебя только горючими слезами», приговаривали они. Бывало, что иные в этом случае падали в непритворный обморок. Особенно же брат мой не мог смотреть равнодушно на семейства сих простых людей, когда, готовясь снять со стены наследственные иконы, они с мольбою упадали ниц пред ними и потом нежно, уныло и почтительно из избы выносили с собою пенаты свои. И это, говорят, кочевой народ! Это варвары, не умеющие ничего чувствовать и понимать!
За два дня до большего Бородинского дела, 24 августа, был пролог его, который отдельно сам мог бы почитаться великим сражением. В этот день брат мой получил сильную контузию в правую ногу, так что с трудом могли снять его с лошади, положили в телегу, запряженную двумя его лошадьми, верховою и вьючною, и отправили за 10 верст в столь же известный как и маловажный городок Можайск. В сем опустелом месте раненые, коих число было еще не так велико, могли выбирать любые квартиры. 25-е число прошло для него довольно тихо, но 26-го был он пробужден таким пушечным громом, какого, не взирая на расстояние, он дотоле не слыхивал. Так продолжалось почти до вечера; тогда раздались другие, ужаснейшие звуки. Всеми ранеными, коих можно было только свезти с поля сражения, наполнился городок; в домах его ни чулана, ни чердака не осталось пустого. Но всего этого было мало: две трети сих несчастных не могли поместиться, и они тысячами страдали и умирали на улицах, коп были ими завалены. Стоны и крики слышны были всю ночь: кто тщетно просил воды, чтоб утолить его смертельную жажду, кто просил, чтоб его прикололи. Брату было не до собственных страданий и, несмотря на них, решился он на другое утро, без всякого вида, отправиться в Москву, куда и прибыл он 29 числа.
Он где-то остановился близ Дорогомиловского моста. Вообще имел он мало знакомых в Москве, а тут, с помощью слуги своего, нашел только одного, полицеймейстера полковника Адама Фомича Брокера, великого приятеля зятя нашего и любимца Растопчина. Из приязни и сострадания привез он ему медика, и сам раза по два в день навещал его. В день Александра Невского, именины Императора, приехал он к нему поздно ночью прямо из маскарада, последнего публичного увеселения в Москве, после которого нескоро должны были они возобновиться в этом всесожжению обреченном городе. Залы по обыкновению, сказывал он, были ярко освещены; но посетителями их были только с полдюжины раненых молодых офицеров, да с дюжину не весьма пристойных девиц. Через два дня в такую же пору приехал он ему сказать, что он должен поспешить выездом из Москвы, если не хочет попасться в плен к французам. В брошенных хозяевами домах находилось множество забытых ими или оставленных экипажей; в минуту, когда они должны были сделаться добычею неприятеля, всякий, кто имел в том нужду, брал их себе без всякого зазрения совести. В спасительной заботливости своей, Брокер привез брату, из числа их, одну весьма хорошую коляску, как будто никому не принадлежащую; да сверх того, вручил ему вид за подписанием графа Растопчина. Это были уже не услуги, а настоящие благодеяния.
В семь часов утра, 2 сентября, поднялся брат мой, а в восемь был уже за Покровскою заставой. Ужасом наполнилось сердце его, когда проезжал он по опустевшим бесконечным улицам Москвы, мимо высоких зданий, коих жители, казалось, все вымерли: ни лица, ни голоса человеческого. На пути из края в край обширнейшего города, встретил он всего человек семь или восемь ощипанных, оборванных, с подозрительными фигурами, которые как будто еще прятались, зловещие тени, которые быстро исчезали. Но, приближаясь к заставе, для всех уже открытой, толпы людей становились всё гуще и гуще; проехав же ее, с трудом мог он подвигаться вперед посреди плотной массы удаляющихся. Беспорядок, в котором остаток народонаселения московского спешил из неё, являл картину, единственную в своем роде, ужасную и вместе с тем несколько карикатурную. Там виден был поп, надевший одну на другую все ризы и державший в руках узел с церковною утварью, сосудами и прочим; там четвероместную, тяжелую карету тащили две лошади, тогда как в иные дрожки впряжено было пять или шесть; там в тележке, которые и поныне еще в большом употреблении между средним состоянием, сидела достаточная мещанка или купчиха, в парчовом наряде и в жемчугах, во всём, чего не успела уложить; конные, пешие валили кругом; гнали коров, овец; собаки в великом множестве следовали за всеобщим побегом, и печальный их вой, чуя горе, сливался с мычанием, с блеянием, со ржанием других животных. Шаг за шагов, в продолжении нескольких часов проехав таким образом верст пятнадцать, брат мой решился остановиться, опасаясь, что далее не найдет убежища по бесчисленности спутников. Немногие последовали его примеру; более боязливые весь день и часть ночи продолжали печальное свое шествие. Ночью сделалось почти светло: огненный столб поднялся над Москвою, когда загорелись в ней винные или водочные магазины. Как ни привык мой брат к зрелищам разрушения, ни которое так сильно его не поразило.
Проехав Коломну и Оку, многочисленное общество, с которым он должен был ехать, приметно стало уменьшаться, и он, хромой, дотащился наконец до Пензы, где был встречен и окружен попечениями близких родных и знакомых врачей. Но не долее как три или четыре недели оставался он с нами; чувствуя совершенное облегчение, он опять поспешил к знаменам, вскоре потом уже победоносным. Чтобы не забыть, скажу я здесь, что следующей зимой за эту кампанию был он, наконец, произведен в подполковники.
Город Пенза, между тем, с каждым днем становился многолюднее. Из первых приезжих, Мордвинов никуда не показывался, а Рыщевскую все бросили[159]. После смолян, из всех уездов семейства помещиков действительно начали прибывать и как будто спасаться в губернский город. В числе их можно назвать и самоё княгиню Голицыну, мать губернатора, которая к сыну на всю зиму переселилась из Зубриловки. С половины сентября стали наезжать уже московские эмигранты, а в следующем месяце, в великом множестве начали, как говорил народ, пригонять пленных. Наконец, поворотиться у нас было трудно.
Приезжие москвичи почти все были люди достаточные, владеющие в Пензенской губернии или в соседственных с нею хорошими поместьями и ни в чём не могли нуждаться. В домах, пензенскому обществу, так называемому лучшему, вовсе неизвестных, но не менее опрятных, теплых и просторных, принадлежащих купцам и некоторым чиновникам, нашли они себе удобные квартиры, и таким образом самим жителям открыли сокровенные от них богатства.
Но бедные смоляне, в таком дальнем расстоянии от имений своих, истратившие взятые с собою небольшие суммы, угрожаемы были совершенною нищетой. Тут дворянство наше в отношении к ним явило себя истинно-достойным своего имени: всякий, кто только мог, потеснился, чтобы дать у себя место хотя одному смоленскому семейству; разумеется, что для дорогих гостей стол был готовый; что овощи, картофель, репа, горох, мука, крупа для людей, а сено и овес лошадям были даровые. И это довольно накладное гостеприимство сопровождалось ласками, приветствиями, которые давали ему еще более цены. Сколько раз мать моя упрекала меня за поспешность, с которою отдал я дом наш Мордвинову. «Три семейства, потеснившись, могли бы в нем поместиться, — говорила она, — а от полутора тысяч рублей мы не разбогатеем». Однако же представился случай быть полезными смолянам. Одна госпожа Повалошвейковская выдала дочь за господина Гернгросса; не только с нею и с зятем своим, но и с его матерью и тремя сестрами, полоцкими жительницами, приехала она; трудно было такой гурьбе поместиться, и она согласилась жить в селе Симбухине, в старом господском доме нашем, где, разумеется, все провизии были к услугам её. Тут у нас на то была еще особая причина: брат этого Гернгросса был полковым командиром Митавского драгунского полка, коего генерал Алексеев был шефом, и он с женою жили в большой дружбе с сестрою моей и зятем. Но о сих последних давно уже не сказал я ни слова, как будто вовсе о них позабыв.
Не скоро могли мы получить известия из Петербурга, который был отрезан от нас неприятельскою армией; только во второй половине сентября установилось с ним регулярное сообщение чрез Ярославль, Кострому и Нижний Новгород. Письмом, полученным, наконец, по почте сим новым трактом от сестры Натальи Филиповны были мы насчет её несколько успокоены; предыдущие неизвестно куда пропадали. До свидания в Абове Государя с шведским кронпринцем войска в Финляндии оставались неподвижны; но после того велено им, двум пехотным дивизиям и одной кавалерийской бригаде, быстро двинуться в Петербург. Едва лишь успели они туда прийти, как им приказано готовиться к дальнейшему походу. Петербургское ополчение с такою неимоверною поспешностью было набрано, выучено и вооружено, что оно готово было присоединиться к прибывшему из Финляндии войску, чтобы вместе с ним выступить к Полоцку для подкрепления корпуса графа Витгенштейна. Зять мой, Алексеев, простоял недели полторы с бригадою своей в Новой Деревне, прежде занимаемой кавалергардским полком, и вместе с ополчением оставил Петербург 8-го сентября. Тогда бедная сестра на всю зиму осталась в нём одна. Не было возможности ехать к родным. Государь приказал отвести ей славную генеральскую квартиру в кавалергардских казармах, с отоплением и с освещением, а сыновей её велел принять в Пажеский корпус, и ими одними была она только утешена. Вот о чём уведомляла она нас в письме своем.
О Москве получали мы сведения самым странным образом. Когда неприятель вступил в нее, оставалось еще в ней, говорят, до двадцати тысяч жителей: одним не с чем было подняться, других, не предуведомленных, застали Французы врасплох; другие же полагали, что им нечего их бояться; а иные, питая преступные надежды, даже ожидали их с нетерпением. Но когда, на второй или на третий день по вступлении, в войске Наполеона беспорядок и своеволие возросли до такой степени, что начался дневной разбой; когда ни пищи в домах, ни одежды и обуви на улицах солдаты не оставляли несчастным жителям, тогда всякий из них, кто мог и как мог, старался спастись бегством. Помещики многих губерний, в том числе и Пензенской, посылали мальчиков в Москву и отдавали их там в ученье к мастеровым; многие из них подросли и возмужали. Они первые, как говорили они, дали тягу; вал, на великом протяжении окружающий Москву, так низок, что везде могли они легко перепрыгнуть или даже перешагнуть через него; далее лесами и болотами также не трудно было им прокрасться. Покрытые рубищем, пробирались они в родину, питаясь мирским подаянием. В Пензу один за другим пришло их несколько, и между прочим в наш дом двое, портной и сапожничий ученик. В некоторые дома призывали их для расспросов; от них узнали мы много подробностей о неистовствах, творимых врагами в падшей столице: например, об осквернении святыни, как знаменитую часовню Иверской Богоматери превратили они в нужное место; потом, как из лени и прихоти, чтобы не делать крюку, переходя через Каменный мост, заставляли они дюжих мужиков переплывать через Москву-реку, неся их на спине своей. Никого из французов столько не обвиняли они в жестокостях, как тех, кои, по словам их, хорошо умели по-русски, хотя плохо выговаривали: всякий понял, что они говорят о поляках. В продолжение сентября ежедневно сотни людей бежали из Москвы, так что из тех, кои видели не совсем торжественный въезд Наполеона, едва осталась десятая доля, чтобы быть свидетелями его ужасного выезда.
Можно себе представить, что породили во всей России рассказы людей, по всем направлениям из Москвы бежавших. Но еще до того, при получении первого известия о взятии её, показалось между русскими, особенно между дворянами, нечто страшное, давно небывалое: в них загорелась неутолимая, казалось, жажда мести. Москва перестала для них существовать; оплакав как следует родимую, они с некоторою радостью смотрели, как злодеи терзают труп её, мысленно приготовляя ей кровавые поминки и как будто предчувствуя, что не далек день мщения. Все опасались одного — мира с Наполеоном, и продолжение войны возвеличило в глазах их Александра. Дело странное, непонятное! Едва Наполеон успел войти в Москву, как внутри России все начали видеть в ней западню для него и желать, чтоб он долее в ней оставался. Надобно было видеть тогда, что при одном имени его делалось с большею частью русских: черты лица оставались неподвижны, но чело являло гнев, и уста шептали угрозы. О, вечно памятный Наполеон! Могущий, славный наш враг, гроза и жертва наша, каких чудес ты не творил! Тебе одному дано было народу бешеному, яростному в пылу сражений, но вообще беспечному, незлобивому, равнодушному, забывчивому, вдохнуть на время всю спокойную, неистощимую корсиканскую твою злость.
За то что может сравниться с добрым согласием, которое с самого начала войны, как сказал я выше, стало водворяться между всеми состояниями? С силою веры в Промысел Всевышнего, их оживлявшей, не слабевшей, а беспрестанно возраставшей с несчастными событиями, которые другой народ ввергли бы в отчаяние? Прекратились все ссоры, все неудовольствия; составилось общее братство молящееся и отважное. Время быстро протекшее! Время вместе ужасное и блаженное, когда, возлюбив друг друга, едиными устами и единым сердцем не переставали мы призывать великое имя Его, нашего Бога и Спасителя! Кто видел ото время, тот по гроб его не забудет.
Всю осень, по крайней мере у нас в Пензе, в самых мелочах старались выказывать патриотизм. Дамы отказались от французского языка. Пожертвование жестокое! А вышло на поверку, что по-русски говорить им легче, что на нашем языке изъясняются они лучше, и что он весьма способен к употреблению в гостиных. Многие из них, почти все, оделись в сарафаны, надели кокошники и повязки; поглядевшись в зеркало, нашли, что наряд сей к ним очень пристал и нескоро с ним расстались. Что касается до нас, мужчин, то, во-первых, члены комитета, в коем я находился, яко принадлежащие некоторым образом к ополчению, получили право, подобно ему, одеться в серые кафтаны и привесить себе саблю; одних эполет им дано не было. Губернатор не мог упустить случая пощеголять новым костюмом: он нарядился, не знаю с чьего дозволения, также в казацкое платье, только тёмно-зеленого цвета с светло-зеленою выпушкой. Из губернских чиновников и дворян все те, которые желали ему угодить, последовали его примеру. Слуг своих одел он также по-казацки, и двое из них, вооруженные пиками, ездили верхом перед его каретою.
В столь смутное время, где было собираться большому обществу? Кому была охота делать званые вечера? Однако же туземные и приезжие, на столь небольшом пространстве скопившиеся, скоро ознакомились, и чтобы разделить горе свое, а иногда и забыть о нём, часто запросто навещали друг друга и ездили из дома в дом; и оттого везде можно было найти толпы людей. Московские… как бы назвать их? из учтивости, par courtoisie (как сыновей английских пэров именуют лордами) назову их аристократы, держали себя несколько поодаль, неохотно искали знакомств и всё более лепились около князя-губернатора и его семейства; однако же, при встречах со всеми были вежливы и ласковы без притворства. Примечательных лиц между ими не было; и всё-таки тех, коих не забыл, долгом считаю здесь представить. Об аристократии же, которую и я сам признавал за настоящую, которая никого не чуждалась, всех искала привязать в себе, буду говорить после.
Был у нас некто Андрей Михайлович Рябинин, сын вице-адмирала, действительный камергер, который очень хорошо говорил по-французски, имел достаток и был женат на княжне Шаховской. Из всех условий сих, с точностью выполненных, легко ему было состряпать себе русскую знатность, и он пользовался всеми правами её бесспорно и самодовольно, даже в самой Москве. Супруга его, совсем не миловидная, еще более его, казалось, дорожила сими законно приобретенными правами.
Другое семейство у нас, именем в аристократии более принадлежащее, были Шереметевы. Оно состояло из Сергея Васильевича[160], отставного коллежского асессора, самого доброго и простого человека, из матери его, из жены его Варвары Петровны, столь же доброй и нельзя сказать гениальной женщины, которая некогда, под фамильным именем девицы Алмазовой, сияла красотой, и наконец из сестры его, Катерины Васильевны, которой природа отказала в красоте и щедро наградила необыкновенно — приятным неувядаемым умом.
К этой, тогда кочующей, аристократии принадлежал, кто бы подумал? Доктор Скюдери, не потому, что он был искусный врач, не потому, что он был весьма хороший и любезный человек, а потому, что он ездил во все первые московские дома и женился на русской девице Храповицкой, которая с сими домами была в каком-то дальнем родстве.
Ни из одних Москвы и Смоленска были у нас эмигранты: из отдаленнейшего края, из Литвы, из Гродненской губернии, прибыла в Пензу вдовствующая княгиня Четвертинская. Она помнила мученическую смерть мужа своего, убитого Варшавскою чернью за настоящую или мнимую любовь к России; помнила отеческую нежность Суворова к её семейству, несчетные благодеяния, коими оное осыпала Екатерина. Не говоря уже о поместьях ему дарованных, две несовершеннолетние падчерицы её сделаны были фрейлинами, а малолетний пасынок и два младенца-сына пожалованы прямо офицерами гвардии. Всё это были преступления в глазах поляков, и она могла страшиться их мести; к тому же, вероятно, она помнила еще Священные обязанности, налагаемые благодарностью, и сыновей своих, не поступивших еще на службу, хотя весьма уже взрослых, преданных душою врагам России, не хотела допустить присоединиться к ним. Для того, сама не зная куда, решилась ехать внутрь государства. Где-то узнала она, что родная сестра её Рыщевская, сослана в Пензу, и туда направила путь. Тут нашла она не ее одну, но еще и пасынка своего, о коем упомянул я в самом начале сей главы. Для молодых людей, сыновей её (одного белокурого, другого черного) Константина и Густава, тетка и брат были в Пензе Ариманом и Оромзадом, с двух сторон их влекшими к добру и злу; но Ариман-Рыщевская натурально взяла верх. От меня так и несло русским духом, и они с польским чутьем своим тотчас почувствовали отвращение от меня; я же возненавидел их с первого взгляда. Совсем противное сему чувство внушил мне к себе старший, родной, но не единоутробный брат их.
Род князей Четвертинских происходит от русских государей, от Святого Владимира и от правнука его Святополка, князя Черниговского. Потомство последнего, а их предки, имели уделы в Волыни и сделались подвластны Литве, когда, в несчастное для России время, этот край отделился от неё. Потом, подобно единокровным князьям внутри России, размножаясь, они беднели. При польском правительстве они ни разбогатеть, ни высоко подняться не могли: ибо ни один из княжеских родов в Западной России столь долго не стоял за веру отцов своих, столь упорно не боролся с насилиями и прельщениями иезуитов, так что еще при Петре Великом, Гедеон, князь Четвертинский, был православным митрополитом в Киеве: наконец, и они, и уже верно самые последние, впали в католицизм и возвысились в почестях. Кто знает? Для самолюбия их было лестно вспомнить, что предки их восседали некогда на престоле, сделавшемся столь блистательным, и оттого-то, может, в разных ветвях сего рода встречались люди, увлекаемые чувством любви к истинному своему отечеству. Не был ли в числе их и князь Антоний, заплативший жизнью за подозреваемое в нём чувство сие? Не низкая доля ожидала семейство его в России.
Старшая дочь его, Жанета, оставалась долго безбрачною. Привязанность к ней цесаревича Константина Павловича до того простиралась, что хотя он был уже женат, хотел он развестись со своею Анною Федоровною, чтобы на ней жениться. Вдовствующая Императрица всеми силами противилась сему союзу, и напрасно: ибо этот брак был бы в тысячу раз приличнее, чем тот, в который он после вступил. Блестящие партии представлялись для этой княжны, но с честолюбивыми своими надеждами она отвергала их.
Меньшая дочь, в самой нежной молодости, выдана была за Димитрия Львовича Нарышкина. Родство с царствующим домом, высокие первые должности при дворе, пятью поколениями постоянно, беспрерывно занимаемые, и великое богатство между ними в целости сохранившееся, составили бы везде действительную знатность, а у нас могла она почитаться дивною. Такими преимуществами пользовалась эта отрасль Нарышкиных, и вот начало поприща, на кое вступила сия молодая женщина. Кому в России неизвестно имя Марьи Антоновны? Я помню, как, в первый год пребывания моего в Петербурге, разиня рот стоял я перед её ложей и преглупым образом дивился её красоте, до того совершенной, что она казалась неестественною, невозможною; скажу только одно: в Петербурге, тогда изобиловавшем красавицами, она была гораздо лучше всех. О взаимной любви её с императором Александром я не позволил бы себе говорить, если бы для кого нибудь она оставалась тайной; но эта связь не имела ничего похожего с теми, кои обыкновенно бывают у других венценосцев с подданными. Молодая чета, одних лет, равной красоты покорилась могуществу всесильной любви, предалась страсти своей, хотя и с опасением общего порицания. Но кто мог устоять против пленительного Александра, не царя, а юноши? Кто бы не влюбился в Марью Антоновну, хотя бы она была и горничная? Честолюбие, властолюбие, подлая корысть были тут дело постороннее. Госпожа Нарышкина рождением, именем, саном, богатством высоко стояла в обществе; никакие новые, высокие титла, несметные сокровища или наружные блестящие знаки отличия не обесславили её привязанности.
Славное житье было тогда меньшому их брату, князю Борису Антоновичу, молоденькому полковнику, милому, доброму, отважному, живому, веселому, писаному, как говорится, красавчику. В старости сохраняем мы часто привычки молодости; а в молодости всегда остается у нас много ребяческого. Так и Четвертинский, служивший в Преображенском полку, всё бредил одним гусарским мундиром и легко-кавалерийскою службой, пока желания его наконец не исполнились, и его перевели в гусары. В любимом мундире делал он кампании против французов и дрался с той храбростью, с какою дерутся только поляки да русские. Во время мира, пресыщенный наслаждениями, дарами Марса и Амура, он начинал уже скучать жизнью, как вдруг настоящая любовь опять оживила его; скоро сделалась она законною, и он с молодою женою поселился в Москве.
Тут опять настигла его война среди первоначальных восторгов счастливого супружества; он однако же не отказался сослужить еще службу России; но как полк, над коим принял он начальство, пошел в Ярославль и не прежде следующей весны мог быть сформирован, то и предпочел он ехать отыскивать отправленную им жену туда, где он ее настигнет. Между тем военные обстоятельства приняли для нас благоприятный оборот, и защищать Россию уже было нечего; тогда, махнув рукой славе и почестям, сказал он себе: «j’aime mieux ma mie, о gué!» и на время остался у нас.
Молодая княгиня Четвертинская была из тех женщин, коих стоит любить. Не знаю, как сказать мне о её наружности? Если прямой, гибкий стан, правильные черты лица, большие глаза, приятнейшая улыбка и матовая, прозрачная белизна неполированного мрамора, суть условия красоты, то она ее имела. С особами обоего пола была она равно приветлива и обходительна. Ее звали Надежда Федоровна; но для мужчин на челе этой Надежды была всегда надпись Дантова ада: «оставь надежду навсегда»[161]. Кто кого более любил, муж или жена? Право сказать не могу.
Она приехала в Пензу с матерью своею. Сия последняя была столь долго в Москве известная Прасковья Юрьевна, урожденная княжна Трубецкая, родная племянница фельдмаршала Румянцева-Задунайского, в первом замужестве за полковником князем Федором Сергеевичем Гагариным. Странная встреча случаев! Отец княгини Четвертинской погиб, быв умерщвлен в 1794 году, во время варшавского возмущения, почти в один день с отцом мужа её. Неутешная молодая вдова, мать нескольких малолетних детей, взята была в плен и в темнице родила меньшую дочь, как где-то сказал я; вместе с другими была она освобождена Суворовым после взятия Праги. Долго отвергала она всякие утешения, в серьге носила землю с могилы мужа своего; но вместе с твердостью имела она необычайные, можно сказать, невиданные живость и веселость характера; раз предавшись удовольствиям света, она не переставала им следовать.
Она жила в Москве, в странном городе, где на всё смотрят, всему подражают, всё делают в преувеличенном виде. Правнуки степенных княгинь и боярынь, редко покидавших свои терема, пользовались в нём совершенною свободой, смею даже прибавить излишнею. Сбросив иго старинных предрассудков, они часто не хотели повиноваться и законам приличия. Тридцать или сорок лет спустя, родился коммунизм, и показались львицы; но тогда никто ни мог иметь об них понятия; однако же название бойких московских дам и барышень и тогда вселило страх и уважение в провинциалках, не смевших им подражать. Смотря беспристрастно, я нахожу, что нравы были дурны, но не испорчены; я полагаю, судя по холодности русских женщин, что греха было мало, или и вовсе его не было, но соблазна много. Худо было то в этом жестоком и снисходительном городе, что клевета или злословие не оставляли без внимания ни одной женщины. И всё это делалось (и делается) без всякого дурного умысла; все эти примечания, выдумки совсем не были камнями, коими бы хотели бросать в грешниц; ибо каждый знал, что он сам может быть ими закидан. Радуясь чужому падению, казалось, говорили: нашего полку прибыло. Чтобы сохранить чистое имя, должны были женщины приниматься за pruderie, что иначе не умею я перевести, как словом жеманство. Их число было немалое, но их не терпели и над ними смеялись, тогда как торжество и победы ожидали истинно или мнимо-виновных. Беда вся оттого, что в Москве не было регулятора — двора и тех бдительных полицмейстеров в юбках, которые в других столицах наблюдают за порядком в гостиных большего света. Прасковья Юрьевна, которая всему охотно смеялась, особенно вранью, никак не хотела рассердиться за то, что про нее распускали.
Но время шло, дети росли, и когда она совсем почти начинала терять свои прелести, явился обожатель. То был Петр Александрович Кологривов, отставной полковник, служивший при Павле в кавалергардском полку. Утверждают, что он был в нее без памяти влюблен. Où l’amour va-t-il se nieher? Любовь, куда тебя занесло? хотелось бы сказать. А между тем оно было так: надобно было иметь необыкновенную привлекательность, чтобы в утробе этого человека расшевелить нечто нежное, пламенное. Дотоле и после ничего подобного нельзя было в нём найти. В душе его, в уме, равно как и в теле, всё было аляповато и неотесано. Я не знавал человека более его лишенного чувства, называемого такт: он без намерения делал грубости, шутил обидно и говорил невпопад. Любовь таких людей бывает обыкновенно настойчива, докучлива, неотвязчива. Во Франции, говорят, какая-то дама, чтобы отвязаться от преследований влюбленного, вышла за него; в России это не водится, и Прасковья Юрьевна не без причины согласилась отдать ему свою руку. Как все знатные у нас, не одни женщины, но и мужчины, не думала она о хозяйственных делах своих, которые пришли в совершенное расстройство. Она до безумия любила детей своих; мальчики вступали в тот возраст, в который по тогдашнему обычаю надобно было готовить их на службу, девочки с каждым годом милее расцветали. Как для них не пожертвовать собою? Как не дать им защитника, опекуна и опору? Вообще же женщины любят любовь, и не так как мы, видя ее к себе в существах даже им противных, не могут отказать им в участии и сострадании; а там, поглядишь, они уже и разделяют ее. Кологривов имел весьма богатое состояние, да сверх того, несмотря на военное звание свое, был великий хлопотун и делец.
На полдороге, между Пензой и Зубриловкой, было у него обширное поместье, село Мещерское, на три версты растянутое. Туда пробираясь, остановился он на всю зиму в Пензе с семейством, то есть с женою и с двумя падчерицами, княжнами Софью и Любовью; с ними вместе жили и Четвертинские.
Я написал почти историю этого дома, оттого, что он сделался моею отрадой: бывало погрустят о Москве, а там и примутся за хохот, за растабары, и нечувствительным образом забудешься и, хотя на время, уймется сердечная тоска.
Польско-французская компания, несмотря на родство, очень редко тут показывалась: сборным местом её был дом госпожи Рыщевской. Прибытием в октябре пленных французских офицеров сделалось в нём большое приращение, но не умножились приятности и достоинство его. Все эти господа были в поношенном, а местами истертом и изорванном платье; беде этой помочь легко, лишь были бы деньги, а Рыщевская не жалела их, чтобы обмундировать любезных французов. Но манеры их и казарменные речи поправить она не могла; все они от сохи перешли прямо к ружью и шпаге, воспитаны были в лагере и не могли произнести ни одного слова, не сопровождая его слишком энергическими, непристойными терминами, так что сама Рыщевская, кажется, принуждена была, наконец, отказаться от их посещений.
VI
Уход французов из России. — Бал у князя Г. С. Голицына. — Основание «Сына Отечества». — Березина. — Библейское Общество. — Князь Кутузов.
Наступила глухая осень. Желание русских исполнялось: Наполеон не трогался с места; казалось, его взяло какое-то раздумье. Мы не могли знать причин его нерешимости, да, лучше сказать, и ничего не знали о том, что происходит в армии. Известия о ней, печатаемые в петербургских газетах, которых никто прежде у нас не получал, делая великий объезд, приходили к нам весьма поздно. Мы знали только, что в селении Леташевке, на Калужской дороге, находится главная квартира новопожалованного фельдмаршала Кутузова. Надежда, между тем, закралась и ко мне в сердце и с каждым даем более возрастала. Про себя проходя мысленно историю чудного града Москвы, вспоминал я, вычитывал все татарские, литовские и польские нашествия, которые, разрушая ее, об нее сокрушались. Сходство между настоящим и давнопрошедшими событиями становилось очевидно, когда непобедимые воины бродили голодными стаями по опустошенным окрестностям обгоревшей столицы и всегда почти делались жертвами неустрашимости даже попов и деревенских баб. Как было твердо не уповать на помощь небесную!
О первом настоящем успехе нашего войска узнал я первый, и пресмешным образом. Был некто майор Францов, обрусевший поляк немецкого происхождения, который, всю жизнь прослужив в гарнизонных полках, сделался наконец командиром Пензенской штатной роты, и на этом покойном месте надеялся окончить век. Но в 1811 году роты сии были взяты из-под начальства губернаторов и послужили основанием составлявшегося тогда корпуса внутренней стражи; и бедный Францов, здоровый еще телом, но вечный инвалид умом, надев эполеты, должен был опять приняться за фронт. Замечателен был он также великим неведением своим и, кажется, был не из храброго десятка: когда в 1812 году потребовали и внутреннюю стражу, и она стала в ряды сражающихся, не знаю как Францов умел это делать, только беспрестанно, не вдаваясь в опасности, отводил и приводил он какие-то команды и рекрутские партии. Не помню, 16 или 17 октября сказали мне, что он приехал из Рязанской губернии; я скорее к нему, и он встретил меня радостною вестью о поражении французов, о котором достоверно слышал он в Рязани, с Да где это было? и кто командовал?» спросил я его. «Да кому же? Наш генерал-майор Русанов». Это был окружной генерал внутренней стражи и его начальник, и он выше его никого в армии не полагал. «Да это просто вздор; охота же мне слушать дурака!» с досадою подумал я. Не менее того, в тот же вечер не утерпел я, чтобы не объявить о пустой вести некоторым знакомым; одни смеялись, а другие, хватаясь за всё что льстило их надеждам, находили, что тут может быть и правда. На другой же день всех взяло тревожное любопытство: стали разведывать, сторожить всякого приезжего, какого бы звания он ни был, расспрашивать его, и дня через два узнали, наконец, что Францов не совсем соврал и что, действительно, не Русанов, а Бенигсен, 6-го числа при Тарутине, одержал великую победу над Мюратом. Это было только прелюдием других, еще более важных, более радостных известий.
Домоправители, приказчики оставленных в Москве господских домов, из неё бежавшие, жили однако же не очень вдалеке от неё. Другие, из усердия, чтобы спасти господское добро, не покидали её и претерпевали все мучения и нужды, коим подвергнута была горсть оставшихся в ней жителей; некоторым из них удавалось разжалобить полковников и офицеров, и под их защитою сберегать имущество, их хранению вверенное. Первые кинулись в Москву, коль скоро узнали только, что она очищена от неприятеля; те и другие, приведя в известность сколько чего погибло и что сохранилось, поспешили с нарочно-посланными отправить донесения свои к владельцам в места их пребывания. Один из сих посланных, первый прискакал в Пензу к Кологривову, рано поутру, 22-го числа, в день Казанской Божией Матери.
Можно себе представить чувство радости и печали вместе, при получении сопровождаемого подробностями привезенного им известия. Церкви в этот день наполнены были народом, и благодарственным молебнам не было конца. Нашим москвичам посчастливилось: почти у всех уцелели дома; некоторые были деревянные, а пламя, которое вокруг всё пожирало, как будто с осторожностью обошло их. Этого мало: в иные снесены были, среди всеобщего разгрома, захваченные дорогие вещи, картины, зеркала, бронзы, целые библиотеки книг, которые французы, при великой поспешности, с какою выходили, увезти с собою не имели средств. Разбирать, кому вещи эти принадлежали прежде, не было возможности, и они остались собственностью тех, к кому попали.
Прощание Наполеона с Москвою было жестокое, варварское; одни только Вандалы, без всякой нужды, любили истреблять памятники древности. Всякого рода славы хотелось этому человеку, даже — Эрострата и Омара. Он задумал внутренность холма, на коем поставлен Кремль, начинить тысячами центнеров пороха, дабы в одно мгновение, знаменующее его отбытие, разрушить создание веков; в бешенстве неудач ему так и хотелось вырвать самое сердце России. Но Бог не попустил: целые водопады, по сказаниям самих французов, низринулись с неба на землю, чтобы в утробе её затушить адский огонь. Угол Арсенала, часть стены и Никольской башни взлетели только на воздух; но, о чудо новое, не только икона на башне висящая, даже стекло ее покрывающее остались невредимы. Велик ли был в эти дни великий Наполеон, когда в действиях своих являл одну только злость бессилия? Пусть о том посудят нынешние его почитатели. Он еще не пал тогда, и здесь еще не место выговорить последнее слово беспристрастного суждения моего о нём.
Но куда он направит теперь разрушительный свой ход? Куда он пойдет? Он пошел, куда повела его рука Божия. Она под Малым Ярославцем заслонила ему дорогу во внутренние области, в изобильную и теплую Украину, и насильно поворотила его на тот самый путь, где, незадолго перед тем, земля стонала под шагами шестисот тысячной его армии, где от приближения её всё гибло, всё превращалось в пепел, где, слепое орудие Провидения, он сам себе готовил гибель. Когда с неописанною радостью узнали у нас о том, то все вскрикнули: «ну, теперь ему конец!?» «Нет, еще не совсем? — ответ был свыше, — но он уже недалек».
От добрых вестей, одна за другою быстро следовавших, не вдруг мы опомнились; но когда, в начале ноября, мрачные тучи совсем закрыли от нас небо, и снег покрыл вдруг всю землю, когда зима, с своими ужасами, прежде обыкновенного времени к нам поспешила, нам показалось тогда, что горизонт совершенно прояснился. По мере удаления Наполеона, угрюмость стала исчезать с лиц наших, морщины — со лбов; но увы, как будто понемногу начал слабеть и энтузиазм моих соотечественников. Таков-то еще народ русский в своей незрелости, от барина до мужика: беда проходит, беда едва прошла, а ее как будто бы уже никогда и не бывало.
В день именин моих, 14 ноября, получил я прекрасный подарок: мне принесли первый номер вновь выходящей московской газеты, и я нашел в ней подробности как о расстройстве, о всех беспорядках быстрого побега Наполеоновой армии, так и о столь же быстром преследовании её самим Кутузовым, о новых подвигах прославившихся в эту войну партизан: Давыдова, Сеславина, Фигнера; о летучих стаях казацких, которые со всех сторон теребили бегущих, пока не уступили их хищным зверям и птицам, псам и коршунам. Казалось дело конченным, и погибель врагов наших неизбежною.
Еще более утвердились мы в этом мнении, когда 22 числа получили мы известие о деле, бывшем 4-го под Красным. Ужасный северный ветер, как гнев Божий, внезапно настиг еще многочисленные толпы несчастных, полуодетых, полуобутых. Одни, еще согретые мужеством, отстреливались; другие, не в силах владеть оружием, роняли его из окоченелых рук и тысячами сдавались. Небо явно споспешествовало нам: стихии сделались нашими союзницами; от проливного дождя, спасшего древний Кремль, до жестокого мороза, близ Смоленска истребившего бо́льшую, лучшую часть неприятельской армии, едва прошло три недели.
Всё оживилось, всё радостно зашумело у нас. В злобе еще не совсем угасшей, никто из нас не подумал пожалеть о тысячах несчастных жертв, насильно против нас привлеченных; во всех них видели мы еще лютых зверей, в погоне за коими ни единого Кутузов не должен был пощадить.
Губернатору Голицыну давно уже хотелось поплясать; но в обстоятельствах, в которых находилась тогда Россия, бал мог бы почесться верхом неприличия. Тут показалось ему, что все находятся в одинаковом с ним расположении, и он всех, туземных и приезжих, поспешил пригласить на большую вечеринку в день именин жены своей, 24 ноября. Губернаторский дом довольно велик, а в комнатах его едва продраться было возможно. Веселее и забавнее этого бала я не видал: он был вместе и раут, и маскарад без масок. Многие из мужчин, находя, что на именинный вечер к губернаторше, к княгине, приехать не в гражданском мундире будет слишком непочтительно, явились в нём при шпагах; другие дерзнули облечься опять во вражий костюм, во фраки, и сам хозяин в этом случае послужил им примером (казачий кафтан успел уже ему надоесть); ополченные, затянутые, с эполетами и саблями, имели довольно воинственный вид; другие же, в том числе и я, в широких серых или зеленых зипунах казались несколько мужиковаты. Еще более пестроты являлось между прекрасным полом: большая половина дам была красивее в сарафанах и повязках; другие же, по склонности к перемене, нарядились по последней известной им моде; пожилая полька Рыщевская была в чалме и казалась бунтующим турецким пашою. Эмигрантки одеты были слишком скромно; однако же заметно было, что смолянки, по недостатку в деньгах и в модных торговках, надели довольно поношенное простое платье, тогда как гордые московки для пензенского общества не захотели позаботиться о туалете. Но кто бы в каком наряде ни был, внимание мало обращалось на то: угощение, освещение были славные, и все плавали в удовольствии, в веселии.
Праздник этот был только сигналом других увеселений, продолжавшихся во всю зиму; Голицыну удалось заманить в Пензу и остановить в ней два богатых, увеселительных семейства, которые некоторым образом как будто одно из себя составляли; об одном из них упомянул я мельком.
Две сестры, девицы Машковы, Ольга и Елизавета Александровны, были выданы замуж, одна за Николая Андреевича Арапова, другая за некоего г. Улыбышева. О первой я уже говорил, когда попал к ней в деревню в то самое время, как получено было известие о свидании Наполеона с Александром в Тильзите. Она имела рост высокий, осанку важную, тело обширное и ошибалась, почитая столь же обширным и ум свой. Муж её был старинный дворянин, богатеющий откупами, к тому же знаменитейший гастроном, и что почти всегда с тем неразлучно и сам искуснейший повар во всей нашей околодке. С большим состоянием супруги скорбели о том, что не имеют детей, то есть не могут сохранить их. Уже четырнадцать душ Ольга Александровна народила Николаю Андреевичу, и ни единого живого детища у них не оставалось, как вдруг употребила она с великою пользою одно указанное ей средство: велела пригласить первого встречного быть восприемником новорожденного ею пятнадцатого младенца, и по его имени назвали его Пименом[162]. Первый шаг только труден; все последующие затем семь или восемь человек детей обоего пола остались живы и здравы, крепки и толсты. В 1812 году истощилось уже плодородие г-жи Араповой; но она всё казалась еще беременною и, подобно Mère Gigogne, бывало того и гляди, что из кармана выскочит у неё ребенок.
Другая сестра, Елизавета Александровна, нисколько на нее не походила. Она была коротенькая, полненькая, смугленькая, картавая бабочка, исполненная живости и приятного ума. Сильные страсти обуревали жизнь её. Девочкой выдали ее за глупого и пьяного Улыбышева, который, следуя древнему русскому обычаю, только между нетрезвыми сохранившемуся, иногда ее бивал; и без того был он ей давно уже противен. Тогда вице-губернатором в Пензе был поэт князь Иван Михайлович Долгоруков, прозванный Балконом по нижней челюсти необычайной величины, выдвигающей в виде сего архитектурного прибавления столь же большую губу. Это безобразие не помешало Улыбышевой влюбиться в него. Давно замечено уже, что одни женщины способны пленяться красотами душевными или умственными предпочтительно наружным. Ревнивый муж, вооружась многовесной дубиной, дождался соперника своего у подъезда, при выходе из присутствия, и с таким бешенством внезапно напал на него, что едва за бесчестие свое не заставил заплатить его жизнью под сильными ударами палки, если бы не подоспела помощь. Изувеченный Долгоруков стал обвинять его в замышляемом смертоубийстве; а тот в оправдание свое представил все любовные письма жены своей, которые посредством подкупа умел он достать. Из этого возник длинный, ужасный уголовный процесс, прекратившийся уже в Сенате смертью, постигшею обвиняемого Улыбышева. Письма поныне находятся при деле, и не так давно с великим удовольствием имел я случай читать их в подлиннике. Нельзя не подивиться странным, новым, оригинальным оборотам и выражениям, которые сила чувства внушила страстной женщине на русском языке, на котором особы её пола тогда порядочно писать не умели. Родственники тщетно старались истребить сии любопытные документы; а по моему их следовало бы напечатать без имени. Предание еще было живо, когда я узнал ее, и оттого казалась она мне еще милее.
Если Елизавета Александровна не была примером верности супружеской, за то могла служить образцом материнской нежности к единственной дочери, которую имела от ненавистного мужа и которая, право, этого не заслуживала. По соседству с удалившейся от света Улыбышевой жили в чудесном согласии два брата Хрущовы, Из которых у каждого было по тысяче душ крестьян. Старший Петр Петрович был красив и виден собою; другой же Александр Петрович, хотя и гораздо моложе его, наружностью похвастать не мог. Старший чрезвычайно понравился еще нестарой матери, меньшего полюбила семнадцатилетняя дочь. Как быть в этом случае? В столь близком родстве два брака могли быть дозволены только всемогущему Наполеону среди не совсем еще христианской Франции. Обязанностями религии Улыбышева пожертвовала обязанностям матери: дозволила дочери своей вступить в законный брак с меньшим Хрущовым; а сама всю жизнь осталась в незаконной связи с старшим. Доброе согласие от времени всё более умножалось между сими двумя четами; они не покидали деревни, и четыре имения, скопившиеся так сказать в одних руках, дали им возможность посредством бережливости, винокурен и откупов в несколько лет удвоить состояние свое. Зависть стала приписывать их успехи деланию фальшивых ассигнаций; но одни только бессовестные усиливались верить этой глупой клевете. Всё было хорошо, богато и пристойно в доме сем, кроме молодой хозяйки. К несчастью матери, она вся была в отца: имела грубые манеры простой крестьянки и что еще хуже того, от скуки ли посреди однообразия деревенской жизни или по наследственной, врожденной к тому склонности, спозаранку начала она явно придерживаться хмельного. Пить и родить, вот всё что Агафья Ивановна умела делать в жизни сей и в сем последнем занятии, кажется, перещеголяла даже тетку свою Арапову.
Не должен ли я просить извинения у читателя в том, что позволил себе представить здесь, может быть и не у места, сии два семейства, совсем не из исторических лиц состоящие, и в описание грозного 1812 года вклеить эпизодом незанимательную повесть о них. Но от воспоминаний сего года я никак не могу отодрать их; ибо они стоят на самом рубеже, отделяющем мрачное, гневное отчаяние наше от безумных удовольствий, которыми как будто хотели истребить мы память о горе, только что минувшем. Во всю зиму, еженедельно раз у Голицына, раз у Арапова и два раза у Хрущовых плясала вся Пенза со всеми невольно ее посетившими. Большую роль на сих балах играла одна московская старая девка и франтиха, Наталья Павловна Машкова. С отцовской стороны была она двоюродная сестра Араповой и Улыбышевой, которые оказывали ей знаки глубочайшего уважения по той причине, что с материнской стороны была она также двоюродная сестра кн. Ивана Сергеевича Барятинского, женатого на Гольштинской принцессе. Позорная хроника московская, никак не осуждая её, утверждала, будто родственные связи с князем сим скрепляла она другими приятнейшими узами. Не оттого ли почитала она себя знатною и с таким пренебрежением говорила не только о провинциалах, даже о москвичах, не принадлежавших к её обществу? Мы было сначала подружились с ней, и она любила рассказывать мне о блестящей ампирее, в которой жила; но как я провел молодость в Петербурге, оттого что-то плохо веровал в преимущества московского бомонда, едва признавал его существование и не сумел этого скрыть от неё, то она совсем во мне охолодела.
Итак, при свете ламп и люстр приметно начинал гаснуть огонь патриотического энтузиазма нашего. А, кажется, было чем питать в нас сие священное пламя! Неприятель хотя и бежал опрометью, но еще не выбежал за пределы Российского государства. В Петербурге, верном подражателе всего европейского, придумано было новое, дотоле не употребляемое средство к возбуждению народа против врагов. У англичан переняли обычай рисовать и печатать карикатуры на Наполеона и стали кипами рассылать их по всей России. Там вприсядку пляшет Наполеон под русскую дудку, там голодные воины его варят вороний суп. Некто Теребенев прославился в этом деле и в это время. Русские от души начали смеяться; тем хуже: с их незлобием и врожденным великодушием, смех почти всегда обезоруживает их.
Другое средство внушено было немцами, тогда только Искренними, верными, преданными нам союзниками. Никто у нас не умел или, лучше сказать, не смел отважно и основательно писать о политических делах. Газеты, издаваемые от правительства или от правительственных мест, рассказывали о происшествиях, не позволяя себе никаких суждений: не только о друге Наполеоне, даже о злодее Бонапарте говорили с некоторою почтительностью и робостью. Самые так называемые литературные журналы наши почти не выходили из пределов словесности, а когда изредка случалось им коснуться до происходящего в Европе, тотчас окрашивались они каким-то официальным колоритом. В 1812 году, два человека спаслись к нам от гонений мучителя Германии: знаменитый государственный муж барон Штейн и столь же известный профессор и писатель Арндт. Оба была политические вольнодумцы и прибегли под крыло либерального деспота. Надобно полагать, что первый из них склонил Александра употребить магическое слово вольность, дабы все европейские народы воззвать к оружию против насильственной французской власти. Предложение не могло быть отвергнуто: оно тешило любимую мысль Царя нашего, забаву ума его. Совет был недурен, и средство казалось верным; жаль только, что не подумано было о последствиях в случае победы, которая всё еще казалась не совсем вероятною: возбуждать легко, унимать трудно. Как бы то ни было, ученые и восторженные немцы нашли, что наступило уже время откровенно говорить с просвещенною частью жителей и, чтобы взволновать до дна океан народов, населяющих Россию, необходимо приступить немедленно к изданию политического журнала. Дело уже и без того было сделано, и Шишковым дурно написанного манифеста в Полоцке было на то достаточно. Но где вдруг найдешь материалы? Портфели Арндта наполнены были неизданными проклятиями на Наполеона, а между немцами как не найти трудолюбивого переводчика? Немец Греч избран был издателем, и еженедельно стал появляться Сын Отечества. Кажется, это было около половины ноября; ибо в начале декабря уже читал я с жадностью жиденькие книжки его, исполненные выразительных, даже бешеных статей. Были люди, которые находили, что это после ужина горчица, только не те, которые пылали бескорыстною любовью к отечеству, дорожили его честью и надеялись видеть совершенное торжество его. Для справедливого негодования их журнал сей был пищей.
Судьба Наполеона, казалось, решена. Все только рассчитывали пространство, по коему оставалось ему бежать, и с нетерпеливым любопытством ожидали, как зрелища, решительную его гибель. Странно и непонятно! Без всякого знания местностей, еще прежде чем достиг он Березины, народный глас уже избрал берега её местом его казни. Молдавская армия в соединении с резервною, под предводительством Чичагова, шла с Юга к нему навстречу; большая армия сначала шла по пятам его, но, утомленная беспрерывною погоней за ним, начинала отставать; при первой же остановке его всегда могла его настигнуть. С правой стороны шибко приближался к нему Витгенштейн, победитель трех маршалов, Макдональда, Удино и Виктора, с корпусом усиленным петербургским ополчением и войсками из Финляндии выведенными[163].
Ужасами переправы через знаменитую с тех пор Березину не могла быть удовлетворена в нас жажда мести: нам подавай самого Наполеона, а он ускользнул. И теперь еще не знаю, обвинять ли следует Чичагова или оправдывать его? Нельзя изобразить общего на него негодования: все состояния подозревали его в измене, снисходительнейшие кляли его неискусство, и Крылов написал басню о пирожнике, который берется шить сапоги, то есть, о моряке начальствующем над сухопутным войском. От воинов, беспристрастных очевидцев и сведущих в этом деле судей, гораздо после слышал я, что Чичагов невзначай оказал тут великую услугу России. Он не пошел туда, где мог бы остановить Наполеона; но кто знает: сей последний, в отчаянном положении, мог бы опрокинуть его небольшую армию и пойти в Минск, где, среди изобилия, находился Шварценберг с австрийскими и саксонскими войсками, сомнительными союзниками, но тогда еще обязанными подкрепить его. Узнав, где Чичагов стережет его, Наполеон предпочел кинуться на открытый, но ужасный путь к Вильне, который без сражений довершил истребление его армии.
Я того мнения, что гордый и злой Чичагов, ненавистник своего отечества, неумышленно, по ошибке в сем случае, услужил ему, подобно другим заклятым врагам его, которых Провидению угодно обращать в полезные для Него орудия. Вражда за вражду; русские в несправедливости своей, по мнению моему, извинительнее Чичагова.
Для подданных Александра 1812 год памятен еще тем, что в душе его последовала необычайная перемена Он всегда любил и уважал добродетель; ложными понятиями, в малолетстве данными ему о свободе, столь пленительной в теории, увлекался он большую часть своей жизни. Но воспитанному в век неверия недоставало ему религиозного чувства. Он был нежен сердцем; наслаждениями его никто еще из смертных так упоен не был Несколько лет сряду был он предметом обожания не одной России, но и целого мира и, наконец, самый противник его, гений зла, как он почитался гением добра, был побежден не оружием его, а благостью. Вдруг всё стало изменять ему, счастье и вместе с ним и люди. Тогда, не находя уже любви, которая дотоле всюду встречала его на земле, стал он искать ее на небе. Наступила тяжкая та година, в которую он, владея громадной империей, вместе с нею казался раздавленным громадными силами всего Запада. В невольном бездействии в Царскосельском уединении своем, вдали от браней, среди мрачной осени, какая лютая, великая царская скорбь должна была раздирать душу его! И где было искать ему утешений, если не у престола Того, Кто Сам претерпел муки для спасения рода человеческого? В это же время с лица всей земли русской согласным хором подымалась молитва; ею наполнен, кажется, был весь воздух, и как сей священной заразе не коснуться было души готовой к её восприятию! В пожаре Москвы, как в горящем кусте Моисею, явился ему Господь; и когда среди радостных кликов освобождения послышался ему небесный ответ: вера твоя спасла тебя; тогда с благодарностью, упованием и покорностью к воле Всевышнего смело устремился он на Запад, куда сам перст Его указывал ему путь. Но увы, не в славу вашей православной Греко-Российской церкви исполнился он тогда христианского духа!
Со времен Петра Великого между нашим духовенством нередко встречались люди, которые, не умея сильно чувствовать, любили умствовать и рассуждать о вере. Все они, начиная с Феофана Прокоповича, показывали наклонность к учению Лютера. Около этого времени число их размножилось; примечательнее всех был один молодой монах, одаренный столь же сильным характером, как и чудесно-светлым умом. Это ваш знаменитый Филарет. Не трудно было необыкновенному юноше поработить набожного, недальновидного и слабого любимца государева, министра духовных дел Голицына и сделать его покровителем распространяющегося у нас мистицизма, с помощью правителя дел его мартиниста Тургенева, впрочем ни во что не верующего. Этот Голицын во дни печали вместе с Императором вздыхал и молился и тем еще более приобрел любовь его и доверенность. Когда загорелась война 1812 года, то Россия не отверзла объятий своих Англии (это много сказать), но открыла ей двери настежь, и жители трех королевств толпами к нам привалили. В числе их находился и шотландец Пинкертон, не знаю хорошенько: основатель ли или главный двигатель Библейского Общества. Для введения его к нам нашел он готовые орудия, исключая духовных лиц, Лабзина с Сионским Вестником. Чтение Библии полезно для людей глубокомысленных и твердых, в религиозных правилах своих, тогда как между другими, которые легкомысленно приступают к разбору и пересмотру Священного Писания, порождает много сомнений; и для того во всех римско-католических странах, для простонародья Ветхий Завет везде запрещенный плод. Поборнику Христианства и другу человечества Александру мысль об учреждении этого Общества в России чрезвычайно полюбилась; космополитизму, в котором он был воспитан, приятно было видеть в нём средство в соединению всех вер и слиянию всего мира христианского в одно согласное семейство. В Петербурге духовенство всех исповеданий покорилось его воле, и митрополит римско-католических в России церквей, Сестренцевич, начал восседать между схизматиками и еретиками. Среди шума и треска всё еще продолжающихся военных действий и, прибавить должно, среди тогдашнего детского неведения нашего, сия новизна внутри государства сочтена небесною благодатью: никому не пришло в голову подозревать настоящей цели Библейского Общества, столь опасного для чистоты православия.
Когда в деле России с Наполеоном суд Божий произнес решительный свой приговор, когда из рассеянной огромной тучи неприятельской слабый остаток её, в виде легкого облачка, гонимого бурным ветром, стал быстро удаляться от границ наших, тогда богобоязненный Царь, смиренно повинуясь высокому призванию, почувствовал, что наступило и для него время великих подвигов. Он оставил Петербург и прибыл в Вильну, 12 декабря, с победоносным войском праздновать день рождения своего, ровно через шесть месяцев после того, как в той же самой Вильне объявил, что не положит оружия, доколе единый неприятельский воин останется на земле русской. Он сдержал слово, но не совсем: ибо оружия не положил. Да благословен будет тот, кто подал ему смелую мысль, не останавливаясь, продолжать идти вперед, чтобы захватить задорную Польшу и ободрить напуганную Немечину, пока Франция не успела опомниться и оправиться. Мне приятно думать, что отныне Александр действовал единственно по вдохновениям, ниспосылаемыми ему свыше.
Бросаясь в объятия Кутузова, недавно украшенного великолепным титлом Смоленского князя, но что еще гораздо важнее того, целою Россией провозглашенного спасителем отечества, Государь возложил на него знаки ордена, по моему, первого в мире[164]. Любопытно было бы знать, что происходило тогда в душе Кутузова? Все современники согласны в том, что он имел высокое образование, был чрезвычайно умен и приятен в обществе, неустрашим в боях и равно искусен в делах войны, как и мира. Всё это служит доказательством необыкновенного ума и твердости, и соотечественники по всей справедливости могут гордиться им. Утверждают однако же, что он был также уклончивый и тонкий царедворец; это заставляет уже сомневаться в высоте его чувств. Как бы ни было, но невозможно, чтоб он не разделял восторгов им производимых: миллионы людей беспрестанно насылали ему нежнейшие хвалы и благословения. Как всё это должно было волновать и молодить его сердце! И какой блеск юности может сравниться с пламенною зарей его заката! Он едва было не сделал русских неблагодарными: чуть было не заставил их забыть Суворова.
Все были уверены, что неудачи сопутствуют Александру и являются везде, где он лично присутствует. Оттого все не одобряли ни прибытия его к армии, ни намерения идти с нею за границу. «Да и зачем? — спрашивали у нас в Пензе; — уже коли дома не успели поймать вора, где станешь ловить его вчуже? Да, кажется, мы и хорошо его проучили: другой раз не полезет к нам». Хорошо же они знали его! Дурацкие эти суждения были мне как острый нож. Думая, что всё уже кончено, не хотелось пензякам отпустить совсем уже готовое к выступлению, но всё еще не тронувшееся ополчение.
Приблизился конец этого вечнопамятного года, и всё что в продолжение его я перечувствовал, имело сильное влияние на здоровье мое. Я впал в нервную болезнь, довольно серьёзную, и в страданиях встретил 1813 год. Я здесь остановлюсь, чтобы бросить взгляд на сию чудную эпоху в нашей истории. Желая польстить нашему самолюбию, английские журналы начали сравнивать тогда подвиги русских с теми, кои в это время на противоположном конце Европы совершали у себя гишпанцы. Кто из нас позволит себе оспаривать славу великодушной защиты Сарагосы и вообще всех отчаянных, неимоверных усилий кастиланской гордости, арагонского и бискайского упрямства, особенно когда некоторым образом были они для нас полезны? Ныне, признаюсь, сие сравнение мне кажется обидным. В одинаковых ли отношениях с Гишпанией Россия находилась тогда к Франции? Давно подвластная республике и империи, Гишпания тогда только возмутилась, когда ей стало невмочь: это был мятеж вассалов против притеснений власти, над ними господствовавшей. Природа на каждом пункте жителям этой страны представляла удобные средства к отпору неприятелей: непроходимые горы и дебри, и Сиерра Морена, и все другие Сиерры не напоминают ли скорее Кавказ и борьбу горцев с Россией? Если сим последним и сыпались сотни тысяч гиней, то это тайком; за то нет десятков тысяч вооруженных англичан, которые бы явно сражались за них. Без помощи Англии, новой госпожи своей, что бы сделали гишпанцы?
Каких союзников имела Россия в начале войны 1812 года, кроме Бога, беспредельной веры в Его могущество и мужества ею внушенного? Она одна встретила напор двадесяти язык, или, вернее сказать, по крайней мере десяти народов, изнемогала под ударами их, во не пала; и их же дружелюбно взяв за руку, повела на предводительствовавшего ими. Шести месяцев было ей достаточно, чтобы произвести совершенный перелом в судьбах целого мира. Шесть лет боролась Гишпания с несколькими отрядами наполеоновскими, и едва успела не одолеть Франции, а только освободиться от её ига, и то, благодаря быстроте бурного потока, как будто на помощь ей с Северо-Востока текущего. Где же тут сходство?
Из неприступного острова своего, как с высоты амфитеатра, смотрели англичане на гладиаторов, проливающих кровь свою будто для их забавы и пользы и, рукоплеская русским, хотели сравнить их с наемниками своими гишпанцами. Даже и тогда, как спасительная рать её явилась посреди Европы, чтобы избавить ее от тягости вечной войны, Россия сделалась уже предметом зависти для западных народов. Извинительно было неправдолюбивой и пристыженной Франции приписывать неслыханный урон свой единственно суровости климата; но мнение сие, не разделяя его, старались также поддерживать англичане и немцы. Известно, что горячая кровь полуденных людей сильнее противится действию холода, чем медленнее обращающаяся кровь жителей Севера. Последним сама природа дала защиту, звериные кожи, в которые с малолетства, так сказать, пеленаясь, они прячутся в невыносимо-жарких своих избах. Первые целый век любят жить на воздухе, который при всякой температуре, обхватывая весь состав их, приучает его к перенесению всяких непогод. Кто не видел французов в одних фраках, с руками в карманах, весело пляшущих на морозе[165], когда термометр показывал десять или двенадцать градусов? Цыгане, не погибая, в кибитках своих всю зиму кочуют у нас на Севере. Отчего же русские, преследуя французов, подобно им не падали как мухи? Оттого что они были в шапках, в шубах, даже в лаптях и не с пустыми желудками; оттого что воины непобедимой армии шли наги, босы и голодны. В таком состоянии должны бы они были гибнуть и среди лета. А кто привел их к нему? Прозорливый, терпеливый наш Фабий, великий русский вождь всё расчел, всё предугадал: умудрил его Господь, «насылая слепоту на того, кто мысленно дерзал уже почитать себя Ему равным». С самых первых шагов Наполеона в России заметны были в нём нетерпеливость, самонадеянность, опрометчивость; заметно было, что надежды не столько возлагает он на гениальность свою, как на счастие и на сплоченные им массы, огромный запас людей. «Двадцать пять тысяч человек могу я проживать ежемесячно», говорил он; и он промотался и бежал из России, как должник от тюрьмы. Не столько храбрость и число солдат, сколько искусство полководцев дарует победы. Спрашивается: кто из двух показал тут более искусства? Уж конечно тот, кто с меньшим числом войск предводительствовавшего несметными силами заставил обратиться в бегство. Всё еще толкуют о генерале-мороз, забывая, что этот год осень стояла у нас теплее чем во Франции, что первые поражения при Тарутине и Малом Ярославце были в начале октября, и что на протяжении почти четырехсот верст от Москвы до Смоленска, когда еще генерал этот не думал показываться, уже целые бригады и дивизии начинали исчезать в неприятельской армии.
Всё в этом году было необычайно, неожиданно, чудесно; изображение его, по мнению моему, принадлежит эпопее еще более чем истории. Запрятанный в угол той огромной сцены, на которой разыгрывалась великая драма, как почти все тогда, был и я некоторым образом вовлечен в её движение, и из тогдашних событий мог собрать некоторые черты, достойные внимания читателя. Какой же славный труд предстоит будущему творцу русской Илиады! Но где он? Родился ли он, тот, который, соединяя в себе одном гении Карамзина и Пушкина, Тацита и Гомера, был бы в состоянии достойным образом начертать потомству величие его предков? Сии шесть месяцев великому писателю едва ли не более представляют материалов, чем десятилетие Троянской войны. Для кисти его сколько красивых, мужественных лиц, коим в стихах тогда же сделан был обрис! И почти у всех русские названия: Платов и Милорадович, Раевский и Дохтуров, и молодой еще тогда, храбрый Воронцов, богатый золотом и доблестью, который всю тягость и опасности воинской жизни предпочел забавам и пышности двора, — нежный, попечительный отец для подчиненных, товарищ, брат и друг соратствующим. И ты предстанешь тут, близнец его во славе, менее его счастливый, но гораздо более чтимый, чудный Ермолов, чье имя, священное для русских, почти в первый раз тогда им прогремело. Как бы нарочно, во стан христолюбивого воинства Провидение послало юношу достойного воспеть его подвиги, чистого душой и телом, восторженного Жуковского. Цари тут также сражались под знаменами Царя царей, перед которым Агамемнон может казаться Терситом, Только из пепла нашей Трои возникла гибель новым грекам, ибо на нашей стороне был опытный, мудрый Нестор, с хитростью Улисса и отважностью Ахилла. Неимоверное, почти тоже, что баснословное, — его тут было вдоволь; и как иначе назвать внезапную казнь гордыне и спасение погибающим, с высоты могущества падение исполина, и из пучины зол быстрое вознесение народа? У нас боги, с человеческими страстями, непристойным образом не мешались в дела смертных; за то везде и во всём было чувствуемо присутствие чего-то невидимого и всесильного. Я почти уверен, что Александр и Кутузов Его прозрели, и что даже самому Наполеону блеснул гневный лик Его.
В недавнем времени, один сенатор-воин взялся написать нам историю этой войны. Вышло, как в наше время и ожидать было должно, что официальное творение его не что иное как собрание раскрашенных реляций, с прибавкою похвальных слов Чернышеву и всем, в живых еще находящимся, сильным мира сего. Вы правы, г. Данилевский-Михайловский, если имели только в виду почести и деньги; вы получили их. Но я надеюсь, что вы не погонитесь за бессмертием. Куда вам до него! Даже и ныне никто не хочет верить льстивым устам вашим.
VII
Новый набор ополченцев. — Представитель купечества. — Ссоры по новому ополчению. — 1813 год.
В болезненном состоянии, в котором находился я при наступлении 1813 года, как сказал я выше, утешали меня вести, получаемые уже из-за границы; ибо во второй половине декабря заняты нашими войсками восточная Пруссия и даже Варшава в самый день Рождества; как вдруг был я встревожен и сильно огорчен одним неожиданным и для русской чести постыдным происшествием, о коем хотелось бы мне, но не смею умолчать.
Из полков новонабранного Пензенского ополчения один только формировался и стоял на квартирах в губернском городе, другие размещены были в уездах. Двое из начальствовавших над ними полковников, люди через меру расчетливые, нашли, что о прокормлении ратников много заботиться нечего, и что, при всеобщем усердии жителей, они без пищи их не оставят, а между тем исправно принимали и клали себе в карман суммы, из нашего комитета отпускаемые, для продовольствия воинов. Название одного я к счастью позабыл; имени другого не скрою.
Иван Дмитриевич Дмитриев был приглашен, упрошен оставить кавалергардский полк, в котором дослужился до полковничьего чина. По моему мнению, неправы были господа офицеры, а он совсем не виноват, если, будучи сыном бедного помещика Мокшанского уезда, попал он нечаянно в такой полк, где тогда одним богачам служить было под силу, и что для поддержания требуемого велелепия должен был он прибегать к так называемым непозволительным средствам. Дело не обошлось без драки, разумеется не рукопашной. Говорят, он был не труслив и между военными товарищами своими; в провинции же, среди мирных земляков, смелость его часто доходила до дерзости. Что удивительного? Всё на свете, даже уважение сограждан, должен был брать он с бою; самые дары Фортуны мог он не иначе похищать, как насильственным образом: вот отчего всегда находился он в бранном состоянии. Простое воровство в обществе презирается: необходимо надобно несколько облагородить его разбойничьими формами. В Москве, главном центре тогдашних картежных операций, поселился г. Дмитриев и подвизался там в сообществе с родственником своим Саввою Мартыновым, мною не раз упомянутым. Он оставил ее в 1812 году, когда в ней ничего ему делать не оставалось, и прибыл в Пензу, где удальцу сему предложен был полк.
Оба полковника сии прежде всего принялись за полковую экономию. Пока средства не истощались у жителей, ни они, ни ратники роптать не смели. Но когда голод привел их в отчаяние, последние возмутились, из своей среды выбрали себе начальников, а офицеров перевязали и вероятно сделали бы тоже с полковниками, если б сии последние заблаговременно не успели спастись бегством.
Сие происходило в двух городах, Саранске и Чембаре, полтораста верст один от другого отстоящих. Ни бесчинства, ни грабежа не было; воины требовали одной пищи, и понаевшись сделались спокойнее и смирнее. Ужасу было много у нас в продолжение двух или трех дней. Но скоро подоспели другие ополченные, сам граф Толстой прискакал в Саранск, и мятеж утушен без кровопролития. Дело обошлось как нельзя лучше: виновных не нашлось, полковники с глазу на глаз названы мошенниками, а рядовым веред фронтом объявлено, что их хорошо будут кормить; но если впредь что-нибудь подобное они затеять, то десятый из них будет расстрелян; всё же дело под шумок представлено выше действием неудачного подговора каких-то небывалых лазутчиков. В половине января, бунтовавшие и уже покорные, равно как и разруганные, связанные и уже освобожденные, и начальствующие, преспокойно отправились вместе в дальний поход по направлению к Киеву.
С отбытием ополчения, казалось, что занятия нашего комитета, кроме приготовления отчетов, должны бы были прекратиться; ни мало. Не зная, достанет ли у немцев довольно смелости, чтоб явно присоединиться к нему; с другой стороны, видя с каким рвением и поспешностью, по единому слову его, земля русская рождает и образует рати; желая иметь достаточный запас воинов, в случае несогласия с немцами, — Государь повелел, чтобы набрано было, под именем резерва, второе ополчение, только в половину меньше первого. Из него велено отделить несколько штаб- и обер-офицеров, если не в ратном, то во фронтовом деле искусившихся. Геройский жар в некоторых успел уже погаснуть, и они охотно воспользовались случаем на несколько месяцев еще остаться, не покидать родимого края. Не оставалось более военных людей, высокое звание носящих, и надлежало довольствоваться менее чиновными. Казань избрана местом пребывания главного начальства нового ополчения, и оно поручено отставному артиллерии генерал-майору, Дмитрию Александровичу Булыгину, с теми же нравами, кои присвоены были графу Петру Александровичу Толстому.
Я знавал этого Булыгина, только немного. Он слыл весьма умным; об этом судить я не могу, ибо внимание мое не столько обращено было на его речи, сколько на наружность. Отец его был женат на придворной Калмычке, и образ её, в преувеличенном виде, резкими чертами напечатан был на лице сына. Говорили также, что он был отличный артиллерист, добрый и честный человек.
Губернским же начальником, вместо отбывшего генерала Кишенского, выбран был у нас отставной бригадир, граф Федор Андреевич Толстой; как говорилось в старину между военными: за неимением маркитанта блинник служит. На вопрос (если мне сделают его): какой это был Толстой? вместо ответа, отошлю я читатели к краткой родословной сей многочисленной ныне фамилии, здесь ниже в особой выноске помещенной[166]. Он и некоторые из братьев его служили припеваючи при Екатерининской гвардии до капитанского чина, потом вышли в отставку бригадирами, поселились в Москве и стали искать богатых невест; употребляли самые легкие и простые средства, чтобы быть счастливыми. Ему посчастливилось более других: со Степанидою Алексеевною Дурасовой, на коей он женился, приобрел он большой достаток. Даже для умеренного удовлетворения его вкусов надобно было много денег, и он бы разорился, если бы не был удержан бережливостью, можно сказать, скупостью жены своей. Он был несведущий, а не менее того страстный антикварий и собиратель всякого рода редкостей. Но как при покупке картин, манускриптов, медалей, всегда руководствовался он советами сведущих людей, то в собрание его немного попадало ничтожных вещей, и оно наполнено было драгоценностями. По природе мягконравный, он всегда казался весел, оставался спокоен духом и оттого-то, кажется, и поднесь тянется жизнь его. Воин был бы он плохой, и если вступил в ополчение, то вероятно для того, чтобы несколько времени, хотя бы с серым кафтаном, пощеголять генеральскими эполетами.
Супруга его решительно была и нелюбезна, и немиловидна. Она, по матери, была в числе наследниц знаменитого Твердышева, простого мужика, который с пятью только рублями, но с умом и честностью, с неимоверною деятельностью, изворотливостью и сметливостью, начал созидать огромную Фортуну свою. Он соорудил двадцать шесть железных и медеплавильных заводов, тем оживил и обогатил заброшенный дотоле Оренбургский край, и каждой из четырех племянниц своих, Дурасовой, Пашковой, Бекетовой и Козицкой, сверх сказанных заводов, оставил по шестнадцати тысяч душ крестьян. Каждый обломок раздробленного после них имения стоит еще не менее миллиона.
Графиня Толстая, подобно деду, не наживала богатства, а только умела сохранять его; заботливость её о том назову я чрезмерною, даже непристойною. В продолжение всего времени, что Москва занята была французами, на свет Божий не смотрела она, кляла Ростопчина и о том только жалела, что Наполеона не приняли с честью и не дозволили откупиться от него посредством сильной контрибуции. Мне случилось обедать у них в тот самый день, в который получила она известие о том, что великолепный дом её на Большой Дмитровке остался цел, что сделаны в нём некоторые повреждения, зато весь он загроможден нанесенными в него дорогими предметами; как сохранившемуся, так и приобретенному при донесении приложена была опись. Во время чтения улыбка показалась было на лице её, как вдруг залилась она слезами, воскликнув: «Я никак не нахожу тут прекрасного тюфяка моего, обшитого шелковой объяринной материей; злодеи погубили его!» Всех изумило и всем показалось это чрезвычайно гадко. Впоследствии единственную дочь свою выдала она за единственного графа Закревского.
И так наши помещики покряхтели, поморщились; но делать было нечего, принялись опять за набор людей и за пожертвования; через то на неопределенное время должно было продлиться существование нашего комитета. Это испугало почтенного председателя нашего Кашкарова. Более двадцати лет был он в отставке с бригадирским чином, изредка показывался в Москве и, хотя был холостой, совершенно свыкся с деревенскою жизнью. Долг дворянина, в тяжкий год для отчизны, вызвал его опять на временную службу; но бедствия миновались, дни становились всё длиннее, солнышко краснее и ярче, и всё тянуло его в мирное убежище, где жил он отцом и благотворителем дворни и крестьян. Ему не стерпелось, он отказался от места и сказался больным.
В великое затруднение поставлен был губернатор Голицын. По вздорным несогласиям с губернским предводителем Колокольцевым, как сказал я выше, умел он, чрез посредство главноначальствующего графа Толстого, совершенно устранить его от сего председательства. Тогда надлежало на место Кашкарова вызвать старшего по нём кандидата, который был ему во сто раз противнее Колокольцева. И кто же был сей кандидат? Отставной уже тогда обер-прокурор, ***, высокомерный, высокорослый человек, о котором что-то очень давно я ни слова не упоминал. С тех пор, как в сих Записках расстался я с ним, продолжал он служить экспедитором, или начальником отделения, в канцелярии министра юстиции и по возможности вредить моему отцу.
Наконец назначен он обер-прокурором в один из Московских департаментов Сената и находился там в виде делегата Сперанского. Если сей последний имел намерение через него распространить что-нибудь в древней столице, то весьма ошибся в своих расчётах: ***, всегда покорный, преклонный перед государственными властями, вооружался только против местных. Главнокомандующий, фельдмаршал Гудович, заседал тогда в Сенате и в нём хотел деспотствовать точно также, как и в городе; может быть, весьма основательно противился *** его незаконным требованиям; но в протестах своих употреблял выражения столь грубые, столь дерзкие, что дал старику всё право справедливо жаловаться на него самому Государю. Еще за полгода до падения Сперанского, несмотря на его покровительство, был он отставлен и поселился в своей пензенской деревне. В начале сентября 1812 года, внезапно явился он на дворянском съезде и действовал так быстро и так тайно, что едва не попал в председатели комитета для пожертвований. Дворяне имели только в виду его рост и его чин, и ахнули, когда им объяснили, что они выбрали друга и соумышленника подозреваемого в измене Сперанского. Голицын, яко знатный, почитал себя в обязанности ненавидеть сего последнего и, желая показать то ***-ну, обошелся с ним неучтиво; тот, кажется, отвечал ему тем же.
Недели полторы или две, губернатор всё медлил с извещением его об отбытии Кашкарова и с приглашением занять его место. Бумага о том была уже подписана, а он не решался ее отправить и надеялся, что наступившая совершенная распутица воспрепятствует ***-ну скоро приехать. Между тем, по званию старшего члена, вступил я в должность председателя. Кто поверит, чтобы мне, молодому человеку, совсем не польстила временная честь наследовать старику-бригадиру? Но с нею сопряжены были затруднения, которые должен буду здесь объяснить.
Между оставшимися от первого ополчения, для образования нового находился один отставной конной гвардии штаб-ротмистр, Федор Иванович Левин. Человек был он еще довольно молодой, весьма неглупый, исполненный чести. Друг порядка, без малейшей подлости, всегда оказывал он должное уважение начальству, что в нынешнее время непременно бы названо было холопством. Жаль только, что, при столь похвальных свойствах, чрезмерная живость в крови часто затмевала у него рассудок, так что название «взбалмошный» как бы нарочно для него было придумано. Ему поручено было сформировать конницу второго ополчения, то есть всего только два эскадрона, и он захотел блеснуть ими перед пензенской публикой. Для того, затеял он для них какие-то куртки, с широкими светло-зелеными отворотами и красным кушаком, сабли, медные эполеты и меховые, за неимением медвежьих, собачьи шапки. Всё это шутовство, по его счету, должно было обойтись в сорок пять, а наверное стоило бы не менее семидесяти тысяч рублей; тогда как по распоряжениям главного, в Петербурге, комитета, под председательством Аракчеева, всё должно было ограничиваться пиками и простыми серыми кафтанами. В сем виде конный полк первого ополчения вышел и в поход.
По связям своим с губернатором Голицыным и губернским начальником Толстым, Левин без затруднения склонил их утвердить его затеи; князь отнесся к нам о том, а граф потребовал денег. Я не знал что делать. Осторожный, даже боязливый член от правительства, Караулов, прикинулся больным и не участвовал в заседаниях; безграмотный купец Козицын сделал бы только то, что я приказал бы ему, следственно я оставался совершенно один, и вся ответственность лежала на мне. Немногие наличные дворяне тайком убеждали меня понапрасну не сорить деньгами, и мне самому не хотелось поплатиться, может быть, целым имением за чужие прихоти; но я определен был правительством, то есть губернатором, и трудно мне было опять идти против него. Я не отказывал и не соглашался, и старался выиграть только время; к счастью, Левин, не полагая возможным какое-нибудь с моей стороны сопротивление, делом не торопил. Насчет нелепых требований его решился я одним вечером объясниться с губернатором; тот отвечал мне ласками и шутками. Тогда составил я себе план и хотел действовать смело.
На следующее утро, когда еще лежал я в постели, в мою низенькую комнату ввалилось огромное туловище ***-на без всякого предварения. Это было в начале апреля. Не дождавшись официального извещения, он решился сделать более ста верст по непроходимым дорогам, там завязая в глубокой грязи, там переплывая быстрые поточки и, ни с кем не увидевшись, показался мне первому. У меня голова закружилась, так озадачил он меня и неожиданным появлением своим, и расточительностью похвал: от имени целого дворянства благодарил он меня; и защитник-то я был прав его, и блюститель его выгод. «Да я еще ничего не сделал», отвечал я. «Всё равно, вы медлили и хотели сумасбродам дать время образумиться. И я приехал вам на помощь, приехал выручать вас». Что было делать? Поневоле пришлось сойтись с врагом отца моего, с недругом целого моего семейства и против человека, дотоле мне благоприятствовавшего.
*** не замедлил вступить в должность, и первым действием его, вместе с комитетом, был отказ в удовлетворения фантазий г. Левина. Но, против обыкновения своего, согласно с моим желанием, сделал он его в умеренных и почтительных терминах, с сожалением представляя всю невозможность исполнить требование начальства, по неимению на то достаточных прав. Вскоре получили мы ответ, полный угроз и писанный самым повелительным тоном; Левин являлся также в заседание комитета с дерзостью объявить гневную волю губернатора. Тогда *** задумал посещение и слова его внести в журнал, а Комитет объявить в опасности: этому человеку везде хотелось каких-то конституционных, чтобы не сказать, революционных форм. Я восстал против того, доказав ему, что это будет чересчур смешно и скандально.
Была тогда Страстная неделя. *** сам марал возражение и, чтобы выслушать его, в Великую пятницу, под предлогом нездоровья, пригласил меня к себе в дом. Меня несколько удивило, что определение и отпуск уже написаны были набело. С видом самодовольствия, охриплым голосом своим начал он мне читать свое творение; не подозревая никакой хитрости, видел я тут одно только авторское наслаждение; а он, злодей, с умыслом искусно пропускал все резкие, язвительные места, против которых я мог бы восставать. Чтобы кончить всё перед праздником, он рассеянно предложил мне скорее подписать бумаги; я то и сделал. На другой день поступил он также с членом от купечества Козицыным, призвал его к себе, показал только свою и мою подписи, а тот, по обыкновению своему, под ними всепокорнейше подмахнул и свое купеческое прозвание. Притворная болезнь г. Караулова всё еще продолжалась, и сею искусною, по мнению его, уловкою он выиграл одно только то, что с обеих сторон на него досадовали.
В светлый день Пасхи был я с поздравлением у сиятельного. Он похристосовался со мною ласково, только слегка пошучивал на счет новых связей моих, но не получал еще нашей бумаги, а если и получил, то верно не распечатывал еще; сие последовало на другой день. Он был человек, нельзя сказать, добрый, но легкомысленный, рассеянный, который ничего не умел делать серьёзно, особенно сердиться. Тут, говорят, он на себя не походил: ярился, свирепствовал, — и было от чего! Он объявил, что никогда уже со мной не увидится и не велит к себе даже на крыльцо пускать. А за Козицыным послал на другой же день.
— Как смел ты, купчишка мерзкой, написать ко мне ругательную бумагу? — сказал он ему.
— Да возможно ли, да как бы осмелился я евто сделать? О семи что ли я головах?
— Да чья же это подпись?
— Ох, виноват, согрешил: мне велели подписать, а я и сам не знаю что подписал.
— Да как же ты не читавши подписываешь?
— Да что делать? Умилосердитесь, батюшка, ваше сиятельство! Человек я темный: если бы я стал читать, ведь всё бы равно, ведь я ничего бы не понял.
Голицын расхохотался.
Не житье было тогда ***-ну в Пензе. Те, которые тайно одобряли поступок сего нового Мирабо, явно не смели того показывать. Другие как будто боялись зачумиться близ него; иные позволяли себе делать ему грубости.
Так времена переходчивы. Смирный граф Толстой более всех петушился, хорохорился; в доме у зятя его, мужа сестры его, вице-губернатора Евреинова, он до того разъярился, что схватил его за ворот. Он был холоден и тверд, как гранит; я это сказал ему, и это, кажется, весьма его потешило.
Мое положение было также не совсем приятное. Мне бы обидно было уподобиться Козицыну; я ни от чего не отрекался и не хотел признаться в том, что также, как и он, не читавши подписал бумагу; даже самому ***-ну не сделал ни малейшего упрека. Кому-то из друзей моего семейства вздумалось выдавать меня за невинную жертву, опутанную сатанинскими сетями ***-на; так по крайней мере дело представлено моей матери, которая крайне скорбела о происходящем. Всё-таки невесело было видеть, что люди смотрят на меня с горделивым состраданием.
Новые перуны готовил на нас Голицын, но не сам хотел грянуть ими, а грозу вызвал из Казани. Несколько дней писали, писали у него, сочиняли ужасную бумагу к главноначальствующему, генералу Булыгину, и отправили ее с нарочным. В ней представлен бунтовщик ***, как человек весьма опасный в настоящих обстоятельствах. «Будучи в тесной связи с предателем Сперанским, может иметь он и тайные сношения с Наполеоном. Вот почему, вероятно, старается он препятствовать скорому образованию нового ополчения, и особенно Ленинских эскадронов, которые могли бы нанести последние удары неприятелю». О других членах ни слова не сказано.
Дороги были ужасные, ручьи, речки и реки выступили из берегов своих и покрывали поля; во многих местах не было переправ, и пятьсот верст надобно было сделать курьеру. И потому-то более двух недель прождали мы, пока получили ответ от Булыгина, который был довольно благоразумен. Приписывая все несогласия, неудовольствия, недоумения, нарушению общеутвержденного порядка при назначении председателя в комитет, для восстановления его он требовал, чтобы губернский предводитель занял сие место. А этот предводитель, как не раз уже сказал я, был Димитрий Аполлонович Колокольцев, которого Голицын не терпел единственно за то, что исподтишка он иногда трунил над ним. Но всё-таки, в глазах его, это было лучше чем ***.
Сей последний дня два-три хотел было воспротивиться распоряжениям Булыгина, и собирался писать уже протест, как вдруг ото всего отступился. Мне первому, как уверял он меня, объявил он за тайну, что замыслил жениться, просватан и даже помолвлен на Вере Николаевне… Сие единственно заставляет его бросить эту дурацкую распрю. Он спешит в деревню, где после отца остался ему огромный дом; в нём станет ожидать будущего тестя, невесту и всё их семейство, и там надеется без промедления сыграть свадьбу. На другой день все о том узнали, и в обществе Голицына не оставили приписать сей союз духу революционной партии Сперанского, не совсем еще в России подавленному. Сватовство происходило в доме нашем; постоялец, несмотря на известную скупость свою, заплатил мне за весь год, хотя прожил в нём не более девяти месяцев. Из конурки своей перебрался я в него опять и принялся жить на просторе.
Никаких более сношений с тех пор у меня с *** не было, и ни разу в сих Записках не придется мне упомянуть об нём. Потому-то мне хочется досказать здесь биографию его. Говорят: женишься — переменишься; после женитьбы сделался он осторожнее и гибче и, переходя из одной крайности с другую, изумлял раболепством своим перед министрами юстиции и финансов. Он вступил опять в службу обер-прокурором и был наконец сенатором в Петербурге. С сердцем, источенным червем честолюбия и с телом, пожираемым худосочием крови, он долго прожить не мог и умер при Александре, не имея еще сорока пяти лет от роду.
Между тем Левинская история все не кончилась. Губернский предводитель, Колокольцев, пользуясь отпуском, жил в деревне, и место его заступал уездный предводитель, Николай Степанович Ермолаев, милый и кроткий чудак, действительно, а иногда притворно рассеянный, который в делах, как и в разговорах, своим уступчиво-упорным обхождением не допускал возможности рассердиться на него. За отсутствием Колокольцева, по предложению губернатора, занял он место председателя комитета. Он не одобрял поступков ***-на; не спешил однако же и повиноваться: еще успеем, сегодня да завтра, подождем да погодим, всё откладывал, всё медлил. Начинали уже меня в том обвинять и из жертвы произвели в соблазнители. Таким образом прошло еще дней десять.
Вдруг Колокольцев явился к должности, хотя срок отпуска его еще не кончился. Представился единственный случай подразнить ему Голицына, и он не хотел его упустить. Ермолаев опрометью бежал от нас. С первой минуты, Колокольцев, дотоле довольно робкий и покорный, как возмутившийся трус, объявил намерение противиться неправильным требованиям губернского начальства. Дабы сколько-нибудь законным образом оградить себя от буйных набегов Левина, как говорил он всем, перенес он присутствие комитета в депутатское собрание и на столе поставил зерцало. Озлобленный Караулов, видя, что нимало не угодил тем, что устранил себя от соучастия в дерзостях ***-на, выписался из больных и вновь засел у нас, с желанием усилить оппозицию. Купеческое сердце Козицына умел я тронуть, предрекая разорение скудной лавке его, в случае какого-нибудь взыскания. Видя тогда, что большинства будет достаточно, чтобы не попустить нападчикам нашим восторжествовать при составлении нового определения, вошел я с особливым мнением. В нём один соглашался я на выдачу большой суммы, уступая воле пославшего меня и убедившись, наконец, в пользе и необходимости собачьих шапок и красных кушаков. Мне непременно нужно было примириться с Голицыным, как для того чтобы успокоить бедную мать мою, так и по другим причинам, которые гораздо после должен буду объяснить.
Губернатор не знал что ему делать. Всё это ему надоело, и человек был он весьма не упрямый; но Толстой и Левин подбивали его, стараясь ему доказать, что он совсем останется в дураках, если прекратит свои настаивания.
В половине мая, из главной императорской квартиры пришло примирение — развязка всему делу: приказание распустить это ополчение и ратников возвратить по домам. Все чрезвычайно обрадовались тому, кроме Левина, который один остался с носом и с убытком: ибо многое для эскадронов своих уже закупил, иное заказал, в уверенности, что дворянские деньги уплатят сии издержки, и всё за бесценок должен был сбывать.
Из чего же спорили, ссорились? Из чего вся эта возня? Не менее того сия буря в нашей луже без малого три месяца сильно волновала ее. Вот так-то между людьми. Шести недель было для нас достаточно, чтобы свести все наши счеты; вышло, что, за удовлетворением потребностей обоих ополчений, осталось еще 150 тысяч рублей ассигнациями, которые для приращения положены в Приказ Общественного Призрения. Сбережение по крайней мере половины этой суммы имею, кажется, я право приписывать себе; ибо, при беспрестанной перемене председателей и отлучке члена, я один постоянно отстаивал ее И что же? На первых дворянских выборах положено небольшой капитал этот превратить в вспомогательную кассу для неимущих и задолжавших дворян, дабы за малые проценты ссужать их небольшими суммами, а комитету объявить благодарность дворянства. Но и этого спасибо я не получал, равно и ни малейшего изъявления благоволения от правительства за временную, однако же, довольно заботливую тут службу мою. Так-то всегда со мною было и после; так, видно, у меня на роду написано. Я не ропщу; это видно компенсация, ибо сначала всё приходило мне даром.
Если подробности, в кои входил я, найдут излишними и пустыми, я с этим не соглашусь. Я пишу воспоминания свои, и это дело занимает в них просторное место. В отдалении тридцати лет, описание обстоятельств его нахожу я даже забавным, и таким, по мнению моему, должно оно казаться читателю. К тому же оно изображает состояние, в коем находилась Россия после сильной брани и тревог, во время продолжительного отсутствия Государя своего, когда при слабом управлении председателя Государственного Советника, Салтыкова, царствовало в ней нечто похожее на безначалие.
Военные происшествия перестали столь сильно занимать нас, провинциалов; слухи и известия о движении армии из-за границы стали всё позже доходить до нас: во мне любопытство и участие никак не уменьшались, русские войска безостановочно так и катились по следам полчищ Наполеоновских, растаявших как воск от лица Господня. Бывало в ведомостях только и читаешь, как они заняли то Кенигсберг, то Варшаву, то Берлин, то Гамбург, то Дрезден. Прусская монархия, всем составом своим, примкнула к нам; но она только одна. Разобиженный, униженный, не менее правдивый и достопочтенный король её, укрепясь духом, в Переславле наскоро подписал мир и поскакал в Кадиш, чтобы пасть в объятия великодушного, уже счастливого Александра, который в глубине души не переставал быть его союзником. Сердце мое исполнено было надежд и благодарности к промыслу Всевышнего.
Одно только смущало меня: это было явное пристрастие, которое Государь оказывал враждовавшим нам полякам, во время последнего похода, более чем когда ознаменовавшим себя жестокостями против русского народа. Это не было прощение, христианское забвение зла, а скорее походило на любовь, на награду. По его особенному приказанию, Рыщевская освобождена и весною провалилась от нас.
Вскоре после неё стали покидать нас и другие наши посетители. В числе их находилось и семейство Кологриво-Гагаринское, к которому принадлежал и князь Четвертинский. Главе семейства сего, как сказал я выше, принадлежало село Мещерское, по дороге к Зубриловке, верстах в сорока не доезжая её. Там не было приюта; но в продолжение зимы, с русскою поспешностью, настроено множество отдельных деревянных хором, так что к лету для всех готово было просторное помещение. Я принял приглашение прогуляться туда на несколько дней, пока приводились к концу отчеты по делам и суммам комитета моего.
На обратном пути, становился я переночевать в селе Бекетовке, принадлежащем помещику того же имени, только не Аполлону Николаевичу, неугомонному и многореченному прокурору, который давно уже был в отставке и жил смирно. Вот еще новое лицо, новый член бесчисленного пензенского дворянства, которого не случилось еще мне назвать.
Жизнь Алексея Матвеевича Бекетова и сам он похожи были на те образцовые письма, которые можно находить в письмовниках слог чист, всё правильно, и все формы соблюдены. Он не был ни скуп, ни мотоват, ни с кем ни заносчив, ни подобострастен, имел хороший рассудок, хорошее состояние — всего вдоволь, ничего лишнего. В Пензе, преисполненной тогда одними чудаками, совершенное отсутствие оригинальности одно только делало его оригиналом. Странно было только то, что супруга его Анна Матвеевна, урожденная Солнцова[167], была вся в него, даже лицом; а как она носила одинаковое с ним отчество, то можно было подумать, что он женат на родной сестре своей.
Если сия чета, о которой с душевным уважением я вспоминаю прошла сквозь мир сей, не возбуждая в нём особенного внимания, за то из шести человек детей её было одно чадо, весьма примечания достойное. Три сына были на войне, а из трех дочерей одна была только замужем: полно, так ли я сказал? безошибочно можно было ее назвать женатою. У Катерины Алексеевны Дмитрий Васильевич Золотарев, наш Симбухинский сосед, был плохой мужишка, но отличный хозяин, которого умела употребить она с большою пользой, определив его приказчиком над общим их имением и предоставив себе главное над оным распоряжение. Природа делает такого рода, ошибки; но они случаются так часто, что, право, можно подумать, будто она творит сие с умыслом. Она дала Катерине Алексеевне то удальство, которое львицы нынешнего времени приобретают только искусством. Её откровенный вид, всегда веселое лицо и дебелость, довольно преувеличенная с первого взгляда, заставляли предполагать в ней много простодушия и даже какую-то рыхлость в характере. Это было обманчиво: твердость воли была у неё мужская, и злоязычие её всегда бывало остроумно. Паче всего любила она упражнения нашего пола. Сколько раз видели ее по дороге стоймя в телеге, с шапкою набекрень, погоняющую тройку лихих коней, с ямскою приговоркой: «с горки на горку, даст барин на водку».
Откуда ни возьмись ей под стать одна иностранка, поселившаяся в доме её родителей. За весьма умеренную цену нанялась она быть гувернанткой при двух взрослых, почти двадцатилетних, меньших сестрах её. Француженка с немецким прозванием, мадам Гоф, — все в ней казалось загадочным. Она была малого роста, худая, дряблая, косая, в морщинах и имела голос мужающего отрока. Также как у Золотаревой, были у неё все склонности не женские: чрезвычайно любила играть в билиард и курить трубку, и от того-то у сих женщин свелась самая тесная дружба. Времена были старинные, варварские, всем это казалось зазорно; нынешнее новое, смелое женское поколение может почитать их своими прародительницами.
С Золотаревой были у нас лады, но француженке я не полюбился, и она старалась нас поссорить. С первою бывало мне очень весело, можно было похохотать с нею и над нею; но когда подле этой соседки появилась мрачная сова, и мы с сею последнею не могли скрывать взаимного друг от друга отвращения, то знакомство наше на время прекратилось. Когда разгорелась война, то на француженку стали падать какие-то подозрения: она часто начала посещать Рыщевскую и водиться с французами, которые были сосланы. В обеих наших столицах не бывала, ни в каком другом доме прежде она не живала, никто не знал её, и за год до войны она как будто с неба свалилась в Пензу. Голицын хотел было ее выслать, но его упросили, а меня стали подозревать в склонении его к сей строгой мере; я же, напротив, находил, что в расположении, в котором были умы, никакой лазутчик не мог быть опасен; напраслина всегда была моя участь. Весною г-жа Гоф сама уехала с г-жею Рыщевской, и только года два спустя узнали настоящее её фамильное имя. Она писала из Вены, что обстоятельства, о которых она умалчивает, заставляли ее некоторое время искать убежища в России, и подписалась, — графиня Куденговен: это название одной из известнейших и знатнейших Австро-баварских фамилий. Её уже не было, когда я решился посетить Бекетовку; самого хозяина не было дома, и по усильному приглашению почтенной хозяйки согласился я переночевать.
Рано поутру послышались мне голоса в соседней комнате, от которой отделен я был запертою дверью. Семейство собралось в кабинете отца читать в слух только что полученные из Пензы Московские Ведомости, и до меня невнятно доходили слова: сражение, Кутузов, Витгенштейн. Это совсем прогнало у меня сон; я наскоро оделся и за чаем узнал множество новостей. Дивному Наполеону достаточно было трех-четырех месяцев, чтобы набрать новые, огромные силы, поднять их на Россию и сразиться с нею в самом сердце Германии. И уже не должен был он встретить искусного, престарелого победителя своего, который в это самое время на одре болезни исчезал, озаренный своей славой. Как всякому сыну отечества, прискорбна мне была утрата, им сделанная; но утешение являлось вместе с горестью: Люценское сражение выдали нам за победу; присоединясь к нам, вся Пруссия восстала, и войсками предводительствовал недавно прославившийся полководец.
Театр войны так отдалился от нас, что только в конце мая получены были нами известия сии, более чем через месяц после происшествия: о железных дорогах и даже о пароходах тогда еще у нас и помину не было.
Лето прошло почти неприметным образом. Война продолжалась вдали, реляции искусно умели скрадывать наши уроны, в них находились всё названия немецких городов и, после прошлогодних тревог, это казалось обыкновенным бранным состоянием, которое дотоле для России никогда почти не прекращалось. Только не могли понять земляки мои, отчего мы всё вертимся на одном месте, не подвигаясь ни взад, ни вперед; неведение иногда бывает дело весьма полезное. Немногим, которые подобно мне, несмотря на сходство имен, знали, что Бауцен далеко отстоит от Люцена, не хотелось сознаться, что вероятно мы принуждены были много отступать.
Я редко посещал Пензу. Мать моя, построив себе небольшой домик в подгородном селе Лебедевке, туда переехала, а я поселился опять в том же Симбухине, в семи верстах от неё; следственно, в город мне почти и не зачем было ездить. Сии два три месяца были если не приятнейшим, то едва ли не спокойнейшим временем в моей жизни. Перемирие, заключенное с Францией, и Прагский конгресс подавали надежду на прочный, продолжительный мир. Я полагал, что Наполеон не захочет продлить борьбы истощенной Франции с торжествующею Россией и раздраженною, восставшею, ополчающеюся почти целою Германией, — захочет взять отдых и исполнение дальнейших замыслов отложит до удобнейшего времени. Я старался не узнавать что происходит в свете, не читал даже ведомостей. Успокоенный духом, пользуясь совершенною независимостью и не имея ни каких забот (ибо мать моя опять вступила в совершенное распоряжение имением), я с наслаждением предавался моей лени и праздности, которые могут быть только приятны после сильных душевных волнений и тяжких умственных трудов. Тишина, меня окружавшая, благорастворенный воздух, тень сада и рощ, ослабляя во мне даже способности» мыслить, создавали мне то материальное благосостояние, которое испытывают выздоравливающие после жестокой болезни. Не на долго судьба дала мне отпуск от печалей жизни сей, на которые, кажется, постоянно она осуждала меня. Они ожидали меня следующей зимой, и ныне в старости не без стыда приступлю я в изображению их в следующей главе.
VIII
Генерал Алексеев. — Посещение Зубриловки. — Грозная княгиня. — Младшие князья Голицыны. — Любовь.
В конце сентября узнали мы, что Австрия с Юга и Швеция с Севера пристали к великому союзу нашему против Наполеона; что последняя на немецкий берег высадила уже войска свои, которые прикрывают Берлин; что искусные и храбрые французские генералы, Моро и Бернадот, находятся в рядах наших против порабощенного отечества и, наконец, что военные действия уже начались.
Опять с новою силой запылала еще неугасшая всеобщая европейская война, в которой все народы её должны были принять непосредственное участие. О, неизгладимые воспоминания последней гигантской борьбы, в которой всё было велико — и цель, и люди, и средства, и усилия, и чувства, кои оживляли царей и народы, вождей и ратников! Что ныне с вами сравниться может? Франции, которая билась на смерть, упорно защищая приобретенные славу и могущество, Германия, с отчаянным мужеством подымающаяся из праха на завоевание своей независимости, Россия, идущая освободить народы, Англия, напрягающая все силы для поддержания союза, ибо в низложении своего бессмертного противника видела единственное спасение своих всемирных богатств, — вот зрелище, которое являлось тогда на сцене мира и которое в продолжение немногих месяцев быстро стремилось к развязке чудной революционной драмы. Кто из подвизавшихся в сию великую эпоху может вспомнить об ней без восторга, особливо когда сравнит ее со скудостью и с подлостью настоящего? Страдания, конечно, были велики, язвы наносимые народам глубоки, боль была живая, но утишаема, умеряема высокими чувствами патриотизма и чести. Она ничего не имела общего с глухою болью, с тоскою и ломотою, которые ныне одолевают состав общественного тела и в будущем предвещают ему много зол. Тогдашнее общее волнение в отношении к нынешнему мирному состоянию тоже самое, что быстрые движения сильного бойца к судорожным движениям гальванизированного трупа. Но оставим настоящее: грустно смотреть на него!
Хотя, при открытии сей новой кампании, первая попытка союзных войск на Дрезден и весьма походила на поражение, но мы вдали едва могли это заметить, ибо оно в тоже время было заглушено тремя победами: крон-принца шведского при Грос Беерене, Блюхера при Кацбахе и, наконец, одной русской гвардии при Кульме, в ущельях Богемских. От сей последней мы все были без памяти и ужасно как ею возгордились.
Один из отличавшихся в сию знаменитую войну находился тогда у нас, среди нашего семейства: это был зять мой Алексеев. Жена его, по недостаточному состоянию, долго жить в Петербурге не могла; поручив Богу двух малолетних сыновей и оставив их в Пажеском корпусе, еще в марте месяце приехала она к нам в Пензу. Генерал же Алексеев находился в сражении при Люцене и получил сильную контузию в ногу. Этот совершенно русский человек не умел как-то угодить возрастающему тогда в могуществе немцу Дибичу, имел некоторые неприятности и воспользовался заключенным перемирием, чтобы отпроситься домой, отдохнуть, полечиться и навестить жену и родных. С июля месяца жил он в Пензе. Неблагорасположенные к нему в главной квартире воспользовались его отсутствием, чтобы вместо какой-нибудь лестной награды испросить ему подарок в десять тысяч рублей, да Прусский король дал ему орден Красного Орла второй степени. Когда пришли к нам вести о новых русских победах, сильно забилось в нём ретивое. Несмотря не неудовольствия, которые он уже имел и которых еще ожидать мог, его так и позывало в армию. Как ни старались его удержать, в половине октября отправился он по пути к Киеву, а мы с сестрой провожали его до Чембара.
Верстах в пятидесяти от Чембара, через степные и мало населенные места, находилась Зубриловка. Князь Федор Голицын, которому селение сие досталось по разделу, на зиму с семейством своим уединился в нём и, верно скуки ради, меня убедительно приглашал навестить его. Пользуясь соседством, дал я сестре одной отправиться обратно в Пензу; а сам, несмотря на неприятности осенних дорог и погоды, отправился к нему.
Я приехал поздно вечером и нашел его вдвоем с женой в слабо освещенной комнате нижнего этажа. Они умирали со скуки, и нет ничего удивительного, если приезд нового лица, человека сколько-нибудь образованного, их обрадовал. Тут только, могу сказать, познакомился я с этой княгиней; в петербургской многолюдной её гостиной, где на софе, как на троне, председала она, это дело было невозможное; там можно было довольствоваться от неё двумя-тремя словами, как от особ царской фамилии. Она имела все свойства европейских аристократок прежнего времени: вместе с умом и добротою была холодна и надменна; делалась любезна только с короткими людьми. Такие женщины своим примером поддерживали лучшее общество, но в провинции они не годились. Учтивость без малейшей улыбки, которую княгиня Голицына оказывала соседкам своим, им казалась обидною; и они вместе с мужьями своими перестали тут показываться. Домашний весьма тесный круг, составленный из наемных иностранцев и иностранок, был единственным обществом знатной четы.
Но саженях в семидесяти от её жительства можно было еще иногда встречать барынь, прежних частых посетительниц Зубриловки. Там, подле церкви и близ праха супруга, старая княгиня построила себе небольшие деревянные хоромы, как внутри как и снаружи отличающиеся совершенною простотою, и в них поселилась, большие палаты предоставив сидящему на княжестве наследнику своему. Пока мы вечером разговаривали, хозяин получил от матери маленькую записку, в которой поручает она ему пригласить меня на другой день к ней обедать. Я во вдовстве еще не видал её; хотя она приезжала в Пензу, но редко кому показывала светлое лицо свое. Не предвидя ничего для себя неприятного, без малейшей боязни пошел я к ней. Она встретила меня с какою-то язвительною улыбкой, превратив старинное, знакомое ты в учтиво-укоризненное вы. Когда я уселся против неё, вопросила она меня, часто ли я получаю письма от друга моего ***-на? Я отвечал, что имел сношения с ним по службе, но переписки никогда[168]. Тут пустилась она всячески поносить его и меня, утверждая, будто из подлости, из пустой надежды на покровительство Мордвинова (тогда не служащего), решился я попрать все обязанности сына и приятеля, не убоялся оскорбить два семейства, коим злодействовал ***, и тому подобное. Я призвал на помощь всё достоинство свое, стараясь ей напомнить, что я уже не тот отрок, которого знала она в Казацком, а едва ли не юноша, зауряд. Куда тебе! Глаза у неё засверкали, губы затряслись и, после минутного молчания, она вскрикнула: «Да знаешь ли, что ты у меня в руках? Знаешь ли что я могу с тобою сделать? Могу велеть разложить тебя и высечь». Я вспомнил то, что слышал про подвиги её молодости и обмер. Сын её, мигая мне глазом, бросился к ней с словами: «Полноте, матушка, ведь они давно с братом помирились; дайте и вы ему вашу руку поцеловать». Делать было нечего, я подошел, а она то подавала, то отдергивала руку свою. Через минуту пришли сказать, что обед готов; она встала, уверяя, что меня не надобно за стол пускать, а между тем сама повела к нему и посадила подле себя. За обедом повторяла, что мне не надобно есть давать, а всякого кушанья сама накладывала мне на тарелку. Такие взбалмошные злы не бывают: это доказывает, что сердитые женщины в существе всегда предобрые; только избави Бог и от них. Невестка была свидетельницей сей трагикомической сцены и от неё, конечно, не менее меня страдала: она вся была исполнена важности и приличия и верно в жизни ни разу не забывалась. Между ею и свекровью находилось как будто целое столетие; одна казалась боярыней времен Елизаветы Петровны, другая — дамой двора Елизаветы Алексеевны.
Вечером объявил я любезному хозяину моему, что Зубриловка его становится страшна, опасна, и что на другой день, рано поутру, намерен я бежать из неё. Он уверял меня, что мать его опомнилась, в отчаянии от случившегося и хочет удвоенными ласками меня заставить забыть его. На безлюдье и Фома человек, готов я сказать, может быть, с излишнею скромностью: оттого-то хозяева мои употребили все убеждения, чтобы удержать меня долее, и я пробыл целую неделю в добром согласии с обеими княгинями. Грязь замерзала от сильных утренников, а днем солнце сияло на чистом небе, и прогулки по рощам были не без приятности.
Не прошло еще пяти лет, как князь Федор был женат на пребогатой единственной дочери фельдмаршала князя Прозоровского; затеи его не успели еще расстроить имение, и разорение даже издали еще не грозило ему. От великолепий двора по временам отдалялся он, чтобы менять их на пышности собственного великокняжеского житья, которое намерен был завести он в отдаленном поместье. Ему хотелось, чтобы замок его походил на Павловский дворец; и средний и верхний этаж его в это время переделывались самым великолепным образом, а сам он покамест помещался в нижнем, который также с большим вкусом и роскошью отделан. Этого мало: огромный, красивый пруд хотел он обратить в широкую речку; для открытия видов делал просеки и рубил славные деревья в степных местах, где лес ценится золотом; одним словом, знатным образом куролесил. В этом состояли его деревенские занятия; княгиня занималась детьми, чтением классических авторов и изучением древней истории; хозяйством, кажется, никто. Право, жаль мне было на всё это смотреть.
Может быть, читатель подивится терпеливости моей в отношении к Голицыным. Чтобы оправдать себя перед ним, должен я войти в некоторые подробности, в описание некоторых семейных и провинциальных сплетен, коими, может быть, ему наскучу; но что делать? Без этого я никак обойтись не могу.
Да вспомнить читатель старинного друга, потом недруга отца моего, Ефима Петровича Чемесова; его уже не было на свете; о нём и о супруге его я много говорил, а о семействе его едва упомянул. Из трех меньших дочерей его средняя, Марфа, была не красавица; но миловидность ее была лучше красоты. Её черные, огня исполненные глаза и самая приятная улыбка были отменно привлекательны. Она хороши умела воспользоваться воспитанием, полученным в Екатерининском институте, со всеми была отменно любезна и умом превосходила всё семейство свое. Честолюбивая тетка, Елизавета Петровна Леонтьева, которую также прошу не забывать и которая брата моего не допустила жениться на внучке своей Ступишиной, имела на племянницу великие виды. Не знаю по какому случаю были у неё давнишние, короткие связи с княгинею Варварой Васильевной Голицыной, и в Пензе выдавала она себя за опекуншу трех маленьких сыновей её, братьев губернатора. Она положила одного из них непременно женить на Марфе Чемесовой, и старший, Павел, оказался более других к тому склонен. Такой жених право не мог почитаться находкой; в нём не было ни крошечки ума, а тьма пороков. Лицом не совсем дурен, был он записной и несчастливый игрок, любил лишнее выпить и в отношении к женскому полу вел жизнь самую развратную. Ни мысли, ни движения благородного, а уже способностей никаких. Семейство его не было ослеплено на счет его недостатков, а со всем тем голицынская гордость сильно возмутилась, когда изъявил он желание соединиться браком с простою дворянкою. Сначала мать слышать не хотела, но как это было в самый разгар войны, и молодой человек вступил в ополчение, то, дабы выиграть время, изъявила она согласие, с условием, чтобы свадьбе быть по заключении мира. А между тем жених так захворал, что всё тело его покрылось злокачественными ранами, и вместо армии, среди зимы, должен был он ехать лечиться на Кавказ.
В тоже время другое горе посетило голицынскую семью: любимец княгини, Василь, почувствовал также необоримую склонность к девочке, можно сказать сиротке, воспитывавшейся в доме у брата его Григория. Это уже было дело совсем нешуточное; моложе Павла четырьмя годами, Василий совсем был не чета старшему брату, во всём брал первенство перед ним, и если взять в соображение и чины, то и тут стоял выше его, будучи камер-юнкером пятого класса, когда тот находился в десятом; в самом обращении с ним он как будто удостаивал его братством. Хотя в нём не было ничего необыкновенного, но по мнению матери и братьев, ему предстояло самое блестящее поприще, и также подобная женитьба ожидала его в будущем. Война и это дело поправила: он вступил в Пензенское ополчение и отправился с ним в поход.
История красотки, к ногам которой Василий Голицын надеялся, по возвращении, бросить лавры свои, вероятно потому мне кажется занимательною, что в воспоминаниях моих занимает важное место. Лет двадцать тому назад, мне бы еще приятно было ее рассказывать, под пером моим ей бы конца не было: а ныне, да успокоится читатель, мне нетрудно будет ее сократить.
Дочь пребогатого и презнатного польского пана, князя Ксаверия Любомирского, Клементина, влюбилась в шляхтича Петра Крогера, сына одного из управителей отцовских имений, бежала с ним и, против воли отца, с ним обвенчалась. Жестокое наказание, как бы самим небом ниспосланное, было последствием сего детского неповиновения — преступления, которое в глазах моих извиняется силою любви. Отец никогда не хотел ее простить, лишил наследства и выделил ей только законную часть из имения умершей матери.
В продолжение немногих лет, неблагодарный муж, которому всем она пожертвовала, и который всем ей был обязан, успев присвоить себе всё небольшое имущество её, прогнал ее и отнял у неё даже двух малолетних детей, дочь и сына. Лишившись всего, где было искать ей утешений, если не там, где все несчастные находят его? Она нашла убежище в женском Кармелитском монастыре, в городе Дубне, Волынской губернии, и спустя несколько времени в нём постриглась.
Во время предпоследней войны нашей с французами, когда наши поляки не смели еще и думать, чтоб им возможно было отделиться от России, белорусский помещик Петр Крогер вступил в милицию, которою в этом краю начальствовал князь Сергей Федорович Голицын. Человек был он проворный, полюбился ему и приплелся к его свите. Случись, что брошенная им жена находилась в родстве, и весьма недалеком, с невесткою князя, женою Григория, урожденною Сологуб. Сия последняя, благочестивая и со страдательная, выпросила к себе у Крогера несчастную девочку, дочь его, которая не получала никакого воспитания, и он отказать ей в том не смел, а может быть и рад был освободиться от дочери, как от обременительной заботы.
Когда первый раз увидел я в Пензе эту девочку, которую звали Теофила, ей было лет шестнадцать, но в суждениях и разговорах она была еще совершенное дитя. Создавая ее на славу и украсив всеми наружными прелестями, сама природа, видно, так залюбовалась своим произведением, что в рассеянности забыла ей дать многое, которое для женщин в жизни бывает не излишним. Тоже самое делали и люди: пораженные её очаровательною красотой, не думали справляться, под этою небесною оболочкой есть ли чувство и ум? Просто как совершенством творения величайшего иг артистов, долго любовался я сим цветком, который всё пышнее в глазах моих распускался. Братья Голицыны все до единого были люди весьма любострастные; но истинная любовь ни одному из них не была известна: семейства менее поэтического я не знавал. Василию полюбилась девочка, препятствий желаниям своим он еще не встречал, и потребовал дозволения жениться на ней. Она же, без всякой особой к нему склонности, охотно была на то согласна; но когда, после отъезда его, запрещено было ей о том думать, она ни мало не огорчилась. Всё это была семейная тайна, о которой я не имел никакого понятия, тогда как сватовство Павла на Чемесовой было известно целому городу.
Не надобно было полагаться на действие времени, забвение, охлаждение двух влюбленных; нужно было воспользоваться их отсутствием, чтобы приискать женихов для их невест, а где их было взять тогда? Губернатор Голицын подметил необыкновенное удовольствие, с которым слушал я милый вздор из уст их воспитанницы, стал подозревать чувство, которого во мне вовсе еще тогда не было, и ожидал его развития, чтобы поощрить его; история с ***-ным на время всё это остановила.
Вскоре после примирения нашего, не мог я не заметить, что как будто невзначай мне случается часто оставаться наедине с молоденькою красавицей, дозволяется делать прогулки пешком и в коляске за город с нею и с немкою, более нянькою чем гувернанткою, что в обращении со мною она сделалась скромнее, что от малейшей похвалы, у меня вырывавшейся, она улыбается, краснеет и потупляет глаза; эдак она мне еще более нравилась. Да что же? подумал я, почему бы мне прелестною подругой не украсить жизнь мою, которая в будущем является мне столь одинокою и тоскливою? Я шутя начал говорить о том матери моей; она сильно и гневно восстала против намерения моего. Живши долго в Варшаве, в Люблине, наконец в Киеве, имела она сильное предубеждение против полек: все они кокетки, неверные жены, твердила она. Я знал, что в важных случаях воля её бывает очень тверда и, дабы положить всему конец, решился переехать в наше Симбухино. Напрасно: препятствия раздражили меня; в бездействии, в уединении деревенской жизни воображение мое пуще воспламенилось, и всё мелькал передо мною чудесный образ; то, что едва зародилось в сердце, развилось в голове. Так-то, я думаю, почти и всегда бывает с любовью.
Когда осенью воротился я в Пензу, то эта была уже настоящая страсть. Описывать ее не буду, во первых потому, что теперь не сумею, во вторых потому, что как-то совестно в нынешние лета мои за это приниматься. Если бы, паче чаяния, читатель захотел узнать о том, то пусть раскроет любой роман: там изображено всё то, что я перечувствовал. Мне кажется ныне, что это должно походить на сон, в который погружает опиум после сильного его приема; в опьянении, которое он производит, чувствуешь, говорят, неизъяснимые муку и блаженство. Вообще, изо всех моих воспоминаний это одно, которое постоянно я отталкиваю. Любовь есть беспрерывное самоотвержение; но когда разгоряченное самолюбие восторжествует над ней, она становится ненавистна. Никогда еще в жизни не играл я столь глупой роли; в провинциях всякий несчастный любовник казался смешон, и я был баснею Пензы. А от чего я был несчастлив? Оттого единственно, что был покорный сын.
Итак, любовь была причиною, истребившею во мне дух оппозиции. На Голицына в начале зимы, я никак жаловаться не ног; он как нельзя более был доволен моею покорностью и часто шутил со мною насчет моей страсти. В случаях объясниться с Теофилой у меня недостатка не было, но я не решался; когда же сие сделалось против ноли моей, она отвечала мне глупою улыбкой, которую назвал я невинною и прелестною, и принял за согласие. Вскоре потом всё переменилось. В январе получил я наконец согласие матери моей, и она поручила сестре моей Алексеевой сделать формальное предложение Голицыну; он отвечал, что у воспитанницы его есть отец, который один может располагать её судьбою, что он в конце марта должен приехать в Пензу, следственно переписка об этом предмете будет напрасна, а что, по приезде его, он сам берется быть моим сватом. Вместе с тем просил он сестру мою, чтоб она убедила меня воздерживаться от прежней короткости с невестою; ибо дело, становясь серьёзным и будучи не решенным, должно оставаться тайною, иначе было бы неприлично в глазах публики. Пензенской публики! Я как дурак поверил, и дня два или три был совершенно счастлив.
Вдруг увидел я, что моя возлюбленная совсем от меня отворачивается и всегда так окружена, что нет для меня возможности лишнего слова с нею молвить. Я подумал сперва, что это какой-нибудь брачный этикет, мне вовсе неизвестный, но вскоре потом со всех сторон начали обращаться ко мне с вопросом; «скажите, правда ли, что вы сватались, и вам отказали?» Легкомысленный и нескромный Голицын двум или трем знакомым успел рассказать, что он лучше от меня отделаться не умел, как выдумать приезд Крогера. Мне показалось, что всё это было сделано с намерением меня одурачить. Мое положение сделалось ужасным: я кипел досадой и не смел показывать ее; это значило бы навсегда проститься с надеждой, которая одна только живила меня тогда. Я не прервал знакомства с домом губернатора, но когда, разговаривая с ним, выжимал на уста улыбку, глаза мои горели негодованием. Заметив это, раз опуская голос, так чтобы окружающие не слыхали его, сказал он мне: «пожалуйста ничему не верьте, имейте только маленькое терпение, мы всем этим делом поладим».
Вот что было причиною этой внезапной перемены. Осенью пришли слухи, что Павел Голицын умер на Кавказе; он действительно умирал, но ожил, и здоровый в декабре явился к матери в Зубриловку; там наложили на него секвестр и в Пензу не пустили. В это же время губернаторша Голицына с целым семейством, ездила навестить свекровь; приезжий нашел, что девица Крогер выросла, похорошела и сказал, что она ему очень приглянулась. Тогда между членами этого семейства родилась новая комбинация. «Нет Германской принцессы, руки которой бы брат Василий не был достоин, но для глупого, пьяного, гнилого Павла, чего же лучше? — красотка, как бы уже принадлежащая к семейству и по матери в родстве со всею польскою знатью. Состояние, правда, весьма небольшое; но для человека, которого нельзя показать в столице и его будет достаточно; главное же, чтобы спастись от пензенского родства и одним махом сделать два удара». Тогда, кажется, положено бросить веденную на меня атаку, а напротив, поставить себя в оборонительное состояние. Не понимаю отчего нескоро последовало исполнение общего приговора. Она всё делала по приказу: не было ни мыслей, ни чувств, ни воли в этом жалком, прекрасном создании, а он всегда быль существо самое бесхарактерное, неосновательное.
Спешу кончить роман сей, которого я был весьма не блестящий герой, с тем чтобы вперед никогда о нём не поминать. Когда уже меня не было в Пензе, ровно через год после предложения моего, совершился ненавистный мне брак Василий Голицын возвратился почти накануне свадьбы; братья не поссорились; я повторяю, они не знали истинной любви. Что касается до меня, то нескоро мог я забыть близость недостигнутого блаженства. Бывало, когда случится мне сделать доброе дело, или сердце мое исполнится сострадания к несчастью ближнего, или внезапно чувство набожности наполнит душу мою, — в эти редкие и прекрасные минуты жизни моей, бывало, всегда посетит меня нежный образ Теофилы и напомнит мне время чистейшей любви. Но, наконец, призрак исчез навсегда. Увы, зачем увидел я ее вдовою, лет через двадцать после её замужества! Если бы, по крайней мере, и стан и черты её вовсе изменились, я бы мог еще уверить себя, что вижу совсем иную женщину; но нет, почти всё тоже, а со всем тем! как сказать мне?.. В прекрасной Теофиле, или Феофиле, увидел я настающую Фефёлу. Заимствуя выражение у французов скажу, что я нашел в ней горькую дуру.
Известие о знаменитой Лейпцигской битве, самой решительной изо всех бывших в эту войну, получено у нас в половине ноября. Со всех концов Европы собрались тут сражающиеся: с четырех сторон, четыре армии устремились на один пункт сей, защищаемый Наполеоном. Французы приписывают потерю этого сражения какому-то капралу, который поспешил взорвать мост и чрез то предал бегущих в руки неприятеля; да ведь надобно же было наперед, чтоб они обращены были в бегство. Тут нельзя уже было взвалить вину на морозы, а очевидцы уверяют, что после того ретирада их совершенно походила на прошлогоднее бегство из под Красного. Кажется, французы взяли девизом: победить неприятеля или бегом бежать от него; надобно отдать им справедливость, они великие мастера бороться с истиной. С другой стороны, немцы в этом деле и поныне почитают себя единственными победителями, забывая, что с ними вместе сражалась вся огромная русская армия, сражались шведы, венгры, славяне по всем наименованиям, даже из отдаленных мест башкиры и татары. И кто был душою, двигателем, можно сказать, главою этого бесчисленного сборища, между которым так трудно было сохранить согласие? Кто поставил на ноги прусского короля? Кто вытащил на поприще великих событий самого мирного австрийского императора? Кто, если не наш молодой Агамемнон, как в стихах назвал его Жуковский, если не тот, над которым в этот день и в последующие за ним месяцы видимо сияла благодать небесная?
У нас в провинциях от этой вести и от многих других, быстро одна за другою получаемых, только что с ума не сошли от радости. Давно ли, кажется, дрались наши на берегах Москвы-реки, и вот уже они на Рейне и, в свою очередь, Франция угрожается нашествием иноплеменных! Если Наполеон не совсем рехнулся, он поспешит заключить мир. И в этих провинциальных суждениях, право, было более благоразумия, чем в его тогдашних действиях. Особенно нашим пензенским приятно было узнать, что их ополчение участвовало в славной битве, и что из их родных никто в нём не погиб. Ополчение это, принадлежавшее к армии Бенигсена, направлено было потом к Гамбургу, а малая часть его причислена к гарнизону, занявшему Дрезден.
Всё располагало моих дворян к веселостям; но в предшествующем году они крепко поиздержались, а без денег как можно веселиться? Несмотря на то, к Рождеству, откуда взялись наши помещики: изо всех уездов понаехали, и пошла потеха! От самого Рождества вплоть до последнего дня масленицы, только два дня были без пляски, в том числе один сочельник. Весело проживался Голицын и других в мотовство умел втягивать. Из Зубриловки, по его вызову, приехал и брат его, князь Федор с супругой своею; но она ни с кем почти не говорила, ни на что не хотела смотреть и вскоре потом уехала.
Что я делал в это время общего сумасбродного разгулья? То же, но иначе, — сумасбродствовал! Я ничего не ведал о замышляемых браках Василия и Павла Голицыных, никак не подозревал, что Теофила невеста трех женихов, и все еще предавался слабой надежде. Она в таких случаях настоящее зло и похожа на продолжительные предсмертные страдания, когда человек невольно хватается за жизнь; скорое её пресечение делается тогда счастьем. Если бы не глупая страсть, я, кажется, всю эту зиму плавал бы в радостных восторгах: Россия наша везде торжествовала! Но что делать? Никогда еще судьба не дала мне вполне насладиться удовольствиями жизни, и в розы, которыми изредка украшала ее, всегда вплетала самые колючие тернии.
IX
Празднование взятия Парижа. — Пензенская депутация к Царю. — Москва после французов. — Князь и княгиня Вяземские.
Прошла зима, первые месяцы 1814 года; наступила русская весна, мартовская великопостная оттепель; всё возвещало скорое появление — жизни. Но праздник Светлого воскресения, в самом конце марта, встретили мы невесело: воротилась стужа с ветрами, метелями и непогодою. К тому же и самые известия из армии почитали мы неудовлетворительными, — мы, уже избалованные постоянными и быстрыми успехами. Казались, что союзная армия разгуливает по Франции, напрягая все силы, чтобы где нибудь прорваться к Парижу, но что везде, где только встретится ей Сам, всюду покажет еще себя прежним, несокрушимым Наполеоном. Так было гораздо за половину апреля месяца.
В это время создал я себе новую забаву, вовсе непохвальную: я зол был на всё человечество, и кого бы ни было сердить, огорчать сделалось для меня наслаждением. Я избегал сосланных французов, Радюльфа и Магиёра, а еще более пленных; тут начал я сближаться с ними, их посещать и принимать у себя. Ни Рыщевской, ни сестры её Четвертинской, ни которого из поляков и даже из москвичей, которые с ними были знакомы, давно уже не было, а в наших случайный патриотизм не успел еще довольно простыть, чтобы с ними водиться. По-русски ни один из них не знал ни слова, иностранных газет мы не получали; откуда было им знать что происходит в мире, и я быль для них газетой. Особенно примечателен был пленный полковник Пион, который молодым солдатом, с молодым генералом Бонапарте, воевал еще в Египте, был им замечен, отличен, всегда лично ему известен и находился потом во всех с ним кампаниях. Другие пленные также говорили о Наполеоне с восхищением, но в этом преданность доходила до изуверства, и я увидел, как человек из другого человека может сотворить себе Бога. Я всегда спешил возвещать ему наши успехи, а он бесился и отвергал истину моих слов.
— Ведь это не мое, а напечатано в ведомостях.
— Да ваши газеты лгут, также как и наши.
— Может быть, и я готов согласиться, что французы везде бьют русских, — отвечал я; — только странно, что под их ударами они всё идут вперед от Москвы до Рейна и далее.
Он перестал со мною видеться и другим заказал. Но нет, любопытство его проняло, и он опять ко мне явился. Я заговорил с ним о делах совсем посторонних войне; он верно подумал, что мне нечем перед ним похвастаться, и решился меня вопросить. «Я ничего не скажу вам: вы мне не верите, всё сердитесь, а мне совсем не хочется вас печалить», и таким образом заставлял его умолять меня о вестях, а я с некоторою прикраскою их сообщал ему. Бедняжка! Ныне, право, мне жаль его.
В конце апреля, помнится 28-го числа, на безоблачном небе запылало вновь яркое солнце. В этот же день какой-то приезжий или проезжий из Петербурга кому-то сказал, что Париж взят штурмом и, подобно Москве, другой день как горит: верно ему этого хотелось. Победа! Торжество! Но не такое, какого бы я желал. Для других было всё равно, и радостная весть из уст в уста везде разнеслась. На другой день к вечеру, с присланным от министерства курьером, получил губернатор предписание распорядиться о совершении благодарственного молебствия по случаю сего чрезвычайно-важного события. К предписанию приложены были два печатных листочка. В одном находилось известие, что Париж сдан на капитуляцию, после сражения, бывшего под стенами его, и что русский генерал Сакен назначен военным его губернатором. В другом было объявление Парижу и Франции, что союзные монархи более не намерены входить в какие-либо условия с Наполеоном и членами его семейства: оно подписано одним только Александром, которого имя гремело тогда во всех концах мира, и скреплено Нессельродом, коего имя и в России тогда было вовсе неизвестно. Дальнейших подробностей мы не могли еще иметь; но и этого было довольно и гораздо лучше слухов, пришедших накануне.
Вот тут-то Россия заликовала и, правду сказать, было чем возгордиться! Что бы ни говорили немцы, всё главное дело сделано русским царем и русским войском; те, которые, полтора года перед тем по Владимирской дороге отступали к Клязьме, готовы были потянуться к Луаре.
Губернатор хорошо сделал, что на несколько дней отложил молебствие, дабы поболее дворян могли к нему съехаться, и через то придан ему был вид более торжественный. Но вместе с тем ему хотелось, чтобы дан был великолепный пир, обед и бал; это уже было неуместно. Съехавшиеся помещики на радостях из кошельков и шкатулок потащили последнее; кто-то указал им на средство сделать лучшее употребление из значительной суммы ими собранной. Отделив некоторую часть на какое-нибудь простонародное увеселение, всё остальное должно было принадлежать вдовам и сиротам, инвалидам, увечным, страждущим, нищим, так что в этот памятный день не оставалось в городе ни одного человека, который не ощутил бы радости. В эти дни я опять было полюбил Пензу: я не слыхал ни одной хвастливой речи, а все казались исполнены трогательного умиления и благодарности как к небесному, так и земному Создателю их благ.
В воскресенье 3 мая, день именин и рождения матери моей, у нас в доме был семейный, а в городе общественный праздник. В этот день мать моя была почти весела, и я почти забыл сердечное свое горе. Поутру соборный храм не мог вместить в себе стекшегося народа, и он густыми толпами теснился вокруг него, и все мы с восторгом внимали победную песнь поющим. Купцы и откупщик угощали потом народ пивом, водкой и пирогами.
Между губернаторским домом и собором был просторный, пустой квадрат, который Голицын засадил березами, и на них, как нарочно, к этому дню распустились листья; на этом месте сочинили кой-какую иллюминацию. В середине горел щит, на коем выставлены были слова: Париж, 19 марта, и вензелевое имя Государя, и он окружен был рамкой из разноцветных стаканчиков, разумеется, раскрашенных. Вечером, в этом небольшом пространстве вся Пенза старалась уместиться. Поодаль, в темноте, заметил я французских пленных, ласково подошел к ним, но не утерпел, чтобы, указывая на щит, не спросить Пиона, всё ли он еще сомневается. «Вы может правы, отвечал он, а я всё-таки не могу поверить». Я улыбнулся и вспомнил Иванкину в Хвастуне, комедии Княжнина: «знаю, да не верю», также говорит она.
Надобно признаться, что и нам едва верилось: всё то, что прочитали мы в полученных на другой день газетах, казалось обворожительным сном. Как? Бурбоны провозглашены, и Наполеон изъявляет согласие отказаться от престола! Да это конец революции, конец всем бедствиям. Мир мирови дарован, и источником благоденствия Европы, будущего её спокойствия всё-таки останется наша Россия. О, как попрал Господь гордыню народов западных, и как высоко вознес Он наше смирение!
Через несколько дней должен был я находиться на другом празднестве, хотя частном, но более великолепном. Зимой, из Петербурга, к Федору Голицыну приехал погостить Рибопьер, друг его и родственник по жене, урожденной Потемкиной, со всем семейством. После Парижских известий, кому была охота оставаться в глуши! Все спешили показаться на свет и, на прощанье с Зубриловкой, князю Федору хотелось задать огромный пир; для того избрал он день рождения Рибопьера, 13 мая. Он как можно более разослал пригласительных грамот, и я получил собственноручную записку от самой княгини. Мне бы не ехать; но губернатор отправлялся туда на всё лето со всем семейством своим, и мне хотелось хоть бы еще поглядеть на нее.
Пир был пребогатый, только не гостями: из приглашенных немногие на него приехали. Наши дворяне начинали уже чувствовать чем обязаны своему, начинали уже считаться с боярами. Однако же человек до пятидесяти было за обедом; в том числе из соседних уездных городов несколько пленных французских офицеров. Один из них, вероятно, полагая, что Россия разделена на мелкие княжества, также как Германия, в которой он воевал, почитал себя в гостях у владетельного герцога и весьма искренно поздравлял меня с особою милостью, которою, по замечаниям его, я пользуюсь у его светлости; я не оставил этим потешить доброго и чванного нашего хозяина. Вечером, на всех возвышенных местах горели смоляные бочки; вся роща была освещена плошками, и по ней в разных местах раздавались песни разных народов европейских: там были русские песельники, коих нетрудно было найти; там труппы тирольцев, итальянцев, славян и других, всё набранные из пленных солдат разнородной разрушенной Наполеоновой армии. На щитах в одном месте видно было 19 марта, в другом 13 мая: свобода Европы и рождение Рибопьера. Когда он был моим начальником (он оставил уже должность свою в Министерстве Финансов), держал он себя так высоко, что мне трудно было коротко узнать его; тут же в Зубриловке, где после празднества еще оставался я несколько дней, мог я измерить всю пучину его ничтожества.
Возвратясь в Пензу, пошли у нас советы, что мне из себя сделать? Я в службе себя более не почитал: по поступлении в Пензенский комитет для пожертвований, просил я министерство уволить меня из оного вовсе, а получил увольнение, верно по ошибке, для продолжения занятий по сказанному комитету, и это недоразумение впоследствии было для меня весьма полезно. Мать моя, тайно радуясь моим любовным неудачам, весьма желала, чтобы для развлечения оставил я Пензу; но я, сколько мог, тому противился. Она доказала мне, наконец, сколь несбыточны мои мечты, и самого заставила желать удалиться.
Но меня в сторону, и несколько слов о моих военных родных. Зять мой, Алексеев, никак не мог догнать армии, которая двинулась из Лейпцига прежде, чем выехал он из Пензы. Путем-дорогой остановился он в Дрездене, у царствующего тогда в Саксонии князя Репнина, и с ним некоторое время пропировал, до чего оба были великие охотники. Явясь в армию, находился при осаде Метца и вскоре там узнал о взятии Парижа, куда поспешно и отправился: следственно, прокатался даром. Брат же мой Павел в начале 1813 года назначен был комендантом варшавского известного укрепления Праги, а потом опять находился в армии, где в сражениях, вероятно, успел отличиться: ибо во время двух кампаний получил две шпаги, Аннинскую и золотую за храбрость, Владимирский крест с бантом, Аннинский на шею, да прусский Пур-де-Мерит и французский Почетного Легиона в петлицу и, наконец, чин полковника. От обоих получили мы радостные, веселые письма из Парижа.
Конечно, и холодный Петербург ощутил восторги не менее чем у нас в провинциях. Там начали приготовляться к торжественной встрече миротворца-победителя. Совет, Сенат и Синод, в совокупности, определили поднести ему титул «Благословенного»; два верховных государственных сановника должны были ехать ему навстречу с поздравлением и изъявлением верноподданнической благодарности и, наконец, для сего же предмета вызваны в Петербург изо всех губерний депутаты от дворянства. Все это весьма милостиво и кротко он однако же отверг. Что побудило его к тому? Но усилившейся в нём набожности, может быть, желал он только наград небесных и пренебрегал величием мирским? Или, не смотря на нее и на мнимый свой либерализм, среди успехов своих, помнил еще зло и никаких почестей не хотел принимать от подданных? Гордость ли или смирение заставили его сие сделать? Это единому Богу известно.
Ничего о том не зная, у нас в Пензе, около половины июня, — дворянство, чрез губернского предводителя, сделало мне приглашение отправиться в Петербург, чтобы там вместе с генерал-майором Сергеем Адамовичем Олсуфьевым и действительным статским советником Платоном Богдановичем Огаревым, сыном не раз реченного мною Богдана Ильича, составить от него депутацию к Царю. Предложение было слишком лестно, чтобы отказаться от него. Я готов был это сделать под предлогом, что, исключая подорожной без пошлин, дворянство не соглашается ничего мне дать на путевые издержки; но мать моя объявила, что в этом случае заменит она дворянство. И так дело решено; я опять еду в Петербург и опять делаюсь искателем Фортуны.
Между тем мать моя и сама делала сборы к отъезду: она хотела с двумя дочерьми ехать в Киев, чтобы поклониться там святым угодникам и взглянуть еще на место, где провела столько счастливых дней. Третья сестра, Алексеева, должна была ей сопутствовать, дабы из Киева отправиться навстречу к мужу. Отслужив молебен 23 июня, благословясь пустились они в путь. Я остался совершенно один; не было для меня ни малейшей причины длить мое пребывание в Пензе, но начиналась ярмарка, и она послужила мне предлогом пробыть в ней еще несколько дней.
В Москву дотоле обыкновенно езжал я по Владимирской дороге, на этот раз захотелось мне испытать езду по Рязанской, которая была несколько длиннее, но за то, говорили, гораздо лучше и покойнее. Чтобы укоротить ее, я задумал ехать не на Чембар, а проселочными дорогами на Зубриловку: разницы было всего верст двадцать или тридцать; но да позволено мне будет не сказать здесь, почему я предпочел ее. В день Сергия чудотворца, 5 июля, выехал я, наконец, из Пензы.
В Зубриловке царствовала совершенная пустота: в ней нашел я одного Павла Голицына, которого никак еще не думал подозревать в соперничестве. Старая княгиня, так же как и мать моя, уехала на богомолье в Киев и для свидания с сестрой своей Браницкой. Князь Федор со всем двором своим отправился в подмосковную, в Петербург или в чужие края: в день отъезда своего он еще наверное не знал. Оставшийся в Зубриловке единственный член голицынской фамилии, не знаю почему, отказался ехать со мной до селения Макарова, в десяти верстах от неё лежащего. Оно принадлежало брату его, нашему губернатору, который с семейством своим на всё лето там находился. Оно было на самой дороге, пролегающей оттуда в Тамбов, и объехать его было бы странно. Вот тут-то насмотрелся я его княжеских проказ. Хоромы деревянные, не весьма большие, но которые стоили очень дорого, ибо беспрестанно перестраивались, прислонены были к хорошенькой рощице и были местом жительства владельца. Маленький двор, составленный из увезенных им писцов губернаторской канцелярии, одет был единообразно, в казачьи кафтаны серого цвета из холщовой материи с синим холстинным стоячим воротником, на котором белыми нитками было вышито слово Макарово; потом дворня, разделенная на три класса, из коих каждый отличался цветом жилета; по праздникам производство в сии классы и допущение к целованию руки; лакейские балы, в которых, исключая князя и княгини, должна была еще принимать участие и самая мелочь из соседних дворян, и на которых, вместо лакомства, подавались брусника и моченые яблоки, — и многое множество других нелепостей. Всё это было странно, смешно, но в расположении духа, в котором я находился, мне совсем не казалось забавно. Я дал слово читателю не докучать ему более моим любовным вздыхательством, и потому скажу только, что тяжело мне было оставаться несколько дней в этом Макарове, а может быть еще тяжелее было расстаться с ним.
Проехав оттуда верст пятьдесят по дороге ведущей в Тамбов, в каком-то бешенном отчаянии приехал я в селение Оржевку, Кирсановского уезда, и там остановился. Другого названия не умею дать Оржевке; местечек у нас в России нет, а пригородом или посадом нельзя назвать несколько деревень, собранных вместе на большом пространстве, на котором живут сорок помещиков, из коих десять или двенадцать весьма зажиточных и даже довольно богатых. В числе их была у меня там одна родственница, которую давно обещал я посетить. Кто из читателей моих вспомнит чудака Федора Михайловича Мартынова, двоюродного брата матери моей, тому скажу я, что у него был брат Димитрий Михайлович, уже умерший, который оставил по себе вдову Елизавету Петровну, урожденную Сабурову, и что к ней я заехал. Ничего не могло быть добродушнее её самой и многочисленного её семейства; у неё было четыре молодца сына, все в отставке, и четыре красотки дочери, все невесты. Обо всех их ничего не скажу, что бы могло походить на осуждение или насмешку; всё что можно сказать в похвалу их сердца и наружности, я сказал, и сего довольно.
Уездное любопытство гораздо сильнее губернского, но и оно ничто в сравнении с деревенским. Лишь только узнали, что к Мартыновой приехал гость, наехали соседи и осыпали меня приглашениями на обеды и вечера; от некоторых умел я отделаться, но не ото всех; и так дня три-четыре пришлось мне тут остаться. Всё так быстро изменяется у нас в России, что, по протечении двадцати пяти лет, наше старинное дворянское житье в поместьях, даже у меня, видевшего его, осталось в памяти как сон; наяву же ни я, ныне, и верно, никто его уже не узрит. И потому я счел неизлишним дать здесь о нём некоторое понятие. Весьма немногие из помещиков занимались тогда сельским хозяйством, хлебопашеством; осеннее время было для них лучшее в году: они могли гоняться за зайцами; карты не были еще в таком всеобщем употреблении как ныне. Их жизнь была совершенно праздная, однако же они не скучали, беспрестанно посещая друг друга, пируя вместе. За обедом и по вечерам шли у них растабары о всякой всячине; они шутили не весьма приличным образом, подтрунивали друг над другом в глаза и весело выслушивали насмешки, в отсутствии вступаясь за каждого, одним словом, в образе жизни приближались к низшему сословию. Барыни и барышни занимались нарядами, а когда съезжались вместе, то маленьким злословием и сплетнями, точно так же как в небольших городах.
Оржевка, будучи ни город, ни деревня, имела приятности и неудобства обоих. Не сказываться дома не было возможности, а ежедневным посетителям конца не бывало. Девицы не позволяли себе не только привозить с собою рукоделье, но даже заниматься им в присутствии гостей. Шутихи, дураки, которые были принадлежностью каждого довольно богатого дворянина, также много способствовали к увеселению особ обоего пола и всех возрастов. Такое житье для человека с просвещенным рассудком, конечно, должно было казаться мукою; но у меня его тогда не было, и оно мне полюбилось. Беззаботность, веселое простодушие этих владельцев, бестрепетность их слуг, которые смело разговаривали с ними, даже во время обеда, стоя за их стулом, — вся эта патриархальность нравов действительно имела в себе что-то привлекательное. К тому же, в это время, некоторыми из сих господ получены были самые радостные вести из-за границы: их братья и сыновья писали к ним, что вышли живы, здоровы и невредимы из кровопролитной войны, получили награды и осенью надеются их обнять. По сему случаю начались бесконечные пиры, и я попался в самый разгул, что мне, горемычному, показалось весьма отрадно. Человек в иные минуты жизни своей совсем бывает не похож на себя; а в эти дни шум, смех, громкие и нестройные звуки домашних оркестров, Цыганская пляска с визгливым пением горничных девок, объедение и беспрестанно ценящиеся бокалы, могли одни на время заглушить тоску моего сердца. Взятие Парижа положило начало совсем у нас новому (как называют его) гражданскому развитию, которое мало-помалу истребило, даже в провинциях, весь наш старинный русский быт, и я здесь сотворил ему поминку.
Проведя несколько дней в Оржевке совсем непривычным для меня образом, пустился я далее. Прошел слух, что Государю неугодно принимать никаких депутаций, и мне казалось, что я могу располагать своим временем. Однако же оттуда, благодаря казенной подорожной и расточаемым мною гривнам на водку, поскакал я, как говорится, сломя голову. Я никуда и ни к чему не спешил, но быстрота езды как-то оживляла упадший мой дух.
Начиная от самого Тамбова, проезжал я по дороге совсем для меня новой, но никогда еще я не был менее внимателен к окружающим меня предметам. На Козлов и на Ряжск я едва взглянул; впоследствии, проезжая раз через первый, мог я заметить, что он один из красивейших наших уездных городов. Всё-таки губернский город хотелось мне посмотреть, и для того в Рязани намерен я был провести несколько часов; судьба того не хотела. Перед приездом туда, грустные размышления во всю ночь не дали мне сомкнуть глаз моих, и только перед рассветом, утомленный, заснул я крепким, сладким сном. Когда солнце взошло, меня разбудили; я взглянул на какой-то белый дом, что-то пробормотал и опять в сон погрузился. Из невнятных слов моих слуга понял приказание запрягать лошадей и ехать далее, и когда я совсем проснулся, Рязань была уже далеко за мною. Я было хотел рассердиться на слугу своего, но равнодушие ко всему восторжествовало над моим гневом. На Зарайск, и даже на Коломну, поглядел я с тем же вниманием как на Козлов и на Ряжск.
Около полудня, 18 июля, увидел я издали Москву, и сердце опять забилось во мне любовью, которую другая не могла погасить. Золотая шапка Ивана Великого горела вся в солнечных лучах, как бы венец сей новой великомученицы. Над ним сиял крест, сорванный безбожием и восстановленный верою, и я бы воскликнул с Жуковским, певцом в Кремле:
Светлей вознес ты к небесам Свой крест непобедимый.Но эти славные стихи его тогда еще не были написаны.
Всё было ясно, тихо, весело окрест Москвы многострадательной, недавно успокоенной и возвеличенной. Сама она, в отдалении, по-прежнему казалась громадною, и только проехав Коломенскую заставу мог я увидеть ужасные следы разрушения. Те части города, чрез кои я проезжал, кажется, Таганская и Рогожская, совершенно опустошены были огнем. Вымощенная улица имела вид большой дороги, деревянных домов не встречалось, и только кой-где начинали подыматься заборы. Далее стали показываться каменные двух и трехэтажные обгорелые дома, сквозные как решето, без кровель и окон. Только приближаясь к Яузскому мосту и Воспитательному дому, увидел я, наконец, жилые дома, уцелевшие или вновь отделанные. Подумав где бы мне пристать, вспомнил я доброго моего приятеля, Александра Григорьевича Товарова, у которого в последний проезд через Москву я останавливался. К счастью моему, деревянный дом его был цел, и сам хозяин в Москве. Мы обрадовались друг другу, обнялись и стали беседовать: было нам что один другому порассказать.
После обеда поспешил я в Кремль, оскверненный и поруганный. Чудом спасенный наш Сион, наш Капитолий, наполнен еще был знаками лютого, бессильного мщения врага нашего. Целый угол Арсенала, прилегающий в Никольской башне, косообразно был оторван; вся площадь вокруг соборов завалена мусором, обломками обрушившихся зданий; дворца не было, и Грановитая Палата без него казалась печально вдовствующею. Но сами соборы были очищены и приведены в прежнее состояние; все двери в них были открыты, с утра до вечера народ в них толпился, и священники едва успевали служить молебны: вера и любовь русских к сему священному месту, после временного его поражения, кажется, еще более усилились. В следующие дни не пощадил я денег на извозчиков, чтобы изъездить Москву по всевозможным направлениям, право, не столько из любопытства, как по чувству искреннего участия. Я находил целые улицы нетронутые пожаром, точно в том виде, в каком я знал их прежде; в других видел каменные дома, коих владельцы, вероятно богатые, с большими пожертвованиями начинали их вновь отделывать; в иных местах стук топора возвещал мне подымающееся надворное деревянное строение; но гораздо более показывались мне дворы, совсем поросшие травой. Вообще, возбуждающее во мне сожаление встречал я чаще, чем утешительное. И посреди сей картины разорения, всё одни довольные и веселые лица! Привычка смотреть на пепелища, успокоение после ужасов, новые надежды и даже благоприятная погода истребили между всеми сословиями печальные мысли.
Хозяина моего Товарова раз при мне посетили две пожилые девицы, его дальние родственницы (названия их не помню) и доставили мне большое удовольствие. С гневом рассказывали они, как работающий на них женский портной, дабы попасть в моду, принял французское название и на вывеске своей поставил Ажур; как в негодовании своем поехали они сами к нему и объявили, что если не смарает он ненавистного прозвища, то они донесут о том Сергею Глинке. Нравственное могущество этого человека было еще так велико, что испуганный портной исполнил их требование. Я подумал, что и лучшее общество в столицах дышит тем же патриотизмом. Как я ошибся, и вскоре в том удостоверился!
От Прасковьи Юрьевны Кологривовой имел я письмо к старшей дочери её и зятю, Вяземским. От Петербурга до Пензы был я наслышан об очаровательности княгини Веры; о муже её много я говорил в предыдущей части, а еще более слышал: общие приятели ваши заочно всегда восхищались его остроумием. Не знаю, отчего не вдруг решился я к ним ехать, хотя ум в других я более любил, чем боялся его. Они жили в таком квартале, в котором ныне едва ли сыщется порядочный человек. Сему месту, между Грузинами и Тверскими воротами, кем-то дано было приятное название Тишина; ныне называется оно прежним подлым именем Живодерки. Тут находился длинный, деревянный, одноэтажный, несгоревший дом, принадлежавший г. Кологривову[169], вотчиму княгини, со множеством служб, с обширным садом, огородами и прочим, одним словом — господская усадьба среди столичного города.
Меня сначала смутила холодность, с какою, казалось мне, был я принят. Вяземский, с своими прекрасными свойствами, талантами и недостатками, есть лицо ни на какое другое не похожее, и потому необходимо изобразить его здесь особенно. Он был женат, был уже отцом, имел вид серьёзный, даже угрюмый, и только что начинал брить бороду. Не трудно было угадать, что много мыслей роится в голове его; но с первого взгляда никто не мог бы подумать, что с малолетства сильные чувства тревожили его сердце: эта тайна открыта была одним женщинам. С ними только был он жив и любезен как француз прежнего времени; с мужчинами холоден как англичанин; в кругу молодых друзей был он русский гуляка. Я не принадлежал к числу их и не имел прав на его приветливую искренность. Но с неподвижными чертами и взглядом, с голосом немного охриплым, сделал он мне несколько предложений, которые все клонились к тому, чтобы в краткое пребывание мое в опустевшей Москве доставить мне как можно более развлечений. Он поспешил записать меня в Английский клуб (куда однакож я не поехал), пригласил меня на другой день к себе обедать и назначил мне в тот же вечер свидание на Тверском бульваре, лишенном почти половины своих дерев, куда два раза в неделю остатки московской публики собирались слушать музыку, имея в виду целый ряд обгоревших домов.
Супруга его, Вера Федоровна, была также существо весьма необыкновенное. Я знал трех меньших сестер её, милых, скромно-веселых; она не совсем походила на них. При неистощимой веселости её нрава, никто не стад бы подозревать в ней глубокой чувствительности, а я менее чем кто другой. Как другие любят выказывать ее, так она ее прятала перед светом, и только время могло открыть ее перед ним. Не было истинной скорби, которая бы не произвела не только её сочувствия, но и желания облегчить ее. Ко всему человечеству вообще была она сострадательна, а немилосердна только к нашему полу. Какая женщина не хочет нравиться, и я готов прибавить, какой мужчина? В ней это желание было сильнее чем в других. Пленники красоты суть её подданные. В молодости женский пол любит царствовать таким образом и долго не соглашается отказаться от престола, воздвигнутого страстями. Иные дорого платят за успехи кратковременного своего владычества. Такого рода честолюбия вовсе не было в княгине Вяземской: все влюбленные казались ей смешны; страсти, ею производимые, в глазах её были ни что иное, как сочиненные ею комедии, которые перед ней разыгрывались и ее забавляли. Не служит ли это доказательством, что, при доброте её сердца, то, что мы называем любовью, никогда не касалось его? Если бы она могла понять её мучения, то содрогнулась бы. Самым прекраснейшим из женщин одной красоты недостаточно, чтобы увлекать в свои сети; необходимы некоторое притворство, топкость, уловки, одним словом, вся стратегия кокетства. От них она тем отличалась, что никогда не прибегала к подобным средствам, употребляя, если можно сказать, простые, естественные чары. Никого не поощряя, она частыми насмешками более производила досаду в тех, коих умела привлекать к себе. Как между ископаемыми, в царстве животных нет ли также существ одаренных магнитною силой? Не будучи красавицей, она гораздо более их нравилась; немного старее мужа и сестер, она всех их казалась моложе. Небольшой рост, маленький нос, огненный, пронзительный взгляд, невыразимое пером выражение лица и грациозная непринужденность движений долго молодили ее. Смелым обхождением она никак не походила на нынешних львиц; оно в ней казалось не наглостью, а остатком детской резвости. Чистый и громкий хохот её в другой казался бы непристойным, а в ней восхищал; ибо она скрашивала и приправляла его умом, которым беспрестанно искрился разговор её. Такие женщины иногда родятся, чтобы населять сумасшедшие дома. В это время я сам годился бы туда; но, может быть, это и спасло меня. А не мог прельститься умом, тогда кап я пленялся простодушием, то есть глупостью. Увы, и без меня сколько было безумцев, закланных подобно баранам на жертвеннике супружеской верности той, которая и мужа своего любила более всего, любила нежно, но не страстно!
У Вяземских увидел я в первый раз Катерину Андреевну Карамзину и был ей представлен. Она обошлась со мною, также как и со всеми незнакомыми и даже со многими давно знакомыми, не весьма приветливо; это не помешало мне отдать справедливость её наружности. Что мне сказать о ней? Она была бела, холодна, прекрасна, как статуя древности. Если бы в голове язычника Фидиаса могла бы блеснуть христианская мысль, и он захотел бы изваять Мадонну, то, конечно, дал бы ей черты Карамзиной в молодости. Одно имя, ею носимое, уже освящало ее в глазах моих: я любовался ею робко и подобострастно, и хотя уже был зрелый, и едва ли не перезрелый юноша, но, как паж Херубини о графине Альмавива готов был сказать о ней «qu’elle est belle, mais qu’elle est impo saute!» A душевный жар, скрытый под этою мраморною оболочкой, мог узнать я только позже. После обеда приехал сам Карамзин и разговаривал со мною; ему нельзя было узнать человека, которого вероятно, едва заметил он мальчиком, а я не смел ему напомнить о себе в Марфине.
Тут за обедом находился один персонаж, с которым меня познакомили и который мне вовсе не полюбился. Это был многоглаголивый генерал и камергер Алексей Михайлович Пушкин, остряк, вольтерианец, циник и безбожник. Он был гораздо просвещеннее современника своего Кошева; его ум был забавен, но не довольно высок, чтобы снять с него печать, наложенную обществами восемнадцатого века. Странно и довольно гадко было мне слушать обветшалые суждения и правила философизма, отчасти породившего революцию, в ту самую минуту, когда казалось, что она сокрушена была навсегда. Этот Пушкин был родственник кроткого, безобидного Василия Львовича и вечный его гонитель, мучитель.
Также прискорбно показалось мне, что в два или три посещения, сделанных мною Вяземским, не слыхал я ни одного русского слова. В городе, который нашествие французов недавно обратило в пепел, все говорили языком их. Один только Карамзин говорил языком, можно сказать, им созданным. Стыдно, право, Вяземскому, который так славно писал на нём, так чудесно выражался на нём в разговорах, что он не попытался ввести его в употребление в московском обществе, где имел он такой вес. Но он с малолетства, так же как и я с первой молодости, прельстился французскою литературой, а от пристрастия к творениям, до любви к сочинителям недалеко. И мне ли упрекать его, когда с любезными ему французами он храбро сражался и в славной Бородинской битве готов был проливать кровь за отечество, тогда как я, в Пензе, об участи его проливал одни только слезы?
Вообще, примирение с милою Францией казалось искренним, вечным. И за что их ненавидеть, голубчиков французов? Ведь они против воли увлечены были ненасытным честолюбием вождя своего. Забыты все их злодеяния, их несносное хвастовство, их лживые бюллетени, в которых русских топтали они в грязь. Все вины взвалены на одного Наполеона: и по делом ему, разбойнику! Весь мир, который хотел он завоевать, обрушился на преступную главу его; пусть же задыхается теперь на островке своем Эльбе. Слушая членов офранцуженного нашего высшего общества, право, можно было подумать, что наша война с Наполеоном была не что иное как междоусобие: Россия в борьбе своей оживлена, поддержана была духом противной ему партии; эта партия восторжествовала, и вся наша знатность предовольна.
Известно было, что 13-го июля победоносный Александр возвратился в восторженную свою столицу; рассказывали о трогательном первом свидании его с счастливою матерью, с этою Марией, благословенною в женах, коей плод чрева вся Россия назвала «Благословенным», о великолепном празднике, данном ею в Павловске, по случаю его возвращения. Узнали также с сожалением, но без ропота, что он продолжает отклонять от себя всякое изъявление общественной благодарности: другим народам даровав независимость, своему не дозволяет даже въявь любить себя.
Узнали также, что он соглашается, наконец, принять со всех краев России съехавшиеся дворянские депутации не вдруг, но поочередно. Разделяя общее чувство, мне желательно было, хотя на минуту вблизи посмотреть на него и услышать его голос, и я вмиг собрался к отъезду. Я поскакал по дороге тогда беспокойной, тряской, столько раз мною проеханной, всё таким же бедняком, в такой же кибитке, как и прежде. Ничего примечательного на этой дороге мне не встретилось, и последний день июля к вечеру приехал я в Петербург.
X
Петербург в 1814 году. — Возвращение гвардии. — Молчанов. — Аракчеев. — Наша Пасха в Париже.
Как сущий провинциал поверил я словам ямщика, который меня привез, и послушался его совета. Он уверил меня, что Петербург так наполнен приезжими, что ни в одной гостинице не найду я для себя помещения, и уговорил меня пристать на каком-то постоялом дворе, на меже Разъезжей улицы и Ямской, близ Глазова кабака. И за этот тесный и зловонный угол, в котором я пробыл не более суток, должен был я заплатить вдвое более, чем бы за комнату в хорошем трактире.
Однако же, в нём на следующее утро, 1-го августа, принарядился я, вымылся, выбрился, натянул мундир и, вышедши из него, сел в карету, чтоб ехать в Большую Морскую являться к главнокомандующему в Петербурге, Сергею Кузьмичу Вязмитинову.
Как в столице начальствовал он, так и управлял Министерством Полиции только временно, по случаю постоянного отсутствия Балашова, который, по должности генерал-адъютанта, во всё время войны сопровождал Императора, сохраняя, впрочем, звания министра и военного губернатора. Нельзя сказать, чтоб он находился неотлучно при Государе, ибо беспрестанно был на посылках, то к Наполеону, то к Мюрату, то к английскому принцу-регенту; оно могло казаться доказательством особой в нему доверенности, но рысьи очи царедворцев ясно видели, что кредит его приметно упадает. Даже воротившись из походов, он к должностям своим допущен не был.
Прождав более часа не совсем в прихожей, а в комнате перед кабинетом вельможи не по рождению, а по сану, когда он вошел, подал я почтенному старцу бумагу от моих верителей. Он спросил меня, не сын ли я отца моего, которого он коротко знал и с коим некогда был товарищем по службе. После того объявил он мне, что я опоздал двумя сутками, что списки от него уже посланы, и что на другой день, 2-го числа, пензенская депутация вместе с двумя или тремя другими в 10 часов утра, на Каменном острове, будет представляться Государю. Странное дело! Всякий раз, что приезжал я в Петербург, встречала меня в нём какая-нибудь неудача, как читатель сие заметить может.
Большие столичные города в тех, кои никогда в них не бывали и приезжают в первый раз, производят невольно почтительное изумление, в котором они охотно никогда не признаются. Обширность города, многолюдство его, роскошь везде выказываемая, шум, движение на улицах, всё поражает непривыкшего к тому. В ее, что ни встречается ему, кажется принадлежащим к этой огромной машине и участвующим в её действиях. Тоже самое впечатление, хотя в меньшей степени, делают столицы на людей, кои подобно мне возвращаются в них после долгого отсутствия. Это чувство, не совсем приятное для самолюбия, было не одно, которое по приезде моем сначала я должен был испытать.
Я должен был спросить у себя, зачем я приехал, и на то никак не мог дать себе ответа. Я почитал себя в отставке, неохотно вступил бы в службу, а если б и пожелал, то встретил бы много препятствий: у меня не было никакого покровительства, никакой подпоры. Что же? Приняться опять за прежнюю жизнь, скучную, одинокую, бедную, праздную, которую только легкомыслие первой молодости помогало мне весело переносить. А тут, достигая совершенной зрелости, опять, как говорится, бить мостовую, жить без цели, без надежд, тогда как все ровесники мои давно меня опередили, не говоря уже о том, о чём читателю дал я слово не поминать! Сообразив всё это вместе, можно себе представить всю тягость моего тогдашнего положения.
Но в это время холодный Петербург был так оживлен, так весь исполнен радости, что даже я, горемычный, наконец был ею потоплен. Общему счастью как можно завидовать? Им всегда я был утешен. Само небо, казалось, праздновало торжество России: июнь и начало июля, говорят, были холодные и дождливые, но август сами приезжие из Южной Европы называли итальянским. И действительно, вместо светлых и сырых ночей, которые обыкновенно бывают на Севере, в этом феноменальном году имели мы ночи темные, совершенно темные и почти жаркие. В день Успения Богородицы была ужаснейшая гроза и чуть чуть освежила только воздух.
Зрелище совершенно новое и от того довольно странное в воинственно-придворном Петербурге было тогда: как на улицах, так и везде, отсутствие военных мундиров, генеральских и офицерских; все ходили во фраках. Самолюбивые офицеры французской армии, дотоле непобедимой, приписывали одним русским (русские всегда во всём виноваты) её уроны, её падение, и в Париже во всех публичных местах придирались к нашим офицерам, чтоб оскорбить их честь, от чего выходили частые поединки. Дабы положить тому препоны, Государь приказал, чтобы они все оделись во фраки; по возвращении же в Россию сия обязанность обратилась им в право, коего лишены были они со времен Екатерины. Были люди, которые в этом видели начало торжества гражданственности: по их мнению, сам меч уничтожил царствие меча.
Однако же под этим (как называют его у нас) партикулярным платьем легко было узнавать молодых гвардейцев, по их скромно-самодовольному виду. Из них некоторая только часть, четыре полка старой гвардии, за несколько дней до приезда моего, возвратилась из похода. Их посадили на английские корабли, они приставали суток на двое к английскому порту Дилю, потом привезены были морем и высажены на берег в Петергофе, где уготовлены им были успокоение и пиры, и откуда церемониальным маршем вступили они в Петербург. Телохранители, сотрудники, сподвижники Александра сделались в это время его любезным семейством; им предоставил он всё торжество его ожидавшее. Чрез триумфальные ворота, хотя деревянные, но богато изукрашенные, на том самом месте где у Петергофской новой заставы возвышаются ныне гранитные и медные, не хотел он сам въезжать, а чрез них им велел вступить. Великолепную иллюминацию во всём городе, к приезду его приготовленную, по их возвращений, им в честь велел он зажечь. За то и их энтузиазм к нему изобразить невозможно: по возможности желая уподобиться кумиру своему, они в рассказах не думали хвастаться подвигами своими, с сердечною радостью обнимали знакомых, всех мирных сограждан встречали улыбкою и ласковыми приветами. Что за время! Особенно, как мил казался нежный возраст самой первой молодости, уже опаленной порохом! Забывая совершенно о славных опасностях, в кои вдавался, не умолкал он о парижских своих наслаждениях, о Пале-Рояле, о Вери, о тысячеколонном кафе и прекрасной лимонадьере, о театрах, о Жоконде. Увы, кто мог бы тогда подумать, что между ними зародятся первые мысли о восстании против законной, благотворной им власти!
Итак, с душевным удовольствием смотрел я на то, что едва ли кому удастся когда-либо видеть: смотрел на Петербург не зевающий, не суетящийся и не чванный. От хороших знакомых желательно мне было узнать, какой вид имел он в предыдущих годах, и слышанное от них могу здесь передать. Во время отсутствия Государя, в затруднительных обстоятельствах, в коих находилась Россия, двор притих, замолк; веселиться ему было бы неприлично. Когда, в начале зимы, императрица Елизавета Алексеевна, в первый раз по замужестве, поехала для свидания с Германскими своими родными, а вслед затем молоденькие великие князья, братья государевы, отправились в армию, то знатные, при дворе состоящие, решительно стали гнушаться столицей. В модном свете вошло в моду покидать Петербург. Одни, более богатые, еще прошлогоднею весной отплыли в союзную нам роскошную Англию, где в это время всякому русскому было житье; другие поспешили в освобожденную Германию услышать благословения спасительному нашему оружию; многие удалились в деревни, как мы видели Голицына и Рибопьера. Тогда-то Петербург из придворного города превратился в казенный: все те, кои занимали в нём высшие должности, заняли также, и первые места в обществе.
Полумертвый Николай Иванович Салтыков, вскоре пожалованный светлейшим князем, одним только именем управлял Россией и в шутку называем был принцем-регентом. Он почти не двигался с места, нигде не показывался, и жизнь его была продолжительная агония. Всем заведовал бывший обер-прокурор Петр Степанович Молчанов, который, доказывая виновность Саратовского губернатора Белякова, был причиною падения Кочубея; он чрез то сделался известен и попал в милость. Он был тогда в одно время сенатор, статс-секретарь в комиссии прошений и управляющий делами Комитета Министров; да сверх того князь Салтыков без него ничего не делал по Государственному Совету, в котором председательствовал.
Он был не из дворян. В России известно, что старинное дворянское фамильное имя есть одна только собственность, которой похищение не воспрещается законами Отец его управлял где-то имением князя Куракина и сына записал в его генерал-прокурорскую канцелярию. Мальчик удался; он отличался не одним знанием, но и большим просвещением и светскою любезностью. Когда был он уже во времени, то женился на богатой невесте, дочери сенатора Ивана Ивановича Кушелева, родной племяннице и одной из наследниц фаворита Ланского. Сие приобретенное имение начал он слишком много и скоро умножать благоприобретенным, беспрестанно строил огромные дома, покупал деревни и тем возбудил завистливое внимание Петербургской публики. Несмотря на то, вся она бросилась на славные балы, которые начал он давать: пирами успел он почти заглушить общий голос, и дом ею, за неимением других открытых домов, сделался первым.
Одним из самоважнейших лиц был тогда управляющий Военным Министерством, князь Алексей Иванович Горчаков, человек добрый, весьма простой, который, будучи племянником Суворова, почитал обязанностью подражать ему в странностях и только что передразнивал его. Хотя и жил он розно со своею женою, Варварой Юрьевной, урожденной княжной Долгоруковой, но, по ней будучи племянником Салтыкова, на старика также имел большое влияние. Его канцелярия, свита, любимцы делали что им было угодно и, во всеобщем волнении видя мутную воду, ловили в ней что хотели. Всё это вместе с Молчановым составляло правительственную камариллу.
Сам князь Горчаков у себя гостей не принимал, а у сестры своей графини Хвостовой. У неё начались балы, и дом её, куда прежде люди хорошего тона не ездили, сделался одним из первых в Петербурге. Тяжело было бедному Димитрию Ивановичу к авторским издержкам прибавить еще полубоярские, и это, говорят, весьма расстроило его состояние.
Весьма важную ролю также играл в это время один частный человек, отставной статский советник Иван Антонович ***. Он женился на побочной дочери какого-то богатого боярина, которому для неё был нужен чин, чтобы законным образом оставить ей свое наследство, был слишком благоразумен, чтобы ревновать жену моложе его тридцатью годами. Он пользовался её имением; она пользовалась совершенной свободой. Я знавал ее лично, эту всем известную Варвару Петровну, полненькую, кругленькую, беленькую бесстыдницу. Она была типом русских Лаис, русских Фрин. Из славянских жен одни только польки умеют быть увлекательны, прелестны, даже довольно пристойны и благородны среди студодеяний своих; русские в этом искусстве всё как будто не за свое дело берутся.
Аракчеев, сначала сопровождавший Государя, еще из Праги давно уже воротился. Он жил, казалось, совсем без дела и по видимому ни во что не вмешивался. Но чрез происки свои интересованные в том лица дознались, что он ведет тайную частую переписку с Императором и от того оказывали ему всевозможное почтение. На досуге завел он любовные связи с ***. С грубостью его чувств, утонченность ума не могла бы уловить его сердце; его расчётливости нравилась и самая дешевизна этой связи, ибо из чести лишь одной предалась ему. Зато от других, от искателей Фортуны, принимала она подарки, выпрашивала, даже вытребовала их. Она стала показываться на всех балах и изумлять своею наглостью. Все высокомощные стали ухаживать за нею и за мужем её. А сей нечестивец, сей плут, всех уверил, что через жену делает из Аракчеева что хочет. У Салтыкова, Горчакова, Молчанова почитался он домашним другом; да и многие другие, в надежде на его подпору, ни в чём ему отказывать не умели.
Он прослыл источником всех благ и просящим, разумеется не даром, раздавал места. Между тем сам Аракчеев охотно принимал его, ласкал, всё из него выведывал, всё помечал и обо всём доносил. Любовь над сим твердым мужем не имела довольно силы, чтобы заставить его забыть свой долг.
Но время кары еще не приспело; оно отсрочено, ибо Государь почитал себя в Петербурге как бы проездом, как бы в гостях. В Париже положено было только основание всеобщего мира, устроена участь одной только Франции; на знаменитом Венском конгрессе, им созванном, надеялся он упрочить сей мир, стараясь по возможности удовлетворять требования европейских государей, согласовать между собою, охранять выгоды каждого из воевавших народов и устранить на будущее время малейшие причины к раздорам. Сии высокие мысли занимали его, и в конце августа намерен был он опять отправиться в путь, дабы, возвратясь зимой, приняться за внутреннее устройство собственного государства.
Прежде отъезда Государь хотел обрадовать Петербург столь же умилительным, как и великолепным зрелищем. В день Светлого воскресения, в прекраснейший весенний день, на площади мятежа, где совершено было величайшее из преступлений, воздвиг он высокий помост, на котором православное духовенство громко возгласило: Христос Воскрес! При сем возгласе, всякое русское сердце радостным трепетом наполняющем, православный Царь и за ним воины всех христианских народов и вероисповеданий пали на колена перед Богом браней и Богом мира, благословившим одни и даровавшим им другой. Бесчисленные толпы нечестивых зрителей составляли раму этой картины, изображающей торжество веры, примирение неба с землею. Есть в истории минуты, которые должны греметь в веках, и русский молебен на Парижской площади принадлежит к ним. У нас давным давно об ней забыли, но кичливые иностранцы-иноверцы помнят ее и не могут ее простить нам.
Сие благодарственное торжество повторено было на Царицыном лугу 18-го августа, в день воспоминания Кульмского сражения. Большая часть участвовавших в нём, ровно за год перед тем, находилась в параде. Это также одно из наших славнейших воспоминаний в нынешнем веке, когда избраннейшая часть русского войска в Богемских ущельях возобновила чудеса Фермопил. В этот же самый день учрежден благотворный комитет для раненых воинов, и десятина со всего жалуемого Государем должна собираться на содержание и успокоение их.
К отъезду Государя ожидали больших перемен в министерствах, и некоторые из них действительно последовали. Министр иностранных дел, государственный канцлер граф Румянцев, еще в апреле месяце самовольно и безнаказанно сложил с себя должности сии. Он был ненавидим: чистосердечно дивясь и уважая Наполеона, союзника России, он не мог и не хотел никого уверить в перемене чувств своих к нему, когда он восстал на нее. При начале войны, лишился он места председателя Государственного Совета, переданного Салтыкову, потому что последовал за Государем в Вильну; потом в Великих Луках заключил он союзный трактат с Гишпанским правительством и находился, наконец, в Абове во время свидания крон-принца Бернадотта с Императором, но после того оставался в Петербурге без всякого значения, без всякой доверенности. Радуясь успехам нашего оружия, он явно не одобрял средств, употребляемых к умножению нашего нравственного могущества, и время показало, как был он прав. А его почитали недругом отечества, и он оставался в самом фальшивом положении, из коего он вышел, наконец, смело и благородно. Товарищ его, сын князя Салтыкова, Александр Николаевич, видя, что все важные дипломатические акты совершаются за границей без участия их обоих, прежде его еще вышел в отставку. Управление (всё еще) Коллегией Иностранных Дел само собою пало на жалкого члена её, тайного советника Ивана Андреевича Вейдемейера, который, вероятно слишком обрадовавшись столь неожиданной для него чести, тотчас после того и умер. Тогда управление сей коллегии перешло к старшему её чиновнику, начальнику одной из экспедиций её, тайному советнику Павлу Гавриловичу Дивову, человеку весьма образованному, но не довольно способному к занятию столь важной должности. Так оставалось оно более полутора года.
Во время походов своих, при свиданиях с присоединяющимися к нему один за другим европейскими государями и при личных его переговорах с их министрами, император Александр познал истинное призвание свое: он также родился дипломатом, как Наполеон полководцем. Тогда он нашел, что министр иностранных дел ему вовсе не нужен и что он сам может заменить его. Он ошибался; по русской пословице: ум хорошо, а два лучше; он после признал эту истину, когда по этой части взял себе в помощь славного сотрудника. Но покамест стал употреблять первого попавшегося ему под руку, не знаю в каком качестве следовавшего за армией, Нессельроде. Он сделал из него статс-секретаря и род правителя военно-походной дипломатической канцелярии своей. Он взял его с собою и в Вену, где для совершения великого труда ожидали опытные люди: Разумовские, Стакельберги, Анстеты; Нессельроде же бессловесно должен был восседать на конгрессе. Может быть, царскому самолюбию нравилась самая ничтожность этого человека, безответная его робость, его покорность.
Люди с такими свойствами, поставленные на самую высокую степень, почти всегда бывают вредны для государства, полезны же только самим себе. Им ли указывать на путь славы и величия? Их угодливость — язва самодержавия. В сильном движении огромной машины русского государства быстро уносятся люди и учреждения; Нессельроде один устоял против бурного потока; счастье постоянно ласкало его. Его начинают уже называть Вечным Жидом, и точно кажется, что с нечистою силою заключил он тайный трактат. Из развалив прошедшего этот поганый гриб всё еще торчит один, цел и невредим. Но оставим его; если смерть не остановит руки моей, не раз придется еще об нём писать.
Накануне отъезда своего, в день своих именин, 30 августа, Государь роздал много наград и сделал несколько новых назначений. Главнокомандующий не весьма удачно армиями, Александр Петрович Тормасов, в сем же звании определен в Москву на место графа Растопчина. «Он сжег Москву», начали кричать пострадавшие от пожара и недовольные строгим порядком им вводимым. Не знаю, но думаю, что неблагодарность соотечественников возмутила его строптивый дух, и он сам пожелал отойти, а Государь вероятно не захотел воспротивиться общему желанию. После того Растопчин надолго уехал за границу.
Призвание Димитрия Прокофьевича Трощинского к должности министра юстиции было также большою новостью этого дня. В первые полтора года царствования Александра был он главною пружиной управления. После того обидно ему казалось оставаться при одних почтах и уделах, и он оставил службу. Но видно, бездействие тяготило его точно так же, как деятельностью скучал его предместник. Дмитриев по прошению весьма милостиво уволен. Мне случилось после от него самого слышать, что какие-то несогласия с Молчановым побудили его выйти. Признаюсь, я в этом видел один предлог. Оторванный от мирной жизни и любимых занятий поэт, я думаю, часто вздыхал о свободе. Доказательством того, что он мечтал о ней, служит годовой отпуск его в 1813 году. Он воспользовался им, чтобы на пожарище Москвы уготовить для себя укромный и красивый приют. Во время отсутствия его министерством управлял преданный ему Болотников, кажется, знакомый моему читателю.
При этом вспомнил я рассказанные мне довольно забавные анекдоты, и ими хочу кончить сию главу. Когда Дмитриев уехал, Болотниковы, не спросясь его и отдав собственный дом в наймы, перебрались в казенный дом Министерства Юстиции, в старинном вкусе просторный отель, во времена Екатерины построенный генерал-прокурором князем Вяземским, и перевезли туда весь хлам свой. Там расположились они в богатых комнатах со штофными обоями и бархатом обитыми креслами, но никак не отказались от мещанских привычек своих. Каждое утро, падчерица Софья Николаевна Тушен, которой некогда был я обречен, в большой приемной зале проходила сквозь толпу просителей и докладчиков, взлезала на стул и собственноручно заводила стенные деревянные часы с кукушкой, вероятно родовые, наследственные. Елизавета Христиановна подле самой спальни министерской, с раззолоченною альковой, устроила себе кухню с плитой. Со времени прекрасных дней Французской революции, после мадам Ролан, ни одна министерша в житье своем не являла столь милой простоты.
За месяц до возвращения своего, Дмитриев письменно извещал об нём Болотникова и просил очистить для него дом. Но супруге его полюбилось широкое житье, и она не хотела с ним расстаться. В одну ночь, когда, возвратясь с бала, может быть от Хвостова, она начинала раздеваться и обнажать прелести свои, без спросу вошел к ней Дмитриев в дорожном платье, и пошли у них пререкания. В эту ночь Иван Иванович в одной из комнат нашел себе место для отдохновения, а на другое утро Алексей Ульянович, как с чужого коня средь грязи, должен был выехать из дома. И это их навсегда поссорило.
XI
Е. Ф. Муравьева. — Декабрист Н. М. Муравьев. — Д. В. Дашков. — К. Н. Батюшков. — Гнедич. — Оленины.
Совершенное выздоровление вскоре после тяжкой болезни есть самое приятное состояние для человека. В нём, казалось, всю осень и всю зиму находился Петербург. Никаких забот, неудовольствий, искательств, ничего что бы похоже было на обманутое честолюбие не было заметно: ну точно как будто в прежние годы в Москве. О политике не было помину; впрочем, под этим словом разумели дотоле толки о победах и завоеваниях или о поражениях Наполеона.
Всё что происходило в Вене, как межевали там Европу, какие представлялись затруднения, какие возникли несогласия, всё это было великою тайной, которую никто проникнуть не старался. Знали только, что Польша будет наша. Говорили также, что конгресс не идет, а пляшет: увеселениям, празднествам конца там не было.
Утраты придворного общества в эту зиму еще более умножились. Сама императрица с супругом находилась в Вене. Знатные сотнями кинулись за границу, в отпертую им со всех сторон Европу; это совершенно походило на эмиграцию. Оттого Петербургское общество сохранило прошлогодний цвет, и графиня Хвостова с компанией продолжала бальничать. Из высшего круга некоторые члены посещали сии вечерние собрания и жестоко над ними насмехались.
Я возобновил в это время много старых знакомств и сделал несколько новых. После долгой разлуки, первое свидание мое с Дмитрием Николаевичем Блудовым было одною из радостных минут моей жизни. В продолжение двух лет с половиною сколько перемен! Нужно ли говорить, что взаимные чувства наши не изменились? Любопытно мне было человека, которого оставил я беспечным юношей, найти мужем, отцом и хозяином дома. Желания его совершились: весной 1812 года вступил он в брак с княжною Щербатовой. Военные происшествия омрачили первые месяцы его супружества, и вскоре потом, когда собирался он к новому месту назначения, советника посольства в Стокгольме, должен был похоронить он тещу. Он оставил эту должность и приехал в Петербург, не задолго до возвращения моего в сию столицу.
Находясь в Стокгольме, он имел случай близко узнать славного воина Бернадота, мудрого и дальновидного человека, который, несмотря на все быстрые перемены обстоятельств, умел твердо удержаться на ступенях Шведского престола и на нём самом. Потом был он в коротких сношениях с ученым и достопочтенным библиофилом, графом Сухтеленом, о котором много говорил я в первой части сих Записок и который находился тогда при этом дворе в качестве не посланника, а чего-то более. Тут познакомился он и сблизился с знаменитою Сталь, которая, бегая от Наполеона из государства в государство, целую зиму провела в Швеции. Чужой ум пристает только к тем, кои сами им изобилуют; им только одним идет он в прок. Обмен мыслей есть обширная торговля, в которой непременно надобно быть капиталистом, чтобы сделаться миллионером, и в этом смысле я нашел, что Блудов еще более разбогател. Он часто удивлял меня своим умом, а после возвращения его из Швеции и моего из Пензы, начинал он ужасать меня им.
Как приятно мне было видеть его счастливым в домашней жизни! Более по слуху уже изобразил я Анну Андреевну; лично узнав ее, не могу здесь умолчать о её почтенных и любезных свойствах. Природа одарила ее чувствами самыми нежными и кроткими: я не знавал женщины более способной любить ближних, любить не пылко, но искренно и постоянно. Около неё была атмосфера добра и благосклонности; разумеется, что те, кои были ближе к ней, муж, дети и родственники, более других испытывали усладительное действие оной; но и друзья и знакомые их, вступая в этот благорастворенный круг, подчинялись его приятному влиянию.
Если сначала я несколько завидовал Блудову как супругу, то отнюдь не как отцу. На руках терпеливой шведской дады (кормилицы) было маленькое создание, в котором уже можно было угадывать ум, затейливость, по прихотям, кои возрастали по мере престанного удовлетворения их. Отец в полном смысле боготворил дочь свою, а мне девочка казалась несносною. Мог ли я думать тогда, что придет время, в которое высокие чувства души, любезность её, доброта и успехи в свете, будут радовать меня как родного и, повторяя слова Пушкина, я буду гордиться ею, как старая няня своею барышней?
В числе новых знакомств не надлежало бы упоминать мне о мимоходных, о тех, кои по себе не оставили никаких следов. Но когда это весьма замечательные лица, то как не поместить их здесь? Не знаю почему, Четвертинскому так полюбилась Пенза, что покамест он всё еще оставался в ней. Когда я начал собираться в дорогу, желая мне много добра, сказал он мне, что знакомство с его сестрой может быть мне полезно и по службе. Вместе с тем признался, что дружба их до того охолодела, что они более не переписываются, и предложил мне только письмо к зятю своему, Димитрию Львовичу Нарышкину, который и введет меня в гостиную, а может быть и в кабинет жены своей.
Марья Антоновна жила тогда (и кажется, в последний раз) на даче своей у Крестовского перевоза. Хотя дом был довольно просторен и красив, и перед ним расстилался к реке прекрасный цветник, но это никак не походило на замок какой-нибудь Дианы де-Пуатье. Соображаясь с простотою вкусов Императора, который в первые годы своего царствования всем загородным дворцам своим предпочитал Каменноостровский, она поблизости его купила сию дачу у наследников Петра Ивановича Мелиссино, который, истратив большие суммы на обсушение и возвышение сего небольшого уголка, дал ему название Ma Folie. Отделенное Карповкой от других дач Аптекарского острова, сие место представляло ей удобство соседства и уединения для принятия тайных посещений Царя.
Одичав в провинции, я не тотчас по приезде решился везти письмо к Нарышкину. Хорошим приемом он ободрил меня. Он принадлежал к небольшому остатку придворных вельмож прежнего времени, со всеми был непринужденно учтив, благороден сердцем и манерами, но также, как почти все они, сластолюбив, роскошен, расточителен, при уме и характере не весьма твердом.
Попросив меня немного подождать, через несколько комнат пошел он сам доложить обо мне, и вскоре потом через них проводил меня в храм красоты. Она была одна, приняла меня стоя, не посадила, а только по польскому или не знаю какому другому обычаю протянула мне руку, которую поцеловал я. Наружный жар был умеряем спущенными маркизами и прохладительным ветерком; среди благовония цветов и тысячи великолепных безделок, которые начинали тогда входить в моду, смотреть на совершенную красавицу было бы весьма приятно; но я в ней видел полуцарицу и немного смешался, только не на долго. Она была женщина добрая и не спесивая, расспрашивала меня о брате, о его семействе и житье и, наконец, пригласила меня, и довольно настоятельно, обедать у неё по воскресным дням, когда бывает у неё много гостей и перед окнами играет музыка, в виду гуляющих на Крестовском острове.
В первое воскресенье воспользовался я сделанным мне приглашением. Общество было отборное, с хозяйкой свободно-почтительное. Она обошлась со мной весьма ласково и рекомендовала меня сестре своей, княжне Жанете Четвертинской и поляку Вышковскому, который, как после узнал я, был её суженый. Наружность сей последней мне показалась бы неприятною, если б она была со мною и повнимательнее; из нескольких слов поляка, довольно пожилого и незначущего, не менее того весьма надменного, мог я заметить, что он великий руссоненавистник. И вот кто должен был заменить ей Цесаревича! Две воспитанницы или собеседницы, право не знаю, одна дородная, свежая и пригожая полька Студиловская, другая молоденькая, тоненькая, хорошенькая англичаночка, которую звали просто Салли, подошли ко мне сами знакомиться, были отменно любезны и сказали мне, что, во внимании к приязни моей с братом, которого Марья Антоновна никогда не переставала любить, желает она, чтобы я сделался у неё домашним. Братья Нарышкины были известные гастрономы: стол и вина были чудесные.
Всё это мне очень полюбилось, и в следующее воскресенье явился я опять к обеду, хотя и знал уже, что на покровительство г-жи Нарышкиной надеяться мне нечего. Нам с братом её в Пензе еще не было известно, что царственная связь, увы! уже совершенно разорвана. Это нимало не помешало бы мне повторять мои посещения; но наступил сентябрь, Нарышкины переехали в город и в том же месяце Марья Антоновна надолго отправилась в чужие края. Мне больно было бы сказать здесь, какою нашел я ее, когда, после десятилетий, встретясь с ней за границей, возобновил я знакомство с нею и часто виделся.
Перед отъездом моим из Пензы, часто начал посещать меня плут Магиёр, который перессорился с пленными наполеоновскими французами. Он старался уверить меня, что втайне никогда не переставал быть предан законным государям своим, Бурбонам, и прочитал письмо или просьбу к герцогу Ангулемскому, в котором, объясняя, что отец его (не упоминая в какой должности) служил графу д’Артуа, отцу герцога, он, наследник верности, желает посвятить жизнь свою его высочеству. Когда совсем собрался я в путь, вручил он мне другое письмо к Екатерине Федоровне Муравьевой, желая, чтобы я отдал его лично, присоединив мои просьбы к его молениям о помощи, дабы мог он освободиться от ссылки и возвратиться в отечество. Я рад бы был избавить Россию от всех иностранных негодяев и дал ему слово исполнить его требование.
Даму, к которой адресовал он меня, я лично не знал. Она слыла добродушною и добродетельною, то есть строгой нравственности в отношении к супружескому долгу. Последнее было справедливо и, я думаю, не весьма трудно, ибо она была дурна как смертельный грех и с богатым приданым лет тридцати едва могла найти жениха. Я немного совестился быть ходатаем за мошенника и старался разжалобить ее; к изумлению моему, она горячо принялась за это дело, и участие мое в нём послужило мне лучшею у неё рекомендацией. Она оказала мне много благосклонности и просила почитать себя у неё как дома.
Муж её, Михаил Никитич, был примером всех добродетелей и после Карамзина, в прозе, лучшим у нас писателем своего времени. Он вместе с. Нагарном находился при воспитании императора Александра, платил дань своему веку и мечтал о народной свободе, пока она была еще прекрасною мечтою, а не ужасною истиной; кроткую душу его возмущало слово тиранство. Свои правила передал он жене, и они сделались наследием его семейства. Но втайне она была исполнена гордости и тщеславии, а только по наружности заимствовала у мужа вид смирения. По мнению её, он не был достойным образом награжден по воцарении воспитанника своего за попечения его об нём.
Он не один пользовался его доверенностью и был только товарищем министра народного просвещения; при первом случае верно был бы он и министром, но смерть рано его похитила, и Государь забыл о вдове его, которую впрочем и не знавал. Неудовольствие на правительство часто обращается в постоянную оппозицию и принимает вид свободомыслия. Сия малорослая женщина, худая как сухарь, вечно судорожно-тревожная, от природы умная и образованная мужем, в гостиных умела быть тиха, воздерживаться от гнева и всех дарить улыбками. Горе только тем, кои находились в прямой от неё зависимости: она была их мучительницей, их губительницей. Но подобно самкам всех лютых животных, чувство материнской нежности превосходило в ней всё, что вообразить можно.
У неё было два сына, которые оба походили на отца душой и сердцем, а старший даже и умом. Меньшой, малолетний, находился при ней; старшего Никиту, офицера Генерального Штаба, ожидала она с нетерпением из армии. Все радости, все надежды её сосредоточивались на нём, и он был действительно того достоин. К несчастью, поручила она образование его сорванцу, якобинцу Магиёру. Идеями, согласными с её образом мыслей, вкрался он в её доверенность и заразил ими воображение отрока, но не мог испортить его сердца. Не могла того сделать и мать, вливая в него желчь свою и раздражая его против верховной власти.
Я сказал, что она была богата; тогда пользовалась она только частью следуемого ей имущества. У неё жив был еще отец, осмидесятилетний скупой старец, сенатор Федор Михайлович Колокольцев, барон поневоле[170]. Долго, очень долго голос опытного, умного и злого старика увлекал в Сенате невнимательных или несведущих сочленов. Он уже слабел и вскоре потом умолк. Тогда дом разбогатевшей его дочери сделался одним из роскошнейших и приятнейших в столице. Встречая в нём почти всех моих знакомых, сделался я частым его посетителем. Что я после в нём увидел, увидать и читатели, если Записки сии не прекратятся.
В домах Блудова и Муравьевой познакомился я с двумя молодыми людьми, коих приязнию и благорасположением имею право гордиться. Я только что назвал Дмитрия Васильевича Дашкова, когда он приехал с Дмитриевым служить в Петербурге; несколько раз видел я его, кажется, даже и разговаривал с ним, но вообще он не спешил знакомиться. Он был в лучших годах жизни, высок ростом, имел черты правильные и красивые, вид мужественный и скромный вместе. В обществе казался он даже несколько угрюм, смотрел задумчиво и рассеянно, и редко кому улыбался; за то улыбка его была приятна, как от скупого дорогой подарок; только в приятельском кругу скупой делался расточителен. Незнакомые почитали Дашкова холодным и мрачным: он весь был любовь и чувство; был чрезвычайно вспыльчив и нетерпелив, но необычайная сила рассудка, коим одарила его природа, останавливала его в пределах умеренности. Эта вечная борьба с самим собою, в которой почти всегда оставался он победителем, проявлялась и в речах его, затрудняла его выговор: он заикался. Когда же касался важного предмета, то говорил плавно, чисто, безостановочно; та же чистота была в душе его, в слоге и даже в почерке пера.
Он принадлежал к древнему дворянскому роду, но не был богат. Когда был он еще мальчиком, Дмитриев заметил его литературные способности и поощрял их. Он служил в Иностранной Коллегии, когда Дмитриева сделали министром юстиции; привлеченный им, он перешел на другую стезю. На трех дорогах, по которым в самой первой молодости повела его судьба, умел он отличиться. Упражняясь пристально в делах судебных, в минуты отдохновения продолжал он предаваться любимым юношеским занятиям своим. Маленькая брошюра, под названием: О легчайшем способе отвечать на критики, была праща, с которою сей новый Давид вступил в борьбу с тогдашним Голиафом, Шишковым. Я счел не излишним означить здесь первые начала прекрасной полезной жизни, которой конец осужден я был оплакать. Я знавал людей, которые имели несчастье ненавидеть Дашкова; презирать его никто не смел и не умел.
Двоюродный племянник покойного Муравьева, Константин Николаевич Батюшков, в доме его вдовы был принят как сын родной. Под руководством благодетельного дяди, с малолетства посвятил он себя поэзии. Но лишь только прошел первый слух о дальней опасности, грозящей отечеству, бросил он лиру и схватил меч. Он вступил в Петербургскую милицию, и с нею, будучи почти мальчиком, сражался в 1807 году и был ранен. Из военной службы его не выпустили и перевели офицером в гвардейский егерский полк; тут опять пошел он в поход против Шведов, опять дрался и опять был ранен. Сложения был он не крепкого, здоровье и нервы его после того расстроились; он должен был оставить службу. Когда силы возвратились к нему, в 1813 году поспешил он к знаменам отчизны и под ними вступил в Париж. Потом опять принялся он петь стихи свои; я говорю петь, ибо они — музыка. В них и в его гармонической прозе видна вся душа его, чистая, благородная, то детски веселая, то нежно унылая. В такие лета, когда рассудок еще не образовался, врожденный вкус уже указал ему на недостатки многих бездарных наших писателей, и когда другие безотчетно поклонялись им, он в забавных стихах Видение на берегах Леты, позволил себе их осмеять. Ими почти никого не раздражил он; не то если бы нам грешным! И вот привилегия добродушия: его насмешки получают всегда просто название шуток.
Он давно уже был завербован в Оленинское общество, о коем говорил я в предыдущей части. Во время долгого отсутствия моего из Петербурга, согласие в образе мыслей сблизило его сперва с Тургеневым, потом с Дашковым и Блудовым. Составилась приятная, беспритворная, холостая компания, и вечерние беседы наши оживлял Батюшков веселым, незлобивым остроумием своим. Мы недавно были знакомы, а его уже беспокоило затруднительное положение мое, и он помышлял о средствах меня из него вывести.
После смерти графа Строгонова, Оленин был назначен президентом Академии Художеств и директором Императорской Публичной Библиотеки. Она помещена была в прекрасном закругленном здании, построенном при Екатерине на углу Невского проспекта и Садовой улицы, и на две трети составлена была из завоеванной в Варшаве библиотеки графа Залуцкого. С приобретенными прежде и вновь приобретаемыми творениями, число книг было довольно значительно, но все они, неразобранные, лежали грудами. Заботливый Оленин составил новое положение и новый штат для заведения сего, и они были утверждены в начале 1812 года; после того книги кое-как приведены в некоторый порядок. Тут нужны были ученые, а новые места, разделенные на библиотекарей и их помощников, Оленин роздал поэтам и приближенным своим. В числе первых прежде его находился один человек, который бы мог быть весьма полезен, брат генерала графа Сухтелена, Руф Корнилович, с которым путешествовал я по Сибири. Но он устарел, без брата жить не мог и, получив отпуск, отправился к нему в Стокгольм, оттуда прислал он просьбу об отставке. Его-то место втайне прочил мне Батюшков и для того желал познакомить меня с домом Олениных. Сим местом могли быть удовлетворены скромные желания мои: хорошая квартира с дровами, полторы тысячи рублей ассигнациями жалованья и занятия по вкусу, вот что, по тогдашнему мнению моему, казалось достаточным на целую жизнь.
Хотя по известности Батюшкова, его чрезвычайно и приголубливали у Олениных, но он на одного себя не понадеялся, зная, что есть существо, которое мало-помалу овладело всем этим домом. Раз, прогуливаясь со мною вместе, как будто не нарочно завел он меня к другу своему, Гнедичу. Кривому Пиладу было мало одного Ореста, Крылова; тот никогда не отпирался от его дружбы, но никогда и не сознавался в ней; легче было приобрести ее у пылкого Батюшкова. Тесная связь между ими сплетена была как из хитрости Украинца, так и из добросердечия и доверчивости русского. Предупредив Гнедича о своих и моих намерениях, он как будто нечаянно вспомнил о том, дабы у первого посещения отнять вид презентации и просительности. Приемом остался я доволен; в нём было даже нечто приязненное. Через несколько дней Гнедич сам зашел навестить меня и объявить, что дело можно почитать, как говорится, в шляпе; что оно могло бы тотчас быть окончено, но что Сухтелен при отставке требует полный пенсион и чин статского советника, чего нельзя сделать без Государя, а он кроме самоважнейших бумаг не велел ничего присылать к себе в Вену, но вероятно скоро возвратится. Он сказал мне, что Оленин сам очень желает познакомиться со мной, но что чрезвычайно озабочен по новой должности на него возложенной, и свободные минуты посвящает семейству своему, живущему до зимы на даче его, Приютине, в двадцати верстах от Петербурга. И действительно, контраст между Сперанским, столь примечательным по необыкновенному уму своему и познаниям, и преемником его Шишковым, который вне славянской лингвистики ничего не смыслил, был слишком разителен, чтобы сей последний мог долго оставаться на его месте государственным секретарем. Он уволен, и исправление этой должности поручено было Оленину.
Живши посреди друзей русской литературы, я неприметным образом с нею ознакомился и стал более заниматься ею. Все что ни затевал я в жизни, приходило мне в голову внезапно, неожиданно; раз поутру сказал я сам себе: дай попробую, и принялся писать, что бы вы думали? исторический словарь великих мужей в России. Этот труд уже сам по себе мне был не под силу; но был еще другой, гораздо важнее, отрывать источники, копаться в них; сей последний испугал меня, отнял у меня всю бодрость. А покамест написал я несколько статей и имел бесстыдство показать их Блудову. Его неистощимая снисходительность ко мне ослепила ли его, или он нашел, что для неопытного действительно недурно и надеялся что со временем могу набить я руку, только похвалил меня. Похвала из уст такого строгого судьи в литературе чрезвычайно возбудительна и… и, как говорится, пошла писать! Судя по связям моим, хотя написал я немного строк и ни одной не напечатал, безграмотные начали подозревать меня в авторстве, и сие дало мне новое право на звание библиотекаря.
Наконец, в ноябре, Алексей Николаевич и Елизавета Марковна Оленины возвратились из Приютина и открыли дом свой. Я вступил в него твердою ногой, упираясь на трех поэтов, на прежнего наставника моего Крылова, на Гнедича и на Батюшкова. Подобного дома трудно было бы сыскать тогда в Петербурге, ныне невозможно, и я думаю услужить потомству, изобразив его. Начнем с хозяина. Принадлежа по матери к русской знати, будучи родным племянником князя Григория Семеновича Волконского, Оленин получил аристократическое воспитание, выучен был иностранным языкам, посылаем был за границу. Древность дворянского рода его и состояние весьма достаточное не дозволили бы однако же ему, подобно знатным, ожидать в праздности наград и отличий, подобно им быть знакому с одною роскошью и любезностью гостиных. Вероятно, он это почувствовал, а может быть, по врожденной склонности, стал прилежать к наукам, приучать себя в трудам; он прослужил целый век и приобрел много познаний, правда, весьма поверхностных, но которые в его время и в его кругу заставили видеть в нём ученого и делового человека. Его чрезмерно сокращенная особа была отменно мила; в маленьком живчике можно было найти тонкий ум, веселый нрав и доброе сердце. Он не имел пороков, а несколько слабостей, светом извиняемых и даже разделяемых. Например, никогда не изменяя чести, был он, как все служащие в Петербурге быть должны, искателен в сильных при дворе и чрезвычайно уступчив в сношениях с ними. Также, по пословице, всегда гонялся он за всеми зайцами вдруг; но, не по пословице, настигал их: у которого оторвет лоскут уха, у которого клочок шерсти, и сими трофеями любил он украшать не только кабинет свой, а отчасти и гостиную. Он имел притязания на звание литератора, артиста, археолога; даже те люди, кои видели неосновательность сих претензий, любя его, всегда готовы были признавать их правами. Сам Александр шутя прозвал его Tausendkünstler, тысячеискусником.
Его подруга, исключая роста, была во многом с ним схожа. Эта умная женщина исполнена была доброжелательства ко всем; но в изъявлении его некоторая преувеличенность заставляла иных весьма несправедливо сомневаться в его искренности. Она была дочь известного при Елизавете и потом долго при Екатерине Марка Федоровича Полторацкого, основателя придворной капеллы певчих и чрезвычайно многочисленного потомства. Характер имеет также свою особую физиономию как и лицо, и единообразие её выпечатано было на всех детях его обоего пола; все они склонны были, смотря по уму каждого, к приятному или скучному балагурству; об одном из них, Константине, где-то вскользь я упомянул. Склонность, о которой сейчас говорил я, и любовь к общежитию, побеждали в Елизавете Марковне самые телесные страдания, коим так часто была она подвержена. Часто, лежа на широком диване, окруженная посетителями, видимо мучась, умела она улыбаться гостям. Я находил, что тут и мужская твердость воли, и ангельское терпение, которое дается одним только женщинам. Ей хотелось, чтобы все у неё были веселы и довольны, и желание беспрестанно выполнялось. Нигде нельзя было встретить столько свободы удовольствия и пристойности вместе, ни в одном семействе — такого доброго согласия, такой взаимной нежности, ни в каких хозяевах — столь образованной приветливости. Всего примечательнее было искусное сочетание всех приятностей европейской жизни с простотой, с обычаями русской старины. Гувернантки и наставники, французы, англичанки и дальние родственницы, проживающие барышни и несколько подчиненных, обратившихся в домочадцев, наполняли дом сей как Ноев ковчег, составляли в нём разнородное, не менее того весьма согласное, общество и давали ему вид трогательной патриархальности. Я уверен, что Крылов более всех умел окрасить его в русский цвет. Заметно было, как приятно было умному и уже несколько пожилому тогда холостяку давать себя откармливать в нём и баловать. Посещаемый знатью и лучшим обществом Петербургским, дом сей был уважаем; по моему он мог назваться образцовым, хотя имел и мало подражателей. В последние годы существования старых супругов, когда Россия так и въелась в европеизм, он сделался анахронизмом. Мир праху вашему, чета неоцененная! Оставайтесь неразлучны в другом мире, как связаны были в этом! Я иногда тоскую по вас. Простите мне, если беспристрастие и правдолюбие мое вынудили меня коснуться некоторых несовершенств, нераздельных с человеческою слабостью. Тени, наведенные мною на светлую картину жизни вашей, я думаю, еще более выказывают все красоты её.
Итак, зиму эту провел я довольно приятным образом, стараясь помаленьку забывать свое пензенское горе. В продолжение сей зимы пришлось мне сделать небольшое путешествие. В самом начале сих Записок сказал я, что дед мой с отцовской стороны заложил на пятьдесят лет всё маленькое имущество свое, состоящее из двух мыз в Везенбергском округе, в Евском кирхшпиле, с таким условием, чтобы залогодержатель, владея им, вместо процентов пользовался доходами с него. Отцу моему чрезвычайно хотелось, чтобы родовое имение сие возвращено было фамилии его. Во исполнение желания его, для неё священного, мать моя, согласно с условием, за два года до истечения срока предъявила эстляндскому Губернскому Правлению намерение свое имение выкупить. Срок приблизился, и она прислала мне бумагу, уполномочивающую меня действовать от имени всего семейства с неким Александром Никитиным, крепостным человеком, приказчиком её, проворным, верным и рачительным о барских выгодах: таких ныне уже более нет.
На другой день Богоявления, мы выехали с ним по Рижскому тракту на наемных извозчиках. На всём этом пути до самой границы, частному лицу и с подорожной невозможно было иметь почтовых лошадей, разве платя двойные или тройные прогоны. Смотрители на станциях и трактирщики всё были одни немцы; первые прижимали путешествующих, последние обирали их. Внутри России можно было еще иногда на плута прикрикнуть; тут было дело другое: народ был хотя хищный, но гордый и самолюбивый, потому что умел приобресть покровителей в почтовом департаменте. До Нарвы на всех станциях выстроены уже были красивые, каменные дома для проезжающих, с просторными, светлыми и чистыми комнатами, довольно хорошо меблированными; окончательно и поспешно были они отделаны для проезда королевы Прусской. На вход в них, мне бесподорожному, давало право требование обеда, ужина или чая; плата за вход обходилась довольно дорого. Дома сии называли шагами к просвещению; с этим я согласен и желаю, чтобы по большей части такими шагами подвигались мы к нему.
Прибывши в Нарву, не знаю по чьему совету, остановился я в маленьком предместий, Иван-городе, у трактирщика Юргенса. Оттуда отправил я Александра Никитина к владеющему имением, из руки в руки переходившим, отставному полковнику Борису Владимировичу Ребиндеру, возвестить о моем приезде и спросить: где ему угодно будет назначить место для совещаний. Оставшись без него один, и первый раз в жизни совсем без слуги, мне было весьма невесело. Горе мое умножал дешевый, но уже слишком умеренный, стол и хозяин, с которым пришлось мне жить почти в одной комнате и который половину дня бывал пьян. Мрачный и молчаливый поутру, после обеда делался он говорлив и фамильярен, дерзок и шутлив; а вы знаете, как несносны шутки немца-простолюдина! В совершенной скуке, не зная что делать, пока бывало светло, всё бродил я пешком. Осмотрев старый замок, русскими по сю сторону Наревы построенный, в два дня раз десять побывал я в самом городе, которого тесные улицы и древняя архитектура сначала были для меня любопытною новостью; наконец я ходил к расхваленному мне водопаду, у которого вокруг него построенные мельницы отнимают всю поэзию. На третий день рано поутру, лишь успел я встать и одеться, послышался мне ужасный крик. Загорелось на чердаке, и я нашел работников усиливающихся залить огонь Пока они тушили пожар, возгорелась жестокая брань между Юргенсом и его толстою супругой. Он рассудил в этот день напиться до свету, при виде опасности исполнился он ярости и страха, начал упрекать жену в небрежности, поносить ее; она ему отвечала, и кончилось тем, что он прибил ее до крови. В негодовании своем она сбежала вниз, схватила детей и опрометью помчалась к какому-то богатому родственнику Гросслупу, дав клятву никогда не возвращаться.
Я готов был за нею последовать; мне приходилось уже невмочь, как вдруг явился мой Никитин и привез приглашение г. Ребиндера посетить его мызу неподалеку от станции Вайвары. Никитин поступил как настоящий дипломат: он успел уверить Ребиндера, что я очень высоко ценю честь быть эстляндским помещиком, и что в Петербурге занял я семь тысяч рублей серебром, дабы выкупную сумму внести всю сполна, тогда как присланных матерью моею денег не было на то и четвертой доли[171]. Он изъявил также желание осмотреть имение в подробности, и сам Ребиндер возил его по полям и рощам: вот отчего замедлилось его возвращение. Не поленись только русский человек, он всегда проведет немца.
Я приехал на готовое: мне не оставалось солгать ни одного слова. Г. Ребиндер старался мне доказать все невыгоды этого владения. «Надобно самому тут жить, говорил он, и заниматься экономией, чтобы извлечь из него какую-нибудь пользу; правда, лесу много, но он здесь не по чём; мужики ленивы, и составляется проект об их освобождении: тогда дворяне лишатся половины своих доходов». Более всего испугал он меня одним из условий закладной, мною незамеченным: сказано, что за детериорацию (ущерб) наследники ничего не имеют права взыскивать, а за всякую мелиорацию (улучшение) должны платить; из одного этого мог бы выйти процесс. Я молчал, а после как будто стал колебаться, и когда он мне предложил семь тысяч рублей серебром в наличности, дабы временное владение превратить в вечное, я едва мог скрыть свою радость: он мог бы не дать мне ни одной копейки. Я для пристойности стал торговаться, но он устоял на своем. По странности случая, отрицательный мой акт подписан нами, с приложением печатей, равно через пятьдесят лет, изо дня в день, после закладной, 14 января 1815 года.[172]
Всего прожил я тут дня два, и мне показалось весьма приятно, особливо после Нарвского сражения, коего был я только что зритель. Семейство было доброе, честное и образованное, немецкое семейство, каких ныне найти только можно в романах Августа Лафонтена. Сын г. Ребиндера, Борис Борисович, человек уже в летах, находился в отпуску и помогал отцу угащивать приезжающих. Он служил в Морском Министерстве и по жене своей, урожденной Брун, был свояком морского министра, маркиза де-Траверсе. Тут была еще одна родственница, двадцатипятилетняя замужняя женщина, госпожа Гернет, которая обворожила меня. Полная, но стройная имела она прекрасные черты и бледно-здоровый цвет лица. Она знала один только немецкий язык, на нём выражалась умно и красно и очаровательным голосом своим его грубое наречие умела превращать в небесную гармонию. Что, подумал я, если бы наши красавицы захотели говорить по-русски! На обратном пути, разумеется, не останавливался я у Юргенса; однако же не оставил, чтобы не осведомиться о его домашних делах, и узнал, что неумолимая супруга не покидает своего убежища, а он продолжает упиваться в одиночестве. Тоже самое было мне подтверждено, когда, три года спустя, случилось мне опять проезжать Нарву. Отправив Александра Никитина в Пензу с вырученною мною суммой, весьма небольшую часть её оставил я себе, и это помогло мне в этом году менее нуждаться.
Во время десятидневного отсутствия моего из Петербурга, разумеется, никакой перемены в нём произойти не могло. Только я нашел, что приближение масленицы еще более располагало всех к веселостям. В этом шуме, кажется, забыли думать как о прошедшем, так и о будущем.
Беззаботное тогда Петербургское общество нимало не дивилось продолжительности нескончаемого Венского конгресса. Повторяя чужие слова, он не идет, говорило оно, оттого что пляшет. Немногим, однако же, привыкшим рассуждать казалось странно, что дело, невидимому решенное торжеством Александра и падением Наполеона, может встречать еще какие-либо препятствия. Франция одна могла бы почитать себя обиженною, но её участь решена; все царственные изгнанники: Гишпанский и Сардинский короли, папа, давно уже воротились в свои столицы; восстановлены дома, Оранский, Гессен-Кассельский, Брауншвейгский. Зачем же дело стало? Терялись в догадках и не могли совершенно проникнуть тайну, которая покрывала совещания. Никто, может быть, с таким нетерпением, как я, не ожидал окончания сего конгресса Венского, который тогда назвал я вечным: наперед надобно было решить судьбу Европы, чтобы потом решить мою судьбу. Впрочем и я, среди всеобщего приятного усыпления, менее чем бы в другое время заботился о своей будущности. Скоро всех нас ожидало пробуждение, произведенное ударом, которым на некоторое время потрясена была вся Европа.
XII
Бегство Наполеона с Эльбы. — Занятие Франции.
У Анны Андреевны Блудовой была меньшая единственная сестра, фрейлина, княжна Марья Андреевна Щербатова. Она по зимам жила вместе с нею, а лето и осень проводила в Павловском и в Гатчине у императрицы Марии Федоровны, которой особенною милостью она пользовалась. Дабы понять нижеписанное, надобно знать, что она была нрава веселого, но совсем не живого; столько флегма ни в ком не случалось мне находить. Один вечер (это было 6 марта) провели мы очень весело у старшей сестры её. Она довольно поздно воротилась из дворца от Императрицы; входя, очень равнодушно она сказала нам: «слышали ли вы, что Наполеон бежал с острова Эльбы?» Мы с изумлением посмотрели друг на друга. «Успокойтесь, — продолжала она; — не знали, куда он девался и были в тревоге; но получили хорошее известие: он вышел на берег неподалеку от Фрежюса». — «Ну, правда, невольно усмехаясь сказал Блудов, добрые вести привезли вы нам!» Мы подивились, потолковали и разъехались.
В следующие дни все бросились нарасхват читать газеты и ничего не находили в них ободрительного. Вечная война в лице Наполеона быстрыми шагами шла к Парижу. Возвратившиеся из России многочисленные старые солдаты его поступили опять в полки, и новое правительство имело неосторожность послать их к нему навстречу. С хвастливым красноречием, приспособленным к их понятиям и сильно действующим на французское тщеславие, были написаны объявления его. От башни до башни, говорил он, полетят его орлы до Парижского собора; и он сдержал слово. В тот самый день, в который могли бы мы праздновать взятие Парижа, 19 марта, вечером у Оленина я узнал, что он вступил в него и что Бурбоны бежали.
Неисповедимы пути, избираемые Привидением. Доселе всегда самих врагов наших превращало оно в полезные для нас орудия. Во время конгресса старый обманщик Талейран успел составить союз между неблагодарным Людовиком XVIII, властолюбивою Англией, коей всею душой сей последний был предан, и недоверчивою Австрией, против того что называл завоевательным духом России. Неизвестно, с каким намерением он это делал. Нет сомнения» что о возникших несогласиях был тайно извещаем Наполеон. Неугомонным, вертлявым французам между тем успел уже надоесть их благоразумный, важный и толстый король, с своею подагрой и бархатными сапогами: он сделался предметом их беспрестанных насмешек; в тоже время их краснобаи в камерах пользовались безнаказанно правом им данным болтать с дерзостью. Возможно ли было, чтобы Наполеон не пожелал воспользоваться видимою для него благоприятностью таких обстоятельств, чтобы душа Корсиканца не алкала мести, чтобы честолюбивейший из смертных не захотел вновь ухватить отъятое у него всемогущество? Он был не под стражей; напротив, он имел своих телохранителей, одним словом, он всё-таки царствовал; и не знаю, имели ли англичане право остановить его, если бы встретили его на море. Гигантскими замыслами и гениальным исполнением, конечно, стоял он выше всех предтечей своих во всемирном величии; но светозарное его поприще было всё выпачкано бесстыдным вероломством итальянских кондотьеров средних веков; ничего для него не было священного, никакая клятва для него не была обязательною. Слава его была без благородства[173]. Вольно же было, знавши это, щеголять великодушием, и после решительного, смертоносного удара, нанесенного революции взятием Парижа, к истреблению её, равно как и в отношении к нему, не принять самых решительных мер? Но, впрочем, всё было к лучшему.
Русские забывчивы, немцы злопамятны: им казалось, что только вчера спало с них тяжкое ярмо, и оно вновь грозит им. Появление Наполеона произвело на них впечатление гораздо сильнее чем на нас, и между ими находился обворожительный Александр, воин-миротворец, личный, главный неприятель Наполеона, настоящий его соперник, предмет тайной зависти правительств, но тогда кумир всех народов. Его могучее, звучное, ласковое слово раздалось на конгрессе и всех ободрило, всё примирило, всё соединило. Внимая этому слову, все народы европейские вдруг поднялись, как один народ. Ошибся в своих расчетах нетерпеливый Наполеон.
Важное это происшествие потревожило и Россию; однако же, в изъявлениях беспокойства её жителей видно было более досады, чем страха. В одной только Москве, говорят, приостановились было с новыми постройками, но не долго: дело весьма естественное, она более других была настращена, а пуганая ворона, по пословице, и куста боится. В Петербурге же мне приятно было видеть, что лучшее общество заговорило одним языком с простым народом. Люди, раз зазнавшись, уже не сомневаются в успехе. Поступок Наполеона в глазах наших был ни что иное, как возмущение против Александра, на которого в двенадцатом году все смотрели мы с обидным состраданием и в которого через три года веровали беспредельно. Грозный же повелитель народов, законодатель целой Европы, ужас России, который имя свое должен был дать столетию, в котором жил, казался нам отчаянным пройдохой, которому нечего было терять и который в последний раз хочет испытать свое счастье. Сама Франция, сума переметная, в мнении нашем ниспала до состояния слабой, вечно мятежной Польши, которую Россия столько раз без труда унимала. Даже простой народ полагал, что с Бонапартом также легко будет справиться, как с Костюшкой (Косцюшко), и что казак на аркане верно притащит его в русский стан. Что делать? Видно Небу не угодно наше высокомерие; тот самый, кто дал нам все причины, даровал нам все права возгордиться, увы! после того всемерно трудился, чтобы сбавить у нас спеси.
Гвардия начала живо приготовляться к походу и с открытием весны выступила из Петербурга. Радость была написана на лицах офицеров; они надеялись опять понатешиться в Пале-Рояле, и когда их спрашивали, куда им велено идти, они очень просто отвечали: да куда же? в Париж! Нашу новую столицу более всего можно назвать гвардейским городом. Гвардия составляет значительную часть Петербургского населения; они родились почти в одно время и вместе росли и расширялись: без неё он как будто сиротеет; я нахожу даже, что без неё он на себя не похож. Это первый раз мог я заметить только в 1815 году, ибо во время троекратной отлучки её из Петербурга и меня в нём не было.
Как ни любопытны сделались опять заграничные известия, как сильно ни возбуждалось всеобщее внимание происходящим во Франции, приготовлениями к возгорающейся войне, это никому не мешало заботиться о том, как бы приятнейшим образом провести наступающее лето. Блудов для маленького семейства своего нанял не весьма большую дачу; а как за удобным размещением этого семейства, всё еще оставалась одна лишняя комната, то он предложил мне занять ее, и так же, как в 1811 году, разделить с ним летние веселые досуги.
То, что назвал я дачей, был один из двух деревянных, продолговатых, двухэтажных домов, которые на Крестовском острове стоят близнецами, вблизи старого, долговечного трактира и неподалеку от большего перевоза с Колтовской. Крестовский остров был некогда уединеннейшим местом в окрестностях Петербурга, далее всех других островов выдвинутый во взморье; трехверстное его пространство со всех сторон окружено широкими протоками Невы и покрыто было дремучим непроходимым лесом. С удаленнейшими частями города имел он сообщение только посредством лодок. Императрица Елизавета Петровна любила везде ставить маленькие дворцы; построенное тут при ней каменное здание имело форму Андреевского креста, да, сверх того, сделаны были крестообразно две просеки, одна вдоль, другая поперек острова. Уверяют, что это дало ему название Крестовского; другие утверждают, что будто какой-то найденный в нём деревянный крест: хорошенько никто не знает. Императрица подарила это место любимцу своему графу Алексею Григорьевичу Разумовскому; от него перешло оно к брату и наследнику его Кирилу Григорьевичу, у которого везде были дворцы и загородные дома. Крестовский остров был совсем заброшен, и при Павле, когда в Петербурге всякий сбывал собственность свою за ничто, был он продан за девяносто тысяч рублей ассигнациями расчетливой княгине Белосельской, тогда как одного леса было в нём на полмиллиона.
Когда, в начале царствования своего, Александр полюбил Каменный остров и твердым мостом соединил его с Крестовским, тогда вся эта сторона ожила. Муж княгини Белосельской, человек со вкусом образованным, хотя довольно странным, поселившись на острове, им принадлежащем, исправил и украсил дом и развел подле него сад. Он поселил несколько крестьян против Елагина острова, и угол между Каменным и Аптекарским очистив от леса, построил на нём увеселительные приманки, качели и горы, и уже в 1802 году француз Торси, во французских стихах, воспел это место под именем Жоли-Кантона. Лучшее общество сперва мало посещало еще сию прогулку, за то деревенька против Елагина с нововыстроенным трактиром сделалась вожделенным местом для немцев и особенно для молодых немок: накануне каждого летнего воскресного дня уже всё твердили они про Крештовски. Там, в трактирной зале, можно было найти тогда то, что на провинциальных балах, а может быть и на некоторых Петербургских, сделалось ныне так обыкновенно: табачный дым столбом и посреди его неутомимую пляску. Когда граф Строганов скончался, в конце 1811 года, дача его покрылась трауром, звуки музыки умолкли на ней, открытое место на Крестовском сделалось средоточием веселостей для всех окрестных, знатных и незнатных, островитян, и княгиня Белосельская, уже вдовствующая, всеми признана за Lady des Isles. Вокруг нового гулянья построила она несколько домов, и в одном из них, по милости Блудова, пришлось мне провести это лето.
Житье мне было славное: общество самое для меня приятное, квартира, стол, — всё даром; только это продолжалось недолго. Супруга Блудова была вновь беременна, и не знаю почему, не хотела родить на даче. В половине июля хозяева мои вдруг переехали в город, а я остался и из гостя превратился в хозяина, только без хозяйства, ибо некогда и не для чего было мне им заводиться. Поблизости от меня находился трактир, но в целом Петербурге нигде нельзя было найти кушанья хуже и дороже. Беде этой помогли соседи, и я опять должен сделаться портретистом.
Рядом с нами, дом совершенно нашему подобный занимал один прелюбезнейший молодой человек; живши, так сказать, об стену, как было не познакомиться с ним? В самых цветущих летах, граф Михаил Юрьевич Виельгорский был уже вдов; отец его, вельможный пан при дворе Екатерины, имел знатный чин и был женат на богатой наследнице, единственной дочери обер-гофмейстерины, графини Анны Алексеевны Матюшкиной; оттого-то сосед наш Виельгорский по вере и по сердцу принадлежал России. При первой встрече поразил меня магнетизм его глаз. С лицом белым и румяным, он только что был не дурен собою; но необычайный блеск его взоров, как бы разливаясь по чертам его, делал его почти красавцем. Двойное происхождение его, двойная природа образовали из него человека весьма примечательного. В нём было пропасть ума, но с недостатками обоих народов: польская живость всегда ослабляема была в нём леностью, беспечностью совершенно русскими, неосмотрительность польская умеряема русским здравомыслием; вся же эта смесь была прелесть. Какими талантами не надарила его природа? Конечно, они не бесполезны были собственно ему; но они такого рода, что могли бы еще с большею пользой посвящены быть государству. Родись он без состояния, без известного имени, из него бы вышел славный министр, или известный писатель, или знаменитый композитор музыки. Что делать! Можно довольствоваться и тем, что есть. Слабости его, пороки даже, милы; достоинства его внушают к нему общую любовь и уважение: ни неприязненного, ни обидного чувства никогда ни в одном человеке он не возбуждал.
Раз в неделю обедали у него знакомые; по соседству он и меня пригласил и, разумеется, я не отказался. Посетители его были всё люди степенные, довольно образованные, но совсем не любезные и не блистательные. Людьми учеными или деловыми их опять нельзя было назвать, хотя разговор их был дельный, с примесью, однако же, некоторых изречений, мне вовсе непонятных. Моложе их всех, граф Виельгорский хотел быть между ими, как старший между равными; это было невозможно: расстояние было слишком велико, и я скорее видел в нём маленького немецкого владетельного князя, отменно снисходительного к приближенным своим подданным. Мне было совсем неловко среди сих людей, между собою чрезвычайно согласных, и коих присутствие мое как будто тяготило; если бы не любезность хозяина и славный его обед, я бы прекратил свои посещения. К повторению их побуждало меня и любопытство. Загадка сия вскоре для меня разрешилась. Виельгорский был главою одного тайного общества, до того безвредного, до того неопасного для государства, что впоследствии и я не убоялся принадлежать к нему. Лишившись родителей своих в ребячестве, он слишком рано пользовался независимостью; к сожалению, никем не руководимый, его пылкий, испытующий ум требовал пищи, и он попал на такую, которая для него была вовсе не подкрепительна.
На Каменном острове, с Крестовского перейдя мост, был у меня другой обед. Не помню, сказал ли я где-нибудь, что у матери моей была сестра Елизавета Петровна Тухачевская, несколькими годами её старее, которой имение, равно как и собственное, умел промотать в уездном городе Ломове муж её, Сергей Семенович. Во вдовстве и в бедности, спокойно и весело доживала она век у меньшей сестры, матери моей. Старший сын её, Николай Сергеевич, был человек с высокими притязаниями и низкими пороками, следствиями дурного воспитания и страсти к забавам и роскоши. Счастье долго улыбалось ему; он избран был опекуном трудного ребенка, родного племянника и однофамильца жены своей, Надежды Александровны, урожденной Киреевской, у которого было более пяти тысяч душ крестьян. Когда мальчик осиротел, у него не было ни одной копейки долгу; когда же вступил в совершеннолетие, оказалось его до трехсот тысяч рублей; из сего можно видеть, как роскошно и расточительно жил его попечитель[174]. На счет малолетнего Киреевского супруга его воспитывала детей своих. Она была женщина предобрейшая; страсть ко всему французскому была единственно её смешная, слабая сторона. Она обожала Лизаньку, дочь свою, которая была мила как ангел; но ее начинила она своими заблуждениями, с помощью мамзелей сделала ее сентиментальною, романическою, и когда маленькой мечтательнице едва исполнилось шестнадцать лет, выдала ее за миллионера, жирного, здорового купца Кусова. Если бы она искала её погибели, то лучше бы сделать не могла.
Старик Иван Васильевич Кусов торговал долго, честно, неутомимо и счастливо, и действительно мог почитаться Крезом. Но потомство его было бесчисленное; этого не разочли мои Тухачевские. Бедная дочь их попала в семейство, где ни она никого, ни её никто не понимал и, может быть, менее всех муж её, Николай Иванович, которого смешило слово чувствительность. Жаловаться ни на что не могла она: никто не обижал её, все тешили, дарили бархатами и каиками, жемчугами и алмазами, кормили на убой. А она всё скучала, ныла, сердце её еще не знало любви; но в голове у неё был идеал, который мог осуществить всякий скорее чем муж её. Свекру её на Каменном острове принадлежала земля, которую обстроил он, когда Царь в первый раз поселился тут на лето. Александр весьма искусно умел соединять величие с простотой. Он не посещал первых вельмож своих, оставляя между ними и собою почтительное пространство, которое никто не смел перешагнуть. Зато охотно заезжал он иногда к некоторым купцам: расстояние было слишком велико, чтобы мысль о каком-либо равенстве могла прийти им в голову. Почитая себя каменностровским помещиком, он видел в Кусове фермера своего, у которого старший сын женат был на красивой англичанке. Она скоро умерла, но знакомства с сим домом Государь не хотел прекратить. Иногда приходило ему в голову послать к Кусову сказать, что он будет к нему запросто обедать: слуги не входили в столовую, Государь сидел с одними женщинами, женой, невестками и дочерьми хозяина, который стоял за его стулом, а зятья и сыновья подавали кушанья и переменяли тарелки. Эта простота нравилась Царю, и без всякого тайного умысла он делался весел и любезен. Очень редко семейство сие бывало счастливо его присутствием, когда молодая родственница моя вступила в него. Никакого особого внимания не обращал он на нее; но вид человека, повелевающего миллионами людей, еще молодого, прекрасного, ласкового произвел на нее неизгладимое впечатление. Окружающее еще более ей опротивело, и она втайне лелеяла мечту свою. Смотря на её тихую грусть, Кусовы спрашивали у себя: чего недостает ей? Разве птичьего молока. Любовь, особенно безнадежная, рано или поздно всегда дает себя угадывать.
По причине этого дальнего родства, лет пять уже как узнал я Кусовых и их богатое житье, но видел их очень редко; потому что мне казалось у них скучно, и жили они далеко от середины города, в огромном доме у Тучкова моста. Старик восседал с женой всегда на первом месте за длинным столом, по бокам коего два поколения, от него происшедшие, перемешаны были с гостями, между коими находились и довольно чиновные. С дворянскими понятиями моими, или пожалуй предрассудками, я находил, что купцу не довлеет так высоко держать себя, забывая, что богатство, а еще более царские посещения во всякие лета могут кружить головы.
Старик был не говорлив и слишком невнимателен к гостям своим; он был прав: их привлекали к нему его жирные обеды. От трех жен сколько имел он детей обоего пола, этого перечесть не мог бы я и в тогдашнее время; помню только, что между ими были сорокапятилетняя и пятилетняя. Желая приятным образом польстить ему, некоторые из посетителей называли его патриархом; мне же напоминал он собою старинную оперу Федул с детьми. Не подозревая даже никакой потаенной страсти в кузине своей, я один понял положение её и душевно скорбел о ней, и когда все другие видели в ней причудницу, я про себя называл ее Бедною Лизой. Участие, прочитанное ею в глазах моих, сдружило нас. Хорошенькая эта женщина, с нежными чувствами, с умом и знанием приличий, могла бы украсить собою всякий аристократический круг. Во время отсутствия моего из Петербурга, она с каждым месяцем более дичала, уединялась и, наконец, получила дозволение являться только по праздникам к общему столу; она страдала нервическими припадками и обедала одна у себя в комнате. По возвращении моем, зимой, не мог я часто с нею видеться; а тут, в столь близком соседстве, по возможности старался я развлекать, развеселять ее; иногда в том и успевал. Я с собою вносил к ней некоторую отраду, и мы довольно часто обедали вдвоем, не видя противных ей и мне не совсем приятных, широких и раздутых Кусовских лиц. В это время, слава Богу, особенно между средним состоянием, дальнее родство почиталось еще наравне с близким; любовная связь между родными была бы непонятный грех, которому православные не захотели бы поверить, и потому-то наша приязнь в глазах самого Бога, как и в глазах человеков, не имела ничего предосудительного. О несчастной и постыдной развязке этого супружества да позволено мне будет здесь ничего не говорить.
Предшествовавшею зимой познакомился я вновь с Прасковьей Ивановной и Петром Васильевичем Мятлевыми. Родители, единственный брат и обе сестры Прасковьи Ивановны один за другим отошли в вечность, и всё Салтыковское имение досталось ей по наследству. Сделать дом свой почтенным и веселым вместе никто лучше её не умел. Страсть её к домашним театральным представлениям не уменьшилась летами, и в одной из длинных зал Салтыковского дома, на большой набережной, воздвигла она сцену, на которой в эту зиму несколько раз играли французские пьесы. Я учтиво отклонился от участия в сих представлениях, но не мог отказаться от другого, несколько на то похожего. У покойной фельдмаршальши Салтыковой была двоюродная сестра, Наталья Михайловна Строгонова, которую Мятлева уважала как родную тетку; и кто же не уважал эту святую женщину, пример всех христианских добродетелей? Надобно точно думать, что Небо испытует своих избранных, насылая им смертельные горести. Оставшись в молодости вдовой, имела она одного только сына, барона Александра Сергеевича, коего нежностью была она счастлива, коего жизнью она дышала. Он был весьма не глуп, и добр, и мил, и умел хорошо воспользоваться данным ему аристократическим тогдашним воспитанием; вместе с тем был он весьма деликатного сложения, чрезвычайно женоподобен, и от того в обществе получил прозвание барончика. Это еще идет к первой молодости, но когда он достиг тридцати лет и был гофмейстером при дворе, то иным казался несколько смешон. Грозная судьба, вскоре его постигшая, заставила умолкнуть смеющихся, Год от году стал он более страдать и сохнуть: сперва лишился употребления рук, потом ног, наконец и зрения, и в сем ужасном положении прожил несколько лет. Все родные по возможности старались облегчать ему тягость такого существования. Когда наступил пост и даже дома нельзя было играть на театре, госпожа Мятлева изобрела для него нового рода спектакль; зрелищем еще менее назвать можно то, что придумано было для слепого. Вокруг большего стола садились родные и знакомые, имея каждый перед собою по экземпляру трагедии или комедии, которую в тот вечер читать собирались; всякий старался голосу своему дать то выражение, которого требовала его роля; бедного слепца это забавляло: он мог почитать себя в театре. Я знал тогда хорошо одну только старую французскую классическую литературу, особенно драматическую её часть, и любил о том потолковать: это побудило Мятлевых предложить мне доброе дело, быть в числе сих чтецов-актеров и, получив мое согласие, они поспешили предуведомить Строгоновых о моем посещении.
Сострадание к безнадежному состоянию хозяина приязненно расположило меня к нему. Он был лет сорока пяти от роду, но весь седой и казался семидесяти; странно было в старце находить речи и манеры молодой придворной женщины. Он много путешествовал, всё помнил, и я находил разговор его и приятным, и занимательным. Тогда светские люди старались быть лишь вежливы, любезны, остроумны, не думали изумлять глубокомыслием, которое и в малолюдных собраниях не совсем было терпимо. С запасом дерзости и отвлеченностей (абстракций, как говорят нынешние писатели), с которыми ныне в обществах являются и проповедуют часто невежды и глупцы, тогда нельзя было показываться.
Строгонов находил, что у меня голос привлекательный, с удовольствием слушал меня, и эта маленькая лесть, а может быть искренняя похвала, понравились мне. Мы друг друга очень полюбили.
Сие семейство, из двух лиц состоящее, переехало также на Крестовский остров в небольшой павильон, построенный самим причудливым князем Александром Михайловичем Белосельским, братом Натальи Михайловны, которого тогда уже на свете не было. Это малое здание находилось и теперь находится на самом гулянье, по берегу реки, и следственно саженях во ста от нашего жительства. Соседство людей хорошо расположенных друг к другу еще более сближает в чувствах. Не знаю, как узнали они, мать и сын, что я, лишившись Блудова, лишился и дневного пропитания, и вследствие того предложили мне не только всякий день обедать у них, но когда почувствую лень или болезнь, то присылать к ним на кухню требовать что мне угодно. Сим последним предложением, весьма заманчивым, мне ни разу не случилось воспользоваться.
Летом петербургская знать рассыпается по окрестностям столицы. Многие однако же вблизи живущие посещали этот дом; чаще всех невестка баронессы Строгоновой, вдова Белосельского княгиня Анна Григорьевна. Спесивое родство видело в этом союзе неровный брак, мезальянс, ибо на русском языке для того слова еще не существует. А между тем предки отца её, любимого статс-секретаря Екатерины, умнейшего и просвещеннейшего человека своего времени, Козицкие, русско-украинского происхождения, долго известны были на Волыни своими богатыми владениями, и одна из них, яже во святых, Параскевия, была основательницею Почаевского монастыря. Но зато мать её, тоже преумнейшая женщина, имела несчастье наследовать миллионам дяди своего, купца Твердышова. Богатство родителей с меньшою сестрой разделила Белосельская пополам; но весь ум их ей одной уступила она. Встречая меня часто, она не лично меня пригласила, а поручила баронессе объявить мне, что в назначенные дни, раз в неделю, могу я обедать у неё в замке. Такого рода приглашение столь же мало полюбилось мне как и особа её. Никакой пользы не видел я тогда в этом знакомстве; она казалась мне так скучна, так чванно пришепетывала, что я было отказался; но почтенная старуха сказала мне, что ей сделаю я тем удовольствие. И как вассал у сюзеренши своей, и то не иначе как вместе с Строгоновыми, раза два обедал я у этой владетельной княгини. До конца августа, всего только недель шесть, оставался я один на Крестовском, и следственно недолго пожил на чужой счет.
Осень разлучила меня с моими обедодавцами; и не одна осень, а с иными и смерть. Накануне переезда моего в город обедал я у Белосельской; в последний раз, сидя за столом, Строгонов смеялся, был весел; к вечеру, кресла его поставили на носилки, и слуги понесли его домой; один из них поскользнулся и упал. От этого падения расшибся и бедный слепец — потрясение его полуразрушенного состава было слишком сильно, чтоб он мог его перенести; через две недели прекратились его земные страдания; уповаю, что незлобие его души и молитвы матери спасли его и от вечных. Наследник его, двоюродный брат, Григорий Александрович Строгонов, предоставил его матери пожизненное владение имением его; она недолго пользовалась сим благородным поступком племянника. Зимой раза три я посетил ее и увидел, какую твердость может дать вера; печаль её была тиха и спокойна, и даже в глазах её можно было прочитать надежду на скорое свидание; она не обманула её, ибо не более четырех месяцев прожила она без сына. К Белосельской я с тех пор ногой не ступал; она меня не узнавала, и при встречах с нею я не находил надобности кланяться ей. Любезную мою Кусову мне нельзя было покинуть, и хотя изредка, но я посещал уединение её.
В городе граф Виельгорский тогда почти никого не принимал. Он был женат на принцессе Бирон и овдовел, как сказал я выше. Потеряв жену, единственное утешение находил он в единственной сестре её Луизе и всей душой привязался к ней. Не знаю почему, религия наша, к которой он принадлежал, допуская супружество между единокровными не в дальних степенях, воспрещает его между теми, кои по крови друг другу совершенно чужды. Второй брак его, не будучи одобрен двором, равномерно не был признан и обществом, и молодая чета несколько лет должна была уединяться. Но этот брак, видно, не противен был Небу: ибо семейство, от неё происшедшее, по всей справедливости всеми почитается благословенным.
Иные могут подумать, что это лето, ведя жизнь праздную, хотя и не беспечную (ибо должен был пещись о прокормлении своем), я мало заботился о важном вопросе, разрешающемся на Западе, быть или не быть Наполеону? Напрасно. Сей вопрос весьма занимал меня, но, признаюсь, по какому-то предчувствию мало беспокоил. Отрезанный от своего прошедшего ссылкой на Эльбу, Наполеон казался другим человеком, даже в самой Франции. Очарование исчезло; сосуд, избранный Провидением, ударившись оземь, расшибся; склеенный и подъятый вновь, он потерял большую часть цены своей в глазах народов. Как утопающий хватается за гнилой сук дерева, так он прибегнул к орудию, употребленному против него венчанными его противниками: он заговорил о свободе. Он созвал новые камеры. Из глубины общества, из окровавленной грязи его, в которую он умел его вдавить, показался опять якобинизм, во всём ужасном безобразии своем, и воссел между новыми законодателями. Казалось, что правительственная власть вся в руках их; а он, участвующий только в ней, главный полководец. За то все старые усачи, все старые брюзги, гроньяры его, как он называл их, с восторгом собрались под вновь подъятым знаменем его, залогом для них будущих побед; с досадою косились они на жестокосердых и неутомимых болтунов, которые многоречием и часто пустословием своим надеялись уничтожить и заменить как права, освященные религией и древностью, так и новейшие права, приобретенные славою. Нельзя было не заметить обмана с обеих сторон; но расчёт Наполеона быт вернее: победив неприятелей, мог он легко обратить оружие на горсть непокорных подданных, осадить их, связать нескромные их языки. А они чего могли ожидать? В случае нового падения Наполеона и они неизбежно должны были убраться в нечистые норы свои. Но много ли есть французов, которые размышляют о последствиях предпринимаемого ими даже в случае успеха? Две трети из них спешат воспользоваться настоящим: courte, mais bonne, «на час, да вскачь». Первый, лучший из их ораторов, Бенжамен Констан, тому обрадовался тогда, что может разъезжать в карете. Сими господами составлен наскоро так называемый дополнительный акт, и сию конституцию топорной работы торжественно принял бедный Наполеон на Майском поле, где в последний раз воспользовался он уроками наставника своего в царском величии, актера Тальма.
С Майского поля, на котором был он как не свой, поспешил он на другое, ему столь знакомое, на котором наконец мог он свободно вздохнуть. Среди шумного стана воспрянул опять упадший дух его, пробудился его гений, запылал прежним огнем его всевидящий взгляд. Но всё это похоже было только на эпилог великой поэмы, писанной потоками крови человеческой, распетой пушечными громами.
Едва успели мы узнать в Петербурге о выступлении его в поход, как получили известие о решительном, окончательном его поражении. В один июньский вечер приехал к Строгоновым посланник маленького восстановленного Сардинского королевства, граф Иосиф Местр, еще более папист, чем легитимист, равносильно ненавидящий, и безбожников французов, и схизматиков русских. Об нём говорю я уже не в первый раз. Он вошел с видом вдохновенным, пророческим; помолчав с минуту и вперив взор свой в потолок, возвестил он обществу, что демон пал, ниспровергнут, истреблен и что два еретика, Веллингтон и Блюхер, были исполнителями неисповедимой небесной воли. Некоторые подробности не совсем точные, не совсем ясные, уверили нас однако же в истине им объявляемого. Он назвал только Бель-Аллианс, и в сем имени уже увидели мы счастливое знаменование. Несколько дней прошло, и миру прогремевшее имя Ватерлоо достигло и до слуха нашего. Оно заглушило названия Маренго, Аустерлица, Бородина и Лейпцига; они мало-помалу слабеют в памяти человеческой, когда оно после тридцати лет всё еще раздается по вселенной. Если я позволил себе двенадцатый год сравнить с Троянскою войной, то, конечно, его можно уподобить Фарзале, и если не Гомер, то какой-нибудь Лукан воспоет его. Увы! Русские не участвовали в сем великом деле: они из глубины своей едва поспели только к концу вторичного завоевания Франции.
Во время этого похода, одно только важное событие ознаменовало силу российского оружия, и этой славой обязано отечество генералу Чернышову (после министру, графу и князю), который привык поражать неприятелей неожиданными ударами, который быстро вскакал в Берлин и еще быстрее и удачнее выскочил из него с отрядом казаков, который в том же 1813-м году вступил с триумфом в опустевший город Кассель, столицу великого Вестфальского королевства. Он донес, что взял штурмом неукрепленный город Шалон-на-Марне, не потеряв ни одного человека, не убив ни одного неприятеля, и за сей изумительный, неимоверный фе-д’арм, едва по ошибке не получил было Александровскую ленту.
Движения французской армии бывают всегда чрезвычайно быстры. Ретираде учил их Моро, но не выучил: после неудачи, знают они только побег. Как из-под Малого Ярославца, как из-под Лейпцига, так и тут, употребляя малороссийское выражение, утекли они. Не переводя духа, английская и прусская армии пустились за ними в погоню до самого Парижа и облегли его. Унялись ли наконец в нём крикуны? Нимало; они пуще прежнего начали шуметь: в остающиеся им не дни, а часы, им хотелось навраться. Их бодрость в палатах походила на сумасшествие. Пощады им ждать было не от кого: Веллингтон был холоден как лед и гусар Блюхер казался разъяренным диким зверем, а вдали, как бури, катили русская и австрийская армии. Но и без Александра, после него, пример его еще спасительно действовал. Отправляя к союзным монархам депутации с нелепыми предложениями, в тоже время, вместо того, чтобы участием утешить ими же вызванного Наполеона, они упояли его оскорблениями. Сравнение с ослами, лягающими в умирающего льва, никому так не было прилично, как им. Жалка и гадка была в это время Франция!
Не замедлилось решение участи её: стодневное правление рушилось, и возвратились опять Бурбоны. В суде царей решен и жребий Наполеона, и в ссылке, и в утробе земли величие было суждено этому человеку. Океан сделался его темницей, Великобритания — стражем, целый остров — могилой его и памятником. Малодушие французов, дважды развенчавшее его, не оставляющее в покое ни живых, ни мертвых, для потехи своей, лишило его и сей великолепной гробницы. Из неё восставал он привидением пловцам Англии и минувшими бедами еще грозил ей самой; она уже натешилась его страданиями, прах его тяготил ее, и она охотно уступила его любезной своей, а еще более покорной, союзнице.
Изнуренная длинным и шибким походом, русская армия так скоро успела выправиться, что подала Александру счастливую мысль пощеголять ею. Лагерь и маневры под Вертю стоили выигранного сражения: они равно изумили неприятелей и союзников. Всё хорошо на своем месте, и такая мирная война раз-два может быть полезна, но, наконец, без настоящей потеряет свое действие. Говоря о подвиге Чернышова, я было и забыл сказать, что в эту войну русское войско встретило действительное упражнение под стенами Метца, который довольно долго и упорно защищался. В сей осаде особенно отличился зять мой Алексеев, и доказательством тому служит данный ему за то чин генерал-лейтенанта.
В день Воздвижения Честного и Животворящего Креста, 14-го сентября, тайно подписав и впоследствии объявлен был религиозный и политический акт, столь известный под именем Священного Союза. Сей залог мира для правительств и народов внушен был Александру любовью к Богу и человечеству, к неблагодарному человечеству, коего обуздывал он страсти и которое, обругав его за то, и поныне не перестает поносить бессмертную мысль, его создавшую. Если Александр, в древности прозванный Великим, мечем рассекал узлы, то Александр новейших времен любовью умел их завязывать.
Переговоры с новым или, лучше сказать, с возобновленным французским правительством могли быть не иначе как продолжительны. Для собственного спасения своего ему надлежало принять самые тягостные условия для нации. Не говоря уже о необъятной контрибуции, которую наложили на нее, недавно еще столь гордая Франция подвергнута величайшим из уничижений. Как бы малолетняя, или развратная, или ума лишенная, поставлена она под опеку союза европейских государей и отдана под караул. Стопятидесятитысячная армия, под начальством Веллингтона, должна была занять её северо-восточные провинции и все крепости в них находящиеся, и на её же иждивении должна была оставаться тут три года. В ней было четыре корпуса: Австрийский, Российский, Английский, Прусский, да еще пятый, составленный из воинов других мелких государств, в каждом по тридцати тысяч человек. Прославившийся в последнюю войну граф Воронцов назначен начальником Русского корпуса; новый генерал-лейтенант Алексеев, по собственному выбору Государя, в этот корпус начальником кавалерийской дивизии. Врат мой Павел, полковник еще без полку, был очень рад, что с огромным содержанием сделали его директором корпусных госпиталей. Итак, часть семейства моего, сестра, зять и брат сделались жителями Франции, чего им прежде и во сне не грезилось.
После Наполеона Европа, как будто, Александру была приказана. Множество разнообразных забот, распоряжений всю осень удержали его в Париже, и он только зимой мог воротиться к нам.
XIII
Русский театр. — Возникновение «Арзамаса». — Служба в Министерстве Финансов.
В это гремучее время поэзия у нас не умолкала: её голос иногда громко раздавался, и воины, равно как и граждане, с восторгом внимали ему. Жуковский, Вяземский, Батюшков, Шаховской и многие другие литераторы и стихотворцы вступили в дружины и ополчились на врагов отечества. Но только первый из них, певец во стане русских воинов, как они назвали его, и как сам он назвал прекрасное стихотворение свое, был счастливо вдохновен ужасным и новым для него зрелищем.
Все журналы гласили только о военных или политических происшествиях. На сцене ничего не показывалось нового, кроме небольших патриотических пьес, приноровленных к настоящим обстоятельствам. Из-под пера славного баснописца нашего, Крылова, выходили басни, также к сему предмету относящиеся. В одной из них ворона попадает к французам в суп, в другой ловчий Кутузов говорит волку Наполеону: «ты сер, а я, брат сед, и волчью вашу я натуру знаю».
Когда же, после взятия Парижа, Александр возвратился в Петербург, тогда вся восхищенная им толпа поэтов, в честь и хвалу его, возвысила свои искренние, не купленные голоса. Послание свое к нему Жуковский начинал сими словами:
Когда летящие отвсюду шумны клики, В один сливаясь глас, к тебе зовут великий…Когда раздался всеобщий сей бесподобный, трогательный гимн, то в нём различить можно было и умирающие звуки лиры Державина, и нежный, но уже сильный голос еще ребенка Пушкина, который посвятил ему первые плоды чудного своего таланта. Крылов нашел средство в маленькой, премилой басне, Чиж и Еж, также воспеть ему хвалу. Всё напоминало первые дни его царствования; сердца русских, казалось, еще сильнее пылали к нему, но он был уже не тот.
Пока продолжался Венский конгресс, внутри России, так же как и в Петербурге начали забывать и прошедшее горе, и минувшую радость; всякий помаленьку стал приниматься за прежнее дело, и сочинители стали по-прежнему пописывать и слегка перебраниваться.
Беседа открыла вновь свои торжественные заседания, но они становились всё реже и совсем потеряли великое значение, которое имели до войны. Раз вздумалось нам с Блудовым (помнится, в ноябре 1814 года) из любопытства отведать их препрославленной скуки и, можно сказать, были ею пресыщены. Ни забавного, веселого и остроумного, ни глубокомысленного или ученого ничего мы не слыхали, а всё что-то такое, о чём бы не стоило говорить. Не одною скукою были мы жестоко наказаны за сию не совсем благо приязненную попытку. Блудов отослал домой карету и слугу; они еще не воротились, когда кончилось чтение; свет начал гаснуть в зале, и она скоро закрылась. Нам пришлось оставаться в передней между лакеями, ибо в гостиную к Державину, куда переселились чтецы и слушатели, одному незнакомому, а другому известному противнику Беседы и Шишкова, явиться было неприлично. Мы предпочли в одних фраках идти пешком вдоль по Фонтанке, при сильном холодном ветре, и осыпаемые мелким снегом. Скоро встретилась нам карета, мы сели в нее и, только согревшись, нашли, что случившееся с нами довольно забавно. Впоследствии Блудов весьма искусно поместил сие происшествие в одном шуточном произведении своем.
Во время продолжительного отсутствия моего из Петербурга произошла в нём перемена, несмотря на мой патриотизм, для меня весьма неприятная. Французский театр для холостых, для молодых людей, большой свет мало посещающих, был усладительным препровождением времени. В 1812 году, по мере как французские войска приближались к Москве, начал он пустеть и наконец всеми брошен. Государь, который никогда не был охотник до театральных зрелищ, сим воспользовался, чтобы велеть его закрыть и рассчитаться с актерами, которые почти все один за другим через Швецию уехали[175]. Публика лишилась пленительных Филис и Жорж, сперва по-видимому мало о том жалела, а наконец и совсем их забыла. Для меня же без них Петербург потерял более половины своей прелести.
Немецкий театр заменить его не мог. Он, точно так же как до упразднения французского, как и после него, так же как и поныне существует для особого мира. Несмотря на предпочтение, данное впоследствии духу германской литературы пред другими, даже немцы лучшего тона никогда не посещают его. Он остался вечернею отрадой всего своекорыстного и трудящегося у нас немецкого населения. Пасторы, аптекари, профессора и медики занимают в нём кресла; семейства их — ложи всех ярусов; булочники, портные, сапожники — партер; подмастерья их, вероятно, раек.
Итак, для общей забавы оставалась одна только русская труппа, и надобно признаться, она умела воспользоваться присутствием французской, а еще более отсутствием её. Русский народ переимчив: наши актеры, насмотревшись на французов, первых актеров в мире, всеми силами старались заменить их, и начали прилежно изучать все тонкости художества своего, когда предстали пред лучшею публикой. Созревший талант Семеновой изумлял и очаровывал даже тех, которые не понимали русского языка; до того черствые стихи Хвостова и других в устах её делались мягки и приятны. Она заимствовала у Жорж поступь, голос и манеры, но так же как Жуковский, можно сказать, творила подражая. В комедии и опере показалось несколько примечательных молодых артистов; но как они долго оставались на сцене, то надеюсь найти случай в другом месте поговорить о них.
Мода на трагедии как будто прошла. Новых комедий тоже что-то не было. Ополчившемуся Шаховскому сперва не до того было; но он уже замышлял вступить в новый бой, ему более свойственный, а покамест новым, маленьким творением потешил публику. Его Казак Стихотворец очень милый малый и особенно примечателен тем, что первый выступил на сцену под настоящим именем водевиля. От него потянулась эта нескончаемая цепь сих легких произведений, которых ныне по три и по четыре ежедневно появляется на сцене. В первые годы появление каждого из них было происшествием для любителей театра. Оперы почти все по-прежнему были переводные с французского; опасаясь сравнения, преимущественно играли те, кои гвардия вновь привезла с собою из Парижа, — Жана Парижского, Жаконду, именно те, в коих зрители не видали Филис.
В 1815 году, откуда ни возьмись, показался новый комик, который в произведениях своих сделался известен не на одном драматическом поприще. Мне был он давно знаком, равно и тем, кои с некоторым вниманием прочтут меня. Никто не подозревал в родственнике моем, Михаиле Николаевиче Загоскине, тех редких способностей, которые труды и время развили в нём, а я, может быть, менее чем кто другой. Отец его, почтенный чудак, исполнен был религиозного духа и любознательности, жил всегда в деревне и на ярмарках запасался всякого рода книгами, выходящими на русском языке; их давал он читать сыновьям своим. У старшего было чрезвычайно много живости в крови и мыслей в голове; к тому же с ребячества имел он любовь (которую назову я страстною) к истине и справедливости и какой-то свой особенный, но не менее того верный и ясный взгляд на людей и их недостатки. Одним словом, в нём воображение сочеталось с рассудком, а из чего же составляется ум? Проведя отрочество в деревне и первую молодость в среднем тогдашнем кругу, его наблюдательности представились сперва самые низшие слои общества. Он тем воспользовался, и я готов назвать его Крыловым в прозе и романах. Но кипеть его характера делала его рассеянным и невнимательным к этой глазури света, которую посредственность, а часто и ничтожество, так удачно наводить на себя умеют. Как человек совершенно русский, он любил подтрунивать; видя зло, горячился, сердился, но никогда до ненависти, и в сегодняшнем враге так и хотелось ему видеть завтрашнего друга. Я всегда любил его за его доброту и веселонравие, но не имел довольно опытности, чтобы уметь достойным образом оценить качества его души и ума: в глазах моих, всякий гостиный эмабельный дурак стоял выше его. До 12 года оставался он мирным канцелярским чиновником; казалось, что он не имеет ничего общего с военным ремеслом, как вдруг любовь к отчизне вызвала его на поле брани; он вступил в Петербургское ополчение и храбро дрался с ним под Полоцком и под Данцигом. По возвращении из похода, всегдашняя страсть его к театру сблизила его с Шаховским; им ободряемый, он решился написать небольшую комедию Проказник, довольно плохую, но которая дала ему почувствовать, что он в состоянии творить лучше.
Весной того же года решился, наконец, Жуковский приехать в Петербург на житье. Ему предшествовала выросшая его знаменитость, и он особенно милостиво был принят у вдовствующей Императрицы, которая любила в нём певца обожаемого ею, могущественного, препрославленного сына своего. Несмотря на новый образ жизни, Петербург не мог показаться ему чужбиной: недра дружбы ожидали его в нём. Тщеславный и ленивый Тургенев, который выслуживался чужими трудами и плел себе венок из чужой славы, конфисковал его в свою пользу и дал ему у себя помещение.
Желая им похвастаться и им угостить, в один весенний вечер созвал он на него всех коротких знакомых своих. Я рано прийти не мог: принадлежа к Оленинскому обществу, я счел обязанностью в этот день видеть первое представление Расиновой Ифигении в Авлиде, коей переводчик, Михаил Евстафьевич Лобанов, был один из приближенных к Алексею Николаевичу. Публика приняла трагедию хорошо; а как один партер с некоторого времени имел право изъявлять народную волю (что шалунам и крикунам было весьма приятно), то она не упускала случая сим правом воспользоваться, и потому-то, вероятно, шумными возгласами вызвали переводчика. Ничтожество и самолюбие были написаны на лице этого бездарного человека; перевод его был не совсем дурен, но Хвостов, я уверен, сделал бы его лучше, то есть смешнее.
С Крыловым, с Гнедичем и с самим, венчанным свежими лаврами, поэтом, после представления, прямо из театра явились мы к Тургеневу. Но, о горе! приход последнего едва был замечен. На Жуковском сосредоточивались все любопытные и почтительные взоры присутствовавших: он был истинным героем празднества. В помутившихся глазах и на бледных щеках Лобанова выступила досада, которую разве один я только заметил. Быстрый переход от торжества к совершенному невниманию действительно жестоким образом должен был тронуть его самолюбие. Вскоре после того неудовольствие свое выместил он на мне: осмеивая пристрастие мое к французскому театру, в каком-то стихотворении, необидную, неопасную злость свою излил он следующими стихами:
Не столько Телемак крушился об Улиссе, Как многие у нас крушились о Филисе.На этом вечере, к кругу не весьма обширном, мог я ближе разглядеть одного молодого еще человека, которого дотоле встречал в одних только больших собраниях. Щеголяя светскою ловкостью, всякого рода успехами и французскими стихами, Сергей Семенович Уваров старался брать первенство перед находящимися тут ровесниками своими, и его откровенное само довольствие несколько смирялось только перед остроумием Блудова и исполненным достоинства разговором Дашкова. Мне показался он нестерпим. Человек этот играет важную роль в государстве; он дает направление образованию всего учащегося юношества, и благо или зло, им посеянное, отзовется в потомстве. Вот почему я полагаю, что всякая подробность, относящаяся до происхождения его, характера, жизни, достойна внимания этого потомства и заслуживает быть ему передана.
У одного богатого дворянина древнего рода, Ивана Головина, женатого на одной бедной Голицыной, сестре обер-егермейстера князя Петра Алексеевича, было две дочери. Старшая Наталья, с молода красавица, вышла за упомянутого мною не раз князя Алексея Борисовича Куракина. Меньшая Дарья, следуя её примеру, искала также блистательного союза…
У князя Потемкина был один любимец, добрый, честный, храбрый, веселый Семен Федорович Уваров. Благодаря его покровительству, сей бедный рядовой дворянин был флигель-адъютантом Екатерины и под именем вице-полковника начальствовал лейб-гренадерским полком, коего сама называлась она полковником. Он мастер был играть на бандуре и с нею в руках плясать вприсядку. Оттого-то без всякого обидного умысла Потемкин, а за ним и другие, прозвали его Сеней-бандуристом. Приятелей было у него много; они сосватали его… Во время короткого знакомства моего с г. Уваровым, мне случилось с любопытством смотреть на портрет или картину, в его кабинете висящую. На ней изображен человек лет тридцати пяти, приятной наружности, в простом русском наряде с бандурою в руках, но с бритою бородою и с короткими на голове волосами. На нескромный вопрос, мною о том сделанный, отвечал он сухо: это так, одна фантазия». Я нашел однако же, что на эту фантазию чрезвычайно похож меньшой брат его, Федор Семенович. Рано лишился Уваров… отца своего. В родстве с Куракиными да с Голицыными, воспитанный на знатный манер каким-то ученым аббатом, он спозаранку исполнился аристократического духа. Признанный вельможею, любимец двух императоров Павла и Александра, дальний родственник его, Федор Петрович Уваров, дал новый блеск мало известному дотоле его фамильному имени. Мальчик был от природы умен, отменно понятлив в науках, чрезвычайно пригож собою, говорил и писал по-французски в прозе и в стихах, как настоящий француз; все хвалили его, дивились ему, и всё это вскружило ему голову. Семнадцати лет не боле попал он ко двору камер-юнкером пятого класса.
Но вдруг и на него пришла невзгода. Мать его, желая обоим сыновьям своим, особенно старшему, доставить средства для поддержания себя блистательным образом в свете, за большие проценты отдала всё имение свое под залог по казенному питейному откупу. Она умерла, откупщик сделался несостоятелен, страшное взыскание пало на имение, и совершенное разорение угрожало Уварову. Чтобы сохранить довольно завидное положение, в котором он находился, готов он был на всё. Одна фрейлина, богатая графиня Разумовская, двенадцатью годами его старее, которая, не знаю по какому праву, имея родителей, могла располагать собою, давно была в него влюблена; а он об ней думать не хотел. Узнав о крайности, к которой он приведен, она без обиняков предложила ему руку свою, и он с радостью принял ее. Этот брак в полном смысле составил Фортуну его.
Вскоре после совершения его, тесть его, граф Алексей Кирилович назначен был министром народного просвещения. Он тотчас доставил ему, с чином действительного статского советника, места попечителя Санктпетербургского учебного округа и президента Академии Наук, остававшиеся праздными после удалившегося, прежде всемогущего, Новосильцова. И ему было тогда только двадцать три года от роду.
Вступив в храм учености, узнал он, что одной французской литературы мало, и устыдился неведения своего. С большими способностями, сильным желанием приведенными в движение, начал успевать он в науках, даже усердно принялся за русский язык. Но по мере как в сей части делал он новые приобретения, со врожденным его тщеславием, спешил ими хвастать. Барич и галломан во всём был виден; от того-то многим членам Беседы он совсем пришелся не по вкусу; некоторые из них, более самостоятельные, позволяли себе даже подсмеиваться над ним. Это его взорвало; но покамест принужден он был молчать. Приезд Жуковского не нравился большей части Беседников, что и подало Уварову мысль вступить с ним в наступательный и оборонительный союз против них.
Он обманулся в своих расчетах: Жуковский, так же как и Карамзин, чуждался всякой чернильной брани. Не менее того ошиблись в нём и Петербургские его естественные враги. В наружности его действительно не было ничего вселяющего особое уважение или удивление; в обхождении, в речах, был он скромен и прост: ни чванства, ни педантства, ни витийства нельзя было найти в них. Оттого в одно время успехам его завидовали, а особу его презирали. Оленинская партия не в явь, но тайно также не благоволила к нему. Тогда-то Шаховскому (и кому же иному?) вздумалось одним ударом сокрушить сие безобидное, по мнению его, творение, его и всю знаменитость и всех друзей его.
Мы обыкновенно день именин Дашкова и Блудова, 21-го сентября, праздновали у сего последнего; Крылов и Гнедич тут также находились за обедом. Афишка в этот день возвещала первое представление 23-го числа новой комедии Шаховского в пяти действиях и в стихах, под названием: Липецкие воды или Урок Кокеткам. Для любителей литературы и театра известие важное; кто-то предложил заранее взять несколько нумеров кресел рядом, чтобы разделить удовольствие, обещаемое сим представлением; все изъявили согласие кроме двух Оленистов.
Нас сидело шестеро в третьем ряду кресел: Дашков, Тургенев, Блудов, Жуковский, Жихарев и я. Теперь, когда я могу судить без тогдашних предубеждений, нахожу я, что новая комедия была произведение примечательное по искусству, с каким автор победил трудность заставить светскую женщину хорошо говорить по-русски, по верности характеров в ней изображенных, по веселости, заманчивости, затейливости своей и, наконец, по многим хорошим стихам, которые в ней встречаются. Но лукавый дернул его, ни к селу ни к городу, вклеить в нее одно действующее лицо, которое всё дело перепортило. В поэте Фиалкине, в жалком вздыхателе, всеми пренебрегаемом, перед всеми согнутом, хотел он представить благородную скромность Жуковского; и дабы никто не обманулся на счет его намерения, Фиалкин твердит о своих балладах и произносит несколько известных стихов прозванного нами в шутку балладника. Это всё равно что намалевать рожу и подписать под нею имя красавца; обман немедленно должен открыться, и я не понимаю, как Шаховской не расчел этого. Можно вообразить себе положение бедного Жуковского, на которого обратилось несколько нескромных взоров! Можно себе представить удивление и гнев вокруг него сидящих друзей его! Перчатка была брошена; еще кипящие молодостью Блудов и Дашков спешили поднять ее.
Это можно было почитать продолжением литературной войны между Москвою и Петербургом, некоторые подробности которой описаны мною в предшествующей части сих Записок, или лучше сказать возобновлением её, ибо во дни всеобщей борьбы европейских народов сия пустая возня на время прекратилась. Она должна была возгореться с новою силой, когда не оставалось ни малейшего сомнения насчет прочности европейского мира.
Победа казалась на стороне Шаховского; новая пьеса его имела успех чрезвычайный, публика приняла ее с шумным, громогласным одобрением. В тот же вечер, как нам сказывали, по сему случаю было большое празднество у петербургского гражданского губернатора Бакунина, коего супруга, сестра Павла Ивановича Кутузова, надела венок на счастливого автора. Крылов, с которым на другой день я увиделся, сказал мне с коварною улыбкой: «Как быть les rieurs sont de sou côté» (насмешники на его стороне). Торжество Шаховского пуще раздражало нас. Ах, юность, юность! Ну, право, как будто и смешно, и совестно за себя и за других, когда вспомнишь, как все эти пустяки почитали мы делом серьёзным и важным.
Для получения наследства Блудов когда-то ездил в Оренбургскую губернию. Дорогой случилось ему остановиться в Арзамасе; рядом с комнатой, в которой он ночевал, была другая, куда несколько человек пришли отужинать, и ему послышалось, что они толкуют о литературе. Тотчас молодое воображение его создало из них общество мирных жителей, которые в тихой, безвестной доле своей посвящают вечера суждениям о предмете, который тогда исключительно занимал его. Воспоминание об этом вечере и о другом, проведенном со мною, подало ему мысль библейским слогом написать нечто под названием: Видение в какой-то ограде. Арзамасские любители словесности, в одно из своих вечерних собраний слышат странный шорох в соседней комнате; Шаховской в магнетическом сне бродит по ней; они прислушиваются, а он рассказывает, как в памятную нам бурную ночь вздумалось ему остановиться перед окошком опустевшей залы дома Державина, и какие чудеса ему там привиделись. Потом принимается он исповедывать все тайные, но всем известные грехи свои. Писано было отменно забавно, а для Шаховского с товарищами довольно язвительно. Напечатать было невозможно, а рукописи всегда трудно разойтись по рукам и получить общую известность; главное было то, чтоб она дошла до Шаховского, и в чашу радости его много подлила она горечи.
Дашков поступил еще лучше, то есть смелее. За начинающимся недостатком политических происшествий, следственно и известий, в Сыне Отечество Греч начинал уже помещать литературные статьи, но и ими журнал сей не изобиловал. Вероятно оттого-то согласился он напечатать в нём Письмо к новейшему Аристофану Дашкова, притворяясь, будто не знает, на чье лицо оно писано. А угадать было не трудно: самым пристойным, почти учтивым образом автор письма, как палицей, так и бил с плеча в Аристофана. Шум и великая тревога сделались оттого в неприятельском стане.
Принимая в этом деле живейшее участие, не менее того видел я и забавную его сторону. С родственником моим Загоскиным, верно преданным Шаховскому, я не прерывал своих сношений; мы часто посещали друг друга. Я любил бесить его, позволяя себе нескромные шутки и повторяя все колкости, слышанные мною в кругу моих приятелей на счет его патрона. С своей стороны и он не слишком щадил сих последних, и в нетерпении своем высказывал мне злые намерения наших противников. Таким образом пламя раздора всё более раздувалось, и с обеих сторон готовились к новым битвам. Передавая всё слышанное мною дружескому обществу нашему, я в шутку сам прозвал себя его шпионом или лазутчиком, а там, в сердито-веселом расположении духа, находя это название слишком жестоким, перевели его на слово соглядатай. Роль поджигателя была очень веселая, не совсем уважения достойная, но как быть? дело от безделья.
Новое нападение противной стороны, возбужденной мною посредством Загоскина, ограничилось его комедией Урок волокитам, в трех действиях и в прозе. Она была не дурна, особливо как скороспелка. В ней, хотя не совсем остроумно, досталось всем, а более всех мне. Пожалуй, и мог бы не узнать себя в Фольгине, большом врале, ветреном моднике, каким никогда я не бывал, если бы некоторые из слов и суждений моих не были вложены в уста его. Я знал чем отомстить человеку, который, по всей справедливости, гордился едва ли не более древностью рода своего, чем новостью своей известности. Я уверил его, что все приятели мои не хотят верить его существованию, фамильное имя его почитают вымышленным, одним словом, видят в нём псевдоним, под которым сам Шаховской написал комедию.
Любопытно в это время было видеть Уварова, Он слегка был задет в комедии Шаховского и придрался к тому, чтоб изъявлять величайшее негодование. Мне кажется, он более рад был случаю теснее соединиться с новыми приятелями своими. Мысленно видел он уже себя предводителем дружины, в которой были столь славные бойцы, и на челе его должен был сиять венец, в который как драгоценный алмаз намерен был он вставить Жуковского. Опыт доказал ему, что он никакой подчиненности не может ожидать от соратствующих: всё равно, в петербургском большом свете он гораздо их более известен, и в глазах его может показаться главою партии. Вечно-тщеславные расчёты этого человека бывали часто неверны, но иногда и удачны и тогда помогали ему возвыситься то в общем мнении, то на поприще службы. Друзья литературы поступили бы безрассудно, если б отвергли помощь зятя министра просвещения, человека, который имел непосредственное влияние на цензуру.
В одно утро несколько человек получили циркулярное приглашение Уварова пожаловать к нему на вечер 14-го октября. В ярко освещенной комнате, где помещалась его библиотека, нашли они длинный стол, на котором стояла большая чернильница, лежали перья и бумага; он обставлен был стульями и казался приготовленным для открытия присутствия. Хозяин занял место председателя и в краткой речи, хорошо по-русски написанной, осуществляя мысль Блудова, предложил заседающим составить из себя небольшое общество Арзамасских безвестных литераторов. Изобретательный гений Жуковского по части юмористической в миг пробудился: одним взглядом увидел он длинный ряд веселых вечеров, нескончаемую нить умных и пристойных проказ. От узаконений, новому обществу им предлагаемых, все помирали со смеху; единогласно избран он секретарем его. Когда же дело дошло до президентства, Уваров познал, как мало готовы к покорности избранные им товарищи. При окончании каждого заседания, жребий должен был решать кому председательствовать в следующем; для них не было даже назначено постоянного места; у одного из членов попеременно другие должны были собираться. Уварову не могло это нравиться, но с большинством спорить было трудно; он остался при мысли, что время подчинит ему эту республику.
Всё это знаю я только по слуху, ибо в этом первом заседании я не участвовал: Уваров забыл или не хотел пригласить меня на него. Удивленные моим отсутствием, все другие члены изъявили желание видеть меня между собою. Тогда собралось нас всего семь человек, которых в припадках ослепленного дружелюбия и самолюбия сравнивал я с семью мудрецами Греции, а общество наше называл то плеядой, то семиствольною цевницей. Всех выводил я на сцену перед читателем, один Жихарев оставался в глубине её. Теперь его очередь.
Из деревни привезен был он в Московский университетский пансион и оттуда воротился опять в провинцию, где и оставался лет до восемнадцати. Он принял все её навыки; с большим умом, с большими способностями, в кругу образованных людей, он никогда не мог отстать от них. Наружность имел он азиатскую: оливковый цвет лица, черные как смоль кудрявые волосы, черные блистающие глаза, но которые никогда не загорались ни гневом, ни любовью, и выражали одно флегматическое спокойствие. Он казался мрачен, угрюм, и не знаю, бывал ли он когда сердит или чрезвычайно весел. Образ жизни тогдашних Петербургских гражданских дельцов имел великое сходство с тем, который вели дворяне внутри России. Тех и других мог совершенно развеселить один только шумный пир, жирный обед и беспрестанно опоражниваемые бутылки. Покинутую родину обрел наш Жихарев в Петербурге у откупщиков, у обер-секретарей. Потом свел он дружбу с Шаховским и русскими актерами, что и вовлекло его в литературу и даже в Беседу, куда был принят он сотрудником. Он принялся за труд, перевел трагедию Атрей, комедию Розовый Чёрт, написал какую-то поэму Барды: всё это ниже посредственности. Безвкусие было главным недостатком его в словесности, в обществе, в домашней жизни. У него был жив еще отец, человек достаточный, но обремененный долгами; он поступал с ним как почти все тогдашние отцы, которые к детям не слишком были чивы и требовали, может быть весьма справедливо, чтобы сынки сами умели наживать копейку, а Жихарев любил погулять, поесть, попить и сам попотчевать. Это заставило его войти в долги и прибегать к разным изворотам (expédiens, как называют их французы), строгою совестливостью не совсем одобряемым. Дурные привычки, по нужде в молодости принятые, к сожалению, иногда отзываются и в старости. Бог весть как приплелся он к моим знакомым, вероятно через Дашкова, с которым учился; только в 1814 году нашел я его уже водворенным между ними. Я не встречал человека более готового на послуги, на одолжения; это похвальное свойство и оригинальность довольно забавная сблизили его со мною и с другими.
Арзамасское общество, или просто Арзамас, как называли мы его, сперва собирался каждую неделю весьма исправно, по четвергам, у одного из двух женатых членов — Блудова или Уварова. С каждым заседанием становился он веселее; за каждою шуткой следовали новые, на каждое острое слово отвечало другое. С какою целью составилось это общество, теперь бы этого не поняли. Оно составилось невзначай, с тем, чтобы проводить время приятным образом и про себя смеяться глупостям человеческим. Не совсем прошел еще век, в которой молодые люди, как умные дети, от души умели смеяться; но конец его уже близился.
Благодаря неистощимым затеям Жуковского, Арзамас сделался пародией в одно время и ученых академий, и масонских лож, и тайных политических обществ. Так же, как, в первых, каждый член при вступлении обязан был произнесть похвальное слово покойному своему предместнику; таковых на первый случай не было и положено брать их на прокат из Беседы. Самим основателям общества нечего было вступать в него; всё равно, каждый из них в свою очередь должен был играть ролю вступающего, и речь президента всякий раз должна была встречать его похвалами. Как в последних странные испытания (впрочем не соблюденные) и клятвенное обещание в верности обществу и сохранении тайн его предшествовали принятию каждого нового Арзамасца. Всё отвечало одно другому.
Вечер начинался обыкновенно прочтением протокола последнего заседания, составленного секретарем Жуковским, что уже сильно располагало всех к гиларитету, если позволено так сказать. Он оканчивался вкусным ужином, который также находил место в следующем протоколе. Кому в России не известна слава гусей арзамаских; эту славу захотел Жуковский присвоить обществу, именем их родины названному. Он требовал, чтобы за каждым ужином подаваем был жареный гусь, и его изображением хотел украсить герб общества.
Всё шло у нас не на обыкновенный лад. — Дабы более отделиться от света, отреклись мы между собою от имен, которые в нём носили, и заимствовали новые названия у баллад Жуковского. Таким образом наречен я Ивиковым Журавлем, Уварова окрестили Старушкой, Блудова назвали Кассандрой, Жуковского Светланой, Дашкову дали название Чу, Тургеневу Эоловой Арфы, а Жихареву Громобоя.
Ни Государь, ни Елизавета Алексеевна в это время не воротились еще из-за границы, а двор со вдовствующею Императрицей оставался в Гатчине. Что удивительного если в Петербурге деятельно занимались тогда всяким вздором. Глухо разнеслась в нём весть о существовании какого-то во мраке возникшего общества. Беседа первая догадалась, что оно оживлено не совсем приязненным к ней духом; в ней предполагали, что тайно готовятся на нее сильные нападения: кто скрывается, тот должен иметь дурной умысел, и словесники готовы были приписывать нам заговор против правительства. А впрочем кому же придет в голову, что порядочные люди собираются еженедельно единственно за тем, чтоб умно подурачиться! Если бы некоторые из членов Беседы, из тех которые были поумнее, могли подслушать нас, то верно были бы успокоены и обезоружены. Правда, в похвальных им речах дарования их не слишком высоко оценивались, притязания их на авторство были осмеяны, но личности против них никто себе не позволял. Они бы узнали, что, устранив всякое педантство, Арзамасцы между собою не чинились и часто позволяли себе даже трунить один над другим.
Не менее Беседы взволновано было Оленинское общество: Арзамас казался ему загадкою, которой тайну я не спешил открыть ему. Из слов и обхождения Крылова и Гнедича мог я заметить, что они чуждаются падших и не дерзнут восстать на торжествующих. Вся эта истинно-комическая история (ибо комедия Шаховского была началом её) должна была иметь влияние на судьбу мою. В доме у Олениных Жуковский был принят с усиленною ласкою; со мною как будто ни в чём не бывало. Несмотря на то, я мог ясно видеть, что недавние связи совершенно разорваны, а всё из чего? Батюшков мог бы вразумить этих людей, но его тогда в Петербурге не было: он летом уехал в армию и оттуда еще не возвращался. По приезде он верно бы бросился в отверстые ему объятия Арзамаса, который и по заочности избрал его своим членом под именем Ахилла. Случилось то, чего ожидать надлежало: старик Сухтелен, по желанию, уволен с чином и пенсионом, а на его место в библиотеку определен некто Аткинсон, ничтожный и ледащий малый, один из домочадцев Оленинских, сын английской няньки, воспитывавшей у них детей.
Идя от неудачи к неудаче, я как будто привык к ним и, как Панглос, готов был сказать, что всё к лучшему. Но приятели мои сильно вознегодовали: им хотелось приклеить меня к какому нибудь ведомству, дабы оттуда вернее мог я попасть на стезю настоящей службы. Не говоря мне ни слова, поставили на ноги Жихарева, который имел связи во всех правительственных местах, канцеляриях, департаментах. Также не предупредив меня, переговорил он обо мне с Дружининым, директором канцелярии министра Финансов, и в один раз привез мне и определение, подписанное министром о причислении меня вновь к канцелярии его, и о том мою просьбу, которую задним числом заставил подписать меня. Это определение было тем особенно для меня выгодно, что в нём сказано, будто, но окончании занятий моих в Пензенском комитете, возвратился я к прежнему месту служения. Итак, два года с половиною, проведенные мною в праздности, зачтены мне в службу, тогда как в Министерстве Внутренних Дел, по милости Сперанского, почитался я два года в отставке, когда часто являлся на службу. В судьбе людей таким образом иногда встречаются вознаграждения.
Меня причислили к неизбежному для меня третьему отделению, по кредитной части, и я не весьма охотно в него явился. После Рибопьера им управлял граф Ламберт, бывший секретарем посольства, отправленного в Китай, читателю известный. Он удивил меня своим приемом: тоже едва заметное наклонение головы, ту же сухость и важность в манерах нашел я; только слова его исполнены были вежливости и доброжелательства. Он сказал мне, что благодарит случай, который свел его с прежним сослуживцем и надеется, что мы не скоро расстанемся. Вместе с тем он объявил мне, что следующею весной имеет в виду другое назначение, которого пока открыть он мне не может, но что в предполагаемом новом управлении (комиссия погашения долгов, как после я узнал) приготовит он мне место, где выгодным и приятным образом могу продолжать я службу. Между тем он нашел, что посещать мне отделение совсем не нужно, разве только для свидания и беседы с ним.
На минуту возвратимся в Арзамас. Следующею зимой, среди морозов, он всё более расцветал и с каждым месяцем обогащался новыми членами, из коих многими имел он причину гордиться. Существование его было непродолжительно; он прожил не с большим два года. Если Бог даст мне написать пятую часть сих Воспоминаний, то непременно помещу в ней все занимательные подробности, до него относящиеся.
XIV
Возвращение Государя в Россию. — Князь П. М. Волконский. — Персидский посол.
В первых числах декабря (1815) Государь возвратился после вторичного продолжительного отсутствия; но какое разительное несходство было между первым его приездом из Парижа и последним! Совершив великое чудо избавления Европы от тягостного ига, был он тогда кумиром подданных, союзников и самих врагов. В благо приятнейшее время годя природа за одно с людьми ликовала, приветствовала его. Он веровал тогда в добро, в возможность творить его, делать людей счастливыми, и взор его был ясен, улыбка его была нежна и ласкова. Прошло несколько месяцев, и он узнал всё коварство, всю неблагодарность тех, коих помощь его воскресила. Он любил род человеческий, и тяжко ему было научиться презирать его. Спокойствие опять восстановлено, но душа его разочарована. Сию кроткую душу не могла радовать жестокая участь тельного и в падении своем врага его (он подплывал тогда к каменному гробу, в котором немилосердная Англия заживо хотела его похоронить). Александр казался скучен, говорят, даже сердит. Никакими восторгами Петербург его не встретил. Казалось, Россия познала, что наступило для неё время тихое, но сумрачное.
Государь начал показывать себя вновь взыскательным и строгим: всем гвардейским и другим военным офицерам запретил носить гражданское платье, находя сие вредным для дисциплины. Вскоре потом явил он себя даже грозным: статс-секретарь Молчанов, столь могущий в продолжении трех или четырех лет, который заправлял делами целого государства, вдруг был отставлен и предан суду. Сего мало: наряжено следствие для рассмотрения действий Военного Министерства и самого управляющего оным, князя Алексея Ивановича Горчакова, который вместе с тем и удален от должности. Все приближенные его главные чиновники, Самбурский, Приклонский и другие отданы под суд и рассажены по разным гауптвахтам столицы, где и оставались несколько лет. Все ужаснулись сперва: но когда увидели, что за сими суровыми мерами, коих справедливость, впрочем, была доказана, не последовало никаких новых, то вскоре и успокоились потом.
После удаления князя Горчакова, управляемое им министерство получило новое образование. Во время последней войны армия до того увеличилась, что число дел по военному ведомству, конечно, утроилось. Государь нашел нужным разделить их надвое, часть денежную счетную, продовольственную отдав военному министру, которому после этого, кажется, следовало бы называться генерал-интендантом; все прочие дела поступили в ведение Главного Штаба его величества.
Примерно отличившийся во время последних кампаний генерал Петр Петрович Коновницын назначен был военным министром. В молодости, при Екатерине, начальствуя Старооскольским пехотным полком, слыл он лихим полковником и отчаянно дрался с поляками под начальством Суворова. При Павле, как и все, был в отставке и не хотел было опять вступить в службу, но всеобщий бранный шум пробудил в нём бодрость. Он был при Буксгевдене дежурным генералом во время Шведской войны, и находился начальником штаба при Кутузове в 1812 году. Должность на него возложенная не была слишком тягостна, и он был еще не стар; но военные труды, походы, раны изнурили его, и после назначения своего министром, кажется, не более двух лет он прожил.
Самый близкий человек к Государю, с малолетства при нем неотлучный, князь Петр Михайлович Волконский назначен был начальником штаба его. Не знаю, как до сих пор не пришлось мне сказать об нём ни слова Примечательно, что при дворе почти все случайные люди с знатным фамильным именем принадлежат к носящим его обедневшим семействам. Таким образом и этот князь, кажется, происходит от той отрасли, которая всё более размножается ныне и почти заселяет Рязанскую губернию. Родному дяде его, князю Димитрию Петровичу, удалось жениться на Катерине Алексеевне Мельгуновой, племяннице Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя великих князей Александра и Константина. Старый царедворец, желая в будущем еще более умножить кредит свой, маленьких наследников престола умел окружить малолетними же сыновьями своими, близкими и дальними родственниками; в числе их находился и Волконский.
Он более всех сделался угоден Александру. Я помню, как, в ребячестве, несмотря на запрещение наставника, любил я, бегая по саду, играть с холопскими мальчиками. Я право не зол, чтобы ни говорили, а иногда случалось мне тузить их, и те, которые были более покорны и терпеливы, мне более нравились. Почему же слабость простого отрока не могла встретиться и в порфирородном? Главная, единственная добродетель Волконского была собачья верность. Когда во дни Павла сам наследник его должен был трепетать и окружен был тайными надсмотрщиками, адъютанту его, Волконскому, никто не подумал даже о том предложить. В день восшествия на престол, сделан он флигель-адъютантом его, а в день коронации — генерал-адъютантом.
Зная, сколь полезна царям нравственная власть, как избавляет она их от необходимости часто употреблять материальную, Александр, даже в кругу самых близких по крови, не переставая быть любезным, старался сохранять всю величественную свою важность. Нельзя, чтобы беспрестанное наблюдение за самим собою иногда не утомляло его; наедине с Волконским любил он отдыхать; не открывая ему души своей, при нём становился он человеком, который смеется, сердится или бранится, как все прочие люди. Точно также во время частых и быстрых путешествий своих, сидя с ним в коляске, говорят, не иначе привык он отдыхать, как засыпая на плече его. Такие удобства объясняют продолжительность милостей к нему Александра, который, не так как другие, в окружающих его любил находить просвещенный ум. Говорят, что для камердинера нет великого человека; Александр угадал, что для верноподданничества Волконского всякий был бы великий муж, лишь был бы он Царь. Долго государством был он мало замечен в толпе Чарторижских, Строгановых, Голицыных и других любимцев, всех, более его отличенных. Однако же самую мелкую вещь, поставленную у самого светильника, нельзя не разглядеть; но в глазах России всё оставался он на одном плане с метрдотелем Миллером, медиком Виллие и брадатым кучером Ильею. Только в 1815 году начал он вдруг вырастать до Аракчеева, до соперничества с ним.
Столько же, как тот, был он суров, но совсем не так зол. Если Аракчеев старался выигрывать у Царя мнимым чистосердечием своим, то Волконский — истинным беспристрастием. Он никого не хотел знать: ни друзей, ни родных; не только наград, прощения, помилования в случае вины, никому из них не хотел он выпрашивать. До того прославился он ненавистью к непотизму, что чувство это начали называть уже эгоизмом. В беспредельной преданности Царю у Аракчеева более всего был расчёт, у Волконского — привычка; только разве у одного Александра Николаевича Голицына было чувство. На одном Волконском истощалось иногда всё дурное расположение духа Государя, к нему чрезмерно милостивого, он всё переносил со смирением и вероятно полагал, что в свою очередь имеет он право показывать себя грубым, брюзгливым с подчиненными, даже с теми, к которым особенно благоволил. Я не имел никаких сношений с сим вельможею, не видал от него ни худа ни добра, и меня не станут обвинять, я надеюсь, в пристрастии при изображении его портрета.
Хотя зима была холодная и мрачная, как расположение царствующего, однако же она была свидетельницей нескольких необходимых торжеств, из коих первым был въезд персидского посла и свиты его.
О Закавказском крае, в 1812 и последующих годах, Россия совсем забыла, как будто он ей не принадлежал, как будто он никогда не существовал. А между тем война с Персией там не превращалась, и ручьями текла благородная кровь русских воинов. С таким же самоотвержением, с каким братия их внутри отечества гибли тогда, спасая его, они сражались единственно во славу его; вожди их падали с оружием в руках, не возбуждая никакого участия в согражданах и не сетуя на темный свой жребий. Главным начальником послан был туда один престарелый, увечный и хворый генерал Николай Федорович Ртищев, в военной летописи почти неизвестный; из Тифлиса, как мог, распоряжался он действиями. Но гроза русского имени всё еще удерживала горцев, и борьба с персиянами шла небезуспешно.
Из глубокого забвения, коим тогда покрыта была эта часть России, вдруг вырвалось одно славное имя и ярко блеснуло. Котляревский, Петр Степанович, с малолетства воин, всю жизнь провел на Кавказе и за Кавказом в боях с воинственными народами, его обитающими. Достигнув генеральского чина, он беспрестанно поражал неприятелей и никому из нас не был ведом, тогда как в тоже время имя каждого партизана повторялось по целой России. Подвиги свои довершил он взятием неприступной крепости Ленкорана, на берегу Каспийского моря. По грудам тел русских и вражьих взошел он в нее сам, весь изъязвленный, весь покрытый ранами. Смерть пощадила его; но он ожидал её, счастливее Эпаминонда, видя неприятеля не бегущего, а истребленного. Он жив еще и поныне, только умер для службы, ибо с трудом владеет членами. Щедро и справедливо был он награжден Георгиевскою звездой; поэзия поднесла ему также свой венок. Славнейший из поэтов его времени, исполненный сочувствия ко всякой славе отечества своего, положил на него клеймо славы следующими стихами:
О, Котляревский, бич Кавказа! Куда ни мчался ты грозой — Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена…Взятие Ленкорана понудило персиян искать примирения. Не весьма задолго до взятия Парижа, мир, подписанный в Гюлистане, положил конец двенадцатилетней войне и владения России распространил до Аракса и Куры.
В 1814 году отправлен был от Тегеранского двора посол с поздравлениями к нашему Царю и с уверениями в дружбе шаха Персидского. Он приехал в Москву осенью и был там задержан всю зиму. Весною привезли его в Петербург и поместили в Таврическом дворце Он скучал, опасался своего правительства и говорил: «как вы хотите, чтоб у нас кто-нибудь поверил, будто во время столь продолжительного отсутствия падишаха не было в народе мятежей и все государство не возмутилось?» Это был он же, который видел в Петербурге вновь строящийся город и наше лето, которое тогда действительно было чрезвычайно дождливо, называл зеленою зимой.
В рассказах о привезенных им будто сокровищах было много баснословного, напоминающего Тысячу и одну ночь. Между прочим говорили о какой-то серебряной кадке, вместо земли наполненной жемчугом, в которой посажено было золотое дерево с изумрудными листьями и алмазными цветами. Все подарки ограничились на поверку плохими шалями для императорской фамилии и главных придворных особ; важнейшими же дарами были два слона обоего пола. На другой день Рождества, 26 декабря, при сильном ветре и ужасной метели, они, один за другим, открывали церемониальное шествие посольского въезда. На них надеты были теплые сапожки; бедная слониха потеряла один из них и жалобно выла.
Другие торжества происходили внутри дворца: Царь выдавал замуж двух сестер или, лучше сказать, одну, ибо старшая сама выходила.
Великая княгиня Екатерина Павловна, предмет обожания Российского двора, воинства и народа, лето 1812 года провела в Ярославле, а по очищении Москвы от неприятелей возвратилась в Тверской дворец свой. Там лишилась она супруга, сделавшегося жертвой человеколюбия своего. Он часто посещал в больнице раненых, подвергся заразительному её влиянию и умер от госпитальной горячки. Тогда навсегда оставила она Тверь, которая без нее опустела и поднесь живет одним её воспоминанием. Для развлечения горести уговорили ее отправиться в Германию, куда силою оружия брата её открыта была дорога для русских путешественников. Потом явилась она в Лондоне; красота ее, ум и враждебное расположение к Наполеону восхитили англичан. А она, пользуясь сим и в виду имея одну только пользу любезной ей России, успела, говорят, расстроить преднамереваемый брак наследницы престола, единственной дочери принца-регента, с принцем Оранским, наследником не утвердившегося еще голландского престола; все это, говорят, с намерением выдать за него меньшую сестру свою, Анну Павловну, а брата своего Николая Павловича женить на невесте его, английской принцессе Шарлотте. Первое удалось ей, а последнее было делом несбыточным.
На Венском конгрессе, или где-то в другом месте за границей, понравился ей крон-принц Виртембергский. Будучи вдовою, имела она право собою располагать, и согласилась отдать ему свою руку. Этот союз, говорят не слишком нравился её семейству, вероятно от того, что, по любви их к ней, братья и мать надеялись никогда с ней не расстаться. Жених был мужчина видный, совсем не чета первому её супругу. Другой же, принц Оранский, молоденький красавчик, умный и ловкий и уже знаменитый в боях, который имел в виду владеть отдельным государством и повелевать народом, прославившимся в искусствах, торговли и мореплавании, казался всем еще выгоднейшею партией. Тень Петра Великого в горних селениях должна была возрадоваться, видя, что потомству его суждено владычествовать в Сардаме.
Сии браки совершены в январе и феврале месяцах 1816 года, а я намерен был воспоминаниями о 1815-м заключить четвертую часть сих Записок; но в браках сих вижу я непосредственные последствия происшествий, бывших в предшествующих годах. Как громовые тучи пронеслись они над нами. На политическом горизонте всё прояснело; но воздух стал ли чище? Здесь не место еще о том говорить.
Великие события времен Наполеона само собою врезывались в память, и простой рассказ о ним мог быть уже достаточно занимателен. Но после него наступили времена иные; первые годы после его падения не были столько обильны происшествиями, за то показывали гораздо более движения в умах. Я смотрел на него равнодушно, рассеянно; занятия по службе, удовольствия не совсем еще покинувшей меня молодости, при наружном спокойствии, коим пользовались тогда все народы, развлекая меня, не допускали меня обращать на происходящее наблюдательных взглядов. Вот почему описание этой эпохи для меня дело многотрудное; оно ужасает меня.
И так положу покамест перо; пособравшись с мыслями и с духом, не иначе как после зрелых размышлений, может быть, приступлю к изображению времен более новых. Да поможет мне Господь Бог!
Конец четвертой части.
Примечания
1
Сочинитель женат не был. П.Б.
(обратно)2
Следуя сему примеру, можно советовать всем холостякам и вдовцам, достигающим глубокой старости и пользующимся пожизненными только достаточными доходами, жениться на пожилых красавицах не строгой нравственности и владевших долго искусством пленять: по старой привычке, они привязываются к последней своей жертве, к последнему поклоннику и берегут его как зеницу ока. Они тешат его, очаровывают и, окруженный призраками, старый муж медленнее приближается ко гробу. Наши русские в этом деле еще не мастерицы; но пример польки Шишковой нашел уже подражание в немке Обрезковой. Авось ли сии оба примера возбудят соревнование в наших любезных соотечественницах. Как мы во всём еще от Запада отстали!
(обратно)3
Иные, может быть, заключат из того, что отец мой был человек женообразный, жеманный и найдут похвалы мои смешными. На тех, кои знавали его, можно сослаться и спросить: смех или невольное уважение производила краска стыда и негодования, на мужественном лице его иногда выступавшая?
(обратно)4
В сию Суру впадает, однакоже, родимый мой Ардым.
(обратно)5
Тогда егерских полков не было, а семь или восемь батальонов составляли корпус, которого шефом был обыкновенно один из отличнейших генералов. Батальоны назывались номерами.
(обратно)6
Я обоих знавал и помню. Первый из них был мой крестный отец.
(обратно)7
Карабинерные полки были тогда кавалерийские наподобие драгунских.
(обратно)8
Название одного романа, впрочем не весьма замечательного, ныне совсем забытого.
(обратно)9
Чтобы генеральскому чину дать более важности, из полковников не прямо в него жаловали: для того надобно было в бригадирах года два подождать. Некоторых считали неспособными к продолжению военной службы; они оставались в армейских списках и были кандидатами на губернаторские или комендантские места; они в сем положении иногда целый век оставались. Екатерина Вторая всегда призывала к себе тех, кои были представлены в губернаторы, несколько раз разговаривала с ними и не прежде как убедясь в их способностях, их к месту определяла. Заслуженные же, но менее способные, назначались в обер-коменданты. Сии последние, исключая главной крепости, имели целый ряд крепостей и гарнизонов в своем ведении, и сверх настоящей своей должности были то, что ныне называют окружные начальники внутренней стражи.
(обратно)10
Польская граница находилась тогда в Василькове, в 35 верстах от Киева.
(обратно)11
Все они были добрые ребята, простые, провинциальные, гарнизонные мальчики, как и я. Все трое шли потом по военной службе, ни один из них не гремел именем в мире; но все они отличались благородством чувств, правил и поступков, и были утешением и подпорой овдовевших матерей. Последний из них, кажется, еще жив; лет двенадцать тому назад видел я его армейским подполковником. Яхонтов убит в Фридланде, а почтенный друг мой Нилус в генеральском чине, покрытый ранами и крестами русскими и иностранными, окончил достославный поход 1812–13 и 14 годов, бывши везде примером храбрости. Прослужив еще несколько лет и женившись, он нашел успокоение в окрестностях Одессы, и император Александр, сохранив ему всё содержание, дал бессрочный отпуск.
(обратно)12
Эти пряжки были тогда в моде у всех дам; их называли пафталями; они были самой искусной азиатской работы с цепями, серебряные, позолоченные или золотые, смотря по состоянию, с бирюзой или с дорогими каменьями, также смотря по состоянию.
(обратно)13
Графиня А. В. Браницкая скончалась в 1838 году. Поэтому можно определить приблизительно время, когда Ф. Ф. Вигель начал писать свои Записки. П.Б.
(обратно)14
Ныне мы стали умнее и просвещеннее, и едва ли есть десятая доля.
(обратно)15
Сих бригадиров называли дюжинными, потому что ежегодно их выпускалось по трое из каждого гвардейского полка, коих было четыре; это были обыкновенно люди добрые, честные, достаточные, но ни к чему неспособные. Князь Вяземский ошибается, полагая, что Фон-Визин комедией своей заклеймил бригадирский чин; его Бригадир старинный служака, а в долголетнее царствование Екатерины отставными из гвардии бригадирами наполнилась Москва, и именно бесчисленность, невежество и ничтожество московских бригадиров составляют смешную сторону бригадирства. Скорее Дмитриев убил сей чин, да еще и положил над ним эпитафию.
(обратно)16
H. В. Булгакова ум. в 1841 г. След. Вигель начал писать свои Записки до 1841 г.
(обратно)17
Впоследствии супруга Василия Александровича Обрезкова.
(обратно)18
За Прокоп. Фед. Соковниным, бабка графа А. В. Бобринского. П.Б.
(обратно)19
Она была родная тетка известного Якубовича.
(обратно)20
Любимый польский был тогда сочинения, кажется, Козловского; он был известен под названием: «славься сим Екатерина», по первым словам, на кои он был положен. С какою-то восторженною гордостью ходили тогда русские под гремящие его звуки.
(обратно)21
У них было довольно многочисленное семейство. Одна из дочерей их была замужем за генералом Левицким, который до 1830 года играл столь важную роль в Варшаве; один же из сыновей был назначен в 1829 году губернатором в Бессарабию. Когда он приехал в Кишинев и увидел его кривые, неопрятные, вонючие улицы, когда пред ним отверзлась бездна столь же кривых и запутанных дел, на каждом шагу встречая нечистоту или нравственную, или физическую, он до того испугался, что, пробыв только две недели, пожертвовал всем, бросил всё и губернаторское место, и службу, и надежду на повышение, и будущие успехи.
(обратно)22
Министр Блудов, выпросивший ей пенсию, на которую по законам она не имела никакого права.
(обратно)23
Минтурн — город в древнем Лациуме, где скрывался изгнанный Марий. П.Б.
(обратно)24
В новейшее время у русского войска было также два любимца: Воронцов и Ермолов. Первый из них и доселе еще управляет обширным, мало населенным, пограничным краем; он живит его, устраивает, заселяет и посвящает ему весь ум свой, познания, деятельность, могущество и богатство. Последний во многом обвиняем, а более всего в ошибках, устраненный от дел, неимущий, зарылся в деревне, величаво уединился. Пусть об них спросят у любого. В обоих видят погибшие надежды; но первого никто терпеть не может, последним все еще клянутся. Отчего же такая несправедливость? До двадцатилетнего возраста воспитанный в Лондоне, граф Воронцов имеет все английские навыки; в частной жизни, как и в общественной, являет себя более лордом чем боярином; всякой англичанин, хотя бы был небогатый купец, идет до самого кабинета его в шляпе, войдя же в него без наклонения головы трясет ему просто руку; тогда как от русских подчиненных своих он требует знаков нижайшей покорности. Он женат на полурусской и бредит европеизмом. Ермолов, напротив того, видит в русских (среди их варварства или просвещения, всё равно) первый народ в мире; как они, он властолюбив иногда до жестокосердия, мрачен и остроумен в насмешках, и как они, имеет великодушие, отважность и самую наружность царя лесов. Его обвиняют, а на каждом шагу вы можете найти между военными, гражданами и купцами сильных и усердных его адвокатов; старая, верная Москва хотела утешить его избранием в свои предводители; самые милости к нему правительства, не весьма хорошо к нему расположенного, имеют значение, главным образом, как знаки уважения к общественному мнению и принимаются им с восторгами благодарности. После этого пусть скажут, что у нас вовсе нет национальности. Мы в этом случае несколько похожи на древних греков: в наших богах и полубогах мы любим находить наши слабости и даже наши пороки; мы желаем, чтоб они были мы же, но гораздо в большем размере. Когда мы были погружены в пучину зол, то сострадательное Небо послало нам архангела Скопина-Шуйского; теперь же торжествующие, надменные, мы такого чуда ожидать не можем и готовы удовольствоваться каким-нибудь Ляпуновым или Ахиллесом, dout la rage est d’un tigre et les vertus d’un dieu.
(обратно)25
Сей обычай соблюдается и поныне между польскими помещиками в Украине. Его бы следовало строго отменить, ибо он напоминает давно уже не существующее польское тиранское владычество над храбрым народом русского племени.
(обратно)26
Старшая была замужем за русским полковником Марченкой. Оставшийся после неё единственный сын в Петербургских гостиных блистал свежестью лица и франтовством и, кажется, более ничем.
(обратно)27
Мария де-Гонзаг де-Невер была замужем за последним Владиславом и потом вышла за родного брата его, к тому же кардинала, Яна Казимира, который отрекся от духовного звания и сделался королем. Девица д’Аркиен была женою Иоанна Собесского. В числе польских королев не надобно забывать и женоподобного Генриха Валуа.
(обратно)28
Отец известного поэта Баратынского. Он недолго оставался в милости; вскоре узнали в Киеве с прискорбием, что он отставлен от службы и едва ли не сослан в деревню.
(обратно)29
Странная была участь генерала Розенберга. До шестидесяти пяти лет, никогда не оставляя военной службы, он не видал войны. В первый раз увидел он неприятельский огонь в Итальянскую компанию 1799 года; хладнокровным мужеством и знанием военного дела заставил он Суворова жалеть, что не ранее был употреблен.
(обратно)30
Кажется, с этих пор начал я везде, и особенно в службе, ненавидеть слова при и у и всегда предпочитать им частицу в.
(обратно)31
Это дом в Камергерском переулке, ныне Лианозова (где театр Горевой). Сад его и задние строения еще в 50-х годах простирались до переулка Космодемьянского и выходили против здания Тверской Части. П.Б.
(обратно)32
Из целой Москвы едва ли не у него только была передняя, в которой можно было дышать не зараженным воздухом.
(обратно)33
1798 года. П.Б.
(обратно)34
Я тщетно старался после разведать о её участи. Чрез несколько лет только узнал я, что она замужем за старым, ревнивым немцем, клавикордным мастером, и что нет возможности ее видеть. Милая Лаборд, я почти уверен, что она погибла во цвете лет жертвою пылких страстей!
(обратно)35
Нельзя себе представить, сколько добрых и честных людей, без всякой вины отставленных или выключенных из службы, в сие мрачное время скиталось без пропитания. Они принимали всякие низкие должности в знатных и помещичьих домах. У князя Куракина жил в деревне один видный собою майор, которого обязанность состояла только в том, чтобы с палкою в руке ходить перед князем, когда он изволил шествовать в свою домовую церковь.
(обратно)36
Наша Россия в этом отношении не сходствует ни с сопредельною с нею Азией, в которой редко где можно найти аристократические наследственные права, ни с соседственною феодальною Европой, где до конца последнего столетия привилегированные касты так иного еще толковали о геральдике, о своих родословных, о своих пергаменах и гордились длинным рядом предков всегда более, чем богатством, чем талантами и доблестями. У нас пути к славе, чинам и богатству открыты для всех состояний; сего мало: новое имя, получившее великую знаменитость, всеобщую известность, самая противоположность низкого происхождения и высокой степени, до которой из него достигают люди счастливые или способные, имеет для русских особую привлекательность. Люди, которые, без личных достоинств, хвастаются предками, у нас становятся смешны; зато вельможи, которые не краснеют от родства с простолюдинами, приобретают новые права на уважение. Со всем тем, однако же, дворянским достоинством никто не пренебрегает; ибо дворянство имеет у нас право, каким нигде оно в других землях не пользуется: право собственности над единокровными людьми. В понятиях о благородстве, как и во многом, у нас еще можно найти смешение европейского с азиатским. В нашем холодном климате мы привыкли к свежести, мы любим ее; как огромные, каменные дома наши почти ежегодно починиваются и перекрашиваются, чтобы тешить наши взоры, так и древние роды должны беспрестанно успехами по службе или при дворе наводить на себя новый лоск, чтоб оставаться на некоторой высоте в глазах соотечественников.
(обратно)37
Так называет ее Державин в известном стихотворении: Осень во время осады Очакова.
(обратно)38
Французик, славный рисовальщик и декоратор, которого у нас указом сделали архитектором и которому указом велено строить мраморный собор, на который потребны десятки лет и десятки миллионов. И он строит его! Пусть скажут, что у нас на Руси нет более чудес.
(обратно)39
За одного из Кенсона вышла дочь описанного выше князя П. И. Одоевского. П.Б.
(обратно)40
Я знал в Пензенской губернии одного г. Жедринского, у которого было не более трехсот душ обремененных долгами. Его сына воспитывал виконт де Мельвиль.
(обратно)41
Чтоб иметь по образчику каждой нации, учился с нами маленький, красивый англичанин, Джон Лич, сын какого-то ремесленника. Я недавно знал его архитектором Медико-хирургической Академии, во что определил его известный его единоземец Виллие, хотя он никогда архитектуре и не думал учиться.
(обратно)42
О нём часто говорят Жихарев в своем «Дневнике». П.Б.
(обратно)43
Меньшой убит в Фридланде, а старший был впоследствии губернатором в Пскове.
(обратно)44
Старину, а не древность русскую; ибо голландско-немецкая, мещанская, чистоплотная роскошь, введенная у нас при Петре Великом и не во многих домах едва сохранившаяся до времен Екатерины, не имеет ничего общего с древним боярским житьем, хлебосольным, довольно беспорядочным, не весьма опрятным, которое и досель пробивается сквозь европейские утонченности и grand genre нынешних аристократов.
(обратно)45
Одна шутиха, французская актриса Леруа, поскользнулась со ступеньки и упала к ногам его лошади. Со смелостью, свойственною её нации, она воскликнула к нему Вольтеровым стихом: «Que voulez-vous de plus? Mérope à vos pieds», и он расхохотался.
(обратно)46
Граф Кутайсов до конца (ум. 1830 г. от холеры) носил на груди вместе с образками портрет г-жи Шевалье. (Слышано от Пр. Никол. Барановой). П.Б.
(обратно)47
Князь П. А. Вяземский (1838). П.Б.
(обратно)48
Ботфорты, которые велено было носить штатским, в службе находящимся, а вне её позволено всем желающим, я уже прежде того надел.
(обратно)49
Он сгорел еще до большего пожара 1812 года, а в 1823 перестроен в увеличенном размере.
(обратно)50
Бывший кастелян Михайловского замка, чудак, более тридцати лет не снимавший костюм или придворную ливрею, которую носил при Павле: малиновый мундир, шире и длиннее всякого сюртука, с золотыми позументами, бахромою и кистями.
(обратно)51
В России со времен Петра Великого такие примеры чрезвычайно редки. К новизнам, к нововведениям, к коим так жестоко приневоливал он нас, мы до того привыкли, что гнушаемся всякою стариной. Боярские вотчины делится, подразделяются, чрез женщин переходят в другие роды, очень часто проматываются и продаются в посторонние руки с семейными воспоминаниями, с древними храмами и с гробницами предков. Городские дома сбываются сыновьями вскоре после кончины родителей, или перестраиваются заново, чтобы не оставить и следов прежнего варварского вкуса, который иногда бывает лучше новейшего; одежда отца и деда, дорогие вещи им принадлежавшие, всё что могло бы напомнить о их существовании, отдается за бесценок, как старье, как ветошь; даже из фамильных документов те, кои не дают прав на какое-нибудь владение, но кои могли бы быть драгоценными памятниками для потомков, теряются и гибнут от небрежности людей равнодушных, как к семейной чести, так и к отечественной славе. У нас нет прошедшего. Петр Великий отсек его у нас, и как будто нет и будущего; лишь бы стало по наш век, а там хоть не цвети Россия. Чудное дело! Не татары, а Запад, где история, генеалогия и майораты, сделал нас почти кочевым народом. Не предчувствие ли это недолговечия России? Неужели она, убежище и упование всех друзей порядка и тишины, не что иное как огромный метеор, который столь же быстро погрузится в глубокий мрак, сколь светло и величаво он вышел из него? О, помилуй, Господи! Не принадлежит уже Марфино роду Салтыковых: граф Владимир Орлов купил его и отдал дочери своей, графине Паниной, которая настроила там виллы и коттеджи; теперь оно пошло переходить из роды в роды. (Последнее не оправдалось. П.Б.).
(обратно)52
В это время князь Козловский, толстый мой товарищ по службе, прислал куплеты в честь графа Салтыкова; на них тотчас сделали какую-то музыку, а автора, как следовало, пригласили на праздник. Каждый куплет оканчивался словами «довольны мы своей судьбой, Марфино нам рай земной». Он это написал, а я это чувствовал.
(обратно)53
За несколько месяцев до смерти, император Павел, заметив, что число нажалованных им служащих генералов превосходит всякую меру, вздумал в один день отставить без просьбы шесть неимущих гарнизонных генерал-лейтенантов и тридцать таковых же генерал-майоров, всех с чином и мундиром, но без пенсии, не оставив ни одному из них рубля на пропитание. Со времен Петра Великого до звания полного генерала достигали одни только военные знаменитости и, по достижении сего высокого сана, получали обширные средства к поддержанию его; одному Павлу дано было творить, без всяких заслуг, никому неизвестных, нищих генерал-аншефов. Всего царствования Александра едва достаточно было, чтобы привести к некоторое равновесие состояния, чины, места и ордена. После него, кажется, опять это несколько порасстроилось.
(обратно)54
Оно досталось родному его племяннику, князю Борису Алексеевичу Куракину.
(обратно)55
Один из них впоследствии командовал Преображенским полком.
(обратно)56
Я говорю с старшим в России, ибо самый старший всегда оставался в Англии. Его мать имела неосторожность хвалиться им, как славным проповедником. Мысль, что сын их поп, ее и мужа совершенно уронила в мнении русских.
(обратно)57
Он вскоре потом женился на красавице княжне Щербатовой. Сын его женат на княжне Гагариной, родной племяннице адмирала князя Меншикова. Дочь его за высокоумным К… Прибавляет ли сие что-нибудь к знатности этого семейства? Нет, ничего; но прибавит, если сей последний разбогатеет, как он надеется, и если в России не переменится общее мнение.
(обратно)58
Полицмейстеры были тогда в одних только столицах.
(обратно)59
В других губерниях: Арзамас, Ардатов, Алатырь, а далее Чебоксар, Уфа, Бугульма и Белебей суть чисто татарские названия. Надобно же было за ними поставить немецкий бург — Оренбург!
(обратно)60
Во время величайших несогласий с председателем, мы имели дело в Гражданской Палате. Родители мои не хотели против него подать подозрения и несмотря на то, он судил бы против нас, если бы наши требования были несправедливы; но наше право было неоспоримо, и он решил совершенно в пользу нашу.
(обратно)61
Житье г. Г., под именем Рукавицына, очень удачно описано в Искусителе, романе Загоскина. Там же очень верно изображены бывший при Екатерине губернатор Ступишин и родственник его Еф. Петр. Чемесов, под именем Двинского.
(обратно)62
Нельзя обвинять ***, что первый бросал он в Пензе зловредные семена; но очень удачно сделал он первую вспашку на почве самой удобной для восприятия разрушительных идей.
(обратно)63
Нищета составляет силу возникающих сект и религий; но постепенно умножающаяся бедность церкви, некогда могущественной и богатой, доказывает упадок самой веры. Зачем же потрясать алтарь в России, где он всегда был и есть самая твердая, надежнейшая опора трона, до того, что понятия об них сливаются в названии престола, обоим присвоенного? Это и преступление, как говорил Талейран, это и политическая ошибка.
(обратно)64
Немец барон Боде сказывал мне, что для возобновления и украшения Кремлевских теремов брал он за образец единственно Крутицы.
(обратно)65
Тогда еще не было Государственного Совета и его председателя.
(обратно)66
Оба братья Куракины любили показывать пышность. За двумя студентами послана была цугом великолепная четвероместная карета с гербами и ливрейными лакеями. Неопытный в делах света, Сперанский, говорят, до того изумился, что бросился становиться на запятки и решился сесть в карету, последуя только примеру своего товарища, более смелого.
(обратно)67
Одна умная современница Сперанского говорила нам, что глаза у него были точно у издыхающего теленка (veau expirant), что подтверждают некоторые его портреты. П.Б.
(обратно)68
Всё это знаю я ни по преданиям, ни по опыту, ибо никогда никому ничего не давал, и ни от кого ничего не получал. Не нужно было большего любопытства, чтобы вникнуть в сии тайны, всем открытые.
(обратно)69
В этом портрете пусть кому угодно будет узнать Лубяновского.
(обратно)70
Я уверен, что между русскими, в Петербурге живущими, и теперь не менее хлебосольства чем прежде; но тогда хотели только кормить и сами быть сыты: ни больших прихотей у хозяев, ни взыскательности у гостей не было. Теперь же вседневный открытый для всех знакомых стол не в состоянии иметь первые бочаги.
(обратно)71
У госпожа Сосновской (прежде Голубцовой) был от первого мужа сын Платон, женатый на графине Толстой, внучке княгини Вяземской, который умер, будучи довольно молод и оставив несколько сыновой. Дочь её, Катерина Ивановна, была любовью и радостью всех родных и знакомых. Более десяти лет чувствовал к ней взаимную страсть Виртембергский посланник принц Гогенлоо-Кирхберг. Немецкому князьку неприлично было вступить в брак с русской дворянкой, и он мог сие исполнить тогда только, как королек его предварительно пожаловал ее графиней своего королевства.
(обратно)72
Многие сделались тогда жертвами несогласия климата с одеждой. Между прочим прелестная княгиня Тюфякина погибла в цвете лет и красоты.
(обратно)73
Их и поныне можно пойти в старых мебельных лавках и в некоторых русских трактирах, куда ходят люди простого звания.
(обратно)74
Кто бы мог ожидать, чтобы в полку, где на всё дельное смотрели с презрением, коего сущность была искусное наездничество, франтовство и фразы, что в этом полку увидим мы, наконец, знаменитую школу, образовавшую нам всех наших великих государственных людей? Чернышов, Левашов, Киселев, все эти орлы из одного гнезда вылетели.
(обратно)75
На вопрос одного умершего ныне поэта, который спрашивал его: отчего он басни предпочел другим стихотворениям, он отвечал: «Этот род понятен каждому; его читают и слуги, и дети… ну, и скоро рвут».
(обратно)76
Это маленький анахронизм; но я описываю не год, а эпоху.
(обратно)77
Шишков, как лунь белый, был всегда очень худощав; Шаховской же и в молодости был неблагопристойно жирен.
(обратно)78
Статисты у нас солдаты, а компарсы за границей вольные люди, которые нанимаются представлять народ или войско и в наряде ходить по сцене.
(обратно)79
Тотчас после свадьбы брата моего, Малороссийский кирасирский полк был переведен из Воронежа в городок Гадяч Полтавской губернии. Там находились молодые супруги.
(обратно)80
Во время киевских контрактов видел я уже ярмарку, но она не имела ничего похожего на наши внутренние ярмарки. Там бывает она зимой, в январе, а на Подоле все обывательские домики обращаются в теплые лавки, куда заезжают одни только покупатели.
(обратно)81
Замечательно также, что пензенские купцы, коих число и состояние столь малы, перед самою ярмаркой стараются выписывать свой товар, зная наперед, что только в это время может он почти весь быть распродан. И оттого-то в остальные месяцы года в Пензе ничего почти нельзя было найти.
(обратно)82
Брат его Иван Васильевич был при Александре обер-полицмейстером в обеих столицах.
(обратно)83
Нас князь Сергий, третий сын хозяина, повез кататься в открытых линейках, чтобы показать нам окрестности. Мы остановились и вышли погулять по одной долине, исполненной благоухания и пересеченной светлыми бегущими ручьями. Я бы назвал ее долиной счастья, готов бы построить там домик и оставаться в ней век. С нами первою гостьей была генеральша, Агния Дмитриевна Ступишина, наша пензенская и бывшая губернаторша; она не могла понять, зачем мы тут остановились. «Помилуй, батюшка, князь Сергей Сергеевич, куда ты нас это завез, — сказала она, — али деревьев-то не видали, али травы?» Меня так и взорвало.
(обратно)84
Что это было за ученье! Все воспитанники этого пансиона, которые знают что-нибудь, начали учиться уже по выходе из него.
(обратно)85
Не знаю, дозволено ли порицать слабость, когда она делается почти всем общею и когда, так сказать, она есть действие местностей. Стесненные в известных границах, во всём размежеванные, западные народы давно уже принуждены рассчитывать. Но в России всё еще так беспредельно, и власть царя, и настоящие границы, и будущее её предназначение, что неудивительно, если в коренных её жителях так много преувеличенного и всё так делается на широкую руку. Более всего это выказывалось в Москве. Но подождем: уже и в ней ультрамотовство приметно уменьшилось; число помещиков в России наверное удесятерилось с тех пор, а число промотавшихся, конечно, не составляет и десятой доли против прежнего. Не доказывает ли это, что немцы не напрасно нас обрабатывают?
(обратно)86
Не доказывает ли это, что всякий русский в один миг из мирного гражданина может превратиться в смелого воина? И после того как не видеть, сколь бесполезен отяготительный, изнурительный для государства обычай держать в мирное время полмиллиона под ружьем? Мне кажется достаточно бы было одних кадров, когда могучий голос Царя может в короткое время и пятого от сохи вызвать к оружию. Неужели солдаты только для потехи и помпы царей? Тогда это тягостнее, чем роскошь десяти дворов. Мне всё кажется, что славянское племя, разумеется кроме поляков (которые в нём выродки), имеет в себе что-то молочное, что-то белое, свежее, пресное. Турки, равно как и немцы, берегут его в погребе, в преисподней; пруссаки квасят его, гноят, чтобы сделать из него какой-то сыр; но там, где оно свободно, появление неприятеля кипятит его как огонь, оно клокочет, и горячие его волны как лава поглощают врагов.
(обратно)87
Утешительно было бы думать, что добродушие доставляет долговечие. Тиньков недавно только что умер 97 лет.
(обратно)88
Кто бы мог ожидать! Когда я сие пишу, ни одного Нарышкина нет при дворе, хотя еще их довольно есть в России. Когда все при дворе то, видно, Нарышкиным нет уже там места.
(обратно)89
Я забыл сказать, что отец мой склонил помещика Колокольцева продать в казну за двадцать тысяч рублей ассигнациями два каменные дома, один трехэтажный, а другой двухэтажный, которые по тогдашнему стоили полтораста тысяч, и успел только за оказанную им умеренность выпросить ему монаршее благоволение. Один из сих домов доселе губернаторский.
(обратно)90
Его брат был одним из известных, храбрейших генералов нашей армии. Солдаты его очень любили, находя в нём совершенно русского человека. Они были эмигранты.
(обратно)91
Сверх того было у них еще четыре сына, из коих двое сделались известны. Старший Сергей Федорович был трус и глуп; другой Петр Федорович умен и храбр; но оба злы и жестоки. Оба кончили жизнь генерал-лейтенантами; последний умер председателем Молдавского Дивана во время последней Турецкой войны.
(обратно)92
Качалки эти были четвероугольные, продолговатые ящики, величиною с карету, повешенные на ремнях и пазах. Они чем-то были плотно набиты; может быть, в них были и панталоны Байкова, а может быть золотые или серебряные вещи, назначенные в подарок Пекинскому двору. Хранение их было строго нам наказано, содержание их было нам неизвестно.
(обратно)93
Будучи вдовою, она была назначена начальницей Екатерининского Института в Москве.
(обратно)94
Между постоянными нашими образцами, французами, в этой свободной земле, где все рабы моды, завелся обычай, чтобы к фамильному имени знаменитостей всегда прибавлять крестное. Поневоле делаясь подражателем, я назвал Фелицату Турчанинову, как бы Амабль Тастю, Делфину Ге или Жорж Занда.
(обратно)95
А. С. Хомяков. П.Б.
(обратно)96
В юго-восточной Сибири чай почитается поклоном: не принять его значит не отвечать на поклон и за вежливость заплатить неучтивостью.
(обратно)97
Всё одни мужчины; китайки никогда за каменную стену не переезжают.
(обратно)98
Единожды навсегда название крепости или острога в Сибири принадлежит по старой памяти местам некогда худо укрепленным деревянным палисадом.
(обратно)99
Кирпичный чай делается из молоденьких, тоненьких прутиков чайного дерева, которые плотно сколачиваются в кирпичи. Их режут монголы, толкут и варят в воде, прибавляя овечьего масла; это их щи.
(обратно)100
Их тайши или князьки были два раза у Головкина с своими супругами. Он и их даже не посадил, а через переводчика только что любезничал с ними. Когда они выходили, то долго надобно было курить, чтоб изгнать несносный дух их копченых овчин, кои они одни только покрывали сукном.
(обратно)101
Единственная дочь, которую имел он от неё, была замужем за Львом Алексеевичем Перовским и умерла бездетна.
(обратно)102
Обвиняют русских в неопрятности; где же встречалась она с нищетой? В комфортабельной Англии заглянуть бы в убежища последней. Суровый климат и крайние недостатки заставляют нашего мужика на узком пространстве собирать в теплом гнезде всё, что ему дорого, семью и достояние свое, детей и скотину. Но лишь только выбьется он из нужды, посмотрите, как раскрасит он свою светлицу, как начнет ею любоваться, холить и мыть ее.
(обратно)103
Недавно в Саратовской губернии, на степи, близ Иргиза, на нетронутой земле, с милыми средствами поселился один помещик, Колокольцев. Прилежно занимаясь разработкой ее, посредством не рабов-негров, даже не крепостных мужиков, а вольнонаемных, он в несколько лет до того успел разбогатеть, что этого человека, гения агрономии, стали подозревать в разбоях и в делании фальшивых ассигнаций. Пример его мог бы возбудить к подражанию; к несчастью, он убит в степи неведомо кем.
(обратно)104
Его зовут Федор Иванович. В нем были необыкновенный ум, удивительные способности и чрезвычайная безнравственность. После перешел он в военную службу и находился при Оренбургском (нынешнем Санктпетербургском) военном губернаторе Эссене. В звании адъютанта управлял он всем краем и до того прославился, что из Петербурга велено было начальнику его удалить сего слишком, искусного адъютанта.
(обратно)105
Она теперь замужем за попечителем Казанского университета Мусиным-Пушкиным.
(обратно)106
Все они выданы за людей знатных фамилий: старшая за Голицына, вторая за Долгорукого, третья за Шувалова, четвертая за Потоцкого.
(обратно)107
Три года потом прожил он безвыездно в Орловской деревне. Нрав его там не смягчился, он мучил крестьян, и один из них убил его топором.
(обратно)108
Простофили. П.Б.
(обратно)109
Попробовал бы русский быть столь ничтожным, как Андрей Яковлевич Будберг; ему много, много бы удалось быть членом Московского Английского клуба.
(обратно)110
Автор ошибается: князь Чарторыйский был в Петербурге напр. в 1817 году. П.Б.
(обратно)111
Мерзкие поступки не мешали Исленеву быть отменно храбрым и искусным воином. При Екатерине был он уже генерал-поручиком, а при Павле отставлен тем же чином. Его неимоверному мужеству приписывал отчасти Суворов удачный штурм Праги. Он тем был отличен, что получил прямо Владимирскую ленту 1-й степени, другой во всю жизнь не получал, следственно и не носил.
(обратно)112
Река в Лидии, с золотым песком. П.Б.
(обратно)113
В Москве я слышал, что эта женщина была гениально глупа. Её кто-то уверил, что преставление света будет в тот год, когда Светлое воскресение придется в Великий Четверг, и при начале каждого года она с трепетом о том справлялась.
(обратно)114
Из последней должности, которую занимал этот Римской-Корсаков, Волынского гражданского губернатора, был он навсегда выгнан.
(обратно)115
В новейшее время, в сем роде более всех были замечательны два человека: Николай Федорович Рёмер и Гаврило Степанович Попов.
(обратно)116
Граф Толстой, прозванный Американцем, о встрече с коим в Сибири говорил я во второй части сих Записок, был остановлен у Петербургской заставы, когда возвращался из путешествия вокруг света, потом провезен только через столицу и отправлен в Нейшлотскую крепость. Приказом того же дня переведен он из Преображенского в тамошний гарнизонный полк тем же чином. Наказание жестокое для храбреца, который никогда не видал сражений, и в то самое время, когда от Востока до Запада во всей Европе загорелась война. По прибытии Алексеева в Сердоболь, явился он к нему и молил взять его с собою. Молодой лев наружностью и сердцем полюбился Алексееву, и он представил о том в Петербург, но с выговором получил отказ. Другое дело было с Долгоруковым: тому отказывать не смели. Он за адъютанта находился подле него в ту минуту, как его убили. Он находился и в свите, сопровождавшей его тело; но как воспрещение въезжать в столицу снято с него не было, то опять остановили его на заставе. Ему велено было только присутствовать при церемонии погребения и тот же час опять выехать из Петербурга, только уже к Преображенскому батальону, находившемуся в Абове, куда перевели его в память Долгорукова.
(обратно)117
Этот бедный Фердинанд имел неудовольствие не только тайно получить отказ, но и жестокое приглашение быть свидетелем торжества своего соперника. Несколько лет спустя, он утешился приобретением пребогатейшей венгерки, которая заставила его принять фамильное ими свое — Когари и вступить в подданство Австрии, даже, кажется, принять католическую веру. Из корысти чего немецкие князья не сделают!
(обратно)118
Немного было тому свидетелей. Пятнадцать лет спустя, один очевидец, полковник Липранди, который любил Каменского и имел некоторые неудовольствия на Алексеева, с сожалением рассказывал мне об этом. Как было ему не поверить?
(обратно)119
Ныне известно, что эта поездка Государя в Тверь и потом в Москву имела значение политическое: нужен был лишний предлог, чтобы замедлить ответом Наполеону на его предложение жениться на великой княжне Анне Павловне, и в переговорах о бывшей Польше, которые велись тогда же, выговорить побольше для России. См. Русский Архив 1877 года. П.Б.
(обратно)120
Мне всё приходится говорить о графе Федоре Ивановиче Толстом, прозванном Американцем. У раненого Алексеева, несколько времени жившего в Абове, каждый вечер собиралась гвардейская молодежь, между прочими старый знакомый его Толстой и молодой Нарышкин. Они оба были влюблены в какую-то шведку, финляндку или чухонку, и ревновали ее друг к другу. В один из сих вечеров, сидели они рядом за большим карточным столом, шепотом разбранились, на другое утро дрались, и бедный Нарышкин пал от первого выстрела своего противника. Вслед за тем гвардия выступила обратно походом в Петербург, откуда было прислано приказание везти Толстого арестованным. У Выборгской заставы его опять остановили и послали прямо в крепость. Несколько лет вертелся он около Петербурга и в третий раз едва успел в него попасть.
(обратно)121
Ныне, в глубокой старости, он инвалидный сенатор. Несмотря на это, женился на какой-то молодке.
(обратно)122
От того названия и места, ныне чины, тайных и действительных тайных советников.
(обратно)123
Надо отдать справедливость Александру и Сперанскому: никто лучше их не умел хранить тайну. Никто не имел ни малейшего подозрения на счет приготовляемых перемен. Сами министры узнали о том, разве только накануне Нового года, дня, в который перемены сии последовали.
(обратно)124
Дружбы не знают эгоисты, а сердце Дмитриева как будто осиротело, овдовело после смерти Карамзина. Один раз со мною, разговаривая об умершем друге своем с чувством, с похвалою, но без большого жара, вдруг забылся он до слез. Изъяснить не могу, как я был глубоко этим тронут.
(обратно)125
Сергей Васильевич Салтыков.
(обратно)126
Семен Николаевич Озеров, недавно умерший в Москве сенатором.
(обратно)127
Старостью в старину не презирали русские. Напротив того, по достижении тридцати лет, крестьяне и крестьянки спешили выдавать себя за стариков и старух, чтобы скорее пользоваться правами на уважение молодых. Названия: дядя, тетка, говоря с пожилыми людьми, хотя посторонними, всегда произносились с нежностью; старичок и старушка еще более.
(обратно)128
Не ранее как в царствование Екатерины II, приехал в Пензу первый лекарь Петерсон, он же и аптекарь. Он поразбогател, выстроил дом и каждой из трех дочерей своих, которых выдавал за вновь поселявшихся там по временам медиков, построил в приданое по дому на той же улице, которая от них и получила название Лекарской. Петерсон, как скипетр, держал Эскулапов жезл, и размножившееся его семейство располагало жизнью и здоровьем обывателей. Им прописывались лекарства, и у него же они приготовлялись: какая убийственная монополия!
(обратно)129
См. первую часть сих Записок, главу XV.
(обратно)130
Это несправедливо. И. С. Рибопьер происходил из древнего, но обедневшего рода. См. Записки его сына в Русском Архиве 1877 года. П.Б.
(обратно)131
Катерина Ильинишна Кутузова, теща Опочинина, была родная сестра Александра Ильича Бибикова, деда Рибопьера.
(обратно)132
Я было и забыл сказать, что впоследствии увеличили его министерство присоединением к нему мануфактур-коллегии, названной департаментом мануфактур и внутренней торговли.
(обратно)133
Осенью 1810 года случился один забавный анекдот, который ходил по целому городу. Молоденький армейский офицер стоял в карауле у одной из Петербургских застав. Тогда был обычай, как и ныне, у проезжающих в городских экипажах, не требуя вида, спрашивать об именах и записывать их; какой-то проказник вздумал назвать себя Рохус Пумперникель, шутовская роль в известной тогда немецкой комедии. Почему было знать и какая нужда была знать офицеру о существовании этой комедии? Но внесение Рохуса в вечерний рапорт было приписано его глупости и невежеству. Он был осужден на бессменный караул по заставам, пока не отыщется дерзновенный, осмелившийся наругаться над распоряжениями правительства. Едет в коляске с дачи худенький человек; его спрашивают, как зовут его; он отвечает: барон фон-Кампенгаузен. Имя и отчество? Балтазар Балтазарович. Чин и должность? Государственный контролер. «Тебя-то, голубчик, мне и надобно!» воскликнул бедный офицер и, вытащив министра из коляски, посадил его под стражу и немедленно донес о том по начальству. Уверяли, что офицера перевели за то в гарнизонный полк.
(обратно)134
Название издаваемого тогда в Гамбурге французского журнала, у нас многими получаемого.
(обратно)135
Александр Львович Нарышкин назвал эти переводы Mérope marinée и Andromaque déracinée.
(обратно)136
Мне сказывал Загоскин, что во время малолетства случалось ему с родителями гулять на Тверском бульваре. Он помнит толпу, с любопытством, в почтительном расстоянии идущую за небольшим человечком, который то шибко шел, то останавливался, вынимал бумажку и на ней что-то писал, а потом опять пускался бежать. «Вот Шаликов, — говорили шепотом, указывая на него, — и вот минуты его вдохновения».
(обратно)137
Хомяков.
(обратно)138
Я начинаю повторять себя. О Северной Почте уже я говорил, и мне бы следовало вымарать строки сии, но я их оставляю, желая подвиги министра Козодавлева тверже сохранить в памяти читателя.
(обратно)139
Меньшие воспитывались тогда в институте. Моя невеста вышла потом за одного господина Кондоиди, вторая за какого-то Ринга; а третья — Амалия Николаевна, весьма умная и образованная, за весьма неумного и необразованного пензенского помещика Олсуфьева.
(обратно)140
В фамильном её прозвании, кажись, ничего не было ни шведского, ни чухонского, а скорее шотландское: оно было Скот, и как оно туда попало! По-русски оно показалось Копиеву не довольно благородно, и он всегда выдавал тещу свою за баронессу фон-Шкотть. Тогда еще о Вальтер-Скотте и помину не было; а то Копиев этого бы не сделал, а скорее стал бы причитаться к нему в родню.
(обратно)141
То чем этот город славится, его знаменитые выборгские крендели, как, я в том удостоверился, суть изобретение одною бывшего там русского булочника.
(обратно)142
Согласно его желанию, дело было рассматриваемо как в общем собрании Сената, так и в Государственном Совете; но он не имел горести видеть решения обоих сих главных судилищ. Без особых побуждении редко случается, чтобы в них внимательно обсуживали решения Сената. Окончательно мы везде проиграли.
(обратно)143
Если кто умеет сколько-нибудь рисовать, тому у нас нетрудно назвать себя архитектором. Стоит только проводить линии подлиннее, давать прожектированному зданию большие пропорции, отовсюду заимствовать для него орнаменты и на чертеже вкось и вкривь их прилаживать: за прочность строения отвечает каменных дел мастер. Таким образом прославился у нас Монферран.
(обратно)144
Народность в переводе значить nationalité.
(обратно)145
Лет через двадцать после соединения двух Финляндий был я очень коротко знаком с министром статс-секретарем Великого Княжества Финляндского графом Ребиндером и могу сказать, что пользовался приязнью этого почтенного человека, искренне, но тайно любящего Россию, которой он всем был обязан. Нередко посещал он меня, я его тоже, но всегда принят был у него только что в кабинете. Раз пришло мне в голову спросить его: зачем не представляет он меня своей графине и почему считает недостойным быть в его гостиной? Он вздохнул и, пожав мне руку, сказал, что он почел бы себя счастливым, если б мог он сие сделать, но что знакомство наше принужден выдавать он за официальное: ибо по известному моему патриотизму, всякая связь между нами могла бы навлечь на него подозрение в любви к русским, сделать его ненавистным для финляндцев, возбудить их интриги против него и нанести ему великий вред. Всё это просил он меня сохранить в тайне, и его смерть дала мне право нарушить мой обет.
(обратно)146
Чистосердечие в таком поступке отнимает у него почти всю гадость. Обман и подлость суть пороки, которые татарщина ввела между смышлеными предками нашими. Провести, надуть совсем не значило просто обманывать, а слыло доказательством тонкости и превосходства ума. Всё это ныне чрезвычайно редко встречается, разве между мелкими купцами и простым народом.
(обратно)147
Он начальствовал там вспомогательною армией Наполеону против австрийцев, в известной войне без сражений. Мир был заключен, армия мало-помалу возвращалась, в он скончался в минуту отъезда своего.
(обратно)148
Марьи Антоновны Нарышкиной, которой муж, Дмитрий Львович, был родной дядя жены Голицына.
(обратно)149
Я было забыл, что после Годунова, Лжедмитрия и Шуйского, был один Голицын в числе искателей русского престола, тогда как смешная его претензия никем не была поддержана, тогда как Мстиславский, правитель России и Пожарский, спаситель ее, не дерзали посягнуть на то.
(обратно)150
Родные племянники и единственные наследники нашего Креза, бездетного князя, Сергия Михайловича, который необыкновенным добросердечием заставляет часто забывать глупую спесь свою.
(обратно)151
Немногие княжеские фамилии, всего пять или шесть, сохранили названия городов, коими владели их предки: Одоевские, Козловские, Елецкие, Волховские, Звенигородские, Вяземские. Говорят, что в Польше можно найти еще Шуйских. Некоторые стали впоследствии к прозваниям им данным прибавлять имени городов; Ростова, Белозерска и Мосальска.
(обратно)152
Один князек Долгоруков, который под сим именем написал французскую брошюрку.
(обратно)153
Чин — ordre. Монахи по чину Св. Василия, religieux de l'ordre de S-t Basile. Благочиние, благоустройство. Бесчиние, бесчинство, беспорядок.
(обратно)154
Лет тридцать поболее тому назад, давали еще водевиль г. Малиновского или оперу весьма незамысловатую под названием «Старинные Русские Святки». Она оканчивалась куплетами; когда запоют: «Слава Богу на небе, Русскому царю на земли слава!» а потом: «Слава храброму Русскому воинству, слава!» то от рукоплесканий можно было оглохнуть. Когда же запоют: «Слава великим Русским боярам-вельможам, слава!» бывало, ни одна рука ни подымется, чтобы ударить в ладоши.
(обратно)155
Этот неизвестный писатель был известный Ларошфуко. Сию грубую ошибку со стыдом пополам спешит исправить не издатель, а сам сочинитель Записок.
(обратно)156
В вестовщице Маремияне Бобровне Набатовой всякий узнал знаменитую Настасью Димитриевну Офросимову, лет сорок сряду законодательницу московских гостиных. Она была воплощенная неблагопристойность, ругала дам в глаза, толкала мужчин кулаками в грудь или во что попало и была грозой женщин зазорного поведения, пока они совершенно ей не покорялись: тогда брала их под свою защиту и покровительство. По этому можно посудить о тоне тогдашних московских обществ.
(обратно)157
Некоторые люди находили, что рескрипт этот показывает большую робость, потому что Наполеон в нём не был разруган. Я заметил им, что человек, который говорит, что не положит оружия, пока единый неприятель останется в земле его, напротив, должен быть исполнен гордости и решимости.
(обратно)158
Я помню одного старого слугу, который с своими господами довольно свободно вступал в разговоры и сам с молодым барином попросился в ополчение. «Что это, господа, — говорил он, — ведь это все Государь да Константин Павлович, народ молодой, нам накуролесили: раздразнили мужика сердитого, а теперь что делать, хоть головы положим, пойдем выручать их». Другой слуга, при котором рассказывали, что Барклай не поладил с Константином Павловичем и отправил его в Петербург, сказал: «Да ведь он прав этот Барклай; уж не до поросят, коли саму свинью палит».
(обратно)159
На другой день по получении известия о взятии Москвы, праздновала она у себя сие счастливое событие с двумя французами, Радюльфом и Магиёром. Все комнаты были освещены. Но радостное спокойствие сего торжества было внезапно нарушено. Град камней из карманов и рук двух человек, ехавших мимо верхом, посыпался в её окна, и все стекла разбил вдребезги; верховые ускакали потом неизвестно куда, и никогда не могли их отыскать. Через несколько времени мне одному открылась тайна, но я никому не объявлял о ней, не из скромности, а из опасения быть подозреваемым в подучении. Это были — один молодой малый, прежде бывший у меня в услужении, родными моими отпущенный на волю и находившийся тогда канцелярским служителем в Губернском Правлении; а другой — приятель и товарищ его в том же правлении. Оба они поступили в ополчение, а из него перешли в настоящую военную службу.
(обратно)160
Дочь его, тогда в пеленках, ныне за первым богачом нашим графом Димитрием Николаевичем Шереметевым.
(обратно)161
Известнейший наш поэт в досаде сказал то же о петербургских дамах.
(обратно)162
Этот Пимен Николаевич всегда оставался примечателен своими смирными странностями, бесплодием ума и тела. Им заключился ряд несовершенных произведений Ольги Александровны, и вся жизнь его отзывалась сим несовершенством. Вечно хлопотал он около словесности, гражданской службы и красивой жены: слывет литератором, деятельным чиновником и мужем, но в исполнении всех принятых им обязанностей оказался совершенно несостоятельным.
(обратно)163
В день победы Бенигсена при Тарутине, 6-го октября, Витгенштейн одержал таковую же под Полоцком. Кому до кого, а мне до своих: зять мой, генерал Алексеев в этот день был откомандирован на речку Струню, чтобы штурмом взять возведенные над нею укрепления. Он сделал сие с обычною ему неустрашимостью, за что и награжден был Владимирскою звездою второй степени.
(обратно)164
С самого учреждения Георгиевского ордена в 1760 году, кавалеров его первой степени всего было поныне только шестнадцать, а в это время ни одного.
(обратно)165
Под Прейсиш-Эйлау, 27 января, в Пруссии верно было не теплее, чем осенью в Белоруссии, а французы, если и не победили, но и побеждены не были.
(обратно)166
У первопожалованного графа Толстого, в истории Петра Великого столь известного Петра Андреевича, любимца его и преданного ему до готовности к преступлениям, было два сына, Иван да Петр, которые при Анне Иоанновне попали в немилость. Старший Иван был сослан в Архангельск, где от скуки женился на дочери какого-то неважного чиновника и прижил с нею семь сыновей. Все они последовали его примеру, все переженились, оставили потомство; один из них, Андрей Иванович, подражание довел до совершенства, имел также семь сыновей, в том числе и нашего Федора Андреевича. Другая линия, от Петра происходящая, не была так плодуща, оттого сохранила богатство и знатность, тогда как прочие графы Толстые ныне в Москве стали наряду и едва ли не ниже простых дворян.
(обратно)167
Родная тетка известному в Москве камергеру Матвею Михайловичу «Красному»-Солнцову, как назвал его в стихах поэт-племянник Пушкин.
(обратно)168
Думала ли она, что внук её, сын князя Федора, будет некогда женат на дочери этого ***-на.
(обратно)169
В этом доме, несколько лет спустя, Кологривовы имели счастье видеть у себя на бале самого Государя Императора.
(обратно)170
Надеясь на кредит зятя, в коронацию Александра, Колокольцев изъявил желание получить графское достоинство. Государь, улыбаясь, пожаловал его бароном, и раздосадованный Колокольцев, даже в официальных бумагах, никогда не хотел употреблять сего титула.
(обратно)171
Суммы, которую по письму и доверенности моей матери должен был я получить в Петербурге, мне не дали и очень хорошо сделали.
(обратно)172
Многореченный чудак Копиев, который беспрестанно покупал и продавал маленькие имения вокруг Петербурга и для того читал все печатные объявления о продажах, встретясь со мною, воскликнул: «Помилуй, братец, что это ты сделал? (тогда кто десятью годами был старее, позволял себе говорить ты). Я прочел в эстляндской газете, что ты уступил право называться фон-Иллук, фон-Куртна. Да знаешь ли, что это не шутка: у них кто фонее, тот и знатнее».
(обратно)173
Не Юлий Кесарь и не Карл Великий были сначала его образцами, а Висконти, Галеас Сфорца, Скала, Медичи, Малатеста. В нём ожили все эти храбрые, хитрые и счастливые клятвопреступники, которые задушили маленькие республики, неосторожно вручившие им власть над собою, и которых история средних веков запятнала прозванием тиранов. Круг действия их был только теснее, но во всех них можно видеть микроскопических Наполеонов.
(обратно)174
Сдавши опеку, он не знал, чем жить и для того пошел опять в службу, хотя был уже не в молодых летах. Ему и тут посчастливилось. Он получил место губернатора сперва Архангелогородского, потом Тульского, полез было в гору, но с неё упал под суд; не оправданный и не прощеный он умер с горя.
(обратно)175
Как времена меняются! Ныне высший круг, совсем обьевропеившийся, такую справедливую меру не мог бы простить правительству.
(обратно)








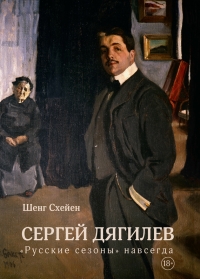
Комментарии к книге «Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Части первая — четвертая», Филипп Филиппович Вигель
Всего 0 комментариев