Ирина Голицына Воспоминания о России (1900–1932)
История моей жизни в послереволюционной России — это свидетельство о страданиях и трагедиях. Каждое мгновение я должна благодарить Бога за великую милость к нам, ибо Он не только вывел нас живыми из того ужасного места, каким стала Россия, но через страдания привел нас к познанию Своего существования.
Княгиня И. Д. ГолицынаПредисловие
Настоящее издание представляет вниманию российских читателей мемуары ныне покойной княгини И. Д. Голицыной (урожденной графини Татищевой) «Spirit to Survive», вышедшие первоначально на английском языке в 1976 г. в лондонском издательстве «William Kimber & Co. Limited». Первое издание на русском языке было осуществлено при содействии детей и внуков княгини Голицыной.
Публикация в России мемуаров княгини И. Д. Голицыной дает возможность современным россиянам глубже понять трагические судьбы многих представителей высшего слоя русской аристократии в годы революции и Гражданской войны, которыми до 1990-х гг. совершенно не интересовалась ни советская историческая наука, ни литература «социалистического реализма». Сегодня уже мало кто может вспомнить места главных боев Гражданской войны и практически забыты могилы воинов и жертв противоборствовавших тогда сторон, но значительная часть российских обывателей все еще продолжает считать уцелевших в эмиграции промыслом Божиим потомков Рюриковичей «буржуями и эксплуататорами», забывая об их значительной роли в Русской истории как основателей, строителей и охранителей самого крупного и мощного к началу XX века государства в мире. Заметное влияние подобного остаточного «революционного» менталитета держит в безысходном идеологическом тупике гражданское общество постсоветской России, которому сегодня очевиден провал «социалистического эксперимента» по управлению страной «кухарками». Во все времена тривиальной истиной являлся тот факт, что никакое общество не может нормально развиваться без реального осознания своей прошлой истории. Составители и издатели данной книги надеются, что настоящее издание восполнит очередное «белое» пятно отечественной истории и тем сыграет свою положительную роль в просвещении наших соотечественников.
Воспоминания Ирины Дмитриевны Голицыной начинаются со дня ее рождения в 1900 г. в семье графа Дмитрия Николаевича Татищева, принадлежавшего к очень древнему роду, восходящему к основателю Русского государства вел. князю Рюрику, а также к киевскому вел. князь Владимиру Мономаху. Основателем рода собственно князей Татищевых считается Василий, который в 1400 г. получил прозвище «Татьищ». Основываясь на данных историко-родословных исследований С. С. Татищева, опубликованных в книге «Род Татищевых» (СПб., 1900), представители этого рода в 2000 году организовали юбилейные торжества по случаю своего славного 600-летия.
Отец Ирины Дмитриевны не был богат и первоначально занимал довольно скромные служебные должности. В начале он служил в Вильне, затем был предводителем дворянства Гжатского уезда, проживая некоторое время в родовом имении Татищевых Ворганово, которое запечатлелось в первых детских воспоминаниях Ирины Дмитриевны. В начале XX века еще была жива легенда, что в 1812 г. покинутую хозяевами усадьбу Ворганово короткое время занимал император Франции Наполеон. Второй родной усадьбой Ирины Дмитриевны было Степановское Тверской губернии, в котором находилась вотчина рода Куракиных, из которого вышла ее родная бабушка — Елизавета Алексеевна Нарышкина (урожденная княжна Куракина), ставшая впоследствии Обер-гофмейстериной Императрицы. Небезынтересен тот факт, что мать Императора Петра I Наталья Кирилловна также была представительницей рода Нарышкиных. Кроме того, к роду Нарышкиных принадлежала и вдова капитана Тучкова, которая построила у его могилы на Бородинском поле Спасо-Евфимиевский женский монастырь.
Семья Нарышкиных вела активную светскую жизнь, но и не отрывалась от православных традиций. В их домах часто бывали священники, а Ирина Дмитриевна запомнила в частности приезд на столичную квартиру Нарышкиных митрополита С.-Петербургского Антония (Вадковского). Семейная память сохранила и визит в степановский дом св. праведного о. Иоанна Кронштадтского.
Значительные перемены в служебной карьере отца начались в 1903 г. Первым местом службы князя Дмитрия Николаевича Татищева на должности губернатора оказалась Ломжинская губерния Царства Польского, куда семья и переехала в 1907 г. Через два года состоялось новое назначение — на пост Ярославского губернатора, и семья с 1909 по 1915 г. проживала в Ярославле.
В 1915 г. Дмитрий Николаевич был назначен командующим Отдельным корпусом жандармов, который в числе прочего обеспечивал охрану Императора Николая II и Августейшей Семьи при всех их передвижениях. Следующий без малого год прошел в столичном Петрограде и Царском Селе. В феврале 1917 г. на Татищевых обрушились все беды революционного лихолетья.
Блеск и величие Российской Империи, проявившиеся особенно ярко во время ярославских торжеств по случаю 300-летнего юбилея царствования Дома Романовых, оставили в душе Ирины Дмитриевны неизгладимый след на всю ее жизнь. Немного позже в ярославском доме Татищевых принимали Великую княгиню Марию Павловну и Великую княгиню Марию Александровну с ее мужем герцогом Эдинбургским, вторым сыном английской королевы Виктории. Гордость за принадлежность к роду именитых представителей величайшей в мире державы не оставляла ее и после крушения Российской империи. Подобная жизненная позиция позволяла ей с большим мужеством и чувством собственного достоинства переносить и тяготы революционного лихолетья, и Гражданскую войну, и застенки ЧК, и ссылку, и эмиграцию…
В воспоминаниях Ирины Дмитриевны большое место отводится описанию посещений многочисленных родственников и отношениям между ними. Страница за страницей передает она простые детские воспоминания о ряде лиц, которые играли в свое время довольно значительную роль в общественно-политической жизни России.
Ярким событием семейной жизни был также день производства графа Дмитрия Николаевича Татищева в генерал-лейтенанты и назначение его командующим Отдельного корпуса жандармов. Благодарные ярославцы высоко оценили его труд по благоустройству их губернии и сохраняли за ним во время службы в Петрограде пост председателя губернского правления Общества Красного Креста. Его сын Николай свой первый офицерский чин получил в январе 1917 г. после службы в гвардейской кавалерии и экзамена в Николаевском кавалерийском училище. Интересен факт личной переписки Обер-гофмейстерины Е. А. Нарышкиной с находившейся в уральской ссылке Императрицей Александрой Федоровной. В одном из писем она сожалеет, что по возрасту и состоянию здоровья не смогла сопровождать на Урал Августейшую Семью.
После октябрьского переворота большевиков Дмитрий Николаевич Татищев вместе с сыном Николаем был заключен в Петропавловскую крепость. Помощь им пришла с совершенно неожиданной стороны, после ходатайства к А. Ф. Керенскому. День второго ареста графов Татищевых, уже летом 1918 года, совпал с известием о гибели Царской Семьи. Из этих же писем известно, что во время второго ареста отец и сын недолго пробыли вместе, но затем сын в январе 1919 г. был освобожден, а отец переведен в Бутырскую тюрьму и расстрелян там в сентябре 1919 г. по причине «необходимости разгрузки» тюрьмы. Вскоре сын Николай, изменив фамилию на Ларищева, записался добровольцем в охранные части Красной армии и попал в Брянск, откуда сумел перейти на сторону Белой армии. У белых он служил вместе с Диди Нарышкиным в Донской казачьей дивизии ген. Топоркова, с которой участвовал в должности командира конного пулеметного взвода в наступлении на Москву и затем в отходе в Крым. Из писем известно о его тяжелом ранении, лечении в Крыму и возвращении в свой полк, в составе которого он воевал в Крыму и эвакуировался через Константинополь в Сербию. Последнее военное письмо от 17 марта 1922 г. сообщает о прохождении им службы в казармах на станции Валкань в должности штабс-ротмистра. В более поздней переписке Николай Дмитриевич не переставал удивляться своему счастливому везению в боях, т. к. за время нахождения на фронтах с 1916 по 1921 г. он был трижды ранен, и под ним было убито 12 лошадей. Ему удалось вернуться живым и из поездки в Тобольск в начале 1918 г. вместе с группой офицеров, пытавшихся освободить из заточения Царскую Семью.
Из семейной переписки известны и некоторые дополнительные обстоятельства личной жизни самой Ирины Дмитриевны, пропущенные или вскользь упомянутые в ее собственных мемуарах. Так, становятся очевидными неимоверные старания Ирины Дмитриевны в 1918–1919 гг. по сбору и отправке в тюрьму продуктовых передач для помощи отцу и брату. Затем только в письмах она говорит о своих тюремных страданиях на Лубянке в 1923 и 1924 гг., когда не удались попытки обвинения ее следственными органами ЧК во взяточничестве и шпионаже. Эти жизненные испытания закончились для нее весьма благополучно, т. к. в ссылке в Перми она познакомилась с князем Николаем Эммануиловичем Голицыным, за которого вышла замуж в 1925 году. У супругов вскоре появились дети, жизнь была очень тяжелой в материальном отношении, и семья смогла пережить трудности ссылки во многом благодаря помощи от заграничных родственников. Супружеская чета князей Голицыных сумела получить разрешение на эмиграцию в Германию. Благодаря инициативе родственников, уже находившихся в Европе, им оказал необходимую помощь тогдашний президент Германии Гинденбург, сын которого был женат на представительнице дальней ветви рода Голицыных. Причем Гинденбургу пришлось обратиться с ходатайством к самому И. В. Сталину, который ради сохранения хороших отношений с Германией не решился на отказ[1]. После кратковременного пребывания в Германии Голицыны перебрались в Англию, где их потомки и проживают до настоящего времени.
Княгиня Ирина Дмитриевна на опыте своей многотрудной жизни уверилась, что в жизни не бывает случайных событий, что всё происходит по Божьему Промыслу. После ее чудесного избавления из Советского Союза она не переставала благодарить Бога за Его милость.
Еще в юношестве, в Ярославле, когда ее мать была тяжело больна, Ирина Дмитриевна дала обет Богу — если мать выздоровеет, то она совершит паломничество в Иерусалим и зажжет там благодарственную свечу. Жизнь сложилась так, что она долго не могла исполнить своего обещания, и это ее очень расстраивало. В 1962 году неожиданно появилась возможность поехать в Иерусалим. После этого она ежегодно совершала паломничества в Святую землю и побывала там в общей сложности 20 раз. В Хевроне Ирина Дмитриевна познакомилась с прозорливым иеромонахом, который весьма точно описал все перипетии ее жизни. В беседах о судьбах России старец указал, что многие представители высшей элиты Российской империи несут значительную долю вины за то, что случилось со страной. Ирина Дмитриевна глубоко восприняла эту мысль и всегда предпочитала духовное общение светскому, хотя ее личной вины в бедах России, конечно же, не было. В определенной степени именно это побудило ее начать составление воспоминаний о своей жизни в дореволюционной и послереволюционной России.
Автор этих мемуаров, княгиня Ирина Дмитриевна Голицына закончила свой нелегкий жизненный путь в 1983 г., и ее прах покоится на кладбище New Chiswick в Западном Лондоне. До конца своих дней она так и не побывала в России. Однако сегодня в Москве проживают две ее внучки и девять правнуков.
Читателю следует учесть, что княгине И. Д. Голицыной пришлось составлять свои мемуары уже в эмиграции, после смерти супруга и восстанавливать события большой давности по памяти, а это неизбежно приводит к некоторым неточностям и весьма приблизительным оценкам. Однако эти недочеты не лишают мемуары княгини Ирины Дмитриевны очевидной научной, исторической и познавательной ценности.
А. М. Хитров
Глава первая Детство
Моим детям и внукам и в память о моей дорогой подруге графине Лидии Толстой[2], побудившей меня написать эту книгу
Я родилась 3 июля 1900 года в Санкт-Петербурге. Мой отец, граф Дмитрий Николаевич Татищев[3], принадлежал к очень древнему роду, восходящему к тому викингу, князю Рюрику, который в 862 году по P.X. основал княжество, превратившееся в ходе истории в Российскую Империю. Мой муж, интересовавшийся такими вещами, свел это все в генеалогическую таблицу, из которой видно, что во мне есть капля английской крови: дочь короля Гарольда[4] была женой другого моего предка — Владимира Мономаха.
Надо сказать, что наш род был известен как князья Соломерские, а современная фамилия — это прозвище, полученное одним из князей за его способность к розыску преступников. ТАТЬ по-древнерусски — вор, а ИЩЕВ происходит от глагола «искать» (ищу). С течением времени княжеское имя забылось, а его место заняла фамилия Татищев, остался только герб княжества Соломерского в нижней половине родового герба Татищевых. В царствование Императора Александра I одному из рода Татищевых был пожалован титул графа, так что герб нашей ветви украшен двумя коронами — княжеской и графской, что у других родов не встречается.
Женившись, мой дед[5] обосновался в поместье Ворганово в Смоленской губернии. Это было прекрасное имение, окруженное лесами, с протекавшей недалеко спокойной рекой и хорошо ухоженным парком. Перед главным домом на некотором расстоянии был пруд, а сзади конюшни, дома для работников, коровники и другие хозяйственные постройки. В тенистом прохладном парке бывало очень приятно сидеть в жаркий летний день, а вокруг дома был разбит итальянский сад. Неподалеку было еще два дома. Дорожка сбегала к пруду с пешеходным мостиком, ведущим к службам.
Мой отец, родившийся в 1865 году, был старшим из детей и единственным сыном. Потом шли две дочери, мои тетки, Нина и Наталья. Когда отец служил в Преображенском полку в С.-Петербурге, он подружился с молодым офицером Кириллом Нарышкиным[6], который часто приглашал его к себе в дом, где жил со своей вдовой матерью. У Кирилла была сестра[7] моложе его на восемь лет и очень хорошенькая. Вскоре они с моим отцом обручились и обвенчались.
Когда мои родители начали свою совместную жизнь, они были далеко не богаты, и мой отец сразу же занял государственную должность в Вильне. Потом он был избран предводителем дворянства в Гжатском уезде, и мои родители переехали в Ворганово и обосновались в имении моего деда Татищева. Он предоставил им так называемый «маленький дом», где они могли жить, если бы захотели, совершенно независимо.
Очень скоро, в 1894 году, родился первый ребенок — моя сестра Елизавета, названная так в честь моей бабушки по матери. Когда начались роды, позвали молодого доктора. Через некоторое время он вышел из комнаты роженицы, отвел моего отца в сторону и сказал, что надо быть готовым пожертвовать матерью или ребенком. Следует сделать выбор. Не слушая дальше, мой отец воскликнул: «Любой ценой спасти маму!»
Последовали томительные минуты, показавшиеся часами бедному отцу и бабушке, но наконец дверь открылась, и доктор провозгласил, что родилась прелестная девочка и обе — мама и дочь — вне опасности. Радость была огромной, и очень много говорилось об искусстве доктора.
Бабушка Нарышкина[8] во время одного из своих визитов во дворец рассказала обо всем этом молодой Императрице Александре Федоровне, и та решила позвать того же молодого доктора, когда придет ее время. Так, благодаря рождению моей сестры, этот доктор стал главным врачом Императрицы, однако, когда моя мама ожидала второго ребенка и отец послал за ним, он отказался приехать сам и прислал своего ассистента.
С рождением второго ребенка родители переехали в «средний дом» в Ворганове. Второй ребенок был мальчиком, и его назвали Николаем в честь деда со стороны отца. Николай, по прозванию «Кот», развивался очень быстро. Уже в возрасте девяти лет он писал стихи и небольшие рассказы и потом стал профессиональным писателем и хорошим художником. Я завидовала ему и восхищалась им.
К тому времени, как я родилась, моей сестре Елизавете, по прозвищу Ика (позднее, в Советской России, близкие называли ее «Изя»), было пять с половиной, а Коту — три с половиной года. Мы по-прежнему жили в деревне, иногда наезжая в Санкт-Петербург и проводя половину лета в имении моей бабушки Нарышкиной Степановское. Главный дом там был очень внушительным и состоял из трех зданий, соединенных в единое целое. В центре был огромный белый дом с колоннадой и большим гербом под самой крышей. Отчетливо, во всех подробностях помню его лежащим на земле, разбитым на кусочки большевиками; это было, когда я посетила Степановское в начале двадцатых годов. Сброшенным вниз и разбитым оказался один из двух каменных львов, которого мы, дети, особенно любили. Я была очень расстроена и подумала: «Какой смысл в таком разрушении?»
В бабушкином доме в Степановском стояла мебель с дорогой обивкой, висели редкие и часто ценные картины, в том числе несколько полотен Каналетто. (Мой прадед был коллекционером.) Менее ценной, но более интересной казалась нам, четям, галерея портретов предков. Например, я помню портрет и натуральную величину нашей прабабушки (урожденной Голицыной), собравшейся на охоту. Изображенная на лошади, удерживаемой двумя пажами, она машет рукой двум девочкам, у одной из которых на руках маленький ребенок. Для нас, детей, самым интересным были качели, наверху, в той части дома, где мы жили. Это были необычные качели. Нужно было крепко ухватиться обеими руками за кожаную петлю, а ваш партнер делал то же самое на противоположном конце шеста. При достаточном умении и проворстве можно было взлететь очень высоко, почти к потолку. С замиранием сердца обследовали мы цокольный этаж огромного дома, это помещение казалось нам похожим на тюрьму, с решетками на окнах и мрачными интерьерами. Снаружи, по обе стороны подъездной дороги, были разбиты продолговатые цветочные клумбы. До сих пор, если я закрою глаза и сосредоточусь, я могу видеть их во всей красоте и яркости.
Для того чтобы угодить моей бабушке, садовники вблизи дома сажали наиболее душистые цветы, и мы наслаждались ароматом роз всех сортов, гвоздик и левкоев, смешивающимся с благоуханием душистого горошка и резеды. А если нам удавалось приехать достаточно рано, то к этим запахам присоединялся аромат сирени, а позже жасмина. Цветы были везде — пахучие и без запаха, большие и маленькие, на клумбах и на балконе.
Вероятно, мне было около трех лет, когда отец получил пост вице-губернатора в Рязани. Мы покинули дом родителей отца и начали самостоятельную жизнь. Я очень хорошо помню наш дом в Рязани, потому что мы прожили в нем, по крайней мере, три года. Первая революция 1905 года застала нас там. В нашей округе были очень большие беспорядки. В это время губернатор Рязани отсутствовал, и мой отец оказался ответственным лицом в этой неприятной ситуации. Огромная беспорядочная толпа рабочих собралась в центре города, и начальник полиции, явившийся навести порядок, был застрелен. Отцу сообщили о том, что произошло, и он приказал заложить лошадей. Мама была в отчаянии, она умоляла отца остаться, но напрасно. Для нее настало время мучительного ожидания. Отцу удалось как-то успокоить толпу, и люди нехотя разошлись. Это, конечно, был лишь небольшой эпизод в волне беспорядков, принесших стачки и вооруженные столкновения в Москву, Санкт-Петербург и другие большие города и крестьянские волнения в деревню. Война с Японией добавила напряженности, но постепенно все успокоилось, и мы не могли знать, что это только начало.
Мне в то время было всего пять лет, и, конечно, я была в полном неведении относительно всего этого. Наш дом и сад составляли мой мир. Я помню каждый уголок в этом доме в Рязани и мелкие подробности нашей жизни там. Я даже помню запахи. В гардеробной моего отца всегда стоял особый запах. Я думаю, это пахло мылом, которым он пользовался. В его большом кабинете стоял совсем другой запах — смесь кожи и сигар. Папа начал учить Кота играть в шахматы, и они часто сидели за большим письменным столом отца. Мама удобно располагалась в одном из кресел, а Ика и я ждали, когда закончится шахматный урок, чтобы успеть поиграть перед сном. Иногда во второй половине дня в детской появлялся лакей, чтобы велеть няне отпустить меня с ним вниз. Мои волосы быстро приводились в порядок, и я спускалась в гостиную, где был сервирован чай и мама принимала какую-нибудь даму. Я немного смущалась, но меня брали на колени, и я слышала что-нибудь приятное, сказанное обо мне моей матери, которая в ответ улыбалась и разрешала мне выбрать мое любимое печенье. В нашей детской подавалось только простое печенье, кажется, оно называлось «Альберт».
Сад таил не меньшее очарование. Там были два фонтана и красивая беседка для наших игр, благоухающие кусты сирени, грушевые деревья с их белым цветением. Все восхищало меня даже весенняя трава, такая свежая и зеленая после стольких месяцев, проведенных под покровом снега. Еще и сейчас я ясно вижу эту новую траву, пробивающуюся из земли, во всей ее прелести. Когда я брожу в моем саду здесь, в Лондоне, во мне воскресает чувство, которое я испытывала тогда, и возникает нежность к росткам травы, пробивающимся пучками меж сухих листьев и гравия. С наступлением лета мы все отправлялись в имения наших дедушек и бабушек, иногда начиная с Ворганова.
За день до нашего прибытия в Гжатск туда отправляли карету, запряженную четверкой белых лошадей, чтобы встретить нас на станции. После того, как карета проезжала по мосту над прудом, из дома было хорошо видно, как мы едем вверх по дороге. После поцелуев и радостных восклицаний нас вели в столовую, где был накрыт стол с угощениями, и с этого момента начиналась жизнь в деревне со всеми ее удовольствиями свободой и покоем.
Мой дед был настоящим воином. Он участвовал в двух больших кампаниях: Турецкой и Крымской, заслужил много медалей и орденов и к тому времени был полным генералом от инфантерии. Он обладал очень твердым характером и как глава семьи ожидал от каждого абсолютного повиновения: жена, дочери и даже мой отец в его присутствии чувствовали себя скованно, я не говорю уже о слугах, которые трепетали при мысли вызвать его неудовольствие. Кот и Ика оставляли свои капризы в его присутствии, но мои отношения с дедом были совершенно иными: я никогда не встречала взрослого человека столь доброго, мягкого и любящего. У него было специальное прозвище для меня. Мое имя Ирина, но дедушка всегда называл меня Ик. Между ним и мною не было никакой напряженности я была «милочкой». Я могла говорить и делать все, что хотела вести себя, как пожелаю. В присутствии дедушки никто не смел сделать мне выговор, все прекрасно понимали, что в этом случае получат его сами.
Дед жил в нижнем этаже большого дома, обычно я могла найти его в кабинете за большим письменным столом. Этот стол представлял для меня особый интерес благодаря множеству занимательных вещей, стоявших на нем. Я уютно устраивалась на коленях деда и начинала трогать предметы, спрашивая: «Что это?» и «Для чего это?», «Можно я потрогаю?» Я знала, что не могу вести себя так ни в кабинете отца, нив комнатах моей тетки или бабушки, но здесь все было позволено, не только позволено, но даже и поощрялось. Я была набалована до последней степени. В любое время дня я могла появиться и начать мои игры с дедом. Я прекрасно знала дорогу через занимаемые им комнаты, и никто не мог остановить меня. А уж раз я была там, никто тем более не мог остановить меня, и я это прекрасно знала. Если другие дети хотели покататься, они устраивали это через меня: «Сбегай к дедушке и скажи ему, что хочешь покататься». Я сразу делала то, о чем меня просили, — бежала через комнаты деда прямо в красный кабинет. Он, как обычно, сидел там, погруженный в расчеты. Он откладывал перо и спрашивал свою «милочку», что она хочет. «Мне бы хотелось покататься», — говорила я, и дедушка сразу нажимал кнопку звонка. Немедленно появлялся его камердинер Александр.
— Скажи там, в конюшне: мне понадобится Енот и коляска. Да поскорее. Кучера не надо, править буду сам, — распоряжался дедушка.
И мы отправлялись.
Я устраивалась рядом с дедом, Кот и Ика сзади, белая лошадь Енот шла быстрой рысью, всё проплывало мимо нас. Чувства деда по отношению ко мне объяснялись очень просто: я была единственной, кто приближался к нему без страха, без малейшего чувства скованности. Я никогда не боялась, что он сделает мне выговор, и это было для него совершенно ново, видимо, нравилось, и он не хотел это потерять. Так между нами сложилось полнейшее понимание, доверие и любовь. Теперь, когда я достигла его лет, я лучше могу понять чувства, которые старый человек испытывает к маленькому ребенку и какая скрытая сила таится в душе маленького человеческого существа, не испорченного соприкосновением с миром. В те короткие промежутки времени, когда мы бывали в обществе друг друга, катаясь или просто разговаривая, мы оба чувствовали полноту нашей любви, а до остального нам не было дела. К обеду дед всегда появлялся в генеральской форме, а потом сидел в своем особом кресле под высокой стоячей лампой. Я взбиралась к нему на колени и наблюдала некоторое время за тем, как он раскладывает пасьянс. Тетя Нина, сидевшая на диване затем же самым столом, помогала ему, когда он попадал в затруднительное положение. Когда пасьянс бывал окончен, я предлагала деду сыграть со мной теми же самыми картами в игру моего собственного изобретения. Это была очень сложная игра, в которой один из королей был моим дедом, а у остальных были свои собственные имена, изобретенные мной. Результат был всегда одним и тем же — я выигрывала.
Помню однажды моя тетя Тун была очень огорчена, услышав мое радостное восклицание: «Дедушка, дедушка, я выиграла, я выиграла снова!» Она сказала довольно строго:
— Почему ты не даешь дедушке выиграть хоть раз? Почему ты должна всегда выигрывать?
Ее тон был суровым, но дед рассмеялся в ответ и всё, как всегда, поставил на место, заметив, что так и должно быть и что он и должен быть проигравшим. Потом обычно нас благословляли на ночь, и, поцеловав каждого из взрослых, мы отправлялись спать в детскую.
Я думаю, как раз в это время, когда мне было четыре года, моя няня уехала на пару дней. Каждый день после обеда меня раздевали и укладывали на час или два до вечернего чая. Я не заметила отсутствия моей няни, пока Тун не пришла и не начала раздевать меня, чтобы уложить в постель. Тут-то и началась буря. Я не хотела, чтобы кто-нибудь дотрагивался до меня, я плакала, кричала, боролась изо всех сил, отталкивала тетю руками, брыкалась ногами, сопротивлялась, как обезумевший маленький зверек. Услышав шум, появилась бабушка, она была шокирована моим ужасным поведением и, увидев, как я толкаю тетю ногами, рассердилась и сказала, что не позволит мне так безобразно вести себя и прямо сейчас пойдет к деду, добавив, что мне за это сильно достанется. Так или иначе, меня удалось успокоить и уложить в постель для обычного сна. Затем, когда настало время вечернего чая, та же тетя пришла и одела меня снова. У нее был добродушный характер, и, казалось, она совершенно забыла о моем ужасном поведении. Внезапно дверь детской отворилась, и вошла бабушка. Ее лицо по-прежнему имело суровое выражение, и было совершенно очевидно, что она не забыла. Она повернулась к тете и сказала:
— Это просто невероятно, но когда я пришла и сказала ему (она специально не назвала имени деда), как избалована его «милая девочка», знаешь, что он мне ответил? Он сказал, что это наша вина, а не ребенка, ни в коем случае не ребенка, и что все мы просто не знаем к ней подхода.
При этих последних словах бабушка пожала плечами, и так как моя тетка промолчала, бабушка покинула комнату, даже не взглянув на меня.
Мне очень живо вспоминаются многие мелкие случаи. У меня такое ощущение, что я удобно сижу в своем кресле и смотрю волнующий фильм о давно ушедшем. Я очень отчетливо вижу себя стоящей перед зеркалом. Должно быть, было воскресенье, так как мои волосы распущены и сзади завязан бант, я стараюсь перекинуть волосы вперед, так, чтобы они прикрывали плечи. Я была так занята этим, что когда открылась дверь гостиной и вошла тетя София[9], я заметила ее только, когда она схватила меня за правую руку и сказала очень сердито:
— Если я когда-нибудь замечу, что ты так глупо любуешься собой в зеркале, то я запрещу тебе ходить с распущенными волосами.
И она вывела меня из гостиной, продолжая читать наставления. Но я совершенно искренне могу сказать, что не поняла, почему со мной обошлись так сурово. Во-первых, я не любовалась собой, эта мысль никогда не приходила мне в голову в то время, тогда я не знала, что могу быть хорошенькой. В моем представлении красивыми могли быть только взрослые, а не дети. Так как же я могла любоваться собой? Я просто играла с волосами, и эту игру сочли признаком испорченности. Я поняла, что делала что-то недозволенное, и, тем не менее, не ощущала это чем-то плохим. И тогда я сообразила, что у меня как бы две стороны: одна — это действительно я, но ее я не должна показывать, а держать про себя, и другая, которую следует демонстрировать, чтобы заслужить одобрение окружающих.
Я помню, как однажды, когда мне было около четырех, я вышла из детской и шла через дом, пока не дошла до полуоткрытой двери столовой. Там я увидела двух лакеев, наводивших последний лоск на накрытый стол. Большая лампа над ним ярко горела, и было приятно смотреть на сверкающее серебро и хрусталь на белоснежной скатерти. Но, на мой взгляд, гораздо более красивой и привлекательной была хрустальная ваза, полная изумительных яблок. О, как мне хотелось попробовать хоть одно!
Я терпеливо подождала за дверью, пока слуги ушли, потом прокралась в столовую и взобралась на один из стульев, стоявших вокруг стола. Я только успела схватить одно из яблок, как стул подо мной покачнулся, и в следующую секунду вместе со мной, крепко зажавшей в руке яблоко, оказался на полу. Шум показался мне ужасным, я не ушиблась, но испугалась. Я быстро подняла тяжелый стул и отправилась в детскую. Желание попробовать яблоко пропало, мне даже не хотелось смотреть на него, и я спокойно предложила его няне. Моя дорогая няня не стала настаивать на том, чтобы я сообщила, откуда взяла его, она отложила яблоко и занялась своей работой.
Когда мы все трое были в кроватях, бабушка пришла благословить нас. Няня сказала ей:
— Ваше сиятельство, спасибо за яблоко, которое малышка принесла мне. Я думаю, что это вы прислали его мне.
Бабушка ответила, что она не присылала, но больше не задавала вопросов. Я покраснела, услышав это. Позже я поняла, что была вором и что это мое наказание.
Я благодарна моим теткам, что они были строги со мной. Это принесло мне пользу. Много раз впоследствии я улыбалась, вспоминая инцидент с зеркалом, думая: «Что бы сказала тетя София, если бы увидела меня сейчас, когда я действительно стараюсь выглядеть как можно лучше, всего лишь потому, что собираюсь прогуляться?» С другой стороны, как хорошо, что мой дел был так добр ко мне. Как будто он предчувствовал те страшные времена, которые должны были наступить, и хотел, чтобы я была окружена большой любовью и заботой, пока это было возможно.
Странно, но когда мой дед умер (мне было тогда не больше семи), я была единственной не проронившей ни слезы. Священники приходили и уходили, служили заупокойные службы. Мы присутствовали на последней из этих служб. Дедушка лежал в военной форме в гробу на возвышении, раздавалось монотонное пение дьякона, отец поднял меня, дал поцеловать руку деда и спустил вниз. Бабушка рассердилась и выговорила моему отцу, сказав, что я слишком мала и слишком впечатлительна для такого опыта. Я все слышала, все понимала и ясно представляла, что случилось, но совершенно особым образом. Какое-то оцепенение овладело мной, я не плакала, как все остальные, и понимала, что все наблюдают за мной. Они очень хорошо знали, как я любила его, и не понимали, отчего я не могу плакать. Незадолго до похорон мама позвала меня в свою комнату, села рядом на диван и начала со мной очень серьезно говорить. Со строгим и грустным выражением лица она спросила:
— Душка (она всегда так звала меня), ты знаешь, что дедушка умер?
Я кивнула.
И она продолжала:
— Знаешь ли ты, что значит смерть? Это значит, что ты никогда, никогда его больше не увидишь.
Я подумала, что знаю, что значит умереть, но только по-своему и не должна говорить об этом, а похоронить глубоко в сердце. Там, где есть любовь, там нет места смерти, по крайней мере эта смерть не такова, как о ней думают люди, но моя мама такая хорошая, и я буду щадить ее чувства и со всем соглашусь, что она скажет. Мама улыбнулась, поцеловала меня и отпустила.
Я очень любила свою няню, потому что она всегда была рядом, в любое время дня и ночи. Я всегда думала, что именно она заложила основы моей духовной жизни. Я наблюдала, как она молится, мирно полеживая в своей маленькой кроватке, и мое доверие к ней было безгранично, даже когда она сердилась и шлепала меня, что время от времени случалось. Ика и Кот уходили повидаться с друзьями или в церковь или прокатиться в карете, а я всегда была с няней.
Другую половину лета мы проводили в поместье моей бабушки Нарышкиной — Степановском. Всё зависело оттого, когда бабушка сможет быть там, потому что, будучи фрейлиной, она должна была согласовать свой отпуск с Императорской Семьей. Они обычно проводили часть лета в Крыму, и бабушка должна была их сопровождать. Только когда они возвращались в С.-Петербург, она могла быть свободна. Когда мы узнавали, что бабушка в Степановском, мы быстро собирались, чтобы присоединиться к ней там. Моя крестная тетя Саша[10] делала то же самое вместе со своим мужем Александром Козеном[11]. Иногда и брат матери дядя Кира приезжал со своим семейством. Он был женат тоже на Нарышкиной из другой ветви. Тетя Тата[12] была очень красива и, по контрасту с мужем, была очень живой и разговорчивой. У них было два сына — Кирилл и Петр. (В Нарышкинской семье наиболее частыми именами были — для мальчиков Кирилл, а для девочек — Наталья. Традиция началась в правление Петра Великого, матерью которого была Наталья Кирилловна Нарышкина.)
Когда бы мы ни покидали Ворганово, мы всегда играли в игру, заключавшуюся в прощании со знакомыми вещами. Я говорила:
— Прощай, стул, — и целовала его.
— Прощай, лестница, — и целовала перила.
— Прощайте, часы, — они стояли в столовой.
Потом мы шли в большую гостиную, и Кот говорил: «До свиданья, пианино», а я быстро прощалась со стулом, который стоял перед ним, чтобы не обидеть его. Так мы шли дальше и дальше, целуя всё. Это не было печальным прощанием, так как мы были в радостном возбуждении от предстоящего путешествия.
Расстояние от Ворганова до Степановского, если мы ехали кратчайшим путем, составляло 105 верст. Если же ехать поездом, выходило гораздо дальше, так как прямой линии не было и нам приходилось пересаживаться. С детьми, няней и багажом это было слишком сложно. Родители предпочитали прямой путь, а это значило ехать на лошадях.
Мы выезжали около половины десятого утра на четырех наших лошадях (Мариевка, Быковка, Приют и Меловой), запряженных цугом, и доезжали до Гжатска через два с половиной часа, отсюда мы ехали на наемных лошадях, которые уже ждали нас, и проезжали еще 25 верст до Самойлова, красивого голицынского имения. Там останавливались на два часа, чтобы лошади отдохнули перед следующими тридцатью верстами до Николиной пустыни, маленького местечка с церковью. Там уже ждали нас бабушкины лошади, запряженные тройкой с колокольчиками, и мы проезжали последние 25 верст до Степановского и попадали туда к обеду.
Если мы сначала приезжали в Степановское, то возвращались в Рязань из Ворганова поездом. Мы часами стояли в конце коридора, следя за пробегавшими мимо пейзажами. Они никогда не были монотонными: поля, деревни, леса, река и вдали церковь, потом опять поля, извивающаяся дорога, счастливые дети на склоне, машущие руками, стадо овец и копны сена. Потом поезд ехал вдоль темного леса, и мы могли заметить гриб или два и воскликнуть: «Какая жалость, что нельзя сорвать их!» Потом опять речушка или мост. Гром идущего навстречу поезда отвлекал наше внимание на некоторое время, потом снова деревья, поля и дали. Мы никогда не уставали смотреть в окно.
На большой станции иногда можно было минут на пятнадцать выйти из поезда. Там в зале ожидания первого класса нас ожидал вкусный борщ. Такого вкусного борща никогда не бывало дома. Времени в нашем распоряжении было мало, а борщ был очень горячим. Такая жалость, что мы вынуждены были оставлять его при первом звонке! После происходил сумасшедший бег к поезду.
Жизнь в Степановском была почти такая же, как в Ворганове. Различие состояло в том, что в Степановском мы встречались с соседями, чьи имения были расположены поблизости.
На следующее после прибытия утро мы бегали навещать любимые места в доме (большевики называли его дворцом) и в саду. Кот вытаскивал свой «Пенни Фарзинг»[13] (я называла его «смешной велосипед»), который всегда хранился в одном и том же месте — в желтой комнате. Она была очень светлой, с желтой обивкой мебели и выходила на солнечную сторону, но мне она казалась зловещей. Ничто не могло меня заставить пойти туда с наступлением темноты, даже когда я стала значительно старше. Была история с привидениями, связанная с этой комнатой, но я услышала о ней много позже.
Теперь я уверена, что мои страхи были вызваны портретом турка с очень неприятным лицом. С циничным выражением он смотрел на вас из золотой рамы, слегка улыбаясь, что мне было крайне неприятно. Я думаю, что Коту было тоже не по себе. Мы обсуждали это неоднократно, находясь в желтой комнате. Там, кроме турка, было много интересного: стояли спортивные брусья, на которых любил раскачиваться Кот, и еще один старомодный велосипед.
Рядом с желтой комнатой располагалась бильярдная, а параллельно с ней красная комната. Эта комната, несмотря на красный цвет, давала совершенно другое ощущение — ощущение странного покоя. Она не использовалась уже много лет, но ничего зловещего в ней не было. В доме был большой круглый зал с круглым диваном в центре и вазой на подставке прямо над ним. Стены были расписаны видами другого имения, которое принадлежало брату моей бабушки Федору Куракину[14], и мы, приходя туда, воображали, что навещаем его. Пройдя через другой зал с двумя лестницами, ведшими на второй этаж в апартаменты тети Саши и дяди Александра Козен, мы попадали в портретную галерею. Все портреты были одного размера, близко сдвинуты и шли двумя рядами, почти достигая потолка. Бабушка знала всех изображенных на портретах и объясняла нам, детям, кто есть кто по отношению к ней.
Вторая галерея производила на меня впечатление портретом в полный рост моей прабабушки, которая была изображена сидящей на лошади и готовой для охоты. Между двумя галереями размещался круглый зал с высоким куполообразным потолком. В этой комнате я любила рассматривать замечательных фарфоровых птиц, расставленных на большом столе. Там были также два стеклянных шкафа с красивыми фарфоровыми сервизами. Посредине стоял большой диван, который мы использовали для игры в поезд из-за его забавной формы. Дальше находилась та часть дома, которую моя мама любила больше всего — комнаты, в которых она жила в детстве. Комнаты, отданные нам, располагались рядом, и нам говорили, что в одной из них во время своего визита несколькими годами раньше останавливался очень известный святой человек, Иоанн Кронштадтский[15].
Иногда мы ездили в Санкт-Петербург и останавливались на бабушкиной квартире, расположенной на первом этаже дома на Спасской улице, где я родилась. Бабушка тогда еще не переехала в Зимний дворец. Тетя Саша жила в том же доме на втором этаже. Рядом находился очень большой дом, принадлежавший моему дяде Николаю Татищеву[16]. Находясь в Петербурге, родители вели светскую жизнь, так как у моей матери там было много знакомых. Очень живо помню один эпизод, когда мне было четыре года. Обед подходил к концу, и бабушка сказала очень серьезно нам, детям:
— У меня сегодня к вечернему чаю будет особенный гость, и я хочу представить вас ему. Это Митрополит Антоний[17] С.-Петербургский. Пожалуйста, будьте готовы, когда я пошлю за вами Степана.
Я была еще очень маленькой и не поняла всей важности предстоящего. Было обычным, что бабушка посылала за нами, чтобы представить своим гостям. Однако, после того как бабушка вышла из столовой, Кот и Ика казались озабоченными, и между ними возник спор. Заметив, что я осталась равнодушной к этой новости и предприняла попытки перекувырнуться на большой оттоманке, Кот подошел ко мне, остановил и заставил выслушать его. Он пытался объяснить мне значение того, что сказала бабушка, и прочел мне длинное наставление о том, как я должна вести себя, когда этот необычный посетитель будет здесь, и в особенности, как важно поцеловать его руку.
Как обычно, мы пошли на прогулку, потом выпили молоко в столовой, после чего спокойно играли в детской. Однако чувство тревоги не покидало нас. Когда прозвонил звонок у входной двери, мы поняли, что гость прибыл. Прошло некоторое время, пока они пили чай в гостиной, но вот послышались шаги Степана и стук в нашу дверь. Мы были готовы и молча пошли гуськом: впереди Ика, потом Кот и замыкала шествие я. Мы прошли через большую гостиную и вошли в будуар бабушки. Взрослые сидели на другом конце комнаты: в середине гость, слева от него бабушка. Ика подошла к нему, потом Кот. Теперь была моя очередь. Я оцепенела. Все мое внимание было сконцентрировано на том, чтобы как-нибудь схватить его руку, поцеловать и ретироваться как можно скорее. Но как раз в тот момент, когда я была готова взять его руку, он поднял ее для благословения. В панике я стояла, пригвожденная к месту, не зная, что делать. Но в следующий момент я была поднята сильной рукой и оказалась на коленях у Митрополита. Его доброе лицо было сплошной улыбкой. Он наклонился и одной рукой погладил меня по волосам, поддерживая другой.
— Чья ты дочь? — спросил он меня.
Совершенно смущенная всем происходящим, я ответила:
— Папина.
Я быстро взглянула на бабушку, не сердится ли она. Я понимала, что все еще не сделала того, чего от меня ожидали, и с облегчением увидела, что она улыбается и смотрит на меня ободряюще, объясняя, кем я была. Ика и Кот смирно стояли рядом. Я почувствовала себя успокоенной и очарованной. Я была счастлива. Митрополит был одним из тех людей, чья жизнь свидетельствует о божественном происхождении Иисуса Христа, людей, несущих свет небесный и тепло и пробуждающих духовное начало в тех, с кем они соприкасаются.
Вскоре большое горе постигло меня. Родители решили, что детям пора начать учить английский язык. Поэтому наша дорогая и любимая няня должна была оставить нас, и ее заменила английская нянька — гувернантка. Очень долго я не могла привыкнуть к ней. Ее привычки и методы воспитания и язык — все было ново. Я ненавидела все, что она делала, включая мытье холодной водой. Бедная мисс Рисс! Я думаю, что она много претерпела от меня. Я плакала и плакала, до и после расставания с няней, даже Кот и Ика жалели меня, старались меня успокоить.
Постепенно я привыкла к методам мисс Рисс, и она даже начала мне нравиться. Постоянное общение с ней дало мне знание элементарного английского языка. Мой русский тоже не был совершенен тогда. Например, я просто не могла произнести букву Л, что делало меня предметом постоянных насмешек. По мере того как я становилась старше, мисс Рисс стала брать меня после обеда на прогулки с другими детьми, вместо того чтобы укладывать в постель. Однажды в саду, расположенном террасами, она обнаружила много одичавшего ревеня. Его считали сорняком. Мисс Рисс попросила разрешения нарвать ревеня и сварила изумительный джем с лимонным вкусом, который я помню до сих пор. Много лет спустя, в Англии, я попробовала сварить такой же, но получилось не очень удачно.
Мисс Рисс не оставалась у нас очень долго, и вскоре появилась другая англичанка — некая мисс Эмили Гринвуд. Она была немолодой, седовласой и очень милой. Мы сразу понравились друг другу, и я определенно стала ее любимицей. Она даже говорила моей матери, что я так мила, что могла бы сойти за английскую девочку!
Глава вторая Отрочество
В 1907 году мой отец был назначен губернатором в Ломжу, теперь это Польша. Как оказалось, место было неинтересным. Это был город, в котором стояла военная часть, с губернаторским домом на большой прямоугольной площади вблизи от собора. Мы, однако, были принуждены жить в доме вице-губернатора, поскольку тот за несколько лет перед нашим приездом обменялся квартирами с губернатором. Жена предшественника отца была нервной дамой и не любила погребальных процессий, проходивших под ее окнами по пути в собор. Наш дом стоял в довольно тихом месте. Перед домом было огороженное пространство, куда нам, детям, дозволялось ходить и играть, пользуясь нашим собственным ключом. Там была беседка, но этой площадке для игр далеко было до нашего сада в Рязани. Военной частью командовал генерал по фамилии де Вилле. И только с его семьей у нас установились отношения. Дочь де Вилле — Ольга — была по возрасту как раз между Икой и Котом, а ее брат Федя был моим ровесником. Однажды, когда родителей не было дома, мы играли в прятки. Федя и я спрятались вместе в будуаре за огромным креслом и оставались там довольно долгое время. Остальные не могли нас найти. Мы слышали, как они спорили в маленькой столовой, какую начать дальше игру, что значило — искать они нас больше не будут.
Я предложила:
— Давай снова присоединимся к ним, мы уже устали прятаться так долго.
Федя согласился, и мы решили выходить, но, прежде чем я успела вылезти, Федя поцеловал меня в щеку, я была смущена, но счастлива. Этот поцелуй казался мне чем-то особенным, и я никогда никому о нем не рассказывала. В то время нам обоим было по восемь лет.
Единственный раз бабушка Татищева навестила нас в Ломже после смерти тети Софьи. Нам, детям, не сказали тогда, что произошло. Позже я узнала, что тетя София была застрелена бандой неуправляемых юнцов. Вскоре после беспорядков первой революции тетя София возвратилась в материнское поместье в Пензенском уезде, потому что моя прабабушка была нездорова. Однажды вечером две немолодые дамы сидели в гостиной, тетя София читала вслух, а ее мама вышивала. Ставни были еще открыты, а лампы зажжены, так что их было прекрасно видно снаружи. Пьяные юнцы вошли на территорию поместья, выкрикивая непристойные песни и увидев двух женщин, по глупости решили напугать их. У одного было ружье, он выстрелил, окно разбилось, а тетя София была ранена и вскоре умерла.
Примерно в это время мисс Гринвуд оставила нас. Я была очень расстроена, она мне много рассказывала об Англии, и мне казалось, что это что-то вроде сказочной страны. Я любила английские книги, особенно произведения Кейт Гринвей. Кроме того, каждый месяц я получала «Tiny Tots», а Ика и Кот — «Little Folks».
Мы остались без гувернантки, а мама не желала ехать в это время года в Санкт-Петербург, чтобы найти новую, и попросила свою старую гувернантку и друга — Марию Федоровну — на некоторое время вернуться. Это смягчило удар расставанья с мисс Гринвуд, потому что я очень много слышала от матери о Марии Федоровне. К тому времени мне было почти девять, я очень любила писать рассказы, которые Мария Федоровна иллюстрировала. Для нее это было возвратом в юные годы, когда под ее опекой была другая маленькая девочка — моя мама. Мне дали понять, что Мария Федоровна старый и не очень сильный человек и не может принимать участия в подвижных играх. И я вела себя в ее присутствии более спокойно. Она любила тихо сидеть со своим рукоделием, обычно вязаньем. Я находилась недалеко от нее. Играла в свою любимую игру, воображая, что весь большой дом мой. Если уставала от этого, доставала из маленькой сумочки карандаши и книжку с картинками для раскрашивания.
По-прежнему летом мы навещали имения наших бабушек. В Степановском бабушка часто брала нас проехаться за двенадцать верст в монастырь, который она построила на свои средства. Причиной этому послужил случай, произошедший много лет назад. Ее отец, князь Алексей Борисович Куракин[18], много времени провел за границей. Когда он решил, что пора возвратиться и зажить спокойной жизнью, то выбрал Степановское. Но полагаю, что веселая жизнь в Париже больше соответствовала его вкусам. Кроме того, он утратил взаимопонимание с простыми людьми, крестьянами.
Однажды собралась большая толпа, и он вынужден был выйти к ней. Люди смиренно упали перед ним на колени и просили выполнить их необычную просьбу. Они пришли из деревни за 12 верст от Степановского и умоляли построить им церковь. У них не было своей, не было церкви и по соседству. Существовала лишь небольшая деревянная часовня. Причиной, побудившей их обратиться с просьбой, была найденная в ручье, вблизи деревни икона Божией Матери. Крестьяне сочли это чудом и торжественно принесли икону в ближайшую церковь, но до нее было очень далеко. Будь у них своя церковь, икона могла бы остаться в их деревне, которую, как они считали, Богоматерь сама выбрала местом пребывания.
Мой прадед, услышав все это, вместо того чтобы растрогаться смиренной просьбой крестьян, внезапно рассердился. Он сказал, что нет никакой необходимости строить церковь. Часовни, которая у них есть, вполне достаточно, чтобы хранить икону. Он велел им забрать свою икону, отнести ее в свою часовню и закончить все это бессмысленное идолопоклонничество. Бедные крестьяне возвратились разочарованные и грустные, а святая икона была водворена обратно в маленькую деревянную часовню. Они бы предпочли оставить ее в церкви, но были вынуждены подчиниться приказу господина.
Вскоре после этого мой прадед серьезно заболел: его парализовало. Он сильно мучился физически и морально.
Однажды один из его слуг, бывший ближе к нему, чем остальные, сказал:
— Ваше сиятельство, могу я смиренно дать вам совет? Бог милостив и может поправить ваше здоровье. Все мы в Его власти. Исполните просьбу своих невежественных и необразованных подданных. Они все еще плачут, что икона находится в маленькой часовне. Позвольте возвратить ее в церковь. Осчастливьте их. По крайней мере, до тех пор, пока они не будут в состоянии построить свою собственную церковь, будет возможно служить молебны перед ней по воскресеньям и в праздничные дни. В часовню священники редко приезжают, и службы там редки.
Мой прадед, выслушав это, послал весточку крестьянам, сказав, что они могут поступать, как хотят. В сопровождении большой процессии икона была перенесена в церковь. Прадеду стало немного лучше. Он не поправился совсем, но смог иногда садиться. Физические и духовные тиски ослабли.
Моя бабушка никому не рассказывала об этом. Как она могла? Ведь это был ее отец. Она любила его, и все что она могла сделать — это молиться о спасении его души. А когда имение перешло в ее собственность, она построила красивую церковь рядом с деревней. Святую икону поместили туда, позже был также построен монастырь. Была назначена игуменья, появились другие монахини. Потом построили школу и приют для детей. Бабушка всегда любила посещать его, когда бывала в Степановском.
Когда мы приезжали в Елизаветинский скит, первое, что мы делали, шли к святому источнику. Он был обложен камнем, а рядом стояли тяжелые железные чашки для черпания святой воды. Вода была ледяная с заметным вкусом железа. Мы осеняли себя крестом, прежде чем выпить воду, потом появлялся местный священник, отец Дмитрий, и вел нас в церковь поклониться иконе.
Кот показывал мне другую икону — очень большую, расположенную высоко рядом с алтарем. Я была сильно близорука и не могла видеть детали. Кот объяснял, что на ней изображены все наши святые (он имел в виду святых, имена которых носили члены нашей семьи). Я обычно спрашивала:
— Святая Ирина там есть? А он отвечал:
— Да, конечно, глупенькая, все изображены.
И показывал на святых Николая, Елизавету, Ирину, Веру (это было имя моей матери), Дмитрия (мой отец), Наталию, Кирилла, Петра, Александра и так далее — все были изображены на одной иконе. Потом нас угощали чаем и показывали все вокруг.
В другой день мы могли поехать в гости в какое-нибудь из соседних поместий. Одним из них была усадьба князя Мещерского, чей дом стоял в центре деревни, и это было необычно. Князь жил там вместе со своими тремя детьми, которые были много старше меня. Жена оставила его. Сестра князя, вдова, тоже жила там вместе со своей близкой подругой, княжной Палавандовой. Сестра князя Мещерского была замужем за дальним родственником поэта Пушкина. Я просто не могу забыть этих двоих — князя Мещерского и его сестру Елену Борисовну Гончарову[19]. Это были святые люди, и их душевная красота была видна во всем, что они говорили или делали. Глядя на них, можно было представить себе, что вся жизнь их была молитвой.
Я была тогда глупенькой маленькой девочкой, а мой кузен Петр был немного меня моложе. Мы играли, бегали, создавая беспорядок там, где появлялись, но когда звучал колокол, призывая нас к вечерней службе, мы должны были бросать наши игры и быть готовыми идти в церковь. Там мы праздно стояли, наблюдая за всем, что происходит вокруг. У нас было специальное место, отделенное решеткой от центральной части церкви, где стояли крестьяне из соседних деревень. Мне нравилось наблюдать из нашего отгороженного места за тем, как они молятся. Они никогда не становились на колени, а стояли прямо и время от времени простирались ниц. Как бы ни были они стары или малы, никогда не присаживались, как это делали мы. Во время службы они были глубоко погружены в себя.
Однажды во второй половине дня, когда мы с Марией Федоровной решали, чем мы займемся дальше, мама позвала нас из окна и сообщила о только что полученном письме от папы, в котором он сообщал, что мы больше не вернемся в Ломжу, а будем теперь жить в Ярославле.
Это много значило для карьеры отца, но я в то время в этом ничего не понимала. Я видела, что мама рада и Мария Федоровна тоже, и этого для меня было достаточно. Я даже ясно не представляла, где находится Ярославль, не говоря уж о его значении.
Мы пробыли обычное время в Степановском и после этого поездом поехали в Ворганово. За это время папа утвердился в своем новом положении. Он присоединился к нам и выглядел очень счастливым. Папа рассказал, какой чудесный город Ярославль и что губернаторский дом там похож на дворец. Он очень большой и смотрит прямо на Волгу. Папа сказал, что там хороший большой сад, в котором я смогу играть и бегать, и добавил:
— Но главное, у тебя там будут подруги — милые маленькие девочки.
Оказалось, что кузен мамы, князь Куракин[20], бывший губернским предводителем дворянства в Ярославле, жил там со своей женой и шестью детьми, из которых четверо — девочки немного моложе меня.
Мы поехали туда в конце сентября 1909 года. Папа встретил нас и показал дом. Первое, что поразило меня, — огромный зал. Чтобы осветить его, надо было повернуть двенадцать выключателей наверху, на хорах. При этом зажигались триста ламп. В одном конце зала висел портрет Его величества Императора Николая II в натуральную величину и такой же большой портрет его отца. Оба они были окружены цветами. С одной стороны зала была комната, называемая царской гостиной. Там мои родители принимали архиепископа, когда он бывал с официальным визитом в Царские Дни, например 6 декабря и 6 мая.
На Пасху и Рождество была очередь моих родителей отдавать ему визит в Спасский монастырь, где он жил.
Папин кабинет занимал угловую комнату. Часть окон в нем смотрела на Волгу, другая — в сад. Рядом с кабинетом находилась комната для совещаний с длинным столом, покрытым красной скатертью. Дальше — приемная, в которой ожидали просители. На главной лестнице в праздничные дни, на Пасху и Рождество, стелился особый ковер, лучше, чем в обычные дни. Перед домом днем и ночью стоял часовой. В первые дни мне казалось трудным ориентироваться в доме, но Кот очень быстро всё изучил, и я следовала за ним повсюду. Гувернантки, которая следила бы за мной, все еще не было.
В Ярославле я часто сидела в кабинете отца, наблюдая, как он подписывает бумаги, которые в большом количестве приносил ему курьер. С папиросой во рту, он опускал перо в большую чернильницу, быстро взглядывал на бумагу, лежащую перед ним, и подписывал свою фамилию. Так и шло: одна бумага задругой. Я сидела очень тихо напротив него, не смея что-нибудь тронуть, как я имела обыкновение делать у дедушки. Я только наблюдала и, тихонько сидя, изучала предметы на письменном столе. Мне очень нравились крошечная маленькая мышка, сделанная из какого-то металла, и маленький красный чертенок верхом на свинье. Как удивительно, что после всего того, что произошло с нами потом, эти две маленькие фигурки до сих пор со мной.
Ярославль — это очень красивый город, расположенный на правом берегу Волги, в том месте ее течения, где она наиболее хороша. Имя города происходит от Ярослава Мудрого — его основателя. Очень интересны его древние церкви. В некоторых, построенных несколько столетий назад, сохранились прекрасные фрески.
У нас все еще не было гувернантки, но мои родители уже договорились с одной, и ее приезд был вопросом нескольких дней. На сей раз это была француженка. Настало время учить французский язык. Ике было пятнадцать, и она его уже немного знала. Коту было тринадцать, мне — девять. Кузены Куракины еще не вернулись с летних каникул. Так же, как и у нас, у них было два имения их бабушек, в которых они жили летом.
Однажды поздним утром меня позвали в сад для знакомства с тремя старшими девочками Куракиными. Все три были одинаково одеты в серые пальто — старшая Элли[21], вторая Ирина[22] и третья Вета[23]. Мы с интересом посмотрели друг на друга, но много не разговаривали при первой встрече. Позже мы стали подругами и делились всеми секретами и огорчениями.
Их дом тоже стоял на набережной Волги. Каждое воскресенье я проводила с ними, и каждый день мы вместе отправлялись на прогулку. Обычно они приходили со своей гувернанткой и забирали меня после обеда. Когда наступила зима, в нашем саду построили деревянную горку. Пришли мужики с длинными шлангами и залили горку и дорожки вокруг фонтана. Когда лед затвердел, наш маленький каток был готов. Каждый день после обеда мы надевали коньки. Девочки Куракины уже были там со своими санками, которые они втаскивали по боковым ступенькам на вершину горки, а потом съезжали вниз с радостными криками и мчались дальше, прямо по средней дорожке до фонтана, замерзшего и покрытого снегом, поворачивали направо по узенькой дорожке, пока санки не останавливались. Иногда мы садились по трое или четверо на одни санки. Тяжело нагруженные, они проезжали дальше.
Вскоре после Рождества родители уехали в С.-Петербург, а мы остались на попечении французской гувернантки мадемуазель Рейнольд. Однажды утром Ика проснулась, чувствуя себя не очень хорошо, но провела на ногах весь день. На другое утро, когда ей не стало лучше, был вызван наш доктор. Температура у нее поднялась выше 100 градусов по Фаренгейту, и доктор был обеспокоен. Были призваны еще два доктора, и, осмотрев Ику, они вызвали Кота в классную комнату и объяснили ему, что Ика серьезно больна, они подозревают оспу, и немедленно надо послать телеграмму родителям, вызвав их из С.-Петербурга. Мадемуазель Рейнольд была на грани помешательства. Всем нам сделали прививки. Надежды на то, что это поможет, по правде говоря, не было, особенно для меня, делившей с сестрой комнату.
Были призваны сиделки, и к тому времени, как вернулись родители, все шло заведенным порядком. Одну ночь мы вместе с мадемуазель Рейнольд провели внизу в большой столовой за ширмами. Потом наши постели опять были перенесены наверх, и мы обосновались в комнатах для гостей. Кота перевели в маленький кабинет отца, расположенный внизу, рядом с оранжереей. Из Ворганова приехала тетя Тун, которую Ика особенно любила. В местной газете «Голос» появилась короткая заметка: «Страшная эпидемия не пощадила старшую дочь губернатора. В настоящий момент она лежит, больная оспой».
Весь февраль 1910 года мы с мадемуазель Рейнольд жили в комнатах для гостей. Там проходили мои уроки французского языка, и там же я проводила практически все свое время, спускаясь вниз только для музыкальных уроков и еще поиграть в мяч в зале. Слуги, имевшие дело с Икой, были изолированы от остальных. С Тун мы тоже не могли видеться.
В начале марта, когда я играла в зале, ко мне подошел наш управляющий с двумя воздушными шарами водной руке, в другой руке у него была игрушка, которую он назвал «американским жителем». В стеклянной трубке, наполненной розовой жидкостью, плавала маленькая фигурка, похожая на чертенка. Если нажать на резиновую кнопку, он всплывал кверху, а потом медленно опускался вниз. Управляющий вручил ее мне со словами:
— Это вам, чтобы играть. Я только что принес это с ярмарки, которая открылась сегодня, она бывает каждый год в это время, на нее интересно посмотреть.
Я не знала, как отнесутся родители к тому, что я принимаю подарки от нашего управляющего. Я поблагодарила его за доброту и решила показать игрушки папе. В тот же день за обедом папа открыл кошелек, и большой сияющий рубль покатился ко мне. Кот и Ика, которая к тому времени уже поправилась, получили то же. Папа сказал нам:
— Можете пойти на ярмарку и купить там, что вам понравится.
Мы обрадовались. Ярмарка располагалась на Ильинской площади, очень близко к нашему саду. На одной стороне площади на три недели, с 5 марта до Благовещения, возводили деревянные балаганы и строили деревянные тротуары. Дети, взрослые, стар и млад — все спешили на ярмарку. Играла музыка, и все выглядели счастливыми на сияющем солнце. Красочные ларьки были заполнены прекрасными вещами: игрушками, разнообразными материями, старинными вещами, украшениями, книгами и сладостями.
Лавки с игрушками были для меня самыми интересными. В одном ларьке каждая игрушка стоила 5 копеек, в соседнем — 10 копеек и так далее. Там были куклы, маленькие чайные сервизы, кухонные наборы, голыши в ванне, разнообразные свистки, мячи, трещотки, маленькие утюги, наборы для прачечной — все это сделано из дерева. И конечно, несметное количество воздушных шаров и мальчишки, предлагающие «американских жителей». Игрушки были такие яркие, так соблазнительно расставлены, что просто нельзя было удержаться и что-нибудь не купить. Мы ходили, любовались и кое-что покупали.
Иногда нас приглашали принять участие в чем-то вроде беспроигрышной лотереи. Когда я проходила мимо какого-то пожилого человека, он сказал мне:
— Насладитесь путешествием в Иерусалим!
Я не поняла, что это значит, но Кот подтолкнул меня к нему. Человек закрыл меня черным покрывалом и усадил перед большой панорамой. Совершенно отрезанная от мира, я рассматривала виды Иерусалима.
Домой мы явились нагруженные изумительными вещами и не раз еще ходили на ярмарку.
Весна наступала быстро. Наш каток таял. Вскоре разобрали деревянную горку и стали убирать сад к лету. Я любила ходить в наши оранжереи с Элли, моей близкой подругой. Оранжерей было две. В одной было очень жарко, и в морозный зимний день мы любили там погреться и полюбоваться замечательными растениями, которыми была полна оранжерея. Другая была более прохладная, в ней растения были выносливее. Рядом с оранжереями был маленький домик в три комнаты, больше похожий на хижину. Мы любили играть в нем. Это был не настоящий дом, хоть и выглядел как настоящий. Он был построен одним из прежних губернаторов и служил помещением для цыплят. Позже, когда кто-то подарил мне пару серебристо-голубых кроликов, они жили в этом домике.
Одним из самых значительных событий весны было начало ледохода на Волге. В течение нескольких месяцев величественная река была скована толстым слоем льда. Люди ходили по нему на лыжах, проезжие дороги пересекали реку в нескольких местах, огромное ровное пространство было покрыто сверкающим белым снегом. Но постепенно, с началом солнечной теплой погоды лед терял свою прочность. Процесс таяния был очень медленным, но к середине марта вывешивались предупреждения о том, что тяжелые грузы перевозить через Волгу опасно.
К концу марта — началу апреля небольшие группы людей собирались на набережной, ожидая первого движения льда. Река уже не была ослепительно белой, снег выглядел сероватым и слежавшимся, везде были лужи, набережную же старались держать чистой и сухой.
Вдруг кто-то кричал: «Лед тронулся!» Это был замечательный момент. Люди спешили на набережную. Вот когда по-настоящему наступала весна! Еще несколько дней мы видели из наших окон огромные льдины, медленно проплывающие мимо. Дни проходили, и полыньи между льдинами становились все шире, и мы знали: долгое царство зимы окончено.
Новая трава, которая так очаровывала меня в Рязани, в нашем саду в Ярославле перемежалась изящными тонкими желтыми цветочками. Потом зацветала черемуха. Мы рвали благоухающие ветки и приносили домой. Потом шел черед сирени. Сирень была темная и светлая, простая и махровая и чудная белая, которую моя мама особенно любила. Китайская сирень с особым ароматом, сирень самых разных сортов и видов была разбросана по всем уголкам нашего прекрасного сада. Если Пасха была поздней, сезон сирени приходился на этот наш самый большой праздник и увеличивал его красоту.
Когда мне исполнилось одиннадцать, начались регулярные учебные занятия. Мой учитель сосредоточился на тех предметах, которые мне легче давались, и я сделала некоторые успехи. Я была рада показать брату и сестре, отличавшимся в учебе и считавшим меня довольно глупой, что я не так уж плоха в конце концов.
С наступлением 1913 года обсуждалось важное событие — трехсотлетие Дома Романовых. Торжества должны были происходить и в Ярославле. Это вызывало у нас волнение и радость. Ике, которой было уже 18, предстояло принимать в них участие. Мой отец был очень занят. Он должен был очень много всего организовать, устроить, обсудить и проследить за тем, чтобы всё в его огромной губернии было в порядке. Царственные гости должны были, помимо Ярославля, посетить и Ростов, очень древний город, известный своими прекрасными церквями и колокольным звоном.
Приближалось 21 мая. На Ильинской площади репетировал оркестр, по временам мы слышали звуки гимна и мелодии старинных русских песен. Везде, и особенно по пути следования Государя, всё выглядело сияющим и безукоризненно чистым. Люди радовались перспективе увидеть Царя, в воздухе чувствовался праздник. Наконец великий день настал. Мама была очень красиво одета, с множеством драгоценностей, включая фрейлинский бриллиантовый шифр. У нее был букет орхидей, доставленный накануне из Ниццы. Она должна была преподнести его Императрице, очень любившей эти цветы. Тетя София Куракина[24] преподносила букет старшей Великой княжне — Ольге Николаевне[25], а другие дамы соответственно своему рангу преподносили букеты трем младшим Великим княжнам — Татьяне, Марии и Анастасии.
Императорская Семья прибывала на пароходе, и встреча происходила на пристани. Я должна была вместе с гувернанткой стоять в толпе. Мы с трудом пробрались через огромное скопление народа, собравшегося с раннего утра. С помощью полиции нам удалось занять прекрасное место совсем близко к фотографам. Я была в таком возбуждении, что едва замечала, что происходит кругом. Всё, что я помню — отдельные громкие возгласы и ликующий рев толпы при появлении небольшого судна с именитыми гостями.
Потом играли гимн, и мне казалось, что сердце у меня перестало биться. Я чувствовала, что все едины в молитве, любви и воодушевлении. Мы пришли, чтобы встретить нашего Отца, Отца, данного нам Богом, чтобы Он взял под Свое покровительство двести миллионов своих сыновней и дочерей.
Пароход «Межень» подошел к пристани. Все замерли в ожидании. И вот Царь Николай, Император всея Руси, правитель одной шестой части света, в сопровождении Ее Императорского Величества и пяти Их Детей проследовал с корабля по трапу, покрытому ковром, на пристань.
Даже теперь, когда я пишу эти строки, мое сердце учащенно бьется и мне кажется, что я все еще стою там, в толпе, глядя, молясь и любя. Такие моменты незабываемы.
Маленький Наследник был одет в матросский костюм, четыре Великие княжны — в прелестные белые платья. Они рассмеялись, когда большой осетр, находившийся в огромном резервуаре, прыгнул и слегка обрызгал их. Я увидела, как моя мама подходит к Царственной Чете и, сделав низкий реверанс, преподносит букет. Ика сделала то же самое.
Потом почетных гостей усадили в экипажи. В первом сидели Император с Императрицей, а напротив маленький Великий князь и Великая княжна Ольга. За ними в следующей карете я увидела свою бабушку, сидевшую рядом с Великой княжной Татьяной[26], а напротив них — две младшие Великие княжны. Экипаж моего отца следовал впереди, и он ехал стоя, повернувшись лицом к своим Царственным Гостям. Это было не так легко: мощеные улицы Ярославля были далеко не гладкими. Он практиковался перед этим несколько дней, держась левой рукой и салютуя правой. Все это было похоже на сияющий сон. Приветственный гул толпы, звуки гимна, всеобщая радость. Наши сердца вознеслись в благодарности к Богу за дарование нам нашего Царя, бывшего таким простым и скромным и таким прекрасным. Я вернулась домой в экстазе.
Вечером был бал, устроенный в огромном сиротском доме, основанном Екатериной Великой. Императорская Семья провела ночь на своем судне. На следующее утро все Царственные Гости и Их Свита вместе с моими родителями и Икой отправились в Ростов. В какой-то момент Государь подошел к ним и. обратившись к Ике, спросил, не утомил ли ее вчерашний день.
Ика молчала, но мама, стоявшая совсем рядом, быстро спасла положение и ответила за нее. Когда потом родители спрашивали Ику, почему она не ответила Государю, она сказала:
— Как я могла предположить, что он обращается ко мне? Я думала, он спрашивает кого-нибудь другого.
Я очень хорошо могу себе представить ее ошеломление. Я тоже была в таком состоянии, хотя всего лишь наблюдала издали. Нам всем понадобилось несколько дней, чтобы прийти в обычное состояние и вернуться к обычной жизни. Однако как раз в это время Ярославль посетили другие высокие гости. Это были Великая княгиня Мария Павловна и Великая княгиня Мария Александровна со своим мужем, герцогом Эдинбургским, вторым сыном королевы Виктории[27]. Этих царственных гостей принимали в нашем доме.
У нас на веранде или в зимнем саду во всю длину был поставлен огромный стол, а может быть много больших столов, составленных вместе. Ожидалось более трехсот гостей. Нашим трем лакеям помогали официанты из местной гостиницы. Я сбежала вниз, чтобы посмотреть на приготовления примерно за два часа до прибытия гостей. Все было уже готово для банкета. Центр длинного стола был декорирован фруктами, ананасами, бананами, и каждый гость должен был найти у своей тарелки маленький букетик цветов. Серебро сверкало на белоснежной скатерти. Мне все очень понравилось. В этот день у меня появился товарищ для игр Ника, с которым я должна была провести все время, пока его родители были среди гостей. Нам было позволено наблюдать с хоров, как Великая княгиня и герцог войдут в холл и проследуют в зимний сад. На балконе, сразу за верандой был расположен оркестр. Ника был очень милым мальчиком, слегка моложе меня. Я была знакома с ним раньше, мы бывали в их усадьбе. Мадемуазель Жендр оставила нас одних, и мы могли бегать, где захотим. Больше всего нас привлекал сад, там на балконе оркестр играл знакомые мелодии. Все было так весело и приветливо; мы никак не могли себе представить, что меньше чем через четыре года всему этому блеску, красоте и радости придет конец.
Мы провели лето 1914 года в Степановском, так как бабушка была свободна и могла приехать в свое имение. Теперь она была назначена статс-дамой (Grande Maitresse de La Cour Imperiale) и жила в основном в Царском Селе в Александровском дворце, а в Санкт-Петербурге — в Зимнем дворце. Ика была назначена фрейлиной и получила красивый бриллиантовый шифр с буквами «М» и «А». «М» — вдовствующая Императрица Мария Федоровна[28] и «А» — Императрица Александра.
Чтобы узнать больше об Императорской Семье, я стала ближе к бабушке. Мне пришлось говорить по-французски, так как это был язык Двора, и бабушкин русский был не очень хорош. Я задавала ей бесчисленные вопросы на мою любимую тему — об Императорской Семье: чем они занимаются, что говорят, которая из Великих княжон самая хорошенькая и тому подобное. На мой тринадцатый день рождения бабушка и тетя Саша дали мне 13 рублей. По совету Кота я истратила их на масляные краски. Он помог мне научиться обращаться с ними, и вскоре у меня стало получаться достаточно хорошо, чтобы быть довольной результатами. Это дало мне новое очень приятное препровождение времени. Я выбирала подходящее место и усаживалась работать на свежем воздухе.
Глава третья Юность
Мы были в Ворганове, когда было объявлено о начале Первой мировой войны. Какой это вызвало патриотизм, какую любовь к Царю! Народ тысячами собирался перед Зимним дворцом, оркестр играл национальный гимн, люди становились на колени, плакали, благословляли любимого Государя. Казалось, что Царь и Его подданные едины.
Я ждала новую гувернантку, на этот раз по моему собственному выбору. Когда я сдавала экзамены, то подружилась с девочкой моих лет. Ее приводила гувернантка — милая молодая девушка, бывшая очень приветливой со своей ученицей и со мной. Она принимала такое живое участие в нас обеих, что я сразу полюбила ее. Возвратившись домой и рассказав матери все, что случилось и как прошли мои экзамены, я упомянула новую подругу и ее гувернантку.
Моя мама посетила маму девочки, и все было устроено. Новая гувернантка должна была присоединиться к нам в Ворганове в конце июня. У Кота был немецкий преподаватель, чтобы подготовить его к экзамену в лицей, куда он должен был поступить осенью.
Мой выбор гувернантки оказался очень удачным. Она была совершенно не похожа на тех, что были у меня раньше. С ней было весело. Евгения Нестеровна сказала, что наши поездки по воскресеньям в церковь очень скучны. Так и было на самом деле. Обычно мы все садились в большое ландо в наших лучших воскресных платьях и шляпках и ехали за пять миль в церковь. Вместо этого она предложила пойти для разнообразия пешком.
Это было немного утомительно, необычно, но все-таки мы это проделали. После службы священник пригласил нас к обеду, чего тоже никогда не случалось. В церкви мы не стояли на нашем обычном месте, вместо этого гувернантка повела нас на хоры, и мы пели, у нее был хороший голос.
Всех этих нововведений бабушка не одобряла. В сущности Евгения Нестеровна не была настоящей гувернанткой, она принадлежала к хорошей фамилии, и она хотела иметь временную работу. Она интересовалась всем, и ее общество было приятно Ике. Мы ездили на прогулки. Она сама брала вожжи, и мы обходились без кучера. Однажды она разрешила мне править.
Я помню, что наша гувернантка имела на всё либеральные взгляды, и было много споров, но они не оставили во мне следа, поскольку я ничего не понимала в политике и не интересовалась ею. Мы все трое были вполне счастливы. В свободное от уроков время мы много вязали. Евгения Нестеровна учила нас вязать носки для раненых.
Война все длилась и длилась, иногда приходили очень печальные известия, иногда новости были лучше. Потери были большими, но и патриотизм был велик. Очень часто по вечерам мы слышали, как у дома множество мужских голосов поет Национальный гимн. Люди приходили, пели и ждали, когда отец выйдет к ним на балкон и поговорит с ними, потом начинались громкие восклицания и опять гимн. Такая демонстрация любви к нашему возлюбленному Царю и стране приводила меня в восторг. Ика, окончив учение, готовилась к выездам в свет. Мама собиралась взять ее в Санкт-Петербург, и они должны были прожить там два месяца. Ее должны были представить Императрице. Мне не нравилось, что мама так надолго покинет меня, и тетя София предложила, чтобы я жила с ними в это время, но папа сказал: «Нет». Он хотел, чтобы я оставалась с ним. Однако светская жизнь Ики не продлилась и двух месяцев. Неожиданно пришло известие, что брат бабушки Федор Куракин умер в Москве, на этом выезды Ики кончились. Мы все были в трауре.
Дядя Федор был очень богат. Мы останавливались в его доме, проезжая через Москву. Кот, который знал всё, объяснил, как он богат.
— Ты знаешь, — сказал он, — его ножи, вилки и ложки сделаны не из серебра, как наши, а из золота.
Чтобы доказать это мне, он однажды провел меня в столовую, когда стол был накрыт к обеду, но слуг не было поблизости. Мы быстро взглянули на «серебро», которое действительно было позолочено. Потом, когда все были за обедом, он предложил мне дальнейшие исследования.
— Ты хочешь знать, — спросил он меня, — что у дяди Феди под кроватью? Это всё из чистого серебра.
Мы прокрались в его комнату, чтобы освидетельствовать это чудо.
Но теперь дядя Федя умер. Он оставил моей матери 250 тысяч рублей. Кот опять взялся объяснять мне:
— Ты понимаешь как это много? Это четверть миллиона, это очень большая сумма денег.
Мне это было не очень интересно, но мне нравилась картина, которая появилась у нас в доме, а прежде так привлекала меня в Степановском, — портрет прабабушки в натуральную величину «Перед охотой». В это же время моя другая бабушка, графиня Татищева решила передать Ворганово отцу. Она собиралась купить небольшую загородную виллу вблизи Москвы и обосноваться там. Так что теперь мы были вполне состоятельны.
Почти всё лето 1915 года мы провели в Ворганове, за исключением двух недель, когда мама взяла меня в Степановское. Мы трое, мама, ее горничная Наталья и я, проделали 105 верст в карете. Это было очень приятно. Тетя Саша и дядя Козен были уже там. Мы вдвоем с тетей Сашей — только я и она — ежедневно ездили в ее любимый лес около Вяльцева. Туда нас привозил ее старый кучер Сергей, мы ненадолго углублялись в лес в поисках грибов или земляники и возвращались к чаю.
В тот год мы вернулись в Ярославль немного раньше, чем обычно. Поезда были полны военными, отправлявшимися на фронт. Была какая-то задержка, и мы провели ночь в Гжатске.
Мне теперь было пятнадцать, и, чтобы продвинуть мое образование, мама пригласила трех профессоров для преподавания истории, литературы и математики. Мне они совсем не понравились, они казались строгими, даже сердитыми и, по-видимому, ожидали, что я лучше буду слушать их лекции, которые казались мне очень скучными. Позже я поняла, что они были раздосадованы необходимостью учить маленькую девочку, бывшую, по их мнению, недоучкой. Моя мама попросила разрешения слушать их лекции и мои ответы, что было еще хуже для меня. Я должна отдать им справедливость, что со своей точки зрения они были правы. Они привыкли иметь дело с более старшими слушателями, и к тому же с целым классом, и вся ситуация была несколько затруднительна. Кроме этого, у меня были другие занятия, а наш священник приходил два раза в неделю давать уроки Закона Божьего.
Потом, в ноябре, случилось нечто весьма важное. По взглядам, которыми перекидывались родители, я поняла, что происходит что-то серьезное. Из отрывочных разговоров мне стало ясно, что они ждут какой-то важной вести из Петрограда (теперь он так назывался). Поскольку мне пора было идти спать, я пожелала всем доброй ночи и пошла наверх. Там, раздеваясь, я слышала, как наш курьер Игорь открывал и закрывал несколько раз дверь большого холла и проходил быстрыми шагами. Я легла, так и не удовлетворив своего любопытства.
На следующий день мы всё узнали. Наш отец продвинулся по службе еще дальше, теперь он стал главой специального корпуса жандармов и прямо из штатского чина превратился в генерал-лейтенанта. Его главной задачей теперь было обеспечение безопасности Государя во время поездок на фронт и с фронта. Это значило, что с этих пор у него будет специальный вагон, который он и его семья могут использовать бесплатно в любое время для поездок в любом направлении. Вагон был роскошно отделан, там были гостиная, кабинет и ванная. Теперь отец имел также автомобиль с шофером и, конечно, прекрасную квартиру в Петрограде.
Итак, наша жизнь в Ярославле подошла к концу после шести с половиной спокойных лет. Это, конечно, волновало, но была и радость при мысли о переезде в одну из величайших столиц мира. Семь лет из моей недолгой жизни значили много, но я была в радостном возбуждении от предвкушения завораживающего неизвестного. Всё было так внезапно и ново. Оба родителя казались очень счастливыми. Мой отец любил Государя и понимал, что тот доверяет ему. Мама любила Петроград, — все друзья и ближайшие родственники были там. Кот, теперь лицеист, тоже жил в Петрограде, и она очень скучала по сыну. Так что все мы были рады. Папа через два дня уезжал к своему новому месту службы и, конечно, сначала должен был увидеться с Государем. Я радовалась тому, что мои докучные уроки стремя профессорами скоро кончатся. Губернатор, который должен был заменить отца, был уже назначен, но ни дата его приезда, ни дата нашего отъезда не были еще определены.
Во время одной из отлучек отца в Петроград мама заболела. Доктор приходил каждый день, а иногда дважды в день. Сиделки дежурили день и ночь у постели матери. Опасность была велика, развилась пневмония. Ике и мне разрешали навещать маму, но очень не долго. Приехала тетя Тун и осталась на некоторое время. В то время бабушка с двумя дочерьми постоянно жила в Москве. Вскоре после того, как уехала Тун, заболела Ика: сначала лихорадка, потом сильный бронхит. Вернувшись из Петрограда, папа застал обеих в постели и решил взять меня в Москву.
Я в первый раз ехала в папином специальном вагоне. Папа всегда отдавал распоряжение прицеплять его самым последним так, чтобы из большого заднего окна салона можно было любоваться красивыми, уходящими вдаль ландшафтами.
У бабушки и теток была небольшая квартира на тихой улице. Я спала в комнате Тун на диване. Они все очень баловали меня, стараясь, чтобы я не скучала по дому. Мама разговаривала со мной по телефону, у меня были друзья, с которыми я была знакома еще раньше, они приглашали нас к обеду, а родственники на вечера. Однако я предпочитала тихие вечера дома, когда можно было сидеть в гостиной, слушая игру тети Нины (она хорошо играла и любила это) и, наблюдая, как бабушка раскладывает пасьянс — ее обычное времяпрепровождение, к которому она относилась очень серьезно. Всегда один и тот же пасьянс снова и снова. Однажды Тун взяла меня в Третьяковскую галерею, в другой раз — в Большой театр, послушать знаменитого Шаляпина.
Когда мама поправилась, я возвратилась домой и в свою очередь заболела. Было такое впечатление, что инфекция атаковала нас одну за другой. Опять в доме появились доктор и сиделки. По ночам у меня была высокая температура с бредом. Он был всегда одним и тем же. Когда меня спрашивали, что же я вижу, я не могла объяснить, но это было что-то такое страшное, огромное и пугающее, что я выскакивала из кровати, выбегала из моей комнаты босиком в ночной рубашке и бежала, бежала, бежала и бежала вдоль длинного коридора так быстро, как могли нести меня ноги, пока не попадала в холл с хорами. Задыхаясь, я останавливалась, и тут меня ловили и вели обратно в кровать. Позже я думала: не было ли это предчувствием надвигающейся революции? Что бы это ни было, это было что-то настолько гигантское и страшное, что я не могла этого постигнуть, и все-таки оно было.
Прошло некоторое время, и я поправилась, но у моей матери, хоть физически она и окрепла, развилась неврастения. Поэтому наш отъезд откладывался, хотя квартира в Петрограде и всё остальное было готово для нас. Прибыл новый губернатор с женой, одной из самых сердечных женщин, которых я когда-либо встречала. Папа не мог больше оставаться с нами, так как новый пост требовал его постоянного присутствия. В конце концов, моя мама решила тронуться в путь в сопровождении доктора и сиделки.
Как часто я потом вспоминала Ярославль с его красивыми церквями, старинными домами, с его набережной над величественной Волгой. Как часто я в мечтах возвращалась в наш красивый дом и сад, где прошло так много счастливых лет моей ранней юности.
Мы приехали в Петроград в начале февраля 1916 года. У нас была прекрасная квартира на Фурштадтской, но ей было далеко до нашего дома в Ярославле. Все наши комнаты были расположены в бельэтаже. Если я стояла в классной комнате, и все двери были раскрыты, я могла видеть мою комнату, потом гостиную Ики, будуар матери, гостиную, потом другую гостиную в стиле Людовика XV, холл, бильярдную и, наконец, кабинет отца. Все эти комнаты выходили на Фурштадтскую. У папы в кабинете было три телефона: один, соединенный только с дворцом, другой обычный, для местных звонков и третий — междугородний. Всего у нас было восемь телефонов. У Кота в его комнате был свой, отдельный, у мамы был в будуаре, которым разрешалось пользоваться и мне. Еще один был в бильярдной, где работал папин секретарь, один — в холле, где находились дежурные жандармы, и один внизу, у портье.
Моя мама очень устала от путешествия и несколько дней лежала в постели. Нас пришла навестить после нашего приезда бабушка, то же сделали и дядя Кира с тетей Татой и кузен Метрик, которого я не видела несколько лет.
Подруга моей матери, у которой была дочь моих лет, решила, что мы должны брать уроки вместе, и, возможно, по ходу дела к нам присоединятся другие девочки. Эта семья жила совсем недалеко от нас, на Сергиевской, и я обычно оставалась там к обеду. Это были очень милые люди. Отец Кати был другом моего отца. В юности они вместе служили в Преображенском полку. Ее мама знала мою с детства, так что все устроилось очень хорошо. Кроме обычных уроков, мы стали учиться рисованию, а каждую субботу по вечерам у нас был танцкласс. Там я встретилась со многими мальчиками и девочками, которые отличались от тех, что я знала в Ярославле. Эта молодежь была более светской оттого, что они жили в большом городе. Они говорили о последних модах, у некоторых девочек были поклонники и тому подобное. Всё это было ново для меня после уединенной жизни в Ярославле. По временам я чувствовала себя очень неуклюжей, и самой большой проблемой для меня были мои платья.
Моя мама никогда не интересовалась нарядами. Она тяготилась этим и уделяла очень мало внимания тому, как она и мы были одеты. Сама она одевалась очень скромно и даже гордилась тем, что много лет носила одну и ту же шубку. Конечно, у нее было всё, что необходимо для выездов и специальных оказий, но дальше этого ее интересы не шли.
Что касается нас, то когда мы были детьми, у нас было, конечно, всё необходимое, но ничего достаточно модного, что бы мне особенно нравилось. Мы никогда не были нарядно одеты. Довольно часто наша одежда выглядела по-настоящему потрепанной. Теперь, когда мы жили в столице, это было еще заметнее. Я не говорю о Коте и Ике. У Кота была его красивая лицейская форма, и он прекрасно выглядел в ней. Что касается Ики, то у нее было всё, что она хотела, поскольку она начала выезжать и была представлена Императрице.
Я одна всё еще оставалась маленькой и незаметной школьницей, которой не было нужно ничего, кроме самых простых платьев. Это и было причиной моих страданий, потому что другие девочки, с которыми я познакомилась и встречалась, были нарядно и мило одеты по последней моде. У меня было обычное синее зимнее пальто без всякого фасона, в то время как другие девочки носили красивые черные шубки из котика.
То же было и с платьями для танцев. Те немногие, которые у меня имелись, часто были перешиты из материнских.
Но наибольшее страдание доставляли мне наши визиты к бабушке. Во время наших поездок к ней в автомобиле с шофером мы сталкивались с величественным швейцаром Зимнего дворца в красной с золотом ливрее и белых гетрах. Он смотрел на меня с высоты своего величия с видом человека, сознающего, насколько он значителен, как будто говоря: «А что тебе нужно во дворце, предназначенном только для очень, очень важных людей, а вовсе не для маленьких невзрачных девочек, одетых так просто».
Я проходила мимо него, краснея и стараясь как можно скорее скрыться из виду. Мы с Икой поднимались вверх по лестнице, покрытой ковром, и встречались с другой величественной персоной, чьей обязанностью было взять наши пальто. Эта процедура была для меня тяжелее всего. Я чувствовала, как он презирал меня, но выхода не было, он помогал мне снять пальто, встряхивал его, прежде чем повесить, и все это время я ощущала себя униженной. После того как он вешал наши пальто, он величественно распахивал перед нами дверь, и опять его взгляд, преисполненный чувства собственного достоинства, давал мне понять, как я мала и незначительна на фоне этого великолепия. Когда мы, наконец, скрывались из виду этих двух нолей, я вздыхала с облегчением.
Мы шли по комнатам, застеленным коврами, сначала через столовую и телефонную комнату, потом через самую большую гостиную, какую я только видела, затем мы попадали в другую, где обычно и находили бабушку, окруженную прекрасными цветами и последними фотографиями Царской Семьи. Она спрашивала, как мамино здоровье, и обещала вскоре навестить нас. Затем мы сидели и беседовали о наших собственных делах. Появлялся дворецкий с чаем, потом мы поднимались. И снова начинались мои мучения, когда мне помогали надеть мое скромное пальто и когда мы выходили из дверей дворца под взглядами величественного швейцара. Приезд в Петроград столкнул меня с новыми сторонами жизни, и она уже никогда не была такой беззаботной, как в Ярославле.
Через некоторое время здоровье мамы поправилось, и она стала выезжать в экипаже, — автомобилей она не любила. Мы ехали вдоль Невского, смотрели на витрины роскошных магазинов, проезжали мимо Летнего сада с маленьким домиком Петра Великого и почти всегда останавливались у подъезда Зимнего дворца. С матерью рядом это было не так страшно, встреча с двумя величественными персонами угнетала меня меньше, и я даже начала получать удовольствие от этих визитов.
Лето 1916 года мы провели в Ворганове. Теперь, когда имение принадлежало отцу, мы переехали в большой дом. Отец был полон энергии и наметил ряд улучшений. Он всегда любил английский стиль жизни в деревне и мечтал, что в будущем к нам будут приезжать гости и оставаться на некоторое время, и планировал разные развлечения и приемы. Начал он с того, что купил небольшой табун ярославских лошадей, высоких и абсолютно диких. У конюхов было много трудностей при их объездке. И даже тогда, когда мы думали, что с ними уже все в порядке, то получали такие сюрпризы, что и сейчас я испытываю некоторый страх, приближаясь к лошади, которую плохо знаю. Ика ездила хорошо и получила красивую вороную лошадь, на которой совершала далекие прогулки в сопровождении жандарма для безопасности. Мне не разрешили ездить. Отец сказал, что я начну учиться, когда мне исполнится восемнадцать.
Мисс Матсон, моя новая английская гувернантка, научила нас играть в хоккей. Отец привез из Петрограда клюшки. У нас гостил наш двоюродный брат Кирилл, так что нас было пятеро. Обычно мисс Матсон, Ика и Кот играли на одной стороне, а я с Кириллом на другой. Кирилл был крепкий молодой человек девятнадцати лет и бегал довольно быстро, а я была голкипером. Кроме того, у нас была площадка с утрамбованной землей, как раз для крикета, и теннисный корт, но он был не очень хорош, несмотря на старания наших работников.
Иногда я брала двух наших собак — немецкую овчарку по кличке Джек и маленького добермана-пинчера Леди — и спускалась к реке. Я отвязывала плот, и мы, с моими двумя собаками, начинали сплавляться вниз по течению. Я любила всё это: сияющее ярко солнце, тишину, наше уединение втроем, рябь на воде и чудный воздух. Порой я привязывала плот к дереву на другом берегу реки, и мы бегали по полям, потом возвращались и продолжали путешествие.
Кирилл был веселым, и у нас с ним было много развлечений. Он любил пофлиртовать, и ему нравилась мисс Матсон (я это замечала, когда мы бывали вместе), а мне он нравился самой. В это время мне было почти шестнадцать, но я выглядела еще очень по-детски. Однажды Кирилл решил встать рано утром и отправиться на длительную прогулку. Он сказал мне, что это позор проводить прекрасные утренние часы в постели, в то время как можно радоваться красотам природы и прелести пейзажей. Я попросила у мамы разрешения пойти с ним. Моя мама разрешила, и на следующий день мисс Матсон разбудила меня в 4 часа утра. Не могу сказать, что мне понравилось такое раннее вставанье, но я поднялась, и мы отправились. Мы прошли довольно далеко в направлении леса, воздух был свежим, а трава в росе, полевые цветы, покрывавшие поля и леса, выглядели свежими в прохладе утра. Это была прекрасная прогулка, но довольно утомительная для меня.
Однажды все они — Кот, Ика, Кирилл и мисс Матсон — решили отправиться действительно далеко, опять встав в 4 утра. Они хотели пойти в Бородино, находившееся на расстоянии 40 верст от нас.
Помимо знаменитого поля битвы, там был монастырь, который привлекал нас историей своего основания. Случилось, что в 1812 году, когда французы двигались к Москве, молодой жене русского офицера, ожидавшей первого ребенка, приснилось, что она кого-то ищет с фонарем среди мертвых и раненых, лежащих на большом поле. Несколько дней спустя известие о Бородинской битве достигло ее. Она поспешила туда и, так же как во сне, искала мужа и нашла его мертвым. Несколько лет спустя ее сын, родившийся через несколько месяцев после битвы, умер от скарлатины. Она решила вернуться в Бородино, где построила монастырь и стала монахиней. Ее девичья фамилия была Нарышкина, но она была из другой ветви этого рода, нежели мы.
Как только я услышала от Кота о планах похода на Бородино, я попросилась присоединиться к ним, но он не хотел и слышать об этом:
— Что нам делать с тобой, если ты быстро устанешь и испортишь нам все путешествие?
Я старалась, как могла, убедить его, что я не слабенькая, и, наконец, вмешалась мама и сказала, что я часть дороги проеду в экипаже. Экипаж вернется, и я смогу остаток пути пройти со всеми. Повару было приказано приготовить для путешественников большую корзину с холодными закусками из курятины, мяса, вареных яиц, напитков и тому подобного. Я должна была выехать днем с Натальей, так чтобы присоединиться к ним в 4 часа в местечке, называвшемся Колочь.
Всё прошло очень гладко, мы все встретились в Колочи, остальные 12 верст прошли вместе и прибыли в Бородино вечером. Первое, что мы сделали, — нашли комнаты в доме для гостей при монастыре. А после того как перекусили, пошли осмотреться. Мы слышали, что в монастыре живет затворница. Всё время она проводит в молитве и почти не спит. Ей приносят в день только кусочек хлеба и воду. Мне очень хотелось увидеть ее. Нам сказали, что к вечерне она обычно выходит из своей кельи и следует в церковь. Мы ждали у церкви, чтобы только взглянуть на нее, видели проходящих монахинь и, наконец, увидели ее. Она медленно шла, погруженная в молитву, глядя прямо перед собой. Одета она была в черное, как и остальные монахини, но спереди на ее одеянии белым были нарисованы черепа.
Становилось темно, и мы решили вернуться в свои комнаты в доме для гостей. Обследовать знаменитое поле было уже бесполезно, да мы и слишком устали для этого.
Мы слышали легенду, что каждую ночь, когда на колокольне отбивают полночь, у стен монастыря на белых конях появляются храбрые генералы, павшие на поле боя. Проехав по полю, они в молчании огибают стены монастыря и исчезают в неизвестности. Нам хотелось увидеть это, особенно мальчикам, и мы решили не ложиться до двенадцати. Часы отбивали каждые четверть часа. Когда пришло время, мы молча пошли к стенам монастыря, откуда было бы всё видно, и стояли, ожидая.
Не могу сказать точно, что я чувствовала, но, пожалуй, главной моей мыслью было — не помешать, а молча ждать вместе с другими. Вокруг было так тихо, не слышно ни звука, весь монастырь объят глубоким сном. Потом начался полуночный перезвон. Мисс Матсон, державшая мою руку, сказала, что она отведет меня обратно в гостиницу.
— Рука у нее холодная и дрожит, — сказала она, — ей надо быть в постели, а не стоять здесь после этого путешествия. Можете делать, что хотите, а я отведу ее обратно.
Тогда все решили вернуться, так и не увидев генералов на белых лошадях.
На следующее утро мы отправились обследовать поле битвы, которое сохранялось в том виде, как оно было. Мы читали названия редутов, могли видеть своими глазами, где стояли французы и где русские. Проходя по полям, я представляла себе, как много пролилось слез и каких душевных и физических страданий стоила эта битва. Потом мы посетил и домик, где жила первая игуменья. Рядом с ее кельей была маленькая комната, где до сих пор хранились игрушки ее маленького сына. Потом, пройдясь по окрестностям еще немного, мы решили, что пора возвращаться домой, но на этот раз не пешком.
С Бородино связано еще одно предание. После битвы, найдя Москву сожженной по приказу моего прапрадеда графа Федора Васильевича Ростопчина[29] — губернатора Москвы, отступающая французская армия проходила через Можайск, небольшой город недалеко от Ворганова. Возможно, Наполеон провел ночь в нашем большом доме. Во всяком случае, в полуверсте от дома существовала болотистая пустошь, где, как нам говорили, были зарыты сорок бочек с серебром, похищенным французами из домов и церквей. Какое-то время спустя один из владельцев Ворганова, возможно, тот, который потом продал имение моему деду, услышав о сокровище, закопанном в земле, решил отрыть его. Были привезены инженеры и целая бригада землекопов; после долгих обсуждений приступили к работам. Сначала все шло хорошо, но потом произошло событие, всех напугавшее. Внезапно, среди ясного солнечного дня собрались тучи, и стало темно, как ночью. Работники в страхе побросали лопаты, сочтя это плохим предзнаменованием. С тех пор никто не трогал эту пустошь, хотя все мы знали о предполагавшихся там сокровищах. Кот, которому всегда надо было что-то предпринимать, однажды попытался это исследовать. Лет ему тогда было немного, он взял маленькую лопатку и начал копать. Всё что он нашел, была пустая бутылка из-под водки.
Наши летние каникулы подошли к концу. Когда мы уезжали из Ворганова, никто не мог предположить, что мы покидаем наше прекрасное имение, чтобы никогда не вернуться.
В Петрограде наша жизнь протекала как всегда. У меня были уроки танцев, обычные визиты к бабушке и тете Саше, которая жила в том же доме на Спасской. Однажды вечером, когда ушел учитель рисования и я убирала свои рисовальные принадлежности, я услышала, как мои подруги Катя и Сандра шепчутся, упоминая мое имя и имя брата Сандры — Васи Лорис-Меликова. Я прислушалась, и краска бросилась мне в лицо, но я постаралась не выдать себя. Позже Катя открыла мне, что брат Сандры влюблен в меня. Мне он тоже очень нравился. Мне было приятно, когда он приглашал меня танцевать, но, считая себя маленькой и неинтересной и будучи невероятно застенчивой, я боялась признаться в своих чувствах даже себе самой. Я не могла даже представить, чтобы кто-то мог влюбиться в меня. «Вокруг так много хорошеньких девочек, — думала я, — лучше одетых, более взрослых и более искушенных. Какие же шансы могут быть у меня?»
И вдруг я слышу, что именно этот мальчик влюблен в меня! Это сделало меня такой счастливой, что мне казалось, я летаю от радости. Когда горничная пришла за мной, я была радостно возбуждена. Дома я побежала прямо в комнату матери и всё ей рассказала. Она улыбалась и была заинтересована.
Позже она рассказала папе, он рассмеялся и сказал:
— Ну, что же, это хорошее начало.
Ему нравился отец мальчика, оба служили в свое время в Преображенском полку. Я была так счастлива, я ждала наступления субботних дней, когда могла встретить его на танцевальных уроках, и каким разочарованием для меня бывало, если я узнавала от Сандры, что в наказание он опять оставлен в лицее на праздничные дни. Он был озорником, но именно поэтому он нравился мне еще больше. Я ждала уроков живописи по вторникам, потому что на них бывала Сандра, и я могла что-нибудь услышать о нем.
Глава четвертая Революция
Отлучки отца стали более частыми и продолжительными, потому что Государь больше времени проводил на фронте. Иногда молодой Царевич сопровождал отца, иногда Государь ездил один.
В декабре стало известно об убийстве Распутина в подвале дворца князя Юсупова[30]. Об этом ужасном преступлении было много самых разных и противоречивых предположений. Люди до настоящего времени продолжают строить самые разнообразные версии этого происшествия. Ходили слухи и в том узком кругу людей, с которыми я общалась. Они звонили мне по телефону с вопросами.
— Ну? — говорили они. — Твой отец должен знать все об этом.
И бывали разочарованы, когда оказывалось, что я знаю не больше того, что было в газетах. Это убийство внушало мне отвращение, я беспокоилась о бедной Императрице — как, должно быть, она страдала, какую горечь, вероятно, испытывала по отношению к так называемым «лояльным», из которых кое-кто были ее родственниками. Я была глубоко потрясена этим ужасным происшествием, но, как обычно, держала свои мысли при себе.
Новости с фронта были ободряющими, но в Петрограде ощущалось чувство какой-то неуверенности. Циркулировали слухи о жизни высшего света столицы и об активности врага внутри страны. В феврале 1917 года папа снова был вызван для поездки.
Это было воскресенье. Я сидела с мамой в ее будуаре и собиралась идти в танцевальный класс в губернаторском доме, когда наш дворецкий Губарев вошел и сказал маме:
— Ваше сиятельство, экипаж и лошади готовы, но ехать для вас небезопасно. Я слышал от жандармов, что на Невском баррикады. Это как раз на вашем пути.
Услышав это, моя мама позвонила губернатору и после разговора с ним решила, что мы останемся дома.
Начиная с этого дня, дела шли всё хуже и хуже. Слухи, доходившие до нас, были очень тревожны, и мама беспокоилась, не получая известий от папы. Мы были также отрезаны от Царского Села, где находилась бабушка.
Потом, 2 марта, пришло известие об отречении нашего любимого Государя. Это был тяжелый удар. Мысль о людях, способствовавших этому, наводила на меня тоску. Я не могла, да и до сих пор не могу понять, как они не сознавали, что, рубя сук, на котором сидят, сами рухнут в пропасть. Мы пошли с матерью в домовую церковь, расположенную неподалеку, и впервые на службе имена Их Величеств не произносились. Это было ужасно и грустно, и мы вернулись домой в подавленном настроении.
Потом мы услышали, что Керенский возглавил Временное правительство, и вскоре его люди навестили нас. Они были очень вежливы и сочувственны, но провели обыск во всех наших комнатах и, после того как заглянули в мою, спросили, где находится кухня. К моему величайшему смущению, я не знала, так как никогда ее не видела, и не представляла, как туда пройти. Я знала только, где расположен лифт, по которому поднимали из кухни еду. Я не хотела обнаружить свое неведение и провела офицеров в буфетную, где, я знала, будет кто-нибудь из слуг.
Беспорядки в городе становились все сильнее, одних невинных людей убивали, других арестовывали. Потом до нас дошло известие, что папа в Москве. Кот пошел в кабинет к телефону; к счастью, междугородная линия не была еще отключена. Кот рассказал папе, что происходит в Петрограде. Тот ничего не знал, так как всё, происходящее в Петрограде, держалось в строгом секрете от остальной России. Никто ничего не знал и не слышал, за исключением, конечно, известия об отречении Императора. Папа сказал, что он сейчас же выезжает. Потом нам стало известно, что ему пришлось ожидать поезда до следующего дня и что он был арестован на какой-то станции по дороге. По прибытии в Петроград его поместили в Петропавловскую крепость, где уже содержались другие важные лица.
Мы сначала не знали об аресте отца и ждали его приезда на следующий день после телефонного разговора. Не знали мы также об аресте Государя. Мы увиделись с тетей Татой, она тоже очень беспокоилась, не имея известий о дяде Кире. Потом люди Керенского пришли еще раз и распорядились, чтобы все женщины покинули квартиру, мужчины же должны были остаться — Кот, слуги и жандармы. Маме, Ике, мне, мисс Матсон и двум горничным пришлось искать новое жилье.
Взяв только несколько чемоданов, мы наняли извозчика и отправились на квартиру, нанятую для нас секретарем папы. Извозчик, привезший нас, помог с немногочисленным багажом и уехал. Мы как-то не обратили внимания, что чемодана Ики не хватает, заметили это, только когда начали распаковывать вещи. Это было досадно, так как, помимо вещей, в нем были некоторые драгоценности: броши, браслет и тому подобное. Что мы могли сделать? Никто не заметил номера извозчика, вопрос о поисках пропавших вещей даже не встал — люди стали относиться к воровству как к чему-то естественному. Им внушили, что всё имущество, принадлежащее богатым, будет конфисковано и разделено между бедными. Официальный лозунг гласил: «Грабь награбленное». Так что лучше всего было забыть о чемодане бедной Ики. А я, торопясь упаковать мой, сделала колоссальную промашку, за что упрекаю себя даже сейчас. Самым драгоценным была для меня в то время моя коллекция царских портретов. Я покупала их, где бы ни была, они обычно продавались размером в почтовую открытку. В Ярославле меня уже хорошо знали в лавочке и, не ожидая просьбы, выкладывали все новинки. В Петрограде я продолжила коллекционирование. Свою коллекцию я взяла, но не уложила, за что страшно казню себя, подписанные фотографии четырех Великих княжон, сделанные лучшими фотографами всех времен Boissonas и Egler. Они были подарены моей бабушке, а та дала их мне. Я хранила их в большом конверте с адресом бабушки, подписанном рукой Ее Величества Императрицы.
Этот конверт с его содержимым был самым дорогим, что у меня было, и, тем не менее, я как-то ухитрилась не положить его в чемодан. Наверное, я думала, что мы уезжаем ненадолго, что вернется отец и всё встанет на свои места. Никто не отдавал себе отчета в истинном положении вещей и в том, что мы движемся к анархии.
Квартира казалась нам очень маленькой, хотя и было приятно, что окна выходят на Неву. Мы смогли найти кухарку, которая нам готовила. Вскоре ограничения были сняты, и мужчины смогли покинуть наш дом. Кот и некоторые из слуг присоединились к нам, но квартира, в которой мы поселились, была так мала, что для всех места не хватило.
Мои уроки прекратились, но надо было готовиться к экзаменам, которые всё еще планировались на позднюю весну, так что ко мне приходил учитель, помогавший с геометрией и алгеброй, а Ика помогала по остальным предметам. К тому времени мы знати, что папа содержится в Петропавловской крепости, и мама много времени тратила на то, чтобы добиться свидания с Керенским и умолить его выпустить папу. Бабушка заболела, находилась в Царском и не могла вернуться в Зимний дворец, где ее было бы проще навещать. Но она в любом случае не хотела возвращаться туда, поскольку прямо перед ее окнами были погребены так называемые «жертвы революции». Поэтому моя мама через день отправлялась навестить ее в Царском, и это занимало целый день.
С падением режима хаос, начавшийся в Петрограде, быстро распространился повсеместно. Войска отказывались сражаться, и тысячи солдат отправлялись по домам. Из окон гостиной нам были видны люди, несущие красные флаги и поющие песни, — все они были о свободе, которая, наконец, пришла к бедным, тяжко трудящимся рабам, угнетенным проклятыми эксплуататорами.
Дни проходили. Папа вместе с другими всё еще был в крепости, и, несмотря на все обещания Керенского, что освобождение — вопрос нескольких дней, прошло уже два месяца со дня его ареста. Мои и Катины экзамены приближались, и мы волновались, удастся ли нам их сдать. Гимназия, где мы должны были их держать, отличалась строгостью. Всё прошло хорошо, за исключением геометрии, по которой я провалилась. Я была очень расстроена, потому что меня спросили некоторые разделы, которые я не учила. Вина была не совсем моя, а скорее моего учителя, и мне разрешили держать этот экзамен снова немного позже. Так что, в конце концов, всё было не так уж плохо.
Потом мы услышали, что вся Царская Семья арестована. Керенский ничего не делал и только болтал. Он навестил несколько раз мою бабушку и сказал после одного из своих визитов:
— Какое удовольствие разговаривать с такой умной женщиной.
Несмотря на все победные крики о свободе, я думаю, он был порабощен больше всех остальных. Мне кажется, что он понимал это сам. Вскоре он бежал из страны. Но в то время он и его последователи поздравляли себя с тем, что революция была бескровной. Они говорили, что величайшее стремление людей к свободе осуществлено и что оппозиции не существует. Люди мечтали о свободе, и теперь она в их руках. Мы знали, как много на самом деле было убито. Мы знали также, чем питалось пламя революции — ложь за ложью распространялась в армии, тысячи фунтов стерлингов доставлялись из-за границы для поддержания и распространения анархии. Силы зла пробивали себе дорогу.
Тем не менее, однажды вечером, когда мы кончали пить чай, зазвонил дверной колокольчик, в дверях стоял здоровенный извозчик с чемоданом Ики. Он объяснил, что в течение нескольких недель не мог вспомнить, куда отвез нас в тот день, когда был потерян чемодан.
— Я пытался во многих домах найти вас, но безрезультатно, а потом вдруг вспомнил этот дом на Французской набережной. Я решил сделать последнюю попытку.
Мы были потрясены. Это было как дуновение свежего ветерка среди отвратительного зловония и тьмы, так быстро распространявшихся вокруг.
Однажды, когда мы собирались выйти, зазвонил колокольчик, я пошла посмотреть, кто это, и оказалась в объятиях отца. Мама, Тун, которая в это время жила у нас, Ика и Кот — все собрались вокруг. Я помню, как я плакала и плакала, прижимаясь к отцу. Мы были все вместе около трех недель, но пришло время для Кота идти в армию. Это было новым горем для нас всех, но он пошел потому, что так хотел.
Папа выглядел усталым, ему была необходима перемена обстановки. Вопрос о поездке в Ворганово даже не возникал, хотя находились люди, отказывавшиеся признавать положение вещей изменившимся и уезжавшие в свои имения. Было трудно решиться на что-нибудь. Никто не мог ясно видеть в том хаосе, в котором мы жили. На следующий день после папиного возвращения я с нашей горничной отправилась с радостной вестью в дом Мансуровых. Я встретилась там только с отцом[31] Кати, ее самой и матери в это время не было дома. Я рассказала, какая у нас радость и что мы все чувствуем.
Он, казалось, тоже был очень рад и дал мне бутылку вина для папы, потом вдруг сделался очень серьезен и, глядя мне прямо в глаза, сказал:
— Радуйся и будь счастлива сейчас, малышка, но помни одно: это цветочки, ягодки будут впереди.
Мы посмотрели друг на друга и ничего больше не сказали. Что было говорить? Через год пришло известие, что он и некоторые его родственники зверски убиты. Это случилось в их собственном имении под Курском.
Поскольку отец нуждался в перемене обстановки после того, что он вынес в последние несколько месяцев, родители решили поехать в Финляндию, которая тогда была частью Российской империи. Это было бы прекрасным отдыхом для всех нас, кроме того, мы не хотели уезжать далеко, так как беспокоились о бабушке, чье здоровье в то время было не очень хорошо. Всё было очень неустойчиво в Царском. Итак, в день моего семнадцатилетия, 3 июля 1917 года, мы уехали из Петрограда в Выборг. Прежде мы навестили бабушку, чтобы попрощаться. В первый раз я была в Александровском дворце, и меня мучила мысль о Царской Семье, находящейся под арестом. Бабушка выглядела грустной и усталой. Она сообщила нам последние новости, но у нее еще не было планов в отношении самой себя. Ей некуда было возвращаться в Петроград, так как Зимний дворец теперь уже был оккупирован революционерами.
В Выборге всё было по-другому. Мы остановились в прекрасном отеле и осмотрелись. Мисс Матсон, покинувшая нас за несколько недель до этого, была в Выборге — ее сестра была замужем за богатым местным коммерсантом, и она жила у нее. Мы быстро связались с ней, и она навестила нас в отеле. Потом мы путешествовали по всей Финляндии, это было очень приятное путешествие. И куда бы мы ни приезжали, мы везде сталкивались со знакомыми из Петербурга, сбежавшими, как и мы, от ужасов нашей столицы.
Для меня всё здесь было ново и волнующе. Трагедии остались позади. Конечно, я постоянно помнила о них, но юности свойственно стремиться к счастью, и я была полна наивной радости. Окружающее наполняло меня восторгом. Чье сердце не было бы тронуто красотой финских ландшафтов, ее водопадов, озер и фьордов, суровостью линий и красок? Моей матери хотелось отыскать маленький участок земли, которым владела ее семья, когда она была девочкой. С некоторыми трудностями мы нашли его, и она радостно вспоминала свое раннее детство.
Через некоторое время мы остановились в скромном пансионате, в месте под названием Устилла. Мы заранее заказали там места, поскольку нас предупредили, что все пансионаты переполнены людьми, бежавшими из Петрограда. Я жила в комнате с Икой, а у родителей была другая. Лина, наша горничная, жила в доме по соседству. Еду нам подавали на террасе. Вскоре мы познакомились со всеми остальными гостями и подружились с Крупенскими, семьей из близлежащего имения. Старший сын Михаил интересовался мною. Вместе с его братом и сестрами мы предпринимали совместные длинные прогулки, качались на качелях, играли в разные игры или просто сидели и разговаривали. Опять странная смесь чувств смущала меня — жажда жизни, начавшая бить ключом, и ощущение неуверенности в будущем, которое тогда испытывали все, потому что известия, приходившие из Петрограда, были ужасны. Самое большое потрясение мы испытали, услышав, что Императорская Семья насильно выслана в Тобольск. Вот отрывки из дневника моей бабушки, касающиеся этого события.
31 июля/13 августа 1917 года.
«Triste a mourir. Они уедут сегодня, просили разрешения попрощаться — отказано. Я полагаю, что они едут в Тобольск, но никто не знает, и никто не говорит. Я не смогу следовать за ними. У родителей и детей разбиты сердца. Они должны покинуть свой дом. Бенкендорфы приехали только на два дня. Иза должна остаться для операции, она поедет позже. Только что видела Ниту Бенкендорф. Она сказала мне, что Ирина Юсупова[32] ходила к Керенскому просить, чтобы гонения бабушки (вдовствующей Императрицы Марии Федоровны) были прекращены. Он обещал. В Ялте появились монархистские прокламации, и ее обвиняют за них».
1/14 августа.
«Безутешно плакала все утро. Они уехали, но как. Сидели ожидая на багаже до 6 часов утра. Керенский был вне себя, подгонял всех, ему было стыдно, что не сумел организовать все также безупречно, как раньше. Появился Михаил (Великий князь Михаил Александрович[33], брат Государя). При виде его Керенский отошел в угол, прикрыл уши руками и сказал: «Вы можете поговорить с ним». Оба были тронуты (хотя не сказали ничего важного.) Императрица написала мне милую записку, кончавшуюся так: «Прощайте, дорогой родной друг, мое сердце слишком полно, чтобы писать больше!» Бенкендорфы хотели, чтобы я зашла к ним вечером. Для меня невозможно пройти через все эти комнаты. Навещу их завтра утром в моей коляске, по пути есть лестница, по которой придется подняться. Иза оставалась со мной весь день. Стало известно, что они едут в Тобольск.
Их место Бенкендорфа сопровождает Илюша Татищев[34]. Настенька прелестна, Государь бледный и похудевший, Императрица держит себя в руках и не теряет надежды. Рада, несмотря ни на что, что едет в излюбленное место своего дорогого друга Анны (Анна Александровна Вырубова[35], друг Императрицы), настоящей святой. Она не изменилась. Их сопровождает несколько вагонов солдат, а также члены Совета солдатских и рабочих депутатов и другие. Поездка продлится пять дней… Ни Государь, ни кто другой не знали, куда они едут. Сначала думали, что в Крым, и они соответственно собрались, но за два дня до отъезда им сказали, что они едут не на юг и что надо захватить всю теплую одежду, какую можно. Их предупредили, что следует иметь запас еды на пять дней. Вот так они догадались, что едут в Сибирь. Какое унижение, какое испытание, и они преодолевают это с такой ясностью и покорностью. Мадам Герингер зашла ко мне и передала письмо Императрицы. Моя бедная, моя дорогая».
Мама получила письмо от дяди Киры и тети Таты. Они хотели присоединиться к нам в Финляндии и просили снять для них две комнаты. Жизнь в Петрограде стала невозможной. Я была рада приезду Петрика.
Мой роман с Михаилом продолжался, я знала, что очень ему нравлюсь. Однажды мама ждала необычного гостя — Великого князя Георгия[36], и попросила хозяйку накрыть стол к чаю в саду.
Она знала его с детства, в Финляндии он жил в 25 верстах от нас и решил нанести визит. Папы не было. Мне кажется, он уехал в это время на несколько дней в Петроград, чтобы привести свои дела в порядок.
Я прошла в спальню родителей и прокралась к одному из окон, чтобы просто взглянуть на Великого князя, но оказалось невозможно сделать это так, чтобы меня не заметили. Я встала сбоку от окна, откуда могла слышать его голос. Голос мне понравился. Когда же я, наконец, увидела самого князя, он произвел на меня большое впечатление. Великий князь пригласил нас всех пожить на его вилле в Ретиарви, и мы прожили там около двух месяцев.
Когда мы приехали в Ретиарви, Великий князь ожидал нас на пристани. Он был очень высоким и очень красивым. После чая Ика и Петрик отправились осмотреть окрестности, я же с ними не пошла — была в мрачном расположении духа из-за того, что мы уехали из Устиллы, но потом пожалела, что осталась, и решила пойти сама, надеясь, что не встречу Великого князя. Но когда шла по саду, Великий князь оказался сзади меня и догнал у ворот. Мы пошли вместе по дороге к пристани. Сначала мне было неловко, но он был так мил и отнесся ко мне с таким пониманием, что вскоре я почувствовала себя совсем легко. Мы разговаривали так, как будто знали друг друга давно, и когда случайно встретили родителей, те были изумлены. Несколько дней спустя Ика, Петрик и я, находя жизнь там скучноватой из-за отсутствия молодежи, решили позвонить друзьям в Устиллу. Телефон был вблизи комнат прислуги, и мы стали говорить по-английски, решив, что они не поймут. Я говорила, как мы здесь одиноки. Во время этого разговора мимо проходил камердинер Великого князя, но я не обратила внимания, не зная, что он был англичанином. Позже в тот же день Великий князь подошел ко мне и сказал:
— Я сожалею, что лишил вас вашей молодой компании, но чтобы исправить это, я предоставлю в ваше распоряжение мой автомобиль и шофера. Дайте мне только знать, когда вы захотите поехать навестить их. Обещайте мне это сделать, тогда я не буду чувствовать себя таким виноватым.
Я онемела от его доброты и почувствовала себя виноватой и сконфуженной. С этого времени наше пребывание в Ретиарви стало удовольствием. Мне нравилось общество Георгия Михайловича, всё, что он говорил или делал, восхищало меня, каждое мгновенье в его присутствии было источником счастья. Это было что-то особенное, трудно передаваемое словами. И все-таки я не отдавала себе отчета, а может быть, стыдилась признаться даже самой себе, что я была влюблена в него.
Я должна сказать, что хоть мне и было 17 лет, мое сознание было совсем детским, я совершенно не знала жизни. Правда, я бывала влюблена и раньше, может быть даже несколько раз, по всё это было несравнимо с моим чувством к Великому князю. Оно было таким особенным, таким всепоглощающим и волшебным, что я не могла говорить об этом. Чувство пришло неожиданно для меня, я не пыталась понять его, оно овладело мной, как гипнотический сон.
Новости с фронта становились всё тревожнее, так же как со всех концов России. Начались проблемы с питанием, повсюду были грабежи, убийства и поджоги. Невинных людей убивали без всякой причины, жажда крови распространилась по всей Центральной России. Керенский был не в силах остановить это. Ненависть овладела людьми, и закон, если таковой существовал в то время, был бессилен.
Здесь, в Финляндии, по крайней мере, там, где мы остановились, было совсем мирно, хотя мы знали и понимали, что это не навечно. За трапезами, когда мы все бывали вместе, Великий князь и папа обсуждали возможность бегства за границу. Это было трудно, все границы строго охранялись, и было невозможно пройти незаметно. Семья Великого князя была в это время в Киссингеме, в Германии. Она состояла из Великой княгини Марии Георгиевны[37] и их двух дочерей — Великих княжон Нины и Ксении. Великий князь стремился соединиться с ними, но в тот момент надежды на это было мало.
Наши планы не были определенными, нужно было думать о бабушке. Ее годы и состояние не позволили ей ехать в изгнание вместе с Царской Семьей. И существовал Кот, который всё еще был на фронте. Бабушка или, вернее, ее друзья приискивали ей жилье. Одно время она собиралась присоединиться к нам в Финляндии, но это не получилось, а потом ее друг, Катуся Васильчикова[38], предложила ей дом своей тетки, в котором никто не жил. Бабушка написала моей матери и приглашала переехать к ней туда, чтобы жить всем вместе.
Был октябрь 1917 года. Нам не было смысла оставаться дольше в Финляндии, и здесь начались зверские убийства. В одном из таких инцидентов в Выборге офицеры были до смерти забиты и брошены в реку. Большинство наших друзей было уже в Петрограде. Кроме того, в большом городе было легче жить, не привлекая внимания.
Папа организовал наш отъезд, и мы должны были жить вместе с бабушкой в большом доме на Сергиевской, в который она уже переехала. Перспектива отъезда меня очень огорчала. Я была счастлива в Финляндии, а о будущем не задумывалась. Пребывание рядом с Великим князем делало всё удивительным и полным значения. Теперь всё это кончалось. Любить так, как я любила, и скрывать это ото всех трудно. Михаил имел, по крайней мере, возможность выражать свои чувства, и он делал это, когда мы встречались, словами или стихами. Вероятно, это приносило ему облегчение, может быть, надежду, а я? Я должна была держать все про себя, хотя, конечно, могла намекнуть Ике, которая мне сочувствовала. Петрик был хорошим спутником и другом, но был слишком юн, ему было всего пятнадцать. Нам было весело вместе, и мы никогда не надоедали друг другу.
Итак, мы поселились с бабушкой. Мы всегда обедали вместе, и разговор шел о том, что творится вокруг и в особенности об усиливающемся голоде и взлетевших ценах на продукты. Но мои мысли были постоянно с Великим князем. Когда кто-нибудь упоминал его имя, я изо всех сил старалась не покраснеть, но, думаю, что, если бы я даже покраснела, это не имело бы особенного значения, все догадывались о моих чувствах. Я говорила об этом с бабушкой, и она вполне сочувствовала мне. Думаю, что с ней тоже было что-то в этом роде в юности, и она могла меня понять. Я помню, что однажды сказала маме:
— Не думаю, чтобы я когда-нибудь вышла замуж, — и пояснила ей, что никогда не смогу снова полюбить также сильно.
Мама пыталась объяснить мне, что это только детское чувство, не настоящая любовь, которая придет позже. Но моим лучшим другом, с которым я могла говорить обо всем, была в то время моя крестная, тетя Саша. Мы часто бывали у нее, она по-прежнему жила близко. Ей я могла говорить всё, ей я могла доверять, она слушала меня, и ее доброта была такой успокоительной. Позже она разговаривала с мамой обо мне, сказав, как она тронута моим доверием.
Глава пятая Террор
7 ноября 1917 года по новому стилю большевики взяли власть в свои руки, Керенский бежал за границу, переодетый женщиной, и начался настоящий террор. У нас появился мой кузен Кирок, брат Петрика, сбежавший из своей Инженерной школы, где он учился. Он был в опасности и не смог долго оставаться у нас, а был вынужден поспешно уехать в Москву. Он обещал прислать телеграмму о своем благополучном прибытии, но она так и не пришла, и никто так никогда и не узнал, что с ним случилось и где нашел он свою смерть. Казалось, что мы живем на вулкане и в любой момент может произойти что-нибудь ужасное. Действительно, ужасные вещи происходили, они случались каждую минуту: убийства невинных людей, погромы, беспорядки. В феврале мы услышали об убийстве Катиного отца вместе с двумя ее дядями. Бедная Катя с матерью и немецкой гувернанткой и ее тети были вынуждены бежать. Я вспомнила слова милого господина Мансурова, когда я сообщила ему радостную новость, что отец освобожден из крепости, — «Ягодки будут позже». Теперь я понимала, что он имел в виду.
Весна 1918 года не принесла надежды. Напротив, теперь мы ждали голода. В Петрограде продовольствия было мало, хлеб являлся такой редкостью, что у нас к завтраку было только по тоненькому кусочку, к обеду еды почти не было. Это выглядело насмешкой: нам прислуживают два человека — один бабушкин, другой наш собственный дворецкий — стол прекрасно сервирован, блеск серебра и хрусталя на белоснежной скатерти и тоненькие кусочки чего-то, что не может заглушить наш голод. Выходя из-за стола, мы чувствовали себя так, как будто никакой еды и не было. За обедом было то же самое. Это особенно тяжело отражалось на нас, детях. Я поняла, как голод может толкать людей на кражи. Мы слышали о людях, умерших от истощения, чаще всего это были дети и старики. Ика и я страдали сильно, но Кот был в лучшем положении. Его целый день не было дома, он получил работу в одном из консульств, и иногда ему удавалось приносить нам немного еды.
Петроград в это время совсем обезлюдел, казалось, что все разъехались, большинство за границу, а немногие оставшиеся приходили навестить мою бабушку к чаю или вечером. Так что мы часто виделись и никогда не были в одиночестве. Крупенские были в Петрограде, и я часто видела Михаила и чувствовала, что его любовь ко мне не уменьшилась. Я также видалась с Васей Лорис-Меликовым.
Лень за днем мы жили с надеждой, которую трудно сейчас представить, что все может повернуться к лучшему. Я помню оптимистов, которые приходили и говорили:
— Ну, положение улучшается, мы проходили сегодня по Фурштадтской мимо дома 40 (это был дом, где мы жили до революции) и, можете себе представить, видели, как они снимают ставни с ваших окон и заменяют их новыми. Они готовят дом, чтобы вы могли вернуться.
Потом продолжал другой:
— Эти большевики, в сущности, скрытые монархисты, они только выступают под другим именем, чтобы скрыть свои цели.
Третий говорил:
— Чем хуже сейчас, тем лучше потом, такой режим не может и не будет длиться долго.
Но, несмотря на все эти оптимистические соображения, трудности населения были ужасны. Не только пища, но и всё исчезло. Магазины стояли пустые. На улицах не было улыбающихся лиц, не слышался смех, единственной мыслью было добыть хлеб или найти ему какую-то замену. Люди пекли хлеб из коры деревьев. Сушили кору, мололи и подмешивали в настоящую муку и из этой смеси пекли маленькие хлебцы. На Литейном стояли люди, продававшие эти хлебцы и получавшие за них хорошую цену. Мы, как и многие другие, не могли приспособиться к перемене обстоятельств. У нас по-прежнему был шеф-повар, хотя недоставало продуктов, чтобы приготовить обед. Наше меню всегда было почти одним и тем же: водянистый овощной суп, а в качестве основного блюда маленький кусочек дикой птицы на три глотка, на сладкое могло быть желе, совершенно безвкусное и вряд ли питательное. Мы выходили из-за стола, мечтая о следующей трапезе.
Время от времени почтальон приносил бабушке письмо из Тобольска — от Императрицы, всегда полное надежды и веры. Ее Величество никогда не жаловалась, казалась довольной и желала всем добра.
Моей бабушке пришлось расстаться со статуэткой Марии-Антуанетты. Эта статуэтка севрского фарфора была одной из самых дорогих для нее вещей. Она была подарена моему прадеду, бывшему послом в Париже, самой королевой Марией-Антуанеттой. С нее была сделана копия, так что в семье было две статуэтки — другая принадлежала тете Саше, и на самом деле никто не знал, которая была оригиналом. Бабушкина была продана за большую, казалось, сумму — пачку небольших банкнот, которые в то время назывались «керенками». Их было так много, что бабушка часть спрятала в небольшой чемоданчик, который заперла на маленький ключик. Сделав это, бабушка вздохнула с облегчением и сказала:
— Eh bien, maintenant cela durera jusqu'a le fin de mes jours[39].
Как наивны мы были! Эти дурацкие кусочки бумаги падали в цене с каждым днем.
Потом однажды бабушка позвала меня в свой будуар, маленький кожаный чемоданчик стоял рядом с ней на кушетке. Она достала из ящика шкафа очень длинную нитку жемчуга, которую носила в торжественных случаях, и другие ценные вещи, включая алмазный шифр и красивый портрет Императрицы Александры Федоровны в овальной раме, украшенной драгоценными камнями. Все эти вещи она с моей помощью уложила в кожаный чемоданчик и, передав его мне, попросила отнести к нашему другу Катусе Васильчиковой, жившей рядом. Я никогда раньше не держала в руках ничего столь же ценного.
Через дверь, которой сообщались наши дома, я прошла в холл соседнего здания, миновала швейцара, взбежала по лестнице и позвонила у двери Катуси. Она ждала меня, и я вручила ей маленький чемоданчик. Мы были совсем одни в квартире. В стене спальни, за умывальником, был маленький шкафчик, дверца которого была прикрыта куском клеенки, как бы для того, чтобы защитить стену от брызг. Там хранилось разное барахло, туда мы спрятали кожаный чемоданчик бабушки. Я думаю, драгоценности Катуси были спрятаны там же. Потом мы закрыли дверцу, вновь повесили клеенку, полностью ее закрывавшую, и поставили на место умывальник. Дело было сделано, и мы ненадолго зашли в ее гостиную, чтобы поболтать, а потом я побежала к бабушке, сказать, что всё сделано.
На следующий день пришли большевики, прошли прямо в Катусину комнату, где мы так тщательно спрятали наше сокровище, отодвинули умывальник, сорвали клеенку, открыли дверцу и вынули чемоданчик моей бабушки, а также драгоценности Катуси. Саму Катусю они арестовали и на некоторое время посадили в тюрьму.
Новости из Тобольска к Пасхе были очень печальными. Великая княжна Ольга сообщала моей бабушке, что ее родителей и Марию[40] увезли в Екатеринбург. Из-за болезни Алексея, которого нельзя было перевезти, другие члены семьи были оставлены в Тобольске. Мы не могли понять, что значит это передвижение в сторону Урала.
Весна быстро вступала в свои права. Мне следовало сосредоточиться на занятиях, приближались экзамены. Я очень беспокоилась, сдам ли их, потому что знала — провал добавит огорчений родителям. В это время они больше всего беспокоились за Кота, который исчез, не сказав никому ни о цели отъезда, ни о месте, куда направлялся, ни о длительности отсутствия. Я помню, что 5 мая, в день моих именин, был устроен для меня небольшой вечер. Мне разрешили пригласить нескольких друзей, и мама заказала мне именинный пирог, за которым пришлось идти очень далеко. Его надо было заказывать заранее. Основным ингредиентом пирога была морковь, меньшую часть составляли картофельная мука, небольшое количество настоящей муки и сахарин вместо сахара. Бабушка заказала повару испечь печенья из картофельных очисток, муки и моркови. Мы пили чай в столовой и потом играли в petites jeux в гостиной. Михаил отозвал меня в сторону, и я поняла, что он собирается сделать мне предложение. Но как я могла думать о ком-либо другом, когда все мои мысли были с человеком, которого я так сильно любила? И я не позволила ему говорить.
Вернулся Кот целым и невредимым, но какой бы ни была его миссия, она не увенчалась успехом. Казалось, мы были бессильны против жесткого наступления злых сил.
Я сдала экзамены. Наконец-то я была свободна от школьных занятий и могла считать себя взрослой. С приходом теплой погоды мы начали строить планы на лето. Папа и родители Сандры решили, что мы объединимся и найдем место для летнего пребывания. На правом берегу Невы, в трех четвертях часа плавания на пароходе стоял очаровательный загородный дом, пустой и принадлежавший нашему другу. Этот дом-дворец оказался в нашем распоряжении, так как хозяева предпочитали жить в маленьком доме рядом. Итак, мы решили переехать туда на летние каникулы. Мы поселились там, в начале июня, вместе питались, деля все расходы. Много играли в городки, ходили в длинные прогулки иногда для того, чтобы добыть молока в соседних деревнях. С продовольствием было все также трудно, несмотря на то что мы жили за городом. Единственное, чего было много, — картошки, и наши обеды и ужины состояли в основном из нее. Картофельный суп на первое, котлеты из картошки или пюре на второе и пудинг, сделанный из картошки же, но подслащенный.
Мне уже исполнилось восемнадцать, когда пришло ужасное известие о том, что в ночь с 16 на 17 июля зверски убит Государь в подвале дома в Екатеринбурге, где содержалась вся Царская Семья. Поднять руку на Помазанника Божьего было таким немыслимым преступлением, что убийцы сами открыто не решались объявить о своем злодеянии. Они боялись возмущения населения, так что по прошествии дня или двух после этого заявления, было сделано другое, в котором говорилось, что это были только слухи и что ничего не случилось с «бывшим Императором Николаем Романовым».
Дни шли, ходили разные слухи, и мы не знали, чему верить. Снова и снова доходили известия, что Царская Семья цела, а потом наши надежды гасли. Мой отец вел дневник и, вероятно, писал обо всем, что мы переживали, потому что, когда его арестовали, дневник был обнаружен и он был обвинен на основании того, что писал. На допросе его спросили:
— Итак, вы были очень привязаны к последнему Царю?
И отец твердо ответил:
— Естественно, как могло быть иначе?
Но это всё произошло позже, а пока мы были вместе. Отец решил, что пора бежать. Но куда? Мы были в ловушке. Отец часто ездил в Петроград, чтобы повидаться с друзьями и обсудить события. В конце концов было решено ехать на Украину. Там было достаточно продуктов, и многие пытались пробраться туда. У наших друзей Крупенских было большое имение в Бессарабии, откуда они всё еще могли получать кое-какие продукты. Мы слышали, что большая труппа актеров отправлялась на Украину. Было решено, что мы присоединимся к ним. Позвали доктора и сделали прививки против холеры, как было положено.
Вечером, за день до нашего отъезда, раздался стук в дверь, и вошла группа вооруженных людей. Начался грандиозный обыск. Я была в спальне родителей и наблюдала за человеком, стоявшим около ночного столика рядом с кроватью матери. Ко мне была повернута его спина, и я не могла видеть, что он делает, но потом поняла — золотые часы матери исчезли. Они были очень красивыми, она всегда их носила с тяжелым золотым браслетом, я думаю, работы фирмы Фаберже. Они мне очень нравились. Лина, наша горничная, была так испугана происходящим, что взяла папин дневник и спрятала его под матрасом, но они его моментально обнаружили. Они искали и искали и кончили только утром.
Потом они ушли со словами: «Завтра мы вернемся за тремя молодыми графинями, чтобы заставить их работать на нас».
Но, прежде они арестовали моего отца, графа Лорис-Меликова, моего брата Кота и его друга, который был в это время у нас. Два сына Лорис-Меликова были в это время в Петрограде и избежали ареста. Мама последовала за отцом и вооруженными людьми. Графиня Лорис-Меликова, пришедшая в полное отчаяние, Ика, я, Сандра и другая подруга княжна Чавчавадзе остались одни. Полуживые от усталости и свалившегося несчастья, мы легли спать. Было уже светло, я не думаю, что мы спали больше часа, когда были разбужены голосом Катуси, стоящей в двери нашей спальни и декламирующей стихи. Она только что приехала из Петрограда и, найдя нас спящими, решила прочесть хорошо известное стихотворение Пушкина с описанием ясного летнего утра и природы, просыпающейся в безоблачный летний день. Она ничего не знала о случившемся с нами и хотела, чтобы мы устыдились столь долгого сна. Я пыталась остановить ее, но она все продолжала, пока не дошла до конца стихотворения. Только после этого мы смогли рассказать ей о случившемся. Она была очень встревожена, тон ее сразу изменился, изо всех сил она старалась успокоить нас, особенно меня. Мы с ней были очень дружны, несмотря на разницу лет — в то время ей было слегка за пятьдесят. Мы быстро встали, оделись и спустились вниз. День ранней осени был прекрасен, ярко светило солнце, пели птицы, совсем как в Катусином стихотворении, но наши сердца сжимала боль. Ика твердо решила, что мы не проведем здесь больше ни одной ночи. Она сказала об этом Катусе, добавив:
— Эти солдаты снова придут ночью, они предупредили, что возьмут нас с собой.
Катуся согласилась, что мы должны уехать, а она постарается связаться с нашей матерью, чтобы организовать наш отъезд. Но она не хотела сразу оставить нас и решила пробыть до четырех. У нее еще было время предупредить маму, а у нас — чтобы собраться для возвращения в Петроград. Видя, как мы обе грустны и расстроены, она хотела пробыть с нами как можно дольше. Вечером мама возвратилась, и мы все уехали в Петроград.
Поскольку бабушка переехала из того дома, где мы жили все вместе, в другой на той же улице, то Катуся пригласила еще две семьи жильцов, поселившиеся на первом этаже нашего дома. Так что Ика и я разместились на верхнем этаже, где прежде жили родители. Там была маленькая кухня, где наша горничная Лина могла для нас стряпать. Из всех прежних слуг у нас остались Лина и наш преданный дворецкий Губарев.
Хлеба почти не было, и мы начали забывать его вкус. Было счастьем, если удавалось раздобыть нечто, напоминающее хлеб, из какой-нибудь смеси пшеницы с другими ингредиентами. Лина замечательно пекла хлебцы из картошки с добавлением муки, чтобы они не разваливались. Иногда, если удавалось достать свеклу и луковицу, она делала изумительный холодный винегрет, добавляя к этим овощам картошку и поливая всё уксусом и капелькой масла. Мы проводили много времени в поисках пищи, но моей главной обязанностью было подметать пол в нашей обшей комнате. Когда я попробовала в первый раз, это показалось мне развлечением. Я не представляла себе тогда, что это удовольствие будет сопровождать меня всю жизнь.
Моей матери почти никогда не было дома, она была занята тем, что пыталась войти в контакт с разными влиятельными людьми, которые, по слухам, могли ей помочь. Нельзя было терять время, людей арестовывали и расстреливали сотнями. Тюрьмы были переполнены, в камерах нечем было дышать. Условия, в которых содержались арестованные, были неописуемы. Многие умирали от нехватки пищи, у тех кто выживал, развивались различные болезни.
Благодаря мужеству и энергии матери мы скоро узнали, где содержатся наши узники. Мы попытались передать им съестное и смену белья, в чем они крайне нуждались. Как раз в это время мы услышали об аресте в Москве Великой княгини Елизаветы[41], основательницы и главы Марфо-Мариинской обители.
Позже мы узнали, что после содержания в тюрьме ее увезли в Сибирь, где вместе с Великим князем Сергеем Михайловичем[42] и двумя другими Великими князьями ее подвели к заброшенной шахте и столкнули в нее. Великий князь Сергей Михайлович по дороге к шахте решил бежать и был застрелен, но остальные были зверски брошены в шахту и оставлены там на произвол судьбы.
Приблизительно в это время Великий князь Георгий Михайлович был арестован в Финляндии. Я была ужасно расстроена, когда услышала об этом. Это было страшное время, наши правители решили покончить с Царской Семьей и всеми, кто был близок к ней.
Нам приходилось как-то жить, и деньги подходили к концу. Пришлось продать всё, что у нас осталось, — драгоценности и прелестные платья матери. Люди, приходившие покупать, давали мизерную цену, особенно за платья, потому что «кому же нужны теперь такие вещи». Наш старый дворецкий покинул нас и поехал домой, на Украину. Теперь мы остались только с Линой. Впервые в жизни мне пришлось выйти из дома одной. Лина не могла сопровождать меня, так как была слишком занята по дому. Ика тоже была занята, она начала работать. Катуся устроила ее работать в больнице, прямо через дорогу. Наши узники были переведены в другую тюрьму, гораздо дальше. Мы слыхали, что, хотя условия там несколько лучше, здоровье Кота ухудшилось.
Потом, однажды появились большевики и приказали нам, включая и нижних жильцов, освободить дом. Они дали нам на это сорок восемь часов. Мама сразу же пошла к Николаю Татищеву, двоюродному брату отца, у которого был большой дом на Спасской улице, и просила помочь нам. Дядя предложил нам одну из своих квартир, большинство из них были свободны, поскольку люди, жившие в Петрограде, бросив всё, покидали город сотнями. Так что в предложенной нам квартире всё было: ковры, мебель, кухонные принадлежности и прочее. Лифт не работал, и швейцара не было, приходилось подниматься по черному ходу на четвертый этаж. Это угнетало, никогда в своей жизни я не видела такой мрачной утомительной лестницы.
Подавленность, несчастья, мрак были повсюду. Люди не могли говорить ни о чем, кроме как раздобыть хлеб, муку или картошку. О таких вещах, как масло, яйца или сахар, забыли. Один раз в день можно было пойти в бывший магазин армии и флота, где была устроена большая столовая. После долгого стояния в очереди можно было получить талон, и, отстояв в другой очереди, вы оказывались обладателем жестяной тарелки водянистой бурды, называемой супом. Единственно приятным в нем было то, что он был обжигающе горячим. К супу полагался тоненький кусочек хлеба, и это был весь обед. Бедная, бедная многострадальная Россия. Ко всему прочему в Петрограде стала распространяться страшная болезнь, которую называли «испанкой». Она обрушивалась на человека внезапно и быстро развивалась. Смерть могла наступить через четыре дня после начала болезни, и люди умирали сотнями. Среди руководителей ЧК была женщина по фамилии Стасова[43], известная своей жестокостью. Она выносила смертные приговоры без угрызений совести, и сотни людей были посланы на смерть по ее приказу. Оба — и Кот и отец — были в серьезнейшей опасности. Бедная мама не знала покоя. Каждый день она проводила в попытках что-то разузнать, найти каких-то влиятельных людей, спрашивая совета, где только можно. Наконец один из друзей сказал ей, что всё находится в руках этой женщины. Все арестанты были в ее ведении.
Было трудно принять решение. С одной стороны, она могла уже забыть о наших двух арестантах, и они, по крайней мере в ближайшее время, могут быть в безопасности. Напоминание о них может стать фатальным, Стасова может решить, что их следует расстрелять.
Моя мама не могла спать всю ночь. Что ей следует делать? В конце концов, она решилась и пошла к этой женщине. Она получила аудиенцию и просила за сына, об освобождении отца не могло быть и речи. Стасова сказала: «Нет, белому офицеру не будет прощения». Мама вернулась домой в отчаянии. То, чего она боялась больше всего, случилось, и она виной этому. Своей просьбой она напомнила этой женщине о существовании Кота. Бедная мама, через какие муки она прошла!
На следующий день от того же друга мы узнали, что эта женщина никого не любит, кроме своей сестры по фамилии Яковлева, которая в это время умирала от испанки. Мама поспешила туда, где жила Яковлева. Сначала ей не разрешали пойти к больной, но в конце концов она оказалась у постели умирающей женщины. Мама опустилась на колени перед ней и умоляла о сыне. Она просила Яковлеву упомянуть о сыне, когда придет ее сестра. Мама оставила свое имя и вернулась домой. Прошел день или два. Я была в кухне, делая что-то из обычного овса, которым кормят лошадей. Он был выдан нам вместо хлеба. Мне посчастливилось также достать большую селедку. Я пропустила всё через мясорубку — и овес и селедку с головой и костями — сложила все на сковородку и собиралась добавить воды, как вдруг кухонная дверь открылась и вошел Кот. Я от удивления чуть не уронила всё это на пол. Неужели это действительно Кот? Как это может быть? Мы вместе поспешили в спальню матери. Казалось, что свершилось чудо.
Кот рассказал нам, что утром в его камеру, где он содержался вместе с папой, пришли стражники и приказали ему собрать свои вещи и выходить. Эта фраза всегда употреблялась независимо от того, покидал ли узник камеру, чтобы быть расстрелянным или отпущенным на свободу. Он был освобожден, но мы еще долго не знали, что происходило за сценой.
По-видимому, после того как мама ушла от Яковлевой, больной стало еще хуже. Стало ясно, что ей осталось недолго жить. Ухаживавшая за ней женщина послала за Стасовой. Когда та пришла, Яковлева повторяла снова и снова одну и ту же фразу: «Отдай матери ее сына, отдай матери ее сына». В конце концов Стасова вышла и расспросила женщину, смотревшую за сестрой. Что за мать и что за сын, о которых говорит ее сестра? Ей было показано имя, оставленное моей матерью.
Любовь к сестре победила, она подошла к ее постели и сказала: «Хорошо, мать получит своего сына, я сделаю то, что ты хочешь».
Умирающая женщина благодарно улыбнулась. Начиная с этого момента ей стало лучше, и через несколько дней она поправилась.
Кот сказал мне, что никогда в жизни он не едал ничего вкуснее овса с селедкой. Он выглядел очень истощенным и несколько дней пролежал в кровати с бронхитом. Но благодаря заботам любящей матери и дружескому окружению он скоро поправился. Мы решили, что Стасова, после того как ее сестра поправилась, может переменить свое решение и для Кота безопаснее совсем покинуть Петроград. И вот снова горе расставания. В те времена нельзя было знать, увидимся ли мы снова. Уже гораздо позднее я услышала, что ему удалось пробраться на юг России и вступить в Белую армию. Теперь он живет в Париже.
К тому времени мы остались совсем без прислуги, правда, нашли молоденькую девушку для помощи мне в нашем простом хозяйстве. Она стояла в очередях за хлебом или старалась раздобыть для нас картошки. Мы были почти ровесницами, и у нас с ней установились дружеские отношения, я не чувствовала себя больше такой одинокой в большой пустой квартире — мама и Ика почти все время отсутствовали. Выше по лестнице жил человек, у которого, как говорили, были всякие продукты, такие как яйца, масло и мука. Я решила обратиться к нему с просьбой, не может ли он нам продать немного. Он обещал, и я в назначенное время поднялась по лестнице, чтобы получить их. Он вежливо пригласил меня в свою комнату, вручил мне пакет муки и другой с крупой и обещал еще в следующий раз. Когда я покидала его комнату, открылась другая дверь и немецкая дама средних лет попросила меня войти. Мне показалось, что она очень взволнована. Она жестикулировала и пыталась что-то объяснить мне, чего я сразу понять не могла, поскольку дама не могла сначала подобрать нужных слов. Она указывала на комнату, где я только что была, и пыталась растолковать мне, что я не должна больше туда ходить. Она поносила того человека и пыталась объяснить мне, как я молода и невинна. В конце концов я что-то поняла из тех немногих русских слов, которые она употребила, и тех немногих немецких, которые я знала. Я стояла перед ней, не зная, что сказать. Я показала на два пакета, бывшие у меня в руках, и она стала еще более возбужденной и сердитой. Понадобилось довольно много времени, прежде чем я полностью поняла, что она имеет в виду, а когда до меня наконец дошло, я поблагодарила ее за участие. Я начинала понимать жизнь.
Минуло Рождество без всяких происшествий, ужасный 1918 год кончился. Но и 1919-й сулил мало хорошего. В феврале моя любимая крестная мать, тетя Саша, тихо ушла из жизни. Я навестила ее за день до смерти, она была очень хрупкой и слабой, но по-прежнему милой и любящей по отношению ко мне.
Немного спустя мы услышали, что четыре Великих князя, оставшиеся в живых, были зверски убиты. Нет нужды говорить, как я переживала это, потому что одним из них был Великий князь Георгий Михайлович.
Пришла Пасха — великий день, который всегда приносил столько радости. День прекращения поста, который мы праздновали всегда так весело. Теперь было всё по-другому. После ночной службы мы пошли к Николаю Татищеву, где было устроено что-то вроде празднования для немногих родственников. Как всегда, на Пасху были крашеные яйца, но только по половинке на каждого.
Дядя Николай предложил мне работу в своем учреждении. Он был главой архивного отдела, а я стала при нем чем-то вроде секретаря. Кроме нас, там были два генерала, оба из бывших Преображенцев, как мой отец и дядя, так что нас было четверо в маленьком учреждении. Моя работа заключалась в том, что я лазала по железной лестнице в библиотеку архива и приносила книги, требовавшиеся дяде. Часы работы были с 10 до 4. Мой заработок я отдавала матери, так же как и Ика. Машенька вела наше хозяйство.
Потом нам сказали, что отца переводят в Москву. Конечно, мы решили следовать за ним. В Москве жила другая бабушка (Татищева)[44] с двумя дочерьми[45]. Было грустно оставлять бабушку Нарышкину, но ничего нельзя было поделать. Кроме того, дядя Кира, тетя Тата и Петрик оставались в Петрограде и могли позаботиться о ней. У нас едва хватало денег на поездку, но дяде Николаю удалось оформить мой перевод в отдел нашего архива в Москве, и мне разрешили взять с собой мама и сестру.
Мы приехали в Москву в конце мая. Тетя Нина уступила нам свою комнату и переселилась к сестре. Нехватка в еде была здесь тоже велика, и Тун, которую мы помнили кругленькой, в два раза уменьшилась в размерах. В отличие от Петрограда все московские дома и квартиры были переполнены. По-видимому, многие переселились в Москву в связи с переездом учреждений.
Вскоре после приезда я отправилась представиться на моей новой работе, в архиве армии. Вначале, появившись там, я очень смущалась и чувствовала себя неловко, но вскоре поняла, что этот архив был полон людьми старого режима, и быстро освоилась. Меня баловали, так как я была самой молодой среди них. Архив находился в доме, реквизированном у богатого купца, не далее чем в десяти минутах ходьбы от того места, где мы жили.
Ика тоже искала работу. Ее представили жене профессора, которая в это время пыталась организовать колонию из молодежи, пожелавшей жить в деревне и работать на земле. Такая работа полностью подходила сестре: она любила деревенскую жизнь, а лето в Москве совсем не было приятным. Ика посоветовала и мне примкнуть к ним. Она описывала жизнь, которую мы будем вести — чудные летние вечера, купанье в реке, солнечные ванны днем и много еды. Мы обе понимали, что работа может быть утомительной, тем более что мы совершенно к ней не привыкли, но профессорская жена, которой очень хотелось привлечь нас, сказала, что труд не будет изнурительным, что ее дети уже записались.
Итак, мы решили принять предложение, и я отправилась к моим новым друзьям в архиве, чтобы вручить заявление об уходе. Мой начальник опечалился тем, что я ухожу, спросил, почему я это делаю, и, услышав, что я собираюсь заняться сельским трудом, прямо сказал мне, что этот род занятий мне не понравится. Мы долго спорили, но я твердо стояла на своем желании жить в деревне. В конце концов, он принял мое заявление.
Место было расположено недалеко от Москвы. Это был очаровательный загородный дом, реквизированный и принадлежащий теперь правительству. Он был пуст. Мы расположились в комнатах для прислуги в очень примитивных условиях. Пища была простой, но обильной. Вставать нам приходилось в 4 и работать до 8 утра. После часового отдыха полагалось работать до 12, затем был обед и двухчасовой отдых. Потом опять работа до 8 вечера. Мы пололи, поливали, подготавливали землю, и работа оказалась очень тяжелой и утомительной. Прохлаждаться было некогда. К окончанию работы мы были рады съесть ужин и завалиться спать, чтобы восстановить силы для завтрашнего утомительного дня. Обычно мы ходили босиком: не привыкнув к этому, я наступила на что-то острое и порезала ногу. Ее завязали и обработали, но она была помехой в работе, и я не успевала за остальными. Было ясно, что улучшение наступит не скоро, и Ика решила, что я должна вернуться домой. Так я снова оказалась в Москве.
Мой милый начальник сильно смеялся, когда я вновь появилась и попросила, чтобы меня снова приняли на работу. Он вдоволь подразнил меня и сказал, что я должна была послушаться его, когда он возражал против моей работы в деревне.
— Вы не годитесь для работы такого рода, — сказал он.
По вечерам, после более чем скромного обеда, у нас было время, чтобы навешать старых московских друзей. Я снова встретилась со своей подругой Ксенией Сабуровой[46], чей отец был назначен губернатором Петрограда за несколько месяцев перед революцией. Его, как и моего отца, держали в тюрьме. Все Сабуровы и их родственники еще жили в своем большом доме[47], но его уже отобрали, и им было разрешено занимать только несколько комнат. Когда-то у них было прекрасное имение недалеко от Москвы, теперь тоже не принадлежавшее им. Там, в библиотеке, которая была когда-то его собственной, работал в качестве библиотекаря ее дядюшка[48].
Однажды Ксения и ее многочисленные кузены пригласили меня поехать туда вместе с ними. Было очень приятно провести несколько дней за городом после жары и духоты московских улиц. Мы, четыре девушки, заняли одну комнату, а в соседней спали мальчики. Мы могли гулять по парку и окрестностям или бродить по комнатам, превращенным в музей. Мы не могли оставаться там долго всей компанией, чтобы не причинить неприятностей дяде Ксении.
Новости об отце и наших друзьях, тоже находившихся в тюрьме, были не слишком плохими. Мы могли каждую неделю посылать им передачи с едой и сигаретами, в которых они очень нуждались, и могли обмениваться с ними маленькими записочками, что было очень успокаивающе. Некоторые из узников даже могли в выходные дни приходить домой. Условия в московской тюрьме были гораздо лучше, чем в петроградской.
Ика раз или два навестила нас и сказала, что работа стала не такой тяжелой. Она выглядела здоровой и загорелой, было видно, что жизнь в деревне идет ей на пользу. Она сказала, что, когда созреет урожай, она сможет привезти нам овощей.
Потом случилось нечто ужасное: женщина по фамилии Каплан пыталась убить Ленина. Он был слегка ранен, а ее сразу поймали, но большевики не остановились на этом. Наступил террор. Они начали репрессии против невинных людей, которые не имели ни малейшего отношения к инциденту. Зачем они так поступали, никто не мог понять, равным образом никому не были ясны истоки их ужасной революции. Она была слишком жестокой, слишком кошмарной, чтобы ее можно было понять. Было только ясно, что страдали лучшие люди. Люди благороднейшей души и ума обрекались на смерть, а самые скверные поднимались вверх, чтобы править, уничтожать и убивать.
Вскоре мы узнали, что отец вместе с другими, занимавшими высокие государственные посты, был расстрелян в ночь с 13 на 14 сентября 1919 года. Как всегда, когда совершались жестокости, ничего определенного не было сказано. Людей держали в неведении, до нас доходили только слухи. Прошло некоторое время, прежде чем мы узнали правду. Нет нужды говорить, какую муку мы пережили. Каждый день приносил нам все меньше и меньше надежды, пока наконец нам не сказали всю правду. Горе матери было неописуемо. Даже теперь я не могу вспоминать это без содрогания. Что касается меня, я сказала сестре:
— Моя жизнь кончена.
Она приняла мои слова очень серьезно. До этого она изо всех сил старалась успокоить нас, теперь же сердито повернулась ко мне:
— Как можешь ты так говорить? Тебе только девятнадцать, как ты можешь говорить, что твоя жизнь кончена? Это ужасно для всех, но люди могут пережить такие вещи. Ты молода, и времена могут измениться.
Я не буду больше задерживаться на этом тяжелом периоде. Жизнь не остановилась, и мы должны были жить дальше. В архиве все были очень добры ко мне, но хоть я и была благодарна за это, я не могла справиться с обрушившимся на меня горем. Мои религиозные чувства в то время не были сильны. Мы почти не ходили тогда в церковь, и я не могла смотреть на события как верующий человек. Найти в себе силы пережить всё это без религии было совершенно невозможно. Мы продолжали жить механически.
Похолодало, и мы попросили наших петербургских родственников прислать наши зимние вещи, оставленные в доме дяди. Пришел ответ, что всё украдено; шубы, зимние платья, одежда — всё пропало. Всё, что у нас теперь было, это то, в чем мы приехали на время в Москву в июне. Следующая зима 1919 года была ужасна. Не было топлива, почти не было пищи, наших совместных жалований едва хватало на две недели. Мы начали менять вещи. Мои тети стали продавать мебель, ковры, ткани — всё, что они могли найти в своих сундуках. Тете Нине пришлось расстаться с пианино, которое она так любила, за два мешка картошки и немного муки. Две комнаты были у нас отобраны — столовая и гостиная. В одну из них въехал красноармеец. Его хорошо снабжали разными вкусностями, и у него было много топлива. Я часто приходила погреться в прихожую, где жарко топилась печь, обогревающая его комнату. Он выходил из нее и разговаривал со мной. Если он в это время стряпал на керосинке, стоявшей у него в комнате, то мой рот наполнялся слюной от запаха жарящейся яичницы с салом, однако он ни разу не угостил меня ничем.
Однажды, когда он застал меня на кухне, пытавшуюся что-то приготовить из того жалкого, что удалось раздобыть, он сказал мне:
— Ваши глаза не дают мне покоя. Я все время думаю о вас. Приходите ко мне сегодня ночью, когда все ваши заснут, я устрою для вас замечательный праздник. У вас будет все, что вы захотите.
Я ничего не ответила, потому что к тому времени я уже всё понимала.
Вскоре вышел новый декрет — каждый красный солдат может выбрать себе по вкусу подругу и делать с ней всё, что захочет. Я молча старалась избегать его, но это было трудно, — у нас была общая кухня и ванная комната.
День следовал за днем, но трудности оставались прежними: голод, холод и нетопленые комнаты. Вода замерзала. При встречах с друзьями единственной темой разговоров было, как раздобыть еду и топливо. Возникал вопрос, что хуже — голод или холод, и никто не знал ответа. Я думала, что преодолеть холод было легче, — можно было тепло одеться и закутаться в одеяла, но что делать с голодом, если нечего есть?
Теперь у нас не было слуг, и каждый делал свою часть домашней работы. Никто из нашей семьи не умел стряпать, так что это было моей обязанностью. Однажды в московском зоопарке умер верблюд, и его мясо было распределено между голодными жителями города. Тетя Нина получила небольшую долю, и я изготовила из этого мяса обед. Мясо лошадей было деликатесом, и иногда мы могли его раздобыть. Однажды вечером я проходила по переулку недалеко от нашего дома и увидела лежавшую там мертвую лошадь. Никто не побеспокоился убрать ее, но когда я проходила там чуть позже, половины лошади уже не было. Люди приходили, отрезали куски и уносили домой. Это было жалкое зрелище, но ничто уже не могло меня потрясти.
Ика покинула нас, найдя работу с жильем. Это было легче для нее, напряжение нашей жизни стало для нее слишком трудно. Она навещала нас довольно часто и приносила мне продукты. После окончания сельских работ, она искала что-нибудь еще и нашла работу в детском учреждении. Туда приводили детей младше пяти лет для присмотра, пока матери были на работе. Ей нравилась эта работа, и я приходила к ней посмотреть, как она там работает. Однажды нас навестила молодая женщина из Ворганова и принесла нам утку. Какой праздник был у нас в этот вечер! К весне стало легче добывать продукты, и мы нашли женщину, которая жила с нами и освободила меня от стряпни. В Москве и повсюду из-за плохих санитарных условий разразилась эпидемия тифа. Люди подцепляли его везде, особенно в поездах, где условия были неописуемы. Наша новая кухарка тоже подхватила эту смертельную болезнь, и ее отправили в больницу, а мне снова пришлось приняться за стряпню. Солдат, пытавшийся за мной ухаживать, привел красивую молодую женщину, которая мне понравилась. Она была полненькой с милым улыбающимся лицом. Но это продолжалось недолго. За какой-то проступок его посадили в тюрьму, а его подруга тоже оставила нас. Комната стояла пустой и запертой. Однажды, когда я готовила блюдо из конины, раздался стук в дверь и вошел наш бедный солдат. Он был истощен, в половину тоньше, чем раньше, бледный и совершенно изменившийся. Он рассказал мне, что был очень болен тифом и сейчас выпущен из тюрьмы. Мне стало жалко его, и я предложила ему порцию того, что готовила. Я видела, как он голоден.
Однажды утром к одной из моих теток пришла поговорить женщина. Она была очень вежлива и задавала много вопросов о наших родственниках за границей. У нас были родственники в Румынии. Оказалось, что была прислана посылка с указанием пашей фамилии. В тот же вечер нас посетили из ГПУ, и обеих теток отвезли в тюрьму.
Теперь мы жили втроем: бабушка Татищева, мама и я. Известия о бабушке Нарышкиной были не слишком хороши. Горничная Анна покинула бабушку, она жила в монастыре, но ей там было плохо. Мама решила поехать повидать ее, и эта мысль мне понравилась. Матери следовало переменить обстановку после всего, что она пережила. Может быть, это дало бы ей новые силы нести свой тяжелый крест.
Итак, я осталась одна с моей другой бабушкой. Она была очень милой, и с ней было легко, но она была одержима идеей, что я должна сделать хорошую партию. Она следила за мной, как ястреб, и это естественно мне досаждало. Не было ни одного моего приятеля, которого бы она не раскритиковала, во всех она находила недостатки. Если у меня никого не было, ее мучили подозрения, и она допрашивала меня. В архиве, где я работала, я познакомилась с несколькими молодыми людьми и юношами, иногда кто-нибудь из них провожал меня домой. Этого было достаточно, чтобы возбудить подозрения бабушки. Мне не разрешалось приглашать их домой.
Однажды наш водопровод испортился, и мне приходилось носить воду. У живших поблизости были те же трудности. Набирая воду, я познакомилась с молоденькой девушкой. Мы разговорились. Оказалось, что она живет в том же дворе и заметила меня еще раньше. Вскоре мы подружились. Она была немножко моложе меня, у нас было много общего, и было приятно поболтать с ровесницей. Она тоже была довольно одинока, жила с пожилой матерью и женатым братом, с женой которого не ладила, ее две старшие сестры тоже были замужем. Она искала работу. Я поговорила о ней с моим боссом, и она получила работу в нашем учреждении. Это сблизило нас еще больше. Утром она заходила за мной, и весь день мы были вместе. Бабушка отнюдь не одобряла мою новую дружбу. Она открыто критиковала девушку, а когда мы оставались одни, объясняла мне, что она слишком проста. Я спорила и защищала мою подругу, бабушке же хотелось, чтобы я дружила с Ксенией и теми, кто ей больше нравился. Я объясняла, что все они живут довольно далеко, а Вера тут рядом.
С началом солнечной весенней погоды я стала чувствовать себя лучше, как будто молодая травка, листочки и первые цветы помогли мне ожить. Ика, видя, что румянец возвращается на мои щеки, подарила мне свою маленькую шляпку. Я надела ее и посмотрела в зеркало. Шляпка мне шла, и мне впервые поправилось мое лицо. Поскольку все пальто и вся одежда, которую мы оставили в Петрограде, были украдены, а купить мы ничего не могли — магазины были пустые, да и денег все равно не было, то приходилось носить то, что нам могли дать тетки. Юбка для меня была сделана из бабушкиного пальто, нашими зимними пальто стали те, что тетки носили в Ворганове. Некоторые из вещей, что я носила, были велики, длинны, и все они были не модные.
Я стала думать о том, что подошло бы мне для наступающих ярких летних дней. Тут помогла невестка Веры, она была портнихой — не первоклассной, но вполне годившейся для меня. Она соорудила несколько летних платьев, которые, по крайней мере, подходили девушке моих лет. Я переменила прическу и стала интересоваться внешним миром.
Мама вернулась из Петрограда и привезла бабушку. Ей предложил хорошую комнату в своем доме разбогатевший крестьянин, купивший дом в Москве. Бабушка всегда пользовалась любовью крестьян своего имения. Когда среди них стало известно о ее приезде и стесненных обстоятельствах, они старались всячески помогать ей. Один помог с жильем, другие привозили еду — яйца, масло, молоко; в общем — всё, в чем она нуждалась. Была даже найдена милая молоденькая девушка, чтобы ухаживать за ней и прислуживать в качестве горничной. Единственным неудобством было то, что бабушка жила теперь очень далеко, на другом конце Москвы. Матери было очень трудно ее навещать. На трамваи нельзя было рассчитывать, — они были так переполнены, что было опасно ими пользоваться: при попытке влезть людей часто сталкивали и они расшибались. Матери приходилось идти всю дорогу пешком, вставая рано утром. Целый день она проводила у бабушки и возвращалась в одиннадцать вечера.
Как-то приехала побыть в Москве тетя Тата. Это было для меня очень радостным событием, так как она привезла Петрика. Это был теперь настоящий молодой человек, чрезвычайно красивый, мы с ним по-прежнему были друзьями. Тетя Тата была москвичкой, у нее здесь было много друзей и родственников, которых она навешала. Она представила меня некоторым из них, и я подружилась с ее родственницей, девушкой по имени Нита. Ее фамилия тоже была Нарышкина. Петрик, Нита, Верочка и я в течение нескольких недель веселились, несмотря на тяжелые времена. Приехала Сандра Лорис-Меликова со своей матерью на короткое время, по пути за границу: незадолго до этого граф был выпущен из тюрьмы, и они получили разрешение уехать из Советской России.
В тот год Бог помог голодающим людям и послал нам невиданный урожай яблок. Никто не помнил такого огромного урожая. Яблоки были везде — на работе выдавали мешки яблок, магазины были завалены яблоками, мы начинали наш день с яблок, они подавались к обеду и ужину. Теперь вместо картошки к хлебу подмешивались яблоки, и они никогда не надоедали. Благодаря яблокам наше здоровье поправилось, так как они содержат много железа, в котором мы тогда очень нуждались.
Мне было уже двадцать два года, и я думала: «До чего же я стара». Я начала писать стихи. Они были посвящены в основном моему незабываемому пребыванию в Финляндии. Мои чувства к моим поклонникам не были глубокими, я просто разрешала им ухаживать за мной, вот и всё. Я не интересовалась молодыми людьми, бабушка могла быть спокойна. Я очень нравилась моему начальнику, и он хотел, чтобы я вышла замуж за его сына, который был старше меня на несколько лет. По странному совпадению его имя было Георгий Михайлович — то же, что и у Великого князя. Но как я могла заинтересоваться молодым человеком, как могла сравнить его с моей первой большой любовью? Даже сам полковник (его отец) импонировал мне больше. Мне нравились зрелые люди, а не юнцы. То, что меня никто особенно не привлекал из знакомых мужчин, заставляло меня думать, что в моем характере есть какой-то изъян, что я вообще не способна полюбить, или набалована, или горда, или еще хуже — сноб.
К концу лета стало легче. Урожай был лучше, чем в прошлом году, голод уменьшился. Люди выглядели счастливее, во всех больших учреждениях устраивались вечера. На одном из таких вечеров высокий элегантный мужчина подошел ко мне и пригласил танцевать. Я устала, но он настаивал. Неохотно я последовала за ним в центр зала, и мы начали танцевать. Манера, в какой он танцевал, была мне непривычна — что-то среднее между вальсом и фокстротом. Сначала я была несколько сбита с толку, но вскоре уловила ритм, да и он все время подбадривал меня, говоря, как у меня хорошо получается. Мы продолжали долго танцевать, когда уже все кончили, и потом он не отошел от меня, мы разговорились. Как-то получилось так, что мы решили встретиться в ближайшее время. Расстались мы друзьями. Он был далеко не мальчиком, у него были приятные черты лица, высокий лоб, ему было уже под сорок. Что-то очень привлекательное было в манере его поведения. Обе мы, Верочка и я, а также наша подруга Надя, были в этом согласны.
Моих теток, в конце концов, освободили, и после шестимесячного отсутствия они вернулись домой. Все мы теперь работали, в том числе и моя мама. Она служила в учреждении, находившемся недалеко от моего. Мои мысли были теперь заняты новым знакомым. Мне хотелось знать о нем больше, и Нита, которая представила его мне, могла много о нем рассказать. Его звали Валериан Муравьев. Его отец был когда-то послом в Риме. Он был единственным сыном, три сестры были старше, все они были за границей и одна из них замужем за английским лордом. Муравьев был очень образованным и умным человеком, большим другом профессора Николая Бердяева, известного теолога, чьи еженедельные лекции всегда посещала тетя Тун. После лекций бывали дискуссии, в которых мой новый друг играл заметную роль. Иногда он и сам читал лекции. Тетя Тун сказала, что он очень умный и образованный. Мне хотелось увидеться с ним снова, и он обещал навестить нас в учреждении, где мы все трое работали. Он сдержал свое обещание, но меня там уже не было, я была арестована.
Это случилось так. Бабушка попросила меня зайти к ее другу мадам Соколовой, которая обещала ей достать яйца и масло. Дом был мне знаком, я там часто бывала с бабушкой. В нем жили три семейства, и всех я хорошо знала. Я прошла прямо в гостиную, где сидели мадам Соколова и какой-то странный человек, и спросила о хлебе и яйцах. Мадам Соколова казалась слегка смущенной и сказала, что их у нее нет.
Я немного побыла там, но когда открыла дверь на улицу, двое военных загородили мне дорогу и сказали, что я арестована. Оказалось, что всех, кто входил в дом, арестовывали. Я возвратилась в гостиную, где сидела мадам Соколова, и поняла, что человек, находившийся там, был из ГПУ.
Из другой комнаты вышла Елена (дочь княгини Эристовой), которая провела меня в соседнюю комнату, где уже сидели остальные арестованные. Она шепотом сказала мне, что всё это предпринято для того, чтобы поймать их друга, князя Ратиева, которого разыскивает ГПУ. Она попросила, если меня отпустят, немедленно предупредить его, чтобы он не посещал их некоторое время. И так мы все сидели, ничего не делая.
Я волновалась, что мама, придя домой и не найдя меня, будет беспокоиться. Бабушка скажет ей, куда я была послана, и она может пойти за мной и тоже будет задержана. Мы устроили пост у окна, откуда могли видеть всех подходивших к дому. Ждать долго не пришлось, мы увидели маму и Тун, переходящих дорогу по направлению к входной двери. Я легонько постучала в окно, они подняли голову и увидели нас. Мы делали им знаки, не входить в дом, и пытались дать понять, что мы под стражей. Они поняли и ушли. Вероятно, когда они вернулись домой, прибежала Верочка, узнать, что со мной случилось, и почему я не была на работе. Потому что в тот же вечер, когда я всё еще сидела у окна, появилась Верочка и сумела дать мне понять, что Валериан заходил на работу. Это сделало меня счастливой.
Нас заставили пробыть в том доме несколько дней, так как они всё еще ждали, что князь появится. Наша маленькая группа постепенно пополнялась. Был задержан доктор, пришедший навестить мадам Соколову, которая была нездорова. Потом пришла женщина, продававшая молоко, и была радостно встречена, потому что еды уже не оставалось. Кроватей было мало, и мы проводили ночь в креслах. Мадам Соколова предложила мне ночевать у нее в комнате, когда услышала, как один молодой солдат предложил мне свободу на определенных условиях. Он сказал, что, если я не соглашусь, он может отправить нас в концентрационный лагерь. Затем, однажды утром, примерно через три дня нас всех отпустили.
Глава шестая Интерлюдия
Зима 1920/21 года миновала благополучно. Мы встречались с Валерианом все чаше и чаще и, хотя я чувствовала, что между нами что-то назревает, мы никогда об этом не говорили. Потом в одну из наших встреч он сделал мне предложение. Я была счастлива и гордилась тем, что такой человек любит меня, что скоро я выйду замуж и начну новую жизнь. Пожалуй, об этом я думала больше, чем о любви. Я знала, что тетушки будут возражать против этого брака, но мама была на моей стороне. Однако она настаивала, чтобы венчанье было отложено на год, за это время они несколько успокоились бы. Теперь ситуация изменилась, мы встречались часто наедине и могли о многом говорить. Я узнала его лучше. Однажды он сказал мне, что он друг Троцкого, хотя сам не коммунист. Это огорчило меня, а тетушек привело в ярость.
Тем временем бабушка Нарышкина переселилась из своей комнаты в большое село Ивашково с почтовым отделением, расположенное в шести верстах от Степановского. Она приглашала нас приехать навестить ее на несколько дней перед Пасхой.
Ей предложили по ее выбору комнату в доме богатого крестьянина. Мы нашли ее бодрой, но, конечно, очень одинокой. Крестьяне были очень добры к ней и снабжали ее всем необходимым. Я видела, как некоторые из них приходили, склоняли колена перед бабушкой и расспрашивали о Царе. Это было трогательное зрелище. Что она могла ответить им, чтобы не поколебать их искреннюю веру, когда некоторые из них говорили, что, вероятно, Царская Семья в безопасности живет за границей? Для них бабушка была ниточкой, связывающей их со счастливыми прошедшими днями, и они старались помочь ей всем, чем могли.
Однажды приехал пожилой учитель из Ивашкова. Там организовывалась средняя школа, и они пытались подыскать подходящих учителей. У них уже было несколько кандидатур, но ни одной для преподавания иностранного языка, и они предлагали матери работу в качестве учительницы французского и немецкого. Ей показалось это хорошей идеей, потому что позволяло жить рядом с бабушкой, чувствовавшей себя в деревне одинокой. Поскольку я не хотела разлучаться с матерью, то учитель из Ивашкова получил трех учителей вместо одного: меня, моего жениха и мою маму. Мы решили отправиться до начала учебного года, чтобы освоиться.
Мы покинули Москву в конце августа. Было приятно провести осень в деревне. У нас была комната при аптеке, недалеко от бабушки, и мы могли проводить с ней много времени. Я немного волновалась, как я справлюсь с целым классом, в котором ученики лет пятнадцати и старше. Я должна была учить их немецкому и французскому, позже добавилась естественная история.
Я помню несколько прогулок в Степановское. Дорога туда была длинной, около 6 верст. К счастью «управляющий» имением был очень приятным человеком, который, как и его жена, хорошо относился ко мне. Они угощали меня обедом и чаем и старались обогреть. После трапезы он вручал мне ключи от «дворца», как его тогда называли, и говорил:
— Делайте, что хотите, смотрите любые комнаты, чувствуйте себя как дома.
Последняя фраза звучала несколько жалостливо, но я понимала, что он говорит это от чистого сердца. Я благодарила его и начинала свое грустное путешествие. Я входила через заднюю дверь этого огромного дома и поднималась по лестнице в «китайский зал». Чувство одиночества охватываю меня, но я старалась отогнать его. «Я не поддамся эмоциям», — говорила я себе и потом шла по всем главным комнатам.
В портретной галерее я смотрела на моих предков, взиравших на меня в молчании. Я глядела на них и думала, думала. Действительно ли они смотрят на меня с высоты и знают ли они, что происходит здесь? Может быть, и знают, — у некоторых были такие печальные взгляды. Между двумя портретными галереями был круглый зал, где был выставлен фарфор. Ничего из него не осталось, но некоторая мебель была всё еще там. Четырехсторонний диван, на котором мы играли в поезд, и четыре стола стояли на своих местах.
Однажды я открыла ящик в одном из этих столов и обнаружила там маленькие кусочки бумаги с нарисованными мною монетами. Мы играли в них с Петриком, когда он был здесь последний раз. Сердце упало, едва я увидела их. Я закрыла ящик и продолжала свой путь.
Так я бродила и бродила, вспоминая, и ничто не нарушало тишину, кроме звука моих шагов по паркету. Наверху все картины и мебель оставались нетронутыми, остался даже запах дома, каким я его помнила. Слезы подступали у меня к глазам в комнате тети Саши, где в прежние времена я всегда находила ее спокойно сидящей в старинном кресле перед письменным столом. Мне вспоминалось ее доброе любящее лицо и сигарета в тонкой руке. Может быть, хоть она видит меня сейчас, одинокую девушку, странствующую по этому огромному дому, полному воспоминаний о прошедших днях?
Внизу, в «желтой комнате», я снова бросала быстрый взгляд на «Турка», который так пугал меня раньше. Всё та же неприятная ироничная улыбка приветствовала меня, как будто он говорил: «А, вот, наконец, и ты пришла сюда. Видишь, я вовсе не так плох, как ты думала! С тех пор ты видела много людей и событий гораздо хуже». И в самом деле, я не находила его таким пугающим и думала, каким же ребенком я была, страшась его лица.
В одно из посещений у меня была особая цель. В комнате бабушки, как раз над кушеткой, висели две фотографии. Я сняла их и вынула из рамок. Я заранее предупредила «управляющего» о том, что хочу сделать. Он сказал, что я могу их взять, если укажу ему место, чтобы он мог заменить их чем-то другим: все картины были пронумерованы. Одна из них была фотографией Великого князя Георгия Михайловича.
За осень 1921 года я совершила несколько таких путешествий, но не всегда просила ключи от здания. Если бы меня спросили, зачем я вообще туда ходила, пожалуй, я не смогла бы определенно ответить. Вероятно, я проходила все эти 12 верст туда и обратно, только чтобы увидеть знакомый большой дом с его колоннадой, куполами и балконами. Я бродила вокруг, навешала знакомые места, где мы играли и были счастливы. Я не заходила в обитаемые уголки имения, хоть там и могли быть те, кого я знала раньше, но можно было встретиться и с людьми, настроенными враждебно.
Валериан не поехал вместе с нами в Ивашково, он должен был присоединиться позже. Мы писали друг другу письма, но оба чувствовали, что сердечности в них нет. Через некоторое время он написал, что решил сохранить работу в Москве и не переедет в Ивашково.
На Рождественские каникулы мы с матерью поехали в Москву. Я послала весточку Валериану, и на следующий день он пришел. Я была рада его видеть, но почему-то от наших прежних чувств друг к другу почти ничего не осталось. Я чувствовала, что просто играю роль, а он, будучи умным человеком, понимал это.
Было не легко разорвать помолвку — слишком много было сказано, слишком многие знали о ней, но я решила смело смотреть в лицо трудностям.
В начале марта я взяла мою новую подругу Прасковью Федоровну, учительницу рукоделия в школе, посмотреть Степановское. Погода была достаточно теплая, снег подтаивал днем, но к вечеру сильно подмораживало, и можно было ходить, где хочешь, крепкий наст выдерживал. Для прогулки мы выбрали прекрасный солнечный день.
На обратном пути мы по целине обогнули деревню, лежавшую у нас на пути. Очень немногие знали меня там, но мне не хотелось, чтобы меня заметили. Когда я решила, что мы ее уже прошли, я повернула к дороге. Мы шли довольно долго, но дороги всё не было. Куда бы мы ни сворачивали, всё было одно и то же — твердый белый снег с отдельными кустиками, засыпанными снегом. Мы заблудились. Было уже темно. Яркий свет появился вдали. Я поняла, что это должна быть единственная в окрестности электрифицированная большая деревня. Я знала, что она далеко, однако мы пошли к ней. Но свет исчез. Мы сели отдохнуть.
Через некоторое время моя спутница поднялась и сказала:
— Мы не должны долго сидеть на снегу — это опасно. Если мы заснем, то замерзнем до смерти.
Я осталась сидеть, натертая до пузыря нога очень болела, и я просто не могла себе представить дальнейшее бесцельное блуждание. Что было делать? Я начала молиться, — только Бог мог спасти нас. Рассудок мой затуманился.
Вдруг я услышала отдаленный лай собаки. Мы пошли на него. Постепенно лай становился громче, и, в конце концов, мы вышли к деревне, той, которую я хотела избежать. Мы пошли к дому старой крестьянской четы, которую я знала. Когда я рассказала, что с нами случилось, старик сказал:
— Бог явил вам чудо. Не многие люди выбирались живыми, заблудившись в этом месте, — оно болотистое и тянется на много верст.
Было уже поздно, но он запряг лошадь и отвез нас домой.
На следующий день я размышляла о том, что произошло, о нашем чудесном спасении. Я пыталась привести свои мысли в порядок. Я не много понимала тогда в религии.
Вскоре после этого у нас появился новый учитель, совершенно непохожий на других. Он был из Латвии и звали ею Иван Балин. Он был необыкновенно разговорчив, часто шутил, громко смеялся и, казалось, с самого начала чувствовал себя как дома. Он приехал, чтобы учить старших учеников химии. Мы вскоре подружились, и я, он и Прасковья Федоровна вместе совершали длинные прогулки. Было гораздо безопаснее иметь в нашей компании мужчину.
Потом вечером мы с Прасковьей обсуждали его: что нам в нем нравится, а что нет. Он был представлен моей бабушке и иногда наносил ей визиты, чего остальные учителя никогда не делали, считая себя слишком незначительными для этого. Как и всегда, мне не приходило в голову, что между нами может что-то быть. Он был мил с нами обеими и, казалось, не отдавал никому предпочтения. Но наступил момент, когда мне волей-неволей пришлось понять его отношение ко мне.
Была Пасхальная ночь, и мы с матерью пошли в церковь. После окончания Пасхальной службы мы были приглашены на квартиру учителей. Прасковьи Федоровны не было, на праздники она уехала к своей матери, жившей неподалеку. Был накрыт праздничный стол с традиционным холодным мясом и крашеными яйцами, куличом и пасхой. Было немного вина, и даже учителя, обычно очень серьезные и скованные, сделались веселыми и разговорчивыми.
Когда пришло время идти домой, новый учитель предложил проводить нас. Было темно, и он держал зажженную свечу, чтобы освещать нам дорогу. Моя мама уже вошла в дом, и я собиралась последовать за ней, как он остановил меня и стал что-то шептать. Это была Пасхальная ночь, и на мне было белое платье. Он говорил что-то о том, как мне идет это платье. Я была изумлена, увидев так близко его полное ожидания лицо и глаза, старающиеся дать мне понять то, о чем я до сих пор не подозревала. Я не знала, что делать, что думать. Не могу сказать, что чувствовала себя в своей тарелке, я ощущала себя слегка виноватой по отношению к моей подруге Прасковье Федоровне — не успела та уехать на несколько дней, как я уже кокетничаю с новым учителем, который, как я знала, нравился ей самой. Но, в конце концов, что такого я сделала? Разве я хотела, чтобы так случилось? Разве я чем-нибудь поощряла его? Конечно, нет. Я спокойно поблагодарила его за прекрасный вечер, пожелала ему спокойной ночи и присоединилась к матери. Я успокоила себя мыслью, что он слишком много выпил.
В следующую четверть у меня был другой класс, оказавшийся трудным. Ученики были немногим моложе меня. Один из мальчиков по временам смущал меня, и вскоре я поняла, что он сильно влюблен в меня. Он краснел, делался неловким, а другие ученики смеялись над ним и начинали перешептываться, когда я входила в класс. Я терялась, старалась не смотреть на него, но я была учительницей, я должна была следить, чтобы его уроки были выучены, должна была задавать ему вопросы. Когда я это делала, раздавался взрыв смеха.
Однажды пришел завуч, чтобы призвать к порядку мой класс, и обратился ко мне со словами:
— Товарищ Татищева, я попросил бы вас быть более строгой с классом, такое поведение разрешать нельзя.
Иван был все еще влюблен в меня любовью молодого неиспорченного существа, только начинающего свою жизнь и, может быть, любящего в первый раз. Как я могла порицать его за это или не сочувствовать ему, если знала сама, какое мученье может принести первая любовь.
Однажды в летние каникулы Прасковья Федоровна, Балин и я предприняли прогулку в лес за несколько километров. Мы разожгли костер, и пока Прасковья Федоровна пекла картошку, Иван, захвативший ружье, позвал меня в лес, посмотреть, как он охотится на вальдшнепов. Мне это не понравилось, но я не возражала. Через некоторое время мы остановились на поляне. Он стал подражать голосу вальдшнепа, и мы услышали, как птица отвечает. Он посмотрел на меня в молчании немного, а потом сказал, что любит меня и просит стать его женой.
Я не хотела показать, что была испугана, мы были далеко от всех в густом лесу, ни души рядом, и Прасковья Федоровна далеко. Что мне делать, что говорить? Мне пришло в голову, что если я откажу ему окончательно, он может обезуметь и застрелить меня. Он стоял в темноте ночи, ожидая моего ответа.
И тогда я придумала, как ответить. Я сказала:
— Мы поговорим сначала с матерью и спросим у нее совета. Сейчас я не могу сказать больше.
Мы поспешили к костру, который теперь только дымился. Я была рада снова оказаться рядом с Прасковьей Федоровной. Он был очень весел и в приподнятом настроении. Картошка испеклась и была изумительна — мы были очень голодны. Прасковья Федоровна была весела, она радовалась его хорошему настроению. Мы все трое решили, куда бы нас ни занесла судьба, прийти сюда снова в тот же день и час через десять лет.
В течение следующих нескольких недель я старалась держаться с Иваном холоднее, но не могла собраться с духом и сказать ему, что не выйду за него замуж. Он был очень упорным и держался не так, как русский в таких обстоятельствах, в нем не было и тени униженности. Наверное, я причинила ему лишние страдания, не отказав сразу, но у меня не хватило на это мужества.
В течение летних каникул мы могли больше времени проводить с бабушкой. Мама читала ей вслух — у бабушки ослабло зрение. Мы сидели, разговаривали и строили планы на будущее. К моему большому удовольствию, все были согласны, что с нас достаточно жизни в деревне, никому не хотелось думать еще об одной зиме там. Мы решили покинуть Советский Союз совсем. Эта огромная страна, прежде называвшаяся Россией, перестала быть ею. Мы ничего не теряли, покидая ее. Борьба за приличное существование была слишком тяжела, а постоянный страх, в котором мы жили, было трудно переносить. Мы решили любой ценой перебраться за границу. Многим из наших друзей удалось это сделать, мы постоянно слышали, что та семья или эта добралась до Парижа и обосновалась там. Мы знали, что нелегко получить разрешение уехать, но как бы ни было это трудно, мы собирались вновь и вновь повторять попытки, пока не достигнем желаемого. Сначала же мы должны вернуться в Москву. И мы отправились обратно. Ивана Балина не было, когда мы уезжали. Позже, когда учебный год уже начался, мы вернулись, чтобы забрать вещи, и застали его в ужасном состоянии — бледного, худого, как будто он перенес тяжелую болезнь. Я спросила, что с ним, но он ответил что-то неопределенное. Я чувствовала, что он тоскует, и я в этом виновата, я ввергла его в это состояние. Он сказал мне, что много бродит по округе, обследует окрестные места, чтобы забыться. Мне было очень жалко его, но я не знала, что сказать в ответ.
Так мы расстались. Все учителя вышли проводить нас, мне было жаль расставаться с ними, особенно с Прасковьей Федоровной.
В Москве мы решили, что бабушка Нарышкина будет жить с нами, деля комнату со мной и матерью. Ика продолжала жить в комнате при детском саде, где она работала. Теперь нашей первоочередной проблемой было раздобыть всем вместе денег на предполагаемое путешествие. Одни паспорта стоили безумных денег. У бабушки все еще были ценные вещи, которые она оставила на хранение мадемуазель Бусни, бывшей компаньонки тети Саши. Мама взяла меня с собой в Петроград, чтобы привезти их. Мадемуазель Бусни показала нам свой чулан, где хранились все вещи моей бабушки. Там стоял большой сундук, полный красивых придворных платьев, и других вещей, но самой ценной была статуэтка французской королевы Марии-Антуанетты, принадлежавшая тете Саше. Эту хрупкую ценную вещь надо было тщательно упаковать и отвезти в Москву. Перебирая вещи, я наткнулась на небольшую деревянную шкатулку, полную писем. Я начала читать одно из них и по короне в левом углу поняла, что оно от покойной Императрицы Александры Федоровны. Однако, когда я собиралась упаковать их с остальными вещами, мадемуазель Бусни быстро дала понять, что ни под каким видом не отдаст их мне. Она твердо сказала, что не имеет права их отдать никому, кроме самой бабушки. Больше я этих писем никогда не видела.
В Петрограде мы виделись с дядей Кирой, тетей Татой и Петриком. Последний был так рад видеть меня, что проводил все время с нами. Но мы были заняты сортировкой бабушкиных вещей.
Мы благополучно возвратились в Москву, привезя драгоценную статуэтку. Мы привезли также несколько портретов Царской Семьи, тех самых, которыми мы любовались в Зимнем дворце, в будуаре бабушки. Казалось, вечность прошла с тех пор. Нам сказали, что их опасно держать в нашей комнате. Был найден человек, который мог сохранить их для нас. Портретов мы тоже больше никогда не видели.
В начале 1923 года бабушка Нарышкина заболела и слегла в постель. Через несколько дней после нее я слегла с бронхитом, другой бабушке тоже нездоровилось. Только мы начали поправляться, тетя Тун вернулась с работы, чувствуя себя больной. Несмотря на это, она была в хорошем настроении и сказала мне:
— Мне нездоровится сегодня вечером. Может быть, я останусь завтра дома, но послезавтра я встану и буду здорова.
К сожалению, всё получилось совсем не так. На следующий день ей стало хуже, температура поднялась и оставалась высокой несколько дней, а 6 февраля она умерла. Горе переполняло наши сердца, особенно тяжело было бедной тете Нине. Всю свою жизнь они прожили вместе и нежно любили друг друга.
После смерти тети Тун я получила работу в том учреждении, где она служила. Работа была скучна, и я просто не знала, что мне делать. Вскоре я перешла туда, где работала моя мама. Это была большая американская организация, оказывающая помощь голодающим русским людям. Мама представила меня своему начальнику, приятному американцу, и спросила, не может ли он дать мне работу в своей конторе. Он посмотрел на меня улыбаясь и сказал:
— Почему бы нет? Она хорошо считает?
Я не совсем поняла, что он имеет в виду, но это все-таки было лучше, чем та работа, которую я выполняла сейчас.
Я ответила, что рада попробовать, и была сразу же принята. Было приятно работать с американцами, они были такими веселыми, не то, что мрачные советские чиновники, над которыми довлел страх. Вскоре я подружилась с моими другими коллегами, а работа в бухгалтерском отделе была совсем не трудной. Нам хорошо платили, но особую привлекательность составлял пакет с продуктами, выдававшийся служащим каждый месяц. Этот пакет содержал такие ценные вещи, как белая мука, большая банка с нутряным жиром, сгущенное молоко, какао, чай, рис и так далее. Кроме того, выдавался пакет с мануфактурой, которую невозможно было достать. Моя мама, я и тетя Нина, тоже поступившая в АРА (Американская Администрация Помощи), каждое утро вставали, чтобы к девяти часам попасть на службу, а в 4 вместе отправлялись домой. С тремя продовольственными пайками мы не испытывали недостатка в еде, и образовывались даже некоторые излишки, которые мы могли менять на необходимые вещи. Но для меня главным было то, что я там чувствовала себя спокойно и счастливо.
Спустя некоторое время меня сделали секретарем начальника московской организации. У меня было не много обязанностей, да я мало что и умела, никогда не обучаясь секретарской работе. Мой стол стоял в комнате, смежной с комнатой босса, так, чтобы он мог видеть мое лицо. Я поняла, что получила эту работу, потому что ему было приятно видеть хорошенькую девушку в своем офисе. Его внимание смущало меня, однажды мы провели все послеполуденные часы, гуляя одни в саду. Тем не менее, он был мне приятен своей открытостью и прямотой.
Тогда в Москве было много иностранцев, плохо поступавших с русскими девушками. В АРА была одна девушка по имени Кира, влюбившаяся в англичанина. В конце концов, он женился на ней и взял ее в Англию. Через шесть недель родители получили телеграмму: «Кира внезапно скончалась». Позже мы узнали, что она отравила себя газом, то ли потому, что он оказался женат и собирался содержать ее как любовницу, то ли он считал, что может получить деньги ее родителей из швейцарского банка, и бросил ее, когда понял, что это невозможно.
После шести месяцев работы мы услышали, что АРА сворачивает деятельность и вскоре уезжает. Мы все были огорчены даже не столько потерей выгодной работы, сколько разлукой с появившимися у нас новыми друзьями.
Мы все — мама, тетя Нина и я — продолжали работать вплоть до грустного конца. Нас перевели в статистический отдел, где мы имели дело с сотнями тысяч карточек с именами людей, имевших право на получение продовольствия и одежды. Делая это, мы зарабатывали порядочно, но было грустно видеть, как пустеет помещение, недавно еще полное людей. Наконец настал день, когда нам пришлось идти на вокзал, чтобы сказать «последнее прощай» нашим коллегам. Нас собралось там немало, и у многих были слезы на глазах.
Мы все еще хотели найти какой-нибудь способ покинуть Россию. В то время очень могущественным человеком был Енукидзе[49], друг Сталина, который неплохо относился к людям в нашем положении, особенно к титулованным; это он помог уехать Лорис-Меликовым. Моя мама и я отправились в Кремль, чтобы спросить, не может ли он сделать что-нибудь для нас.
Моей матери была назначена аудиенция и был выписан пропуск. Нам пришлось идти бесконечными коридорами, сворачивать, пересекать внутренние дворики и взбираться по лестницам, прежде чем мы подошли к кабинету Енукидзе. Везде были часовые. Енукидзе принял нас очень мило и уверил, что поможет.
— Не беспокойтесь, всё будет в порядке, — сказал он.
По АРА я знала одного отставного полковника царской армии, он оказался братом будущего патриарха Советской России — Алексия[50]. Он по-прежнему приходил навестить меня время от времени. Моей бабушке Татищевой полковник нравился, она говорила, что наконец-то у меня есть настоящий друг, воспитанный человек, умеющий себя вести. Она позвала его к обеду и пригласила навещать нас, когда ему захочется. Что касается меня, не могу сказать, чтобы он мне уж очень нравился. Мне было приятно видеть его, когда он приходил, но это был не тот человек, которого я выбрала бы себе в мужья.
Однажды вечером, когда мы были одни, он начал говорить со мной. Я знала, что он сейчас сделает предложение. Я остановила его, сказав:
— Пожалуйста, только не сегодня, в другое время, в другой день. — И добавила: — Мы должны лучше узнать друг друга, тогда будет проще принять решение.
Мы расстались друзьями, но больше никогда не встретились. В эту ночь с 3 на 4 сентября 1923 года я была арестована и отправлена в тюрьму ГПУ на Лубянку.
Глава седьмая Тюрьма
На Лубянке меня поместили в камеру предварительного заключения, набитую другими арестованными. Для меня это был совершенно новый жизненный опыт — знакомство с большим количеством людей того типа, с которым я никогда раньше не сталкивалась. Многие из них были очень добры и старались всячески мне помочь. В то время я выглядела очень юной, и даже люди, пришедшие меня арестовывать, колебались, брать ли меня.
Арест происходил следующим образом. Было уже за полночь, когда раздался громкий стук в дверь черного хода. Кто-то открыл, и вошли три или четыре агента ГПУ. В нашу дверь, бывшую первой по коридору, они ворвались без стука как раз в тот момент, когда я начала раздеваться. Они прочли мое имя на кусочке бумаги, который один из них держал в руке. Когда я сказала, что это я, они, казалось, удивились — я выглядела такой молоденькой. Они решили, что это ошибка, и спросили, нет ли в доме кого-нибудь другого с таким именем, а потом, игнорируя яростные протесты моей матери, спросили, сколько же мне лет. Когда узнали, что 23, то приказали одеться и собраться. Я была взволнована, мне казалось, что арест превращает меня в героиню. Я подумала, что я обязательно должна сказать им, что я о них думаю. Такая возможность очень скоро представилась мне на первом же допросе.
Когда меня привели на допрос, то спросили, как я отношусь к Советскому Союзу. Я ответила:
— Никак, пока ваше отвратительное правительство у власти.
На вопрос, не хотела ли бы я смены правительства, я ответила, что вопрос о смене правительства не стоит, поскольку я считаю его не правительством, а кучкой преступников, захвативших власть.
— Так что бы вы сделали, если бы это было в вашей власти?
— Повесила бы их на ближайших фонарях.
— Хорошо, — сказал допрашивающий меня с холодной улыбкой, — всё это будет записано, и мы продолжим ваше дело положенным образом, но я бы посоветовал вам лучше подготовиться к вопросам в будущем, потому что против вас выдвинуты серьезные обвинения, и мы не можем разрешить преступникам избегать наказания.
— Каково же мое преступление? — спросила я с интересом.
— Вы узнаете об этом позже, у нас много времени впереди, и вас полностью информируют, когда это будет нужно. — С этими словами он велел страже увести меня.
В камере я заняла свое место на полу, рядом с пожилой дамой, которая была очень добра ко мне. Большинство сидело на полу, так как камера была переполнена. Те, которые прибыли первыми, сидели на широкой деревянной скамье, служившей им ночью кроватью. Остальные спали на полу, подстилая свои пальто, чтобы было мягче. Я рассказала пожилой даме, что меня спрашивали и как я отвечала. Она печально покачала головой:
— Вы не должны так отвечать, это ухудшит все дело.
— Но как же еще я могу им отвечать? Не говорить же мне, что я люблю их всех, их законы и методы?
Пожилая дама улыбнулась.
— Они прекрасно знают, что мы о них думаем, — сказала она, — но они усилят ваше наказание, если вы скажете это открыто. Нет смысла бросаться на дикого зверя, а многие из них ниже зверей. Сказали они вам, за что вас взяли?
— Нет, — ответила я, — он сказал мне, что обвинение зачитает позже, что времени впереди много, а пока я могу остыть в этом месте.
Ну, а это место было ужасным, слишком тесным для такого количества людей. На полу было неудобно спать, воздух был спертым, и всё время происходили перемены — одних переводили в настоящие камеры, другие занимали их место. Пищу приносили дважды в день. Она состояла из так называемого супа, водянистого, сваренного из картошки, с парой плавающих капустных листьев. Каждому выдавался кусок черного хлеба и горячая вода вместо чая.
Вскоре пожилую даму увели; мне было жалко расставаться с ней. Там была молодая девушка, еврейка, с которой мы подружились. Ей повезло, она располагала стулом и предложила его мне. Я не хотела брать его, я вполне могла сидеть на полу, но она так настаивала, что я была вынуждена принять ее предложение. Она же расположилась на краешке нар рядом со мной и была всё время рядом. Она была необыкновенно добра ко мне во всё время моего пребывания в переполненной камере, согревая меня своим пальто, когда ей казалось, что мне холодно, стараясь поместить меня на нарах, когда там освобождалось моего, и тому подобное.
Однажды ночью меня вызвали снова. Когда я вошла в комнату, мой инквизитор приветствовал меня улыбкой, довольно неприятной, как мне показалось, и спросил, как я себя чувствую. Что за глупый вопрос, подумала я, но, вспомнив совет пожилой дамы, сказала, что со мной все в порядке.
Тогда снова начался допрос. Чем я зарабатываю на жизнь? С кем я живу? Много ли у меня друзей? Почему мне нравятся иностранцы? И тому подобное. Последний вопрос озадачил меня, я тогда не знала, что они давно следили за мной и знали всё, что я делала и куда ходила. Он снова продержал меня длительное время, пытаясь убедить, что моя жизнь станет гораздо легче, если я изменю свое мнение по некоторым вопросам.
— По каким? — быстро спросила я. — Что вы имеете в виду под изменением мнения?
Он глубоко вздохнул и сказал, как сожалеет, что такая молодая девушка вынуждена проводить свою юность в заключении среди преступников.
— Каких преступников? — спросила я.
— Тех, в чьем обществе вы сейчас находитесь. Мы не арестовываем хороших людей. Вы знаете, какие мы справедливые. Мы берем только преступников, и очень грустно видеть вас среди них.
Я была потрясена последней фразой. Называть этих людей преступниками — милую старую даму, добрую и любящую девушку — это было слишком для меня! Я забыла свое решение быть сдержанной. Я сказала, что его слова не могут относиться к моим сокамерникам, они все — порядочные люди. А если ему нужны преступники, то далеко ходить не надо, пусть посмотрит вокруг, на своих сотоварищей. Снова наступило молчание. Он смотрел на меня не с ненавистью, а с какой-то жалостью, а потом заговорил по-другому.
— Я боюсь, что вы совершенно не поняли меня, — сказал он. — Я хочу помочь вам и пытаюсь дать вам понять, что вы только ухудшаете свое положение. Я понимаю ваши взгляды, — продолжал он. — Вы выросли в других условиях, ваша нынешняя жизнь отличается от того, к чему вы привыкли. Вы испытали тяжелое потрясение, но такие потрясения могут происходить во всех странах, в разных местах, человек должен приспосабливаться к изменению обстоятельств. Нельзя бороться с миром. Вы проиграете, если не воспользуетесь теми возможностями, какие предлагает вам новый порядок. Конечно, — сказал он, как бы угадав мои мысли, — многое нужно сделать, чтобы внести упорядоченность в существующий сейчас хаос. Но подумайте, как трудно построить всё заново в нашей огромной стране, так скверно управлявшейся, прежде чем мы пришли к власти. Вы должны понять наши трудности. Мы окружены врагами внешними и внутренними, и мы должны быть постоянно на страже.
И он продолжал далее в таком же роде.
На каждую фразу, на каждое слово, которые он произносил, у меня был готов ответ, но я решила молчать, что бы он ни говорил. Они ввергли во мрак прекрасную страну, которая сияла, как алмаз на лике земли, а теперь говорят, что пытаются перестроить ее. Я только ответила ему спокойно:
— Это ваша точка зрения, моя же совершенно противоположная. Что мне хотелось бы знать, так это почему я здесь?
— Как раз это-то я и пытаюсь вам объяснить. Обвинения против вас вполне серьезны. Боюсь, чтобы разобраться, придется потратить некоторое время. Каждому должно стать ясно, что мы не потерпим никаких антисоветских взглядов.
Снова я не получила ответа на мой вопрос. Когда я вернулась в камеру, было раннее утро. Молодая еврейка бросилась ко мне, плакала и обнимала меня, говорила, какая я хорошая, что я брошена на милость тиранов, которые плохо обращаются со мной, что я не виновна, что страдаю за грехи человечества и что она сделает всё, чтобы избавить меня от страданий. Она и в самом деле была необыкновенно добра ко мне, чего я, с моей точки зрения, совершенно не заслуживала.
Вскоре после этого я была переведена в настоящую камеру. В ней было только четыре человека. У каждого была кровать, не очень мягкая, но все-таки это была кровать. Там было окно, но снаружи оно было прикрыто черным щитом, чтобы мы не могли смотреть через него, и в комнате было довольно темно. Там был и стол, за которым мы сидели во время наших трапез, и два стула, две другие заключенные сидели на своих кроватях. Вскоре мы познакомились, хотя сейчас я уже мало что помню. От них я многое узнала о том месте, где находилась.
До революции это здание было первоклассной гостиницей, расположенной на Лубянской площади в центре Москвы. Большевики превратили ее в тюрьму, найдя здание идеальным для этой цели. Застланные толстыми коврами коридоры скрадывли шаги надзирателей, шпионивших за заключенными. Она называлась Внутренней тюрьмой и считалась наиболее строгой из всех. Наиболее важные заключенные с длительными сроками содержались здесь. Большинство заключенных были из интеллигенции — того класса, который расчистил большевикам дорогу к власти. «Как это парадоксально, — думала я. — Эти люди, которые были всегда недовольны, критиковали царский режим и занимались антимонархической пропагандой, теперь были в заключении, и с ними обращались, как с врагами». Я не хотела комментировать их предреволюционную деятельность, поскольку мы все теперь были в одной лодке, но не могла не удивляться неблагодарности большевиков.
Через день нам выдавали по двадцать папирос каждому. Еда была несколько лучше, суп не такой водянистый и на второе давалась каша, а иногда, ко всеобщей радости, — картофельное пюре. Мы могли ходить умываться два раза в день, но, кроме того, в нашей комнате стояла параша, и мы по очереди выносили ее каждый вечер перед тем, как ложились спать.
Мне не пришлось долго ждать встречи с моим инквизитором. Полночь давно миновала, когда с громким стуком открылась дверь нашей камеры, и грубый голос выкрикнул:
— Татищеву на допрос, быстро!
Мы вышли, я впереди, надзиратель сзади с револьвером в руке. Нам пришлось идти длинными коридорами, лестницами вниз и вверх и снова вниз, через двор и опять вверх, на этот раз на лифте. Наконец мы достигли комнаты, где я бывала раньше. Мой следователь был уже там, и другой человек сидел несколько поодаль. Следователь пригласил меня сесть и даже извинился, что побеспокоил меня так поздно ночью.
— Как вы нашли свое новое жилье? — спросил он, улыбаясь.
Я ответила, что оно не слишком плохо, гораздо лучше, чем прежнее.
— Хорошо, мне хотелось, чтобы вы чувствовали себя более удобно, хотя, конечно, мое самое большое желание, чтобы вы вышли на свободу. К сожалению, существуют некоторые трудности, которые необходимо разрешить, и чем быстрее, тем лучше. Мы теперь знаем, — продолжал он, — ваше отношение к нашему государству, где все счастливы и пользуются наибольшей во всем мире свободой. Мы также знаем, что согласно этому досье, — он показал на толстую книгу, где, вероятно, было записано всё, что я говорила раньше, — вы не собираетесь сотрудничать с нами. Но настало время, когда вы должны понять нас. Что вы скажете на обвинение в том, что для осуществления своей несбыточной мечты вы пытались дать взятку? Можете ли вы дать удовлетворительное объяснение этому действию?
Сначала я была так поражена, что не могла понять, к чему он ведет. Потом меня внезапно осенило, что он имеет в виду. В тот самый день, когда я была арестована, я с двумя подругами была на приеме у одного влиятельного большевика. Нам была нужна его помощь. Мы трое — Катя, Мара и я — решили, что не будем искать работу в обычном советском учреждении, она была бы слишком скучна после того, чем мы занимались в АРА. Мы выбрали иностранную фирму, но оказалось, что для работы там переводчиком требуется подпись трех влиятельных коммунистов.
Мы раздобыли адрес одного и отправились туда. Он принял нас очень любезно и обещал поставить свою подпись, когда мы зайдем в следующий раз. Речь совершенно не шла о взятке или вознаграждении, он только спросил нас, почему мы хотим работать именно в этой фирме.
Поэтому я отвечала:
— Что же плохого было в нашем желании испробовать себя на работе, где мы могли использовать наше знание иностранных языков?
— В этом не было бы ничего плохого, — был ответ, — если бы вы желали только быть полезными своей стране и ее людям, но боюсь, что ваш случай совершенно другой. Вы не хотели работать в наших учреждениях, куда вас взяли бы без всяких затруднений. Вы искали чего-то более интересного, хотели быть окруженными иностранцами и, чтобы достичь этого, нашли одного из наших товарищей, который мог подписать необходимый документ. Ради этого вы были готовы дать ему значительную сумму денег и десять красивых шерстяных шалей.
Я ответила, что никогда никому не давала взятки, а здесь речь и не шла ни о чем подобном.
— Очень хорошо, если вы упрямитесь и не признаете свою вину, я не отвечаю за то, что может случиться с вами. То, что вы сделали, — серьезный проступок, но если вы признаетесь, что-то можно будет сделать, поскольку вы, видимо, не понимали, что совершаете, будучи очень молодой и, добавлю, очень наивной для своих лет. Возвращайтесь в место своего заключения и обдумайте свое положение. У вас будет много времени. Я встречусь с вами через несколько дней, и, может быть, вы дадите мне правильный ответ. Всё зависит от вас.
Это было всё, что он сказал, и стражник увел меня.
С этого момента я стала настоящим заключенным. Время от времени меня вызывали к моему следователю и задавали те же вопросы, и всегда мои ответы были одинаковы: я никогда не давала и не предлагала взятки. Иногда я говорила, что не привыкла лгать. Иногда мы беседовали о других предметах, но разговор всегда кончался одним и тем же: давала или не давала я взятку и эти проклятые десять шалей. Иногда я заходила так далеко, что объясняла ему, что у меня нет денег не только на взятки, но даже на трамвайные билеты, и я вынуждена везде ходить пешком. Но ничто не помогало.
Иногда меня встречал другой следователь. Он изображал из себя очень вежливого человека и говорил, что восхищен моим поведением, что для него я точное повторение Татьяны из «Евгения Онегина», какая жалость, что мы встретились в таких печальных обстоятельствах, как всё могло бы сложиться по-другому, встреться мы иначе. Я держала свои мысли про себя, но из этих двух явно предпочитала первого. Я держалась за свое первое показание и добавляла, что не буду говорить заведомую ложь, только чтобы получить свободу.
Тем временем моя мама делала всё, что в ее силах, чтобы вызволить меня. Но как она ни старалась, ничто, казалось, не помогало. Дело стояло на месте. Наконец она решила попытаться действовать через Енукидзе. К сожалению, я невольно помешала этой попытке. Однажды раздраженная повторяющимися глупыми вопросами, я ответила довольно сердито:
— Во всяком случае, вы не имеете права держать меня здесь, и если это станет известно Енукидзе, он прикажет немедленно освободить меня, а у вас будут серьезные неприятности.
Это произвело впечатление на моего следователя, хотя он и старался не показать вида. Они снеслись с Енукидзе и сказали, что я упомянула его имя. Так что, когда моя мама пришла просить за меня, он ответил:
— Я бы немедленно помог вам, но ваша девочка сама всё испортила. Они уже спросили меня, какое я имею к ней отношение, и я ответил, что видел ее только однажды. Мне очень жаль, но я ничего не могу сделать.
Итак, моя жизнь в тюрьме продолжалась. Целый день нам нечего было делать — ни книги, ни какое другое занятие не разрешались. Всё, что мы могли делать, — сидеть и разговаривать, или лежать на кроватях, или ходить по комнате от затемненных окон к противоположной стене и обратно. Мои ночные походы к следователю продолжались, и, надо признаться, я не возражала против них. Они были хоть какой-то переменой в монотонной жизни. Жаль только, что они происходили в ночные часы.
Следователь держал меня довольно долго, но заканчивал всегда одним и тем же:
— Признайтесь в попытке дать взятку, и я обещаю вам свободу.
Мой ответ был всегда одинаков:
— Как я могу признаться в том, чего никогда не делала и не думала делать?
Он пожимал плечами и говорил:
— Можете поступать, как хотите, но жаль, что такая милая девушка, как вы, так тратит свою жизнь.
Через некоторое время меня перевели в другую камеру. Она не отличалась от прежней, но люди были другие: две молоденькие девушки и пожилая дама — вдова генерала. Вскоре мы привыкли друг к другу, но неожиданно к нам поместили еще одну девушку. По-видимому, у нее была эпилепсия. Она кричала, рыдала и была в ужасном состоянии. Надзиратель подвел ее к свободной кровати и, ни слова не сказав, вышел и запер нас. Мы все собрались вокруг бедной девушки, но она почти не могла говорить. Мы решили, что бесчеловечно держать такую больную девушку в тюрьме, и пытались помочь ей.
Девушка немного успокоилась, но было видно, что она в плохом состоянии. Мы не знали, как ей помочь, если припадки возобновятся. Тогда две девушки решили начать голодовку, и я хотела присоединиться к ним. Было решено не принимать ни пищи, ни воды, пока больную не освободят. Когда обе девушки мили из камеры, чтобы умыться, вдова генерала подозвала меня к себе и предупредила, чтобы я не имела с ними дела.
— Они совершенно другого типа, — сказала она мне, — я долго наблюдала их, прежде чем вы появились здесь, и могу вас уверить, у вас с ними нет ничего общего. Предостерегаю вас, вы совершенно иная, очень жаль, что вы находитесь здесь. Я достаточно стара, чтобы быть вашей матерью, и знаю, что говорю. Последуйте моему совету.
Девушки вернулись, я все-таки хотела присоединиться к их голодовке, но они отказывались меня принять, говоря, что я не выдержу, и затея провалится. Я спорила с ними, но они отказали мне. Когда приносили еду или питье, они отвергали их.
Прошло несколько дней, обстановка в нашей камере была тяжелой. У бедной больной девушки по временам бывали приступы, две другие держали голодовку. Я была рада, когда мой следователь вызвал меня. Он спросил, как обстоят у меня дела, довольна ли я новой камерой. Я сказала, что ситуация там скверная.
— Мне хотелось самой присоединиться к голодовке, как вы можете допускать такие страдания людей?
Следователь был мрачен.
— Девушка не так больна, как вы думаете, — ответил он. — Она симулирует болезнь. На самом деле, она вовсе не больна. А две другие — анархистки. В прекрасной компании вы находитесь, — заметил он насмешливо. — Ну-с, вы все еще придерживаетесь вашей истории? Знаете ли вы, что ваша подруга Екатерина Челищева (это была Катя) уже на свободе? Она призналась в своем преступлении и получила свободу. Почему бы вам не сделать то же самое?
— Я не могу признаться в том, чего не делала. Лгать хуже всего. Пожалуйста, не принуждайте меня к нечестным поступкам. Я тверда в своем решении, и, что бы вы ни сказали или сделали, это не изменит моего решения.
На следующий день меня перевезли в Бутырскую тюрьму. Здесь я оказалась в очень маленькой камере, моей сокамерницей была милая особа слегка за сорок. На нее произвел впечатление мой титул. Она говорила:
— Ну, будет мне что порассказать своим, подумать только, я делила камеру с настоящей графиней.
— Что же тут особенного? — спросила я с удивлением.
— О, вы не можете этого понять. Ни я, ни мои друзья никогда не встречали титулованных особ.
Она оставалась со мной несколько дней, а потом ее выпустили. Я была рада за нее, но чувствовала себя несколько потерянной. Она научила меня делать бусы из хлеба, который нам давали. Я сделала нитку и подарила ей на память обо мне. Она была рада.
— Теперь они будут напоминать мне о вас, — сказала она.
Оставшись совсем одна в камере, я стала все обдумывать заново. Следователь огорчил меня, сказав, что Катя подтвердила глупую ложь о взятке и теперь свободна. Как она могла? Что они с ней сделали, чтобы заставить так сказать? А что Мара? Прошла ли она через то же, что и я?
Однажды в мою камеру вошел человек с тележкой с книгами. Одна из них бросилась мне в глаза, она была озаглавлена: «Поездка его Императорского Величества в Беловеж». Книга была о том месте, куда Государь ездил охотиться. В ней были иллюстрации, и на одной из фотографий я даже увидела дядю Киру. Как-то утром, когда я читала, дверь неожиданно открылась, — видимо, надзирательница забыла ее запереть, — и в камеру ворвалась Катя. Оказалось, что она проходила мимо по коридору к туалету, когда через приоткрытую дверь увидела меня. Какой радостью и неожиданностью это было для нас.
Я закричала:
— Катя, мне сказали, что ты свободна, потому что призналась в их глупых обвинениях о взятке.
Она засмеялась.
— Мне они сообщили то же самое о тебе, — сказала она. Потом, посмотрев на книгу, которую я все еще держала в руке, произнесла: — Очень похоже на тебя, — выбрать здесь такую книгу.
Мы были так рады видеть друг друга, но времени поговорить не было, появилась надзирательница и быстро разлучила нас, с лязгом захлопнув дверь. Как нам посчастливилось видеть друг друга, подумала я, и как хорошо, что мы теперь знаем правду.
Но долго мне об этом счастье размышлять не пришлось. Дверь камеры открылась, и мне было сказано приготовиться к следующему переезду. «Куда они теперь повезут меня», — думала я. «Воронок» уже ждал по эту сторону ворот, и прежде чем он тронулся, в него усадили около дюжины мужчин, а затем и меня. Так как единственное маленькое окно было далеко от меня, то я не видела, куда мы движемся. Наконец мы приехали и нам велели вылезать. Нас привезли опять на Лубянку и, как новоприбывших, снова поместили в одну из этих ужасных камер предварительного заключения.
По какой-то причине меня поместили в одну камеру с мужчинами, с которыми я только что приехала. Камера была больше, чем та, с которой я начала свое первое пребывание на Лубянке. Она уже была набита заключенными, а с новоприбывшими там даже трудно было вздохнуть. Я чувствовала, что на меня глядят с интересом и удивлением. Я смущалась, так как была единственной женщиной среди большого количества мужчин. Я ждала, что меня переведут оттуда. Часы тянулись. Ничего не происходило, кроме того, что время от времени приносили пищу и кружки с горячей водой. Некоторые заметили, что я была слишком застенчива, чтобы попроситься в туалет. Один из них, грубый на вид кавказец, смотрел на меня и попытался вступить в разговор. В конце концов, когда мужчины стали укладываться на ночь, молодой польский граф, находившийся среди заключенных, добился того, чтобы меня перевели.
Я была переведена в женскую камеру, которую так хорошо знала по первому разу. Я оставалась там недолго и вскоре оказалась в одиночном заключении. На этот раз камера была большая, всего с одной кроватью, одним стулом и маленьким столом. Окно было без щита, так что я могла видеть противоположное крыло здания и большой двор внизу. Однако, когда обнаружили, что я большую часть времени провожу у окна, щит был поставлен, чтобы ограничить мое любопытство.
Мне было нечего делать, — только ходить взад и вперед по моему новому обиталищу или сидеть на кровати и ждать, что случится. Но в первые несколько дней ничего не происходило. Однажды вечером, когда я собиралась ложиться спать, дверь открылась, и меня вызвали на допрос.
Мой следователь внимательно на меня посмотрел и сказал, что я выгляжу не так прекрасно, как раньше.
— Вы, вероятно, не очень хорошо себя чувствуете? Я сожалею, что мы поместили вас совсем одну в камере. Заключенных много, все камеры целиком заполнены, и нам приходится в помещения, рассчитанные на четверых, вмещать иногда по восемь человек. Вы понимаете, как это трудно для нас.
Я ничего не ответила, что я могла сказать? Если у них не хватает места, зачем они поместили меня одну в камере? Разве я такая важная узница? Что за глупости с начала и до конца? Я решила не верить ни одному его слову.
— Теперь вот что, — сказал он, заметив, что я не в настроении разговаривать. — Мы решили вопрос относительно взятки и считаем, что вы не пытались дать деньги. Как вы могли это сделать, если были без работы в течение некоторого времени? А вместо десяти шалей, мы считаем, что вы предложили только пять. Так что, видите, это проливает новый свет на всю историю и значительно облегчает обвинения против вас. Итак, если вы собираетесь помочь нам, я пересмотрю вопрос о вашем освобождении.
Что я могла сказать в ответ на эти глупые утверждения? Я чувствовала, что все это пустое препровождение времени. Он смотрел на меня очень внимательно, но я только сказала:
— Я никогда не давала взяток никому — ни шалей, ни денег, ничего. И я не так воспитана, чтобы лгать.
— Я пытался помочь вам, ваши родственники очень обеспокоены, и я старался сделать все, что мог, чтобы облегчить ваше и их положение.
И я снова была уведена в мое одиночное заключение. Дни проходили, один похожий на другой. Лучшими днями были пятницы, когда я получала вести из дома: несколько строчек, написанных рукой матери, и сверток — смена белья, печенье, булочки и сыр.
Шла третья неделя моего одиночного заключения, когда меня опять вызвали к следователю. Он начал с вопроса, который удивил меня:
— Вы знаете некую мадам Сухотину[51], которая очень беспокоится о вас и задает вопросы?
Я, думая, что это опять один из его трюков, ответила, что никогда не слыхала такой фамилии. Он казался удивленным и настаивал, что я должна ее знать, так как она очень интересуется мной.
— С ней приходила ваша мать, вы должны ее знать.
Тогда я сообразила, что мама нашла кого-то, кто мог быть полезен, и поняла, кто это был, но как мне объяснить внезапную перемену?
— О! — сказала я, — вы неправильно произнесли ее фамилию. Конечно, я знаю ее, она дочь нашего великого писателя графа Льва Николаевича Толстого.
— Совершенно верно, — сказал он с довольным видом, — наконец-то мы до чего-то договорились. Ну-с, эта дама просила за вас. Она говорила, что никогда не встречала вас лично, но хорошо знает вашу семью, и что это хорошо известная и в высшей степени благородная семья. Мы обещали ей, что скоро выпустим вас, но что придется подождать еще несколько дней. Наступают Ноябрьские праздники, и мы будем очень заняты. Мы очень чтим нашего великого писателя, а его дочь много работает. Такие люди — большая поддержка в нашей великой борьбе за счастье всего человечества. Мы делаем все возможное, чтобы помочь друг другу.
После этой небольшой проповеди, я почувствовала, что близка к свободе.
— Вы рады? — спросил он меня.
Я не хотела больше грубить, мне хотелось расстаться с ним по-дружески.
— Конечно, я рада снова оказаться на свободе и попасть наконец домой, но мне жаль расставаться с вами после того, как мы виделись так часто. Не все разговоры были приятными, но они были не так плохи, как могли бы быть.
Он улыбнулся и, казалось, был доволен моей маленькой речью, затем попрощался, и меня вывели. Прошло несколько дней, и я оказалась дома. Мама была рада и все остальные тоже, но тетя Нина сердилась на меня, она считала, что я не должна была разговаривать со следователем так, как я это делала. По-видимому, им всё было известно. Немного позже мама взяла меня к Татьяне Львовне Сухотиной, чтобы поблагодарить ее за то, что она для меня сделала. Она тоже посмотрела на меня осуждающе и погрозила мне пальцем, чтобы дать мне понять, что мое поведение в ГПУ не могло принести никому ничего хорошего. Потом она долго разговаривала с моей матерью и провела нас по музею Толстого, директором которого она была.
Катя была освобождена примерно в то же время, что и я, а Мара и вовсе не была арестована. Когда пришли арестовать Мару, она оказалась слишком молода для этого — ей было всего семнадцать — и тогда забрали ее сестру Наташу, которая к этому делу вообще не имела никакого отношения. Она училась и была занята только этим. Она собиралась поступать в университет, а вместо этого оказалась в тюрьме, совершенно не понимая, за что. Когда ее наконец освободили, она еле дотащилась домой, ее здоровье в течение некоторого времени было в плохом состоянии, и она упустила свой шанс попасть в университет.
Зимние месяцы прошли без каких-либо происшествий. Мама начала давать уроки английского, а иногда и французского языков. Тетя Нина делала то же самое. У меня были случайные работы переводчицы при иностранцах, прибывавших в Москву без знания русского языка. Мы все еще надеялись покинуть Россию. Для этого была необходима большая сумма денег. Бабушка Нарышкина решила продать свою драгоценную статуэтку Марии-Антуанетты. Бывший секретарь бабушки, нанесший нам визит, обещал продать ее. Он совершал иногда поездки в Берлин и предложил за нее хорошую цену.
Экс-секретарь появился в большой спешке, когда меня не было дома, отсчитал сумму в долларах, передал ее бабушке и попросил статуэтку. Ему было велено, достать ее из-под кровати моей матери, что он и сделал, вытащив ее с подушкой и всем остальным, и поспешно выбежал, завернув все в бумагу. Вернувшись домой, я с огорчением обнаружила, что статуэтка и подушка Императрицы исчезла навсегда и что до условленной суммы не хватает ста долларов. Остальные доллары тоже уплыли меж пальцев бабушки. Один господин предложил вложить их в какое-то предприятие, обещавшее значительную прибыль, но всё это оказалось жульничеством. Казалось, ничто нам не удается, но мы все-таки не оставляли мысли об отъезде.
В ту зиму умер Ленин. Повсюду были развешаны большие извешения об этом «печальном» событии, и люди гадали, кто будет следующим правителем. В это время у меня была работа переводчицы при англичанине из Лондона, некоем мистере Александре Грэхеме, который имел дело с косметикой. Из-за смерти Ленина все учреждения были закрыты, так что нам нечего было особенно делать, мы бродили по улицам, и я читала и переводила ему то, что было написано на извещениях о смерти.
Некоторое время спустя, когда все процессии кончились и жизнь вошла в свою колею, я сопровождала мистера Грэхема в большие магазины, переводя деловые переговоры. Нам пришлось посетить также юриста, и всюду, где мы появлялись, я должна была переводить. Однажды мы зашли в магазин, где принимали валюту, и он предложил мне выбрать что-нибудь для себя. Я не смела приносить домой подарки от моего нанимателя и вежливо отказалась, сказав, что не вижу ничего, что мне хотелось бы.
Однажды, когда мы шли по улице, он вдруг неожиданно, без всякого предупреждения спросил, не соглашусь ли я стать его женой. Мне не хотелось задеть его чувства, но такая мысль никогда не приходила мне в голову — он был слишком стар, годился мне в дедушки, хотя брак с ним означал отъезд в Англию.
Тетя Нина была очень строга со мной. Видимо, она думала, что я прилагаю все усилия, чтобы нравиться мужчинам, что я кокетка. Я же сама не могла понять, что это было, почему я нравилась. Я не считала себя красивой и даже умной, но тем не менее замечала, что нравлюсь многим. Иногда я даже не сразу догадывалась об этом и узнавала много позднее.
Мистеру Грэхему я ответила довольно застенчиво, что пока не собираюсь замуж.
— Почему же, — настаивал он, — разве вы не собираетесь замуж, как все девушки?
Я понимала, что должна ответить что-то, и сказала:
— О, конечно, я выйду когда-нибудь замуж, но выйду за русского князя.
Почему я так сказала, я сама не знала. Я думаю, что он впервые был недоволен мной, потому что очень быстро ответил:
— Все русские князья нищие.
Теперь была моя очередь обижаться, и я резко ответила:
— Тогда я выйду за нищего.
На этом всё кончилось, дома я ничего не сказала и продолжала по-прежнему работать. Думаю, что и после этого разговора я всё еще нравилась ему, но он больше ни разу не возвращался к своему предложению. Однажды он сообщил мне, что едет в Лондон.
— В ближайшем будущем я хочу начать дело в Москве. Я возвращаюсь домой, чтобы уладить там свои дела. Я буду отсутствовать пару месяцев и хочу, чтобы после моего возвращения вы стали моим секретарем, а за время моего отсутствия изучили машинопись и стенографию. Я оплачу это. Согласны ли вы с моим предложением?
Я согласилась и поблагодарила его.
— Мне понадобится не одна девушка, но вы будете во главе них.
— Могу я кого-нибудь рекомендовать? — спросила я, имея в виду Катю, бывшую опытной стенографисткой и машинисткой.
— Кого хотите, — ответил он.
Я немедленно начала брать уроки машинописи, чтобы не терять времени. Перспектива сделаться секретарем и найти работу некоторым моим друзьям радовала меня. Я была полна решимости сделать всё от меня зависящее, чтобы научиться печатать.
Глава восьмая Снова тюрьма
Ночью 3 апреля 1924 года я видела дурной сон: как будто меня преследовало бесчисленное множество лошадей. Они все старались догнать меня. Мне было страшно, и я изо всех сил старалась убежать от них. Утром я спросила бабушку Татищеву, у которой было два сонника — русский и французский, — что бы это могло значить. Она изучала оба довольно долго, и наконец, так как я требовала ответа, она сказала:
— Ничего особенного, может случиться что-нибудь неприятное, вот и всё. Лошадей нехорошо видеть, но я бы особенно не беспокоилась.
Я захотела посмотреть сама, но бабушка не дала мне.
Теперь я знаю — в русском языке слова «лошадь» и «ложь» очень похожи. Видеть лошадь во сне толкуется как принуждение ко лжи, к чему-то нечестному.
После обеда моя бабушка Нарышкина попросила меня отнести письмо ее другу. Оказалось, что это был митрополит Тихон. Я не очень обрадовалась этому поручению. Прошло двадцать лет с тех пор, как Кот напугал меня инструкциями о правилах поведения при встрече с таким высокопоставленным служителем церкви, но у меня всё еще оставался страх, сделать что-нибудь неправильно. Я знала, что должна попросить его благословения и поцеловать руку, но как приступить к этому? Я нашла резиденцию митрополита, и меня провели к нему. Естественно, что мое невежество тут же обнаружилось. Я поклонилась и подошла со сложенными на груди руками. Не говоря ни слова, он взял мои руки и поставил их в правильное положение.
Я покраснела от стыда, но когда взглянула на митрополита, то с облегчением заметила, что он улыбается. Он подвел меня к дивану и усадил рядом с собой. Всё еще улыбаясь, он некоторое время пристально смотрел на меня. Потом начал говорить.
— Вы знаете, когда я был молодым, я был неверующим. Я знал, что Бог существует, но это не беспокоило меня. Я хорошо учился и решил стать врачом. Меня увлекала моя профессия, и, должен сказать, я стал очень хорошим врачом. В моей жизни не было места Богу, дела шли хорошо, чего мне было еще желать? Потом, однажды ночью мне приснился сон, такой ясный, такой необычный, что я проснулся и не мог перестать думать о нем. Я пытался отбросить его, но просто не мог. Он был реальностью, он был тут. А сон был очень простым. Я увидел себя одетым так, как я одет сейчас, в белой митре со спускающимся кукулем, так, как вы видите, — и он указал на митру и свисающий белый куколь.
Я была смущена двумя различными чувствами. Я не могла понять, почему митрополит говорил так со мной — маленькой, глупой, незначительной девочкой, которую он никогда раньше не видел. Я не думаю, что он знал, кто моя бабушка, потому что он не открыл еще письма. Другим моим чувством было, что он старается донести до моего сознания что-то очень важное, что направит меня, прояснит путаницу, которую он угадывал в моей душе. Слова, которые он говорил, его доброе лицо, полное понимания, печали и любви, подтверждали это стремление. Я чувствовала себя потрясенной, что-то случилось со мной, может быть, то же, что произошло с ним много лет назад.
Когда я шла домой, у меня было легко на сердце, и радость снизошла на меня ниоткуда.
В ту же ночь пришли из ГПУ. Мы еще не ложились спать. Ордер об аресте был на мое имя, но они еще долго перерывали всю нашу комнату в поисках чего-нибудь. Наконец они взяли некоторые бабушкины бумаги, и через две недели она должна была объясняться относительно них. Меня увезли в большом грузовике, уже заполненном другими арестованными, в основном мужчинами. Сначала нас подвезли к Бутырке, где высадили большую часть, а остальных, в том числе и меня, отправили на Лубянку. Меня поместили сразу в одиночную камеру. Я была так эмоционально измучена, что бросилась сразу на койку и проспала до утра.
Пробуждение было ужасно. Сначала я не могла понять, где я, — большая мрачная камера и никого больше. Страшное чувство одиночества овладело мною. Я поняла тот кошмар, что приснился мне прошлой ночью. Я поняла и добрые слова митрополита, который, возможно, предвидел страдания, ожидавшие меня, и то, что наступает полная перемена в моей жизни. Он готовил меня к этому. Позже я поняла, что не смогла бы пройти через все несчастья без его помощи. Он объяснил мне смысл жизни и ее значение.
Так началось мое существование в одиночной камере. Меня держали совершенно одну день за днем, и я не знала, за какое преступление меня подвергли такому суровому наказанию. Меня не вызывали к следователю, и я была в полнейшем неведении. Мне было совершенно нечего делать в продолжение всего дня, как только размышлять о своем несчастье.
Вдруг однажды днем меня вызвали на допрос. Я надеялась, что это будет тот же самый следователь, с которым я имела дело раньше, но это был другой человек. Этот никогда не улыбался. Он был очень строг и совершенно неразговорчив. Он сразу объявил мне, что мое преступление или, как он сказал, обвинение носит очень серьезный характер. Люди, виновные в таких преступлениях, не могут быть гражданами Советского государства. Их рассматривают как врагов народа, и от них следует избавляться в интересах «лояльных граждан». Он продолжал в том же ключе довольно долго, а я сидела перед ним и думала, о чем же идет речь. Я впала в состояние оцепенения и с трудом понимала, о чем он говорит и какова должна быть моя реакция на его слова. Наконец он замолчал и внимательно на меня посмотрел. Возможно, что по моему несчастному бледному лицу он понял, в каком я состоянии, потому что его отношение ко мне изменилось, и он спросил, хорошо ли я себя чувствую.
Я ответила:
— Не очень, — но не стала вдаваться в детали.
— Вы знаете, — добавил он быстро, — вы всегда можете вызвать доктора, чтобы он посмотрел вас. Мы не так бессердечны, чтобы лишать заключенных медицинской помощи.
Тут я заплакала. С меня было достаточно. Последние несколько дней я почти ничего не ела, я была лишена свежего воздуха и движения, как я могла себя чувствовать?
Я думаю, он понял, лицо его немного смягчилось.
— Полагаю, — сказал он, — что не стоит вас больше задерживать, достаточно для одного дня. Я пришлю за вами в другое время.
Я возвратилась в камеру еще более выбитой из колеи, чем раньше. Я попросила вызвать доктора. Пришла очень высокая и полная дама. Она села на мою койку, обняла меня за плечи и спросила, почему я чувствую себя такой несчастной, — я всё время плакала. Она сделала разные тесты: стукала меня по коленке, заставила стоять с закрытыми глазами, потом спросила, что бы я хотела. Я просто сказала:
— Остаться с вами.
Тогда она обняла меня еще крепче:
— Вы знаете, мы не много можем сделать, но обещаю вам, что скоро навещу вас снова и сделаю всё возможное, чтобы помочь вам. Ну, а теперь успокойтесь, перестаньте плакать, будьте умницей. Увидите, что всё пойдет на лад, — и, бросив на меня взгляд, полный сочувствия, она вышла.
Через несколько дней я была вызвана снова. На этот раз следователь не был таким суровым. Он сказал мне, что я обвиняюсь в содействии иностранцам. Он хотел знать причины, по которым я так часто бываю в британском посольстве. Оказывается, англичане были злейшими врагами Советского Союза. Я спросила:
— Почему же, ведь они были нашими союзниками во время войны?
— С этим покончено, мы не можем позволить вмешиваться в дела нашей страны, а это происходит слишком часто. Почему вы проводили воскресные вечера в посольстве?
— Меня приглашали к чаю и танцам после него, что в этом плохого?
— Они задавали вопросы? Почему ваш друг Франк интересовался вашим пребыванием в тюрьме? Вам известно, что он шпион?
Я вышла из себя и ответила грубо, после чего была уведена в камеру.
Милая доктор пришла опять и обещала вызвать меня к себе в приемную, просто для перемены обстановки. Так она и сделала, но перемена обстановки оказалась не очень приятной. Только что произошла перестрелка. Заключенные завладели оружием двух охранников. Это случилось как раз за дверью моей камеры. И когда я была в приемной, туда внесли умирающего надзирателя. Было не до меня, и мне пришлось сидеть там, пока не приехала «скорая помощь».
Однажды утром дверь камеры распахнулась, и я услышала:
— Татищева, с вещами, — это было обычное приказание, когда заключенных куда-нибудь переводили — в другую тюрьму или в другую камеру, освобождали или расстреливали.
Я быстро собрала вещи и спросила, куда меня ведут.
— Домой, конечно, прямо домой, куда же еще? — ответил надзиратель с противной улыбкой.
Я ему поверила. Мы шли по коридорам, переходам, вниз по лестницам, и я думала, когда же мы выйдем из этого огромного здания. Дойдя до конца одного из многочисленных коридоров, он остановил меня, вынул ключи и открыл дверь камеры.
— Здесь твой новый дом, — сказал он мне.
Камера была меньше, чем та, которую я только что оставила, но она была переполнена. Нас было восемь. Обитатели смотрели на меня с любопытством, — появление новичка всегда вызывает интерес. Они указали мне на свободную койку, ближнюю к двери. Я была огорчена, обманувшись в своих ожиданиях, но обрадовалась, что не буду больше одна. Как я быстро поняла, мои сокамерницы почти все принадлежали к интеллигенции. Главной среди них была пожилая женщина с седыми волосами, выглядевшая очень болезненной. Казалось, они знали друг друга очень хорошо и переговаривались тихими голосами. Только одна, казалось, стояла несколько особняком, ее койка была ближайшей ко мне. Она была очень хорошо одета по последней моде, поэтому можно было предположить, что она приехала из-за границы. Так и оказалось. Ее арестовали, когда она пересекала границу. Она занималась транспортировкой и продажей борзых собак. Они были в большой моде в то время, особенно в Германии. Мы подружились. Я рассказала ей о своих трудностях, а она мне о своих.
Вскоре после моего появления у пожилой дамы случился сердечный приступ. Я слышала, как ее друзья говорили, что нужно послать за «Коровой». Пришла врач, и ею оказалась моя милая докторша, которая так мне помогала. Я уверена, что по благодаря ей меня перевели. Она мило поговорила со мной, я отвечала ей тем же и сказала, что чувствую себя лучше и счастливее. Остальные смотрели на меня с неодобрением. Им не нравились мои отношения с «Коровой». И когда она ушла, они так мне и сказали. Я объяснила, почему она мне нравится и как она была ко мне добра, но они продолжали критиковать ее.
Потом начались мои ежедневные вызовы к следователю. Содержание этих разговоров было всегда одним и тем же. Я обвинялась в шпионаже, но если бы согласилась регулярно сообщать о том, что происходит в британском посольстве и о ведущихся там разговорах, то меня выпустили бы на следующий же день.
— Значит, вы хотите, чтобы я стала шпионом и принесла несчастье людям, которых я люблю?
— Нет, не смотрите на это так. Это не называется шпионить, это называется лояльностью к своей стране. Ваша судьба в ваших руках.
После этого мне всегда давали маленький кусочек бумаги, чтобы подписать, но я всегда отказывалась. Возвращаясь в камеру, я чувствовала себя разбитой и измученной. Мои вечерние вызовы и хорошие отношения с «Коровой» пробудили подозрительность и недоверие у сокамерниц.
Моим единственным другом оставалась та, чья кровать была рядом. Только ей я могла рассказать всё, что происходит на допросах. Она сама хорошо знала эти трюки и была мне большой поддержкой. Постепенно мне стало казаться, что я ничего особенного не сделаю, подписав бумажку, потому, что под конец она была составлена так, что в ней не говорилось о необходимости шпионить или предавать кого-то, а просто «быть лояльной».
— Хорошо, — подумала я, — я подпишу эту проклятую бумагу, а потом дома объясню, что случилось, матери и бабушке, и мы попытаемся как можно скорее уехать из Москвы в Крым.
Оттуда будет легче бежать за границу. Во всяком случае, мы еще раньше об этом думали. Так что, когда я следующий раз предстала перед моим инквизитором, я сказала о своих планах. Объяснила ему, что из-за состояния здоровья должна буду поехать в Крым и никак не смогу помочь ему. Он посмотрел на меня долгим тяжелым взглядом и погрузился в глубокое раздумье. Наконец он заговорил:
— Если вы подпишете эту бумагу, то никогда не сможете покинуть Москву. Вы будете полностью нашей. Вам будут поручаться задания. Задания будут сначала небольшими, потом всё серьезнее и серьезнее. Возможности бежать не будет, вы будете как маленькая мушка в паутине. Свободы у вас больше не будет до конца ваших дней.
Я была потрясена.
— Что вы мне говорите?
— То, что я вам говорю, вы не должны никому повторять, — ответил он.
Тогда я поняла, что он старается помочь мне, представив ясную картину того, что меня ожидает. Он отпустил меня, сказав, что на следующий день я должна буду дать определенный ответ: да или нет.
На следующий день разговор был очень коротким. На этот раз их было двое. Тот, которого я знала, не предложив мне сесть, спросил в очень неприятной манере:
— Ну, подписываете вы или нет?
Очень тихим голосом я ответила:
— Нет.
Он сразу же стал очень сердитым и закричал в телефон:
— Уведите ее!
Я была очень напугана. Что они сделают теперь со мной? Может быть, это конец? Я вздохнула с облегчением, когда оказалась рядом со своей камерой. Надзиратель отпер дверь и впустил меня. Моя подруга посмотрела на меня вопросительно, и я улыбнулась ей в ответ.
— Так, значит, вы выиграли битву, — сказала она, — я горжусь вами.
Потом, повернувшись к остальным, объяснила им, в чем дело.
Все были довольны мной, но я не чувствовала себя героем. Напротив, я ощущала себя глупой девчонкой, которой как-то удалось избежать того, что испортило бы ей всю жизнь. В этом не было героизма. Я была спасена молитвами митрополита Тихона, правильным советом моей новой подруги и моим следователем, и за них я должна молиться всю мою жизнь.
Но что будет теперь со мной? Обвинение против меня было серьезным, такое могло напугать каждого. Если бы оно было доказано, то грозило смертным приговором. Перспектива была довольно мрачной, но я как-то не задерживалась долго на этом мыслями. Я была счастлива, что мои сокамерницы стали вдруг дружелюбны со мной. Я радовалась, что меня привели обратно к ним и они смогли узнать правду обо мне, понять, что я не предательница.
Очень скоро мне приказали покинуть эту камеру. У меня не было ни малейшего представления, что будет со мной дальше. Я попрощалась с новыми друзьями и той, которая так помогала мне и поддерживала в трудные минуты, и пустилась в неизвестность.
После долгой ходьбы по бесконечным переходам и коридорам я оказалась в комнате средних размеров; в ней было несколько женщин. К моей радости, я заметила знакомое лицо Наташи, сестры Мары. Моим первым импульсом было броситься к ней с радостью, но она холодно остановила меня:
— Вам что-то нужно?
Я не могла понять, что с ней случилось. Она обратилась ко мне как посторонний человек и была очень холодна и официальна. Я отошла в сильном смущении. Потом надзирательница, заведовавшая заключенными женщинами, отвела меня в соседнюю комнату, где висел большой портрет Карла Маркса, и начала меня всю обыскивать. Я не понимала, зачем это. Окончив, она велела мне одеться и на некоторое время оставила комнату.
Потом появилась Наташа и вежливо спросила, не может ли она чем-нибудь помочь мне. Когда мы остались совершенно одни, она прошептала, что была вынуждена так вести себя — мы не должны показать, что знаем друг друга, иначе нас сразу же разлучат. В нескольких словах она рассказала, что все мои друзья арестованы и что ГПУ собирает нас, чтобы всех поместить в Бутырскую тюрьму. Тогда я поняла, что я не единственная, кому пришлось пройти все эти мучения.
Нам пришлось долго ждать, пока все женщины не были собраны. Я узнала пожилую даму, друга моей бабушки Нарышкиной мадам Данзас[52]. Я помнила ее с раннего детства, но она, казалось, не узнавала меня. Я села рядом с ней и заговорила. Наконец она смутно вспомнила меня и мою семью. Было ясно, что она прошла через страшные испытания, выглядела она очень измученной. Вскоре нас отвели в «воронок». Одна за другой мы забрались в темный кузов. В Бутырке всех, по счастью, поместили в одну просторную камеру, называвшуюся карантином, и Катя была там! Я представила обеих моих подруг мадам Данзас, которая выбрала уединенный угол в некотором отдалении от нас. Большую часть времени она проводила в молитве, так как принадлежала к очень строгой ветви Униатской Церкви.
Итак, для нас началась новая жизнь. Несколько недель мы должны были оставаться в карантине, пока нас не смогут перевести в трудовой коридор. Все было не так формально, как на Лубянке. Надзирателями здесь были женщины, а не исключительно мужчины, как там, что бывало очень мучительно, когда хотелось уединиться. Дверь была, конечно, заперта, но, так как она представляла собой металлическую решетку, было видно, что делается в коридоре. Единственное окно было не закрыто, но находилось очень высоко. Однако, предприняв некоторые усилия, можно было увидеть, что происходит во дворе. Кроме нас четверых, в камере было еще семь женщин.
Наши новые обстоятельства были не слишком плохи, особенно в сравнении с тем, что мы испытали прежде. Мы могли разговаривать и делать предположения и выражать надежды на скорое освобождение, но последнее, как большинство из нас понимало, было нереально. Лучшее, что могло нас ожидать, — два-три года ссылки в отдаленные районы России. Никто, насколько мы знали, не был еще осужден на смерть, худшее, что могло быть — ужасный концентрационный лагерь на Соловках.
Так что всё, что мы могли делать, — ждать и стараться занять себя чем-нибудь. Не были разрешены ни книги, ни газеты, ни письма, и мы были практически отрезаны от мира, не зная, что происходит. По пятницам я получала свою передачу — сверток с едой и бельем из дома — и могла угостить всех булочками и печеньем к чаю. Остальные делали то же самое. Мадам Данзас приглядывала за мной и считала, что я нуждаюсь в ее покровительстве. Она предостерегала меня от слишком дружеских отношений с сокамерницами. Она была очень мудрой и высокообразованной женщиной, знавшей семь языков.
Теперь ее жизнь заключалась в молитве, и мы даже думали, что, возможно, она монахиня в миру. Она тоже ждала приговора, и, когда, наконец, он был объявлен, оказалось, что она приговорена к десяти годам заключения.
Время от времени кого-нибудь из нас вызывали на допрос. Тогда человек исчезал почти на целый день, приходилось ехать во внутреннюю тюрьму Лубянки и многие часы проводить в ожидании «воронка». Пришла и моя очередь, и я снова встретилась с моим инквизитором. Как всегда, он выглядел очень суровым, но поздоровался со мной и спросил, как теперь меня содержат. Я ответила, что гораздо лучше и что я очень благодарна ему за помощь. На это он сильно рассердился или только сделал вид и сказал:
— Я вызвал вас не для этого. Вы должны понять, что серьезно скомпрометированы и ваше будущее будет нелегким.
Я только ответила, что ничего другого и не ожидала, и решила больше ничего о благодарности не говорить. Мы были одни в комнате, но где-то мог быть спрятан микрофон. Наш разговор был очень коротким, сказать больше, чем обычно, было нечего.
После некоторого раздумья он добавил:
— Машину придется ждать долго, я дам вам возможность выбора, ждать внизу с остальными заключенными или можете остаться здесь со мной, пока не настанет время ехать.
Я предпочла последнее и тихонько уселась у окна. На подоконнике лежала газета «Известия», но я не хотела больше сердить его и не дотронулась до газеты. Наконец они пришли, чтобы увести меня.
После «карантина» нас перевели в трудовое крыло, бывшее отдельным зданием. На этот раз камера была еще больше и полна женщин, но опять наша маленькая группа была вместе. С нами не было только мадам Данзас, ее должны были отправить в Сибирь. Всех нас приставили к работе. Мы могли выбирать прачечную или швейную мастерскую. Мы выбрали последнюю. Наши рабочие часы были обычно утром, до обеда. Обедали мы в камерах, и после уборки посуды была получасовая прогулка в маленьком крытом дворике. И так прошли для нас и весна, и начало летних дней — без солнца, тепла и цветов, на которые можно было бы любоваться.
В швейной мастерской я встретила молодого человека, которому, видимо, понравилась. Когда нас собирали, чтобы вести обедать, он протянул мне горшок с прелестным цветком. На мне был плащ, и я спрятала цветок под ним. Когда мы уже пересекали двор, примыкающий к зданию, тюремный надзиратель вышел вперед и спросил, что я прячу. Мгновенно горшок был изъят и начались вопросы. Кто мне дал этот цветок? Дали мне его на работе или когда мы уже ушли оттуда? Дал ли его мне один человек, два или три? Я могла только отвечать, что никто мне его не давал.
— Тогда вы украли его у кого-то? — был следующий вопрос.
— Наверно, — отвечала я кратко.
— Хорошо, мы это скоро узнаем.
Мы почти кончили обедать, когда появился надзиратель.
— Ну, где вы взяли этот цветок? И что за человек дал вам его?
— Никто не давал его мне, — отвечала я.
— Тогда как он оказался в ваших руках? Не упал же он с неба!
Я сказала вам, я взяла его сама, я увидела его там и просто взяла.
— Вы лжете, у нас не стоят нигде цветы. Мы думаем, что вам дал их какой-то мужчина-заключенный. Кто это был?
— Никто, я уже сказала вам.
Диалог становился все более агрессивным, надзиратель разъярялся.
— Если не скажешь, где взяла этот цветок, то будешь заперта в холодный погреб с крысами, пока не образумишься. Я ухожу, чтобы ты решила. Помни: погреб с крысами! — с этими словами он с лязгом захлопнул тяжелую дверь и вышел.
Я долго ждала, но, к счастью, ничего не случилось. Он не возвратился, чтобы посадить меня в погреб, и инцидент был забыт.
Одна за другой мои подруги получили свои сроки, некоторые — «три года на Урале», это значило, что они будут жить этот срок где-то в Уральских горах сами по себе, не в тюрьме. Бедной Наташе, потерпевшей за сестру, дали два года. Немногие получили более легкое наказание, называемое «минус 6», что значило — они могут выбирать для проживания любой город, за исключением шести главных. Я начала беспокоиться. Почему до сих пор нет приговора? Что это могло значить? Может быть, мне дадут более строгое наказание? Может, меня пошлют в Соловки? Почему такая проволочка? Наконец, главный надзиратель отпер дверь и выкрикнул мое имя. Я подбежала к нему, у него в руках была бумага с моим приговором, и я должна была подписать его. Я прочла: «три года на Урале». Я обрадовалась, это было таким облегчением, что я начала танцевать от радости. Надзиратель смотрел на меня в изумлении, а все остальные заключенные сгрудились вокруг меня. Я объяснила им, чего боялась. У меня было такое чувство, будто я выиграла приз, ничто больше меня не тревожило.
Теперь нам пришлось ждать, чтобы нас отправили в ссылку. Мы говорили о том, какая жизнь может ждать нас на Урале. Мы знали, что нас, вероятно, разделят. Постепенно установилась летняя погода, и мы по очереди сидели у окна. Нам было видно немножко травы и бывшую тюремную церковь, превращенную в библиотеку. Иногда два человека, заросших бородами, подметали дорожку. Одного из них знала Ванда, девушка из нашей камеры. Это был князь Голицын, а другой, как мы узнали позже, князь Шаховской. Мы видели также молодого человека, который интересовал меня, — князя Петра Туркестанова[53] — он работал в библиотеке. Если я видела князя Голицына, я звала Ванду, а она звала меня, когда видела Петра.
Однажды меня вызвали на свидание с матерью. Оно происходило в узенькой маленькой клетушке, перегороженной массивным барьером с сеткой. На другом конце я с трудом разглядела маму, перед ней тоже была сетка. Был целый ряд таких кабинок, заполненных людьми. Все старались перекричать друг друга, чтобы быть услышанными. Я с большим трудом могла слышать то, что говорила мне мама. Я поняла, что дядя Кира умер в петроградской тюрьме. Это свидание через решетку было очень тяжелым для нас и напомнило нам такое же свидание с отцом за несколько дней до его расстрела.
Одно огорчало меня в связи с моей трехлетней ссылкой — обеим моим бабушкам было под девяносто, и я боялась, что больше не увижу их. И мне пришла в голову мысль, написать главному прокурору петицию с просьбой разрешить навестить их, прежде чем я уеду. Конечно, я не возлагала больших надежд на то, что это будет разрешено.
Однажды в пятницу, когда я собиралась развернуть очередную передачу, которую мне принесли, надзиратель вызвал меня:
— Заключенная Татищева, готовьтесь с вещами. (Нас, заключенных, не называли — «граждане», так можно было обращаться только к достойным доверия людям.)
Ничего, кроме этого, мне сказано не было. У меня не было ни малейшей идеи относительно того, куда я направляюсь. Катя тоже не знала, и мы обе очень обеспокоились. Мы знали, что должны быть готовы к отправке в ссылку, но тут не было никакого предварительного предупреждения, как это обычно бывало. Я собрала вещи и быстро попрощалась со своими друзьями.
Дорога к воротам тюрьмы была довольно длинной. Когда я подошла к ним, они были распахнуты, и часовой дал мне пройти. Я была за забором тюрьмы. Я не знала, в какую сторону повернуть, но увидела очередь людей, сдававших передачи. Мне пришло в голову, что может быть кто-нибудь из домашних здесь, так как я не успела написать записку, что я обычно делала.
Очень скоро я увидела Машу, нашу преданную прислугу, которая действительно ждала мою записку. Она увидела меня, и мгновенно мы оказались в объятиях друг друга. Мне посчастливилось: Маша хорошо знала окрестности и указала мне дорогу на Лубянку, где я должна была отметиться, прежде чем делать что-нибудь еще. Это была формальность, кусочек бумаги, который, взяв в руку, я даже не удосужилась посмотреть, сочтя его, без сомнения, каким-то пропуском.
Я спросила Машу, как дела дома, как мама? В добром ли она здравии? Тут Маша разразилась слезами. Я очень взволновалась и продолжала спрашивать, что случилось. Бедная девочка не могла говорить и справиться с рыданиями.
— Мама умерла? — спросила я в отчаянии.
— Нет, нет! Она уехала, она уехала далеко, — и она начала говорить и говорить, но прошло много времени прежде, чем я начала что-то понимать.
Они выслали ее одну только три дня назад. Ей не сказали куда.
Постепенно я поняла, что случилось. Моя мама получила тоже три года ссылки на Урал, но она не была арестована. Ей было предписано самой покинуть Москву и остановиться сначала в Екатеринбурге, где ей сообщат точное место назначения.
Бабушки и тетя Нина были дома, но Ики не было, она уехала на каникулы. Мы прочитали бумагу, выданную мне на Лубянке, и увидели, что я должна быть в тюрьме через три дня. Первое, что я сделала — как следует помылась и вымыла голову, чего нельзя было сделать по-настоящему в тюрьме. В эти три дня я большую часть времени пробыла дома, только один раз выбралась, чтобы повидать Нелли, младшую сестру Кати. Я нашла ее в слезах. Ей было девятнадцать, и она осталась совершенно одна — ее мама и другая сестра были в безопасности за границей, а Катя только что отправилась в ссылку (это произошло на следующий день после того, как меня отпустили из тюрьмы). Мало чем я могла ее утешить, я сама была огорчена, что теперь мы с Катей разлучены.
Я спала в одной комнате с бабушкой Нарышкиной. Прошлой ночью мы проговорили до утра. Мне хотелось понять, что такое жизнь, почему происходят такие странные события, почему и откуда нам присылаются эти ужасные страдания, почему допускается их свершение. Используя все силы, знания и опыт своей долгой жизни, бабушка старалась ответить на вопросы моего смятенного ума. Я внимательно слушала и пыталась найти в ее словах путеводные нити, которые внесли бы ясность в то, что так смущало меня. Одним из первых был вопрос о митрополите Тихоне. Незадолго перед тем он умер. Упокой, Господи, душу его. Я подумала, что никогда его не забуду, и сейчас думаю также.
Когда я вернулась в Бутырскую тюрьму, по какой-то ошибке меня опять поместили в «карантин». Надзирательница, узнавшая меня, была удивлена:
— Эта камера для людей, которые только что арестованы, вы были здесь достаточно долго, и, кроме того, вам не годится сейчас здесь быть. Тут полно женщин с Хитрова рынка, у большинства заразные болезни, как они могут делать такие вещи?
Хитров рынок был местом с очень плохой репутацией. Добрая надзирательница предупредила меня, чтобы я не принимала от этих женщин, если они предложат, чай или еду. Она обещала сделать всё возможное, чтобы меня перевели отсюда поскорее.
Камера была полна женщин, молодых и не очень, некоторые были хорошенькими, другие — с большим количеством косметики, но все они были очень добрыми. Они тепло меня приняли, каждая старалась, чтобы я чувствовала себя как дома. Они указали мне койку и предложили угощение. Но я просто не могла отвергнуть их доброту, хотя была очень усталой и решила как можно скорее лечь спать.
Поздно ночью, когда все успокоились и уже лежали на своих койках, дверь открылась, и грубый голос выкрикнул:
— Татищева, соберите вещи и выходите.
Вероятно, добрая надзирательница сдержала свое слово и вызволила меня из этой инфицированной камеры, но было трогательно слушать, как мои новые знакомые реагировали на требование надзирателя. Все они собрались вокруг меня и не хотели дать меня потревожить. Мне они все были очень милы, но я знала, что надо уходить. Я поблагодарила их за доброту ко мне, но объяснила, что попала сюда по ошибке вместо трудового крыла, где должна была находиться до отправки в ссылку. Это успокоило их, и они отпустили меня, хотя и неохотно. Уже глухой ночью я попала в свою камеру, где из знакомых оставалась только Ванда, рассказавшая мне все последние новости. Князь Голицын уехал в ссылку два дня назад с тем же конвоем, что и Катя. В соседней камере было несколько новеньких, в том числе Катя Мансурова, девочка, с которой я вместе брала уроки, когда нам было по 15 лет. Другой была княжна Львова, которую я тоже знала. Следующий конвой собирался через три недели. Вероятно, я попаду в него, поскольку пропустила свой.
У меня не было возможности поговорить с Катей Мансуровой — нам не разрешалось ходить в соседние камеры. Она тоже была приговорена к трем годам ссылки на Урал, но должна была ехать с конвоем после меня. Потом мы услышали, что князь Голицын так и не уехал. Его вызвали вместе с остальными заключенными, но потом выкликнули его имя и приказали вернуться в камеру. Почему, — никто не знал.
Глава девятая На Урал
Наступил день моего отъезда. Когда мы прощались, Ванда сказала мне:
— Знаешь, ты будешь в том же конвое, что князь Голицын. Если у тебя будет возможность, передай ему от меня привет и скажи, что я хорошо знала его брата Владимира, который теперь живет в Лондоне.
Я обещала, что постараюсь, но боялась, что это будет не так просто. Заключенные не имели контактов друг с другом, особенно во время переездов. Прежде чем я покинула тюрьму, пришла милая тетя Нина, чтобы попрощаться. Ей разрешили сойти, и она надела мне на шею маленькую сумочку с деньгами, потом благословила, и мы поцеловались на прощанье.
Поездка на вокзал была очень тяжелой. В кузов набили так много людей, что жара и духота были ужасны. Сзади было небольшое окошко, но воздух почти не проникал в него. Люди, собравшиеся на станции, чтобы пожелать нам всего хорошего, были испуганы нашим бледным и замученным видом, когда мы один за другим выходили из «воронка». Я увидела в толпе тетю Нину, Ику и Мару, но нам не разрешили остановиться. Я только могла смотреть на них из окна поезда. Все кричали, старались, чтобы их услышали, прощались и плакали. Прозвонил звонок, и поезд тронулся. Я смотрела на столпившихся людей и пыталась улыбнуться Ике и тете Нине. Для Мары это было слишком тяжело, я видела, как ее плачущую увели. Я услышала, как кто-то сказал: «Уезжать легче».
Нас, женщин, было немного, а секция мужчин была переполнена. Среди женщин я увидела пожилую даму, у которой был сердечный приступ во время моего пребывания на Лубянке. Ее муж был в мужском отделении. Путешествие прошло гладко, и мы без всяких приключений прибыли в Екатеринбург, но там никто не пришел за нами, чтобы отвести в тюрьму. Поезд стоял некоторое время, но вышла какая-то путаница, и мы не могли выгрузиться. Поезду было пора отправляться, и всем нам пришлось ехать дальше. Мне нравилось ехать, я знала, что еду не в тюрьму. Я проводила большую часть времени у окна и без устали смотрела на сменяющиеся картины; спать под монотонный ритм колес было тоже приятно.
В одиннадцать утра мы прибыли в Тюмень — на конечную станцию. Нам разрешили выйти подышать свежим воздухом, и мы увидели на некотором расстоянии наших мужчин, умывавшихся у крана. Мы могли умываться в поезде, так что у нас не было необходимости в этом. Я думала о Царственных узниках, проезжавших этим путем. Они тоже покинули поезд в Тюмени и дальше, до Тобольска, ехали на пароходе. Когда мужчины закончили умываться, мы снова вошли в вагоны. Я думала о поручении к князю Голицыну, но пока его невозможно было передать. Я даже не видела его в этой огромной толпе мужчин. Когда нас всех пересчитали и мы расселись по местам, поезд отправился обратно в Екатеринбург. На этот раз конвой ждал на станции, и нас препроводили в тюрьму.
Я оказалась в довольно большой комнате с обычными деревянными нарами по стенам. Я никогда не видала такого грязного места: оно кишело клопами. От них не было покоя ни на минуту. Я села на свою койку и стала собирать их в пустую бутылку. Я решила, что на следующее утро возьму бутылку с клопами и попрошу встречи с начальником тюрьмы. Моя соседка слева согласилась, что это хорошая мысль. Заключенных не должны держать в таком отвратительном месте, что-то должно быть сделано, чтобы очистить его от клопов. Мне посоветовали завернуться во что-нибудь шелковое — клопы не любят шелка. У меня была только маленькая шелковая блузка, и я надела ее на себя, тогда хоть верхняя часть тела почувствовала облегчение. Когда мы покидали Бутырку, одна из сокамерниц подарила мне красивые бусы, сделанные из хлеба. Ложась спать в своем новом обиталище, я положила их на тумбочку, стоявшую рядом с койкой, как раз у моей головы. Когда я взяла их на следующее утро, оказалось, что они совершенно испорчены клопами.
Я попросила аудиенции у начальника тюрьмы, и во второй половине дня была проведена в его кабинет. Высокий человек стоял рядом с письменным столом. У меня в руке была бутылка, наполовину полная ужасными насекомыми, но внезапно мною овладела невероятная застенчивость. Я дала бы все, что угодно, чтобы оказаться снова в моей камере, я не знала, как начать.
Он некоторое время смотрел на меня, а потом сказал:
— Я слышал, что вы хотели меня видеть?
— Да, — ответила я, чувствуя, как кровь бросилась мне в лицо. — Мы очень мучились в нашей камере и не могли уснуть. Эти ужасные маленькие создания не давали нам ни минуты покоя.
Я протянула ему бутылку, он ее не взял, но сказал, что все возможное было испробовано, чтобы избавиться от клопов, но почти без результата. Единственно, что может помочь — сжечь все здание до основания. И добавил:
— Сожалею, но ничего не могу поделать.
Когда я собиралась возвратиться к себе, он остановил меня и спросил мою фамилию. Я ответила, и, услышав фамилию Татищева, он сказал:
— О, должно быть это ваш отец был здесь некоторое время тому назад.
Мне было очень интересно, и я начала расспрашивать о подробностях. На этот раз он смутился и быстро сказал, что это было давно, что с того времени много всего случилось, одним словом, хотел прекратить разговор и сожалел, что начал его. Я знала, что это был не мой отец, он имел в виду Илюшу Татищева, который был расстрелян в этой самой тюрьме в 1918 году, во время убийства Царской Семьи.
В этой тюрьме было больше свободы. Мы могли при желании выходить в маленький садик. Наша камера никогда не была заперта. Мы могли мыться на лестничной площадке, и при этом не надо было спешить, как в других тюрьмах. Вскоре мы познакомились со своими собратьями по несчастью. Там были и отбывающие долгие сроки, и такие, как мы, находящиеся здесь транзитом. Одной из узниц с долгим сроком была довольно молодая девушка, одетая в черное. Она была похожа на крестьянку и носила черный платок, покрывавший голову. Девушка была осуждена на десять лет тюрьмы, за обман и мошенничество.
Ее преступление состояло в том, что она выдавала себя за старшую дочь Императора — Великую княжну Ольгу Николаевну. Девушка странствовала по Сибири от одной деревни к другой, рассказывая, как она бежала из подвала в Екатеринбурге, в то время как остальные члены Семьи были убиты, как пули прошли мимо нее, а один из солдат вывел ее и некоторое время прятал. Теперь она осталась совсем одна и должна скрывать свое имя. Люди верили ей и давали хлеб и то, что еще могли уделить, пока власти не поймали ее. Ее обвинили в контрреволюционной деятельности, чего бедная девушка, видимо, вовсе не имела в виду.
Я подошла к ее койке, и мы разговорились. Я знала всю ее историю, но заключенные никогда не обсуждают причины ареста и заключения, это не принято. Мы говорили о трудностях тюремной жизни, о том, как нелегко привыкнуть к таким жестким условиям, каковы наши перспективы в будущем и так далее. По временам я удивлялась, что она не употребляет простонародных выражений, каких можно было ожидать от простой крестьянской девушки из Сибири. Чувствовалось, что она от них отличалась и многое знала из того, о чем говорит.
Она повела разговор о Царском Селе и, к моему удивлению, начала говорить о комнатах в Екатерининском дворце — резиденции Царской Семьи. Она даже называла по именам некоторых слуг. Я слушала и удивлялась, где и как она получила эту информацию. Она даже упомянула дядю Киру, что показалось мне уж совсем невероятным. Как могла сибирская крестьянская девушка знать всё это. Я думаю, что даже люди, жившие в Петрограде или в самом Царском, вряд ли знали подробности о людях, окружавших Царскую Семью, и ее быте.
Я внимательно посмотрела на нее. В ее лице было легкое сходство с благородными чертами Великой княжны Ольги, может быть что-то в посадке глаз, но и только. Ее телосложение было более грубым, она была ниже ростом. Вскоре она удивила меня еще раз.
— Недавно, недель шесть тому назад, здесь была дама, — сказала она мне, — одна из вашего круга, только гораздо старше, ее звали Наталья Кирилловна Нарышкина.
Я подпрыгнула от удивления:
— Но ведь это моя тетя Тата, как же она могла быть здесь? — воскликнула я. Я знала, что дядя Кира недавно умер к петроградской тюрьме, но мне не было известно, что тетя Тата арестована.
— Да, она была здесь, в самом деле, — подтвердила моя новая подруга. — Она даже занимала ту же самую койку, что и вы, я много разговаривала с ней, такая милая дама.
Тут она внезапно остановилась, не желая, видимо, открыть, откуда она почерпнула информацию о Царском. Дядя Кира был aide de camp[54] Государя.
Девушка сообщила также, что тетя Тата остальной срок должна была провести в Чердыни, в небольшом городке Пермской области.
В этой же тюрьме я встретила знаменитую игуменью Абрикосову[55], принадлежащую к русской католической церкви. Эта церковь претерпевала серьезные гонения в это время. По той же причине получила свой приговор и мадам Данзас. У аббатисы было запоминающееся лицо с пронзительными глазами и повелительность в манерах. Она была в тюрьме со своими тремя или четырьмя монахинями. Она находилась в Бутырке, когда я в первый раз туда попала, мне очень хотелось увидеть ее тогда, но нам не разрешалось общаться с заключенными из других камер.
Однажды, когда я была в тюремном саду и наслаждалась солнцем, калитку отперли и вошла Катя Мансурова, моя старая и любимая подруга. Она только что прибыла из Москвы. Мы были так рады встрече, но бедняжка еще не знала, что ждет ее в нашей камере, полной клопов. Я провела ее везде и объяснила правила новой для нее жизни. Все время мы проводили вместе, разговаривая о будущей жизни в ссылке, о том, что мы будем делать, когда нас выпустят на волю в чужом месте, с незнакомыми людьми и непривычным окружением.
Катя дала мне хороший совет, которому собиралась последовать сама. Первое, что мы должны сделать — найти церковь или дом, где живет священник. Священнику мы сможем доверять полностью, и он даст нам наилучший совет, где нам приютиться. Я не слишком беспокоилась, я думала, что, по всей вероятности, меня пошлют туда, где меня будет ждать моя мама. Я не знала, что всё обернется совсем по-другому!
Оставалось совсем немного дней до отъезда. Заключенных долго не держали в пересыльной тюрьме, надо было освобождать место для новоприбывших. Однажды, во время ужина, вошел стражник и вручил нам длинный список, где мы должны были расписаться. В нем, рядом с напечатанными фамилиями, были указаны места, куда нас направляли. Я быстро нашла себя и место назначения. Это выглядело так: «Татищева — завод Мотовилиха». Где это? Я никогда не слышала о месте с таким названием. Кто-то сказал мне, что это большой заводской центр недалеко от Перми, где делают оружие. Я посмотрела также места назначения тех, кого знала, и среди них нашла князя Голицына, которого посылали в Чердынь, где теперь жила тетя Тата. Мы должны были отправляться через два дня.
Я попрощалась с Катей и другими друзьями, пока еще остававшимися в тюрьме, и с теми, кто отправлялся, вышла в тюремный двор. Там мы должны были ждать довольно долго, пока все не соберутся. Я увидела, что князя Голицына вынесли на носилках, и подумала, что же с ним случилось. Я не могла подойти к нему и передать поручение Ванды, поскольку нам не разрешали даже сдвинуться с того места, где мы стояли. Наконец, всё было готово, выкликнули наши фамилии, и можно было двигаться. Тех, кто не мог идти, везли на извозчике. Погода стояла жаркая. Путь до вокзала был не очень длинным. Мне хотелось знать, пройдем ли мы мимо дома Ипатьева, где были убиты Царь и Его Семья. На нашем пути по городу я вдруг услышала, как какая-то местная жительница сказала, указывая на отдаленное строение:
— Вот этот дом.
Я стала прислушиваться к тому, что она говорит.
— Он теперь окружен высоким забором, слишком много людей хотели видеть его, а властям это не нравилось. Они не могли остановить людей, приезжающих отовсюду посмотреть это место. Поставили высокий забор, но всё равно приезжают.
Много позже я узнала, что всё это было правдой. Люди всех сословий приезжали, чтобы поклониться своему любимому Государю. Место охранялось секретными агентами, стоявшими на некотором расстоянии, чтобы наблюдать, что происходит. Ненависть была написана на их лицах, потому что они не могли помешать массе людей, приходивших, чтобы преклонить там колени. Они осеняли себя крестным знамением, подходили к дому и целовали стены. Это был род паломничества, которое происходило, оставаясь неизвестным миру.
Путь от Екатеринбурга до Перми занял 12 часов. Вагон наш был обычным, и потому у нас была некоторая свобода. Женщины, если хотели, могли общаться с мужчинами. Мы чувствовали, что чем дальше мы будем от Москвы, тем будем свободнее. Снова я наслаждалась тем, что стояла в коридоре и смотрела на пробегающие мимо пейзажи. Начальник нашего конвоя подошел, встал рядом и составил мне компанию вместе со своим подчиненным. Он был очень красивым человеком, высоким и вежливым. Они рассказали мне, что им приходится много ездить. Их обязанностью было сопровождение заключенных от Москвы до Сибири через Урал, а иногда от Москвы к югу, в Казахстан.
В нашем вагоне почти не было политических заключенных, только пожилая дама — мадам Попова, которую я знала по Лубянке. Ее муж тоже был в этом поезде. Была еще одна молодая женщина, я не могла определить, кто она, но уголовницей она не выглядела. Остальные были арестованы, видимо, за воровство, их было много, и они держались друг друга, за исключением одной пожилой женщины, которая была очень добра ко мне и старалась всячески мне помочь. Мужчины-заключенные, которые на нас поглядывали, прозвали ее «Няня» из-за того, что она так суетилась вокруг меня.
Как-то я уединилась в моем любимом месте: прямо в конце вагона можно было сидеть на ступеньках, мне там очень нравилось. Дул ветер, и был сильный шум, и чувствовалась такая близость к природе. Чем быстрее шел поезд, тем большее возбуждение я ощущала от этой скорости, шума и ветра. В такие мгновения чувствуешь себя свободной от всего и всех… но моя радость была недолгой.
Подошел главный, сопровождаемый своим ассистентом, и сказал, что слишком опасно так сидеть. Они дружелюбно поболтали со мной, и, чтобы, как они сказали, отвлечь меня от меланхолических мыслей, помощник начал петь хорошо известный романс. Ситуация была странная: я — враг народа, а мои стражи поют мне песни.
Вечер был ясным и теплым, духота и жара остались в Екатеринбурге, солнце вышло из-за облаков. Поезд ехал быстро, и я радовалась при мысли, что снова встречу маму и буду жить с ней три года ссылки. К концу дня я вернулась в вагон, где «Няня» уже готовила мое место для сна. Остальные попутчицы тоже готовились ко сну, кроме мадам Поповой, всё еще разговаривавшей с мужем, — им многое нужно было сказать друг другу после нескольких месяцев разлуки.
Я удобно устроилась и заснула.
Глава десятая Пермь
Было еще темно, когда наш поезд прибыл на станцию «Пермь-2». Все спали в нашем тюремном вагоне, когда вошел конвой и приказал приготовиться к выходу, как можно скорее.
О, как мне хотелось еще поспать, но я ничего не могла поделать, приходилось быстро подниматься. Вокруг была суматоха. Солдаты кричали и торопили нас, давая понять, что времени терять нельзя.
Всех под конвоем вывели на платформу, и началось пересчитывание: нас сдавали местному конвою, который должен был сопровождать нас в пермскую тюрьму. По окончании этой процедуры нас отвели в зал ожидания третьего класса. Там почти не было мебели, и мы расположились кто как мог на полу. «Няня» освободила мне место, чтобы сесть, и постелила свою шаль. Все мужчины были с одной стороны, а женщины — с другой. Все разговаривали, обмениваясь впечатлениями и перекидываясь репликами. Я молчала, как обычно погруженная в свои мысли, моя «Няня» пыталась развеселить меня, разговаривая и делая предположения, как долго мы будем сидеть здесь и почему же нас не отводят в тюрьму. В конце концов, она поняла причину задержки. Было слишком рано, всего лишь три часа утра, и невозможно было найти повозку или лошадь для наших пожиток и для больных. Тюрьма была за пять верст.
Мои же мысли были о том, как и где я встречусь с матерью, будет ли она ждать меня у ворот тюрьмы или я встречусь с ней на заводе, где мне придется работать предстоящие три года. Сможет ли вообще мама найти меня, если ее саму выслали из Москвы в неизвестном направлении, а я узнала о своем месте ссылки только три дня назад. Снова мои мысли были прерваны «Няней». На этот раз она шепнула что-то мне на ухо и сунула в руку маленький клочок бумаги. Я развернула его и прочла. Это было предложение руки и сердца от одного из заключенных. «Няня» что-то шептала и, смеясь, указывала на кого-то из большой группы. Меня тошнило, и я чувствовала себя разбитой. Мне хотелось бежать от всего этого.
Единственная лавка в этом грязном зале была занята князем Голицыным. Он сидел недалеко от входа с перевязанной ногой. Его внесли и посадили там, так как ходить он совершенно не мог. Видимо, он повредил лодыжку в екатеринбургской тюрьме. Я подошла и села рядом, чтобы передать ему поручение Ванды. Мы знали друг друга по виду, но никогда не разговаривали раньше. Мне понадобилось некоторое время, чтобы начать разговор. Я была очень застенчива, но это наконец надо было сделать. Посидев немного молча, я спросила, как его нога, как это с ним случилось и болит ли она, а потом, пожелав ему скорейшего выздоровления, я упомянула, что он, вероятно, встретит мою тетку в Чердыни. Я просила сказать, что меня посылают в Мотовилиху, недалеко от Перми. После этого я начала говорить о Ванде. Он был приветлив и, казалось, в хорошем настроении, но я чувствовала, что ему лучше было бы находиться на больничной койке. Лавка была жесткой, узкой и неудобной даже для меня, и провести на ней несколько часов с такой болью, как у него, было чрезвычайно тяжело.
Часы показывали пять утра, но не было никаких признаков того, что мы скоро двинемся. Охрана находилась снаружи, наблюдая за нами через стеклянную дверь. В зале было душно, очень хотелось выпить чашку горячего чаю, но буфет был совершенно пуст. На стойке были тарелки, стаканы и никакой еды. Большой чайник был накрыт белой салфеткой, но никого рядом. Часы были над прилавком, и я смотрела на них время от времени. Сквозь стеклянную дверь было видно, что на улице светлеет, время тянулось бесконечно медленно.
Наконец нас всех вывели на улицу. Был душный день середины августа, небо было затянуто облаками и начинался дождь. Началось пересчитывание заключенных. Я заметила, как в некотором отдалении вынесли и усадили на извозчика князя Голицына. Большая телега, нагруженная свертками, чемоданами и корзинами, стояла рядом, готовая двинуться, как вдруг ко мне подошел начальник конвоя и приказал следовать за ним. Он подвел меня к телеге и сказал, что мне лучше ехать, поскольку я не гожусь для ходьбы. Я залезла в телегу, и мне освободили небольшое местечко. Рядом сидел высокий бледный молодой человек, непохожий на русского. Снова вышла задержка. Начальник подбежал к нам. Мой сосед, молодой иностранец, быстро выпрыгнул из телеги и поспешил к извозчику, где находился князь Голицын. Начальник громко закричал:
— Да не тебя, а барышню просят.
Он помог мне слезть на землю, говоря, что на извозчике мне будет удобнее.
Как только я села, процессия тронулась. Во главе ее были включенные мужчины, за ними следовали женщины, потом наш извозчик и сразу за нами телега. Мы почти не говорили во время пути, погруженные в свои собственные мысли. У дверей тюрьмы мы попрощались.
Тюрьма в Перми была не так плоха, как в Екатеринбурге, но, может быть, я просто привыкла к грязи; впрочем, не помню, чтобы там были клопы. Сначала у меня была отдельная камера, а через несколько дней меня перевели в большую, заполненную молодыми девушками, отбывавшими сроки в основном за воровство. Это была веселая компания, почти у каждой был поклонник из соседнего мужского отделения. Я мало с ними общалась — днем они работали. У меня было больше свободы. Я могла гулять в саду, расположенном неподалеку от нашей камеры, и в другом, рядом с тюремной больницей. Очень скоро, сама не знаю как, я тоже обзавелась поклонником, к большому удовольствию моих сокамерниц. Обычно он появлялся под нашим окном с букетом цветов. Было ясно, что он пациент тюремной больницы. Он приятно выглядел, был очень вежлив и никогда не стоял долго под окном.
Вскоре меня вызвали в проходную, где сказали, что меня отведут в ГПУ. Два стража с револьверами в руках сопровождали меня. Они вели меня кружной и безлюдной дорогой, но ничего неприятного не произошло, и вскоре я стояла перед кудрявым человеком, сидевшим за письменным столом — главой местного ГПУ. Он смотрел на меня с удивлением. Хотя мне было уже 24 года (возраст почтенный, как я тогда думала), никто не давал мне больше 16, особенно теперь, когда я потеряла все шпильки и заплетала косы. По контрасту с моим внешним видом обвинения против меня были очень серьезными.
Начальник ГПУ внимательно изучал мои документы. Мои ответы на многочисленных допросах, которые я прошла, делали картину еще более серьезной, и, возможно, он ожидал увидеть перед собой закоренелую политическую преступницу. Стража ушла, и мы остались одни. Он перебирал бумаги, потом стал внимательно изучать мою маленькую фотографию. Убедившись, что я та самая особа, он улыбнулся и сказал:
— Вы свободны. Начиная с этого момента вы свободны, как ветер, и хотя вы приговорены к трем годам в Мотовилихе, я разрешаю вам остаться в Перми. По сравнению с ней Пермь — большой город, и вам будет здесь лучше. Каждый понедельник вы должны приходить сюда, чтобы я мог лучше узнать вас. На сегодня всё, вы свободны.
Я не знала, что сказать, что делать дальше. Я просто стояла и смотрела на него.
— Ну, — сказал он, — вы не кажетесь счастливой.
И смеясь, добавил:
— Может быть, вы предпочтете остаться в тюрьме?
— Нет, сударь, я рада свободе, если это можно назвать свободой. Трудность в том, что мне некуда идти, мне не к кому обратиться, а город мне совсем незнаком.
— О, — сказал он и опять рассмеялся, — здесь есть гостиницы, для начала, а потом вы осмотритесь, заведете друзей и найдете комнату.
Хорошо ему было говорить в такой свободной, доверительной манере, но я чувствовала беспокойство, неуверенность и страх. Я никогда раньше не отвечала сама за себя. Я всегда жила с матерью, тетками или бабушкой, а теперь я оказалась одна, не зная, что делать и куда идти. Я попросила его:
— Умоляю вас, сударь, но не могу ли я побыть еще немного в тюрьме. Мне там нравится, мне это больше подойдет.
Он опять засмеялся:
— Ну и ну, я никогда не слышал о таком случае: заключенный не желает свободы, предпочитая оставаться в заключении. Неплохо, в самом деле неплохо. Конечно, — продолжал он, — наши тюрьмы превосходны — лучшие в мире. Мы со всеми обращаемся одинаково в нашей прекрасной свободной стране, и я солидарен с вами в вашей любви к ним, и тем не менее на свободе вам будет лучше.
Я чувствовала, что начинаю злиться. Прекрасные тюрьмы, — ну уж действительно! Я вспомнила всю грязь и унижения, на которые мы были обречены. Я подумала, что нет смысла продолжать разговор, который ни к чему не приведет, и сказала:
— Я хотела остаться немного дольше не потому, что мне там нравится, а потому, что мне некуда больше идти.
Я дала ему понять, что у меня нет настроения выслушивать его глупости.
Он помолчал немного, а потом сказал:
— А как вы смотрите на то, чтобы пожить в моем доме, у меня есть хорошая свободная комната, вам там будет удобно.
Сначала я онемела от изумления и не могла вымолвить ни слова. Потом, поняв, что всё это значит, я резко отклонила предложение и снова попросила разрешения остаться в тюрьме еще на одну-две ночи.
Думаю, что на этот раз он рассердился:
— Больше я не скажу ни слова, однако, если к концу дня вы окажетесь в тюрьме, вас выдворят силой. У нас нет возможности содержать свободных людей в тюрьме. Всего хорошего.
С этим я ушла. Было еще рано, около 10 часов утра. Я спросила дорогу на почту и послала телеграмму в Москву следующего содержания:
«Свободна. Пермь. Пришлите адрес матери. Ирина».
После этого я попыталась найти дорогу в тюрьму. По пути была церковь, и я вошла в нее. Пожилая женщина убирала церковь. Я спросила у нее имя и адрес священника. Она, услышав мою историю, охотно дала мне его, но сомневалась, поможет ли мне это. Перед входом в церковь, я встретила старомодно одетую даму, мне казалось, что я могу ей доверять больше, чем остальным. Я остановила ее и спросила, не знает ли она комнату, которая сдавалась бы. Я объяснила, что только что вышла из тюрьмы, совершенно чужая в этом городе и мне некуда пойти.
Услышав это, она торопливо сказала:
— О, здесь нет никаких комнат, совершенно никаких.
И быстро поспешила прочь, она явно не доверяла мне.
Я отправилась по адресу, данному мне женщиной в церкви. Открыв калитку, я попала в большой двор и, повернув налево, увидела маленький домик, как она мне и рассказывала. Я прошла через заднюю дверь и попала в кухню, где пожилая дама готовила что-то на плите. Я спросила, дома ли священник, и она ответила:
— Нет.
Я рассказала ей мою историю, и она тоже сомневалась, найду ли я здесь какую-нибудь помощь.
— Наш священник старый и немощный, у него много своих трудностей, кроме того, он не вернется до позднего вечера. Он служит сегодня вечерню и пройдет прямо в церковь. Вы можете спросить комнату на другой стороне двора, прямо при входе. На последнем этаже большого дома живет студент. Он сдает комнату, попробуйте там.
Я взобралась по лестнице и постучала в дверь. Студент впустил меня. Но, услышав мою историю, насторожился и сказал, что у него нет свободной комнаты.
Я упала духом. Когда я подошла к калитке, две большие собаки, дико лая, бросились ко мне. Я бросилась со всех ног и захлопнула калитку у них перед носом. Я с трудом перевела дыхание и подумала, что и люди и животные, все против меня. Я шла через темный сад перед тюрьмой и представила себе, как проведу ночь на скамейке. Даже днем такая перспектива показалась мне мрачной. Я вздрогнула.
Я прошла через ворота тюрьмы, а затем в свою камеру, как раз вовремя, к обеду. Все девушки были на месте и, узнав, что меня освободили, предложили свою помощь. Они написали мне свои адреса. Я горячо их поблагодарила и спрятала адреса в сумку. Потом они ушли на работу, а я осталась одна. Когда они все ушли, вошла надзирательница:
— Я слышала, что девушки предложили вам свое гостеприимство, но я не советовала бы вам воспользоваться им. Вы достаточно хорошо знаете, что вы не одна из них, у них темное прошлое. Они обчистят вас до нитки, и это еще не самое худшее. Не советую вам иметь дело с их домашними.
Она ушла. Я сидела на своей койке в полной растерянности, как вдруг услышала стук в окно и увидела санитара, смотревшего на меня.
— Вы свободны, — сказал он (новости быстро распространяются в тюрьме). — Не уходите, не попрощавшись с князем. Он огорчится, если вы так сделаете. Я приду снова, когда путь будет свободен, и покажу дорогу в его палату.
Это только добавило сумятицы в мои мысли. Ночь приближалась, и я представляла себе, как они придут и вышвырнут меня вон, оставив меня совсем одну, ночью на улице.
Человек вернулся за мной, как и обещал. В больнице я нашла князя в большой палате одного. Я села на край его кровати и спросила о ноге. Потом он сказал:
— Вы свободны, как вы должно быть счастливы.
Тут я разразилась слезами. Я плакала и плакала. Пока я плакала, вошел человек. Я его не заметила, пока он не заговорил. Тут я поняла, что это мой так называемый «поклонник». Когда я наконец объяснила причину своих слез, он сказал:
— Будьте гостем в моем доме. Моя жена сделает всё, чтобы вам было хорошо. Не плачьте, я напишу ей записочку, а вы возьмите извозчика и поезжайте по этому адресу. Она будет очень рада, увидев мой почерк, и всё будет хорошо.
Он вышел написать записку, а вошел другой и сел на койку, где тот только что сидел. Князь спросил вошедшего, которого хорошо знал, кто это предложил мне помощь. Оказалось, что это его друг и бывший партнер по торговле рыбой. В деле их было трое, но большевики конфисковали всё их имущество и посадили в тюрьму. Добрый человек появился с письмом к жене, и мои трудности кончились. Я могла снова улыбаться и смотреть в будущее.
Я собрала вещи и попросила надзирательницу нанять мне извозчика. Я попрощалась с ней, поблагодарила за помощь и сказала адрес извозчику.
Когда мы остановились на Монастырской улице (позже большевики переименовали ее в Трудовую) у дома 88, я заплатила извозчику и постучала в дверь. Появилась пожилая дама и спросила, что мне нужно. У меня был с собой чемодан, и по выражению ее лица я поняла, что она с подозрением относится к особе, с которой разговаривает. Я быстро протянула письмо и сказала, что хочу видеть даму, муж которой находится в тюрьме, и просила передать письмо. Выражение ее лица быстро изменилось. Я начала свою историю. Она впустила меня, но сказала, что хозяйки дома нет. Она в церкви на вечерне, потому что завтра праздник Преображения. И ее не будет дома еще часа два, но я могу оставить свой чемодан, чтобы не таскать его с собой, а когда вернусь, передам поручение или могу подождать ее возвращения. Она сказала, что только жилица здесь и ничего для меня сама сделать не может. Я поблагодарила ее за предложение и предпочла пойти и оглядеться.
Дом стоял на большой площади. Посреди нее возвышалась красивая церковь. Я подошла поближе к церкви и через открытые двери услышала пение. Оно привлекло мое внимание, и я решила зайти внутрь.
Я не была постоянной посетительницей церкви, далеко нет. После того как разразилась революция, мы стали пренебрегать нашим прежним обыкновением ходить каждое воскресенье в церковь. Мы также перестали соблюдать церковные праздники, порядок нашей жизни нарушился, мы были в какой-то путанице. Когда я говорю «мы», я имею в виду только свою семью; я знаю других, которые стали более религиозны. Но по временам я ходила в церковь, и тогда меня охватывало чувство утраты чего-то очень большого. Мне казалось, что это чувство было вызвано катастрофой, разразившейся над нами, и спокойно продолжала свою жизнь вне церкви. Нужен был кто-то сильный духом, чтобы направить меня по верному пути.
Церковь была переполнена людьми, пение было красивым, и мир святого места подействовал на меня успокаивающе, но я не осталась там долго. Был прекрасный вечер. Сильнее, чем обычно, я ощущала радость от тепла и света. Я была лишена этого так много месяцев, лучших месяцев года. Как ждали мы лета каждый год, как радовались первым подснежникам, говорившим о начале весны, а в этом году я была лишена всего этого. С начала апреля я видела только холодные мрачные стены, грязь и беспорядок, спертый воздух, клопов. Ни солнца, ни синего неба. Я решила обследовать новое место, где мне придется жить три года.
Я свернула с площади направо и пошла по улице, чтобы посмотреть, куда она меня выведет. Тут я поняла, что проголодалась. Я решила поискать магазин, чтобы купить что-нибудь поесть, но магазинов поблизости не было. Наконец я нашла ларек, где продавались газеты, сигареты и сладости. Там были и яблоки, я купила фунт и стала искать место, где я могла бы съесть их. Неподалеку я увидела что-то вроде садика и пошла по направлению к нему. Это был действительно сад с травой, деревьями и дорожками между ними. Там паслось несколько коз. Я люблю животных, но побаиваюсь козлов. Надеясь на лучшее, я присела на скамейку, чтобы насладиться яблоками. Не успела я съесть второе яблоко, как козы приблизились ко мне. Одна из них подошла вплотную и смотрела прямо в глаза. Я дала ей остатки от первого яблока, что было принято с удовольствием, но потом подошла другая, и следующая, и еще одна, и моментально я оказалась окруженной ими. Я ела яблоки и делилась с козами, пока всё не было кончено. Тогда я поднялась и подошла к забору, чтобы посмотреть на вид.
То, что я увидела, нельзя передать словами, и ни один художник не может изобразить. Внизу была мощная река Кама. В отличие от светлой, серо-голубой Волги воды ее были как темное серебро. Но в этот момент садилось солнце. Небо вокруг него светилось. Цвета этого сияния, сливаясь в гармонии как музыка, отражались в реке, где водная зыбь заставляла их танцевать и переливаться как в калейдоскопе. Я стояла и смотрела, и чем дольше я смотрела, тем больше видела изменений. Казалось, что в природе нет неподвижности, она всё время находится в удивительном движении. Постепенно сгущались сумерки. Солнце медленно заходило, цвета темнели, и становилось прохладнее. Наконец я вспомнила, где я и что мне нужно делать.
Жена заключенного открыла мне дверь, жилица сказала ей обо мне, и она обрадовалась, когда я вручила ей письмо. Что было написано в письме, я никогда не узнала, но прочтя его, женщина была готова сделать для меня всё. Моментально закипел большой самовар, был накрыт стол, и на него поставлено всё, что у нее было. Она извинялась, что не может угостить меня как следует, но для меня и это был настоящий праздник. Свежее молоко от коровы, которая стояла во дворе, яйца всмятку, свежий домашний хлеб и масло, изумительное варенье. Я была лишена этих деликатесов так долго. Никогда я не ела ничего более вкусного! Я так ей и сказала.
Добрая женщина сказала мне, что дом принадлежит настоятелю храма, который живет со своей семьей на втором этаже, а она занимает нижний этаж с тех пор, как ее муж в тюрьме. У него туберкулез, и тюремные условия не поправили его здоровья. Правда, он в больнице, и кормят там лучше, чем в самой тюрьме, но все-таки не так хорошо, как требуется в его состоянии. Правда, ей разрешили дополнительный день свиданья, чтобы иметь возможность передать молоко и что-нибудь еще.
Ей было интересно узнать побольше обо мне. Она начала звать меня Ирочка. К ужину она пригласила свою жилицу, ушедшую на пенсию учительницу, и мы приятно провели вечер. Потом, поняв, что я устала, она стала готовить мне постель. Свободной кровати у нее не было, и, несмотря на мои протесты, она принесла матрац со своей и постелила его на полу, хоть я и говорила, что мне будет хорошо на диванчике. Первый день моей ссылки подошел к концу, и ночь я спала как убитая.
На следующий день мы отправились в тюрьму, — она, чтобы повидаться с мужем, а я — со своим князем, обе нагруженные свертками с пищей, цветами и молоком. Я объяснила, что едва знаю князя, но она настаивала:
— Вы же знаете, какова еда в тюрьме, да и увидев вас он приободрится!
Погода была солнечная и теплая. Она повела меня кратчайшей дорогой через город, близко от набережной, и я опять увидела Каму. Она выглядела теперь совсем по-другому: величественная и красивая, ее стальные воды текли неторопливо и спокойно.
Наконец мы достигли сумрачного парка, с главной аллеей, обсаженной елями. Я посмотрела на скамейки, на которых могла провести ночь. Мы подошли к большим тюремным воротам. Часовой пропустил нас, и мы беспрепятственно вошли внутрь. Моя спутница была постоянной посетительницей, и часовые ее хорошо знали. Меня они тоже знали и нашли естественным, что я пришла навестить князя Голицына. Он, казалось, был рад меня видеть. Мы немного поболтали, и мне надо было уходить. На обратном пути я зашла на почту, посмотреть, нет ли ответа на мою телеграмму, которую послала тете накануне. Ответ уже был получен:
«Мама Тобольск (потом следовал адрес) счастливы твоей свободе тетя Нина».
Мама в Тобольске, это было далеко от Перми. Я сразу решила, что должна делать. Через два дня, в следующий понедельник я все равно должна идти к начальнику ГПУ отмечаться. Я подготовлю прошение и вручу ему. Я объясню, что произошла ошибка, я разлучена с матерью, и попрошу разрешения присоединиться к ней.
Когда мы возвратились домой, нас ожидала женщина. Она была очень высокой, носила очки и короткие волосы. Она была немолода, но выглядела сильной и энергичной. Ей рассказала обо мне отставная учительница, жившая с нами. Мы были представлены друг другу и пожали руки. Ее голос и манеры были грубоваты, но я почему-то чувствовала, что она добрый человек. Побыв немного у нас, она не попросила, а просто приказала прийти к ней на следующее утро. После того как она удалилась, моя хозяйка сказала мне, что, несмотря на ее мужеподобный вид, манеру поведения и прозвище — «солдат в юбке», она очень добрая и до революции была весьма состоятельной. Ее хорошо знают в городе. Она может помочь мне, так как знает многих среди интеллигенции.
На следующее утро я отправилась к ней и без труда нашла дорогу, потому что город очень хорошо спланирован. Все улицы были широкими, длинными и шли параллельно друг другу. Каждая улица носила название какого-нибудь города. Прежде их имена были связаны с религиозными праздниками, и, конечно, большевики их переименовали.
Когда я пришла, дама расспросила меня обо мне самой, о моей семье, и как я собираюсь жить, какую работу я могу делать, и так далее. Я ответила, что сомневаюсь, удастся ли мне получить постоянное место в учреждении, поскольку людям в моем положении запрещена работа такого рода. Она согласилась и предложила другое.
— Вы, наверное, знаете языки, например немецкий, французский или английский. На последний здесь большой спрос. Строятся новые заводы, каждый год приезжает много инженеров, и языки очень нужны. Вы можете давать уроки?
— Могу попробовать, моя мама давала уроки и хорошо зарабатывала в Москве. Может быть, я смогу делать то же самое, по крайней мере, с начинающими и детьми.
Это, казалось, удовлетворило ее. Она улыбнулась, что делала нечасто, и, поскольку деловая беседа была закончена, стала готовить мне угощение. Я объяснила ей, что, может быть, не задержусь здесь долго, так как постараюсь, чтобы мне разрешили присоединиться к матери в Тобольске.
— Да, — сказала она, — но дела сейчас движутся медленно, кто знает, сколько придется вам ждать разрешения. А пока вам надо на что-то жить.
Когда я уходила, она сказала, что зайдет завтра за мной и отведет в университет.
Уже через несколько дней я начала давать уроки английского языка. Моя благодетельница, которую мы прозвали «Очки», нашла мне много учеников. Она продолжала оставаться грубоватой, но я чувствовала себя защищенной. Она знакомила меня с людьми, которые могли быть мне полезны, и всеми способами старалась делать то, что считала необходимым для моего благополучия.
Как и собиралась, я написала прошение и утром в понедельник отправилась в ГПУ. Начальник сидел на обычном месте и улыбнулся, когда я вошла.
— Итак, вы удобно устроились, и даже завели друзей.
Я удивилась, как мог он так много знать обо мне. Я была с лишком наивна в то время, чтобы понимать, что за каждым моим шагом следили.
— Да, — сказала я, — я живу у очень хороших людей, но затруднение в том, что я разлучена с матерью.
И вручила ему мое прошение. Я спросила, не может ли он мне помочь соединиться с матерью в Тобольске. Он прочел бумагу, посмотрел на меня и разорвал ее на кусочки.
— О чем вы думаете? Когда же вы повзрослеете и перестанете быть ребенком? Неужели вы хотите быть сосланной в Сибирь? Вы и так далеко от вашего дома. Садитесь сюда, — он указал мне на стул, — и пишите всё снова. Просите, чтобы вашей матери разрешили присоединиться к вам в Перми.
После этого я написала матери, бабушкам, тете Нине и сестре. Моя хозяйка была всё также добра, она познакомила меня со своим родственником, молодым человеком. Дважды в неделю мы с хозяйкой ходили в тюрьму, каждый раз я думала, что не застану князя, нога его становилась всё лучше. Тем временем из Москвы приехала знакомая князя. Она была вдовой, и ей было слегка за пятьдесят. К тому времени у меня уже были знакомства, и я смогла найти ей комнату. Я проводила с ней много времени. У нее было чувство юмора, и с ней было весело. К ее большому огорчению, ей только раз разрешили повидать князя. Как она ни просила начальство, ей больше не разрешили свиданий. Оказалось, что приехала она напрасно. Всё их общение друг с другом было через меня. Затем однажды ночью к ней пришли с обыском и велели немедленно уезжать. Она оставила мне вещи князя и дала прощальное послание к нему. Мне ее очень недоставало, она была такой веселой, и мы очень подружились.
Вскоре после этого меня навестила сестра Ика во время своего двухнедельного отпуска. Это было очень приятно, но я так грустила, когда она уехала.
Однажды вечером мне сказали, что меня хочет видеть священник. Я удивилась, что бы это могло быть, потому что, как я уже сказала, в то время я не часто посещала церковь, и со священником у меня почти не было никаких контактов. Он сказал мне, что произошла неприятная история: рассказывают, что очень молоденькая девушка ходит по городу, называя себя княжной Ириной Шаховской, разговаривая с людьми и вызывая их жалость с целью выманить деньги. О ней была даже статья в газете.
— Это, должно быть, один из гадких трюков большевиков, чтобы уронить вас в глазах света.
Я робко предложила оставить его дом, но он не хотел и слышать об этом. К моему облегчению, больше об этой истории не было слышно.
Осенью моя просьба была удовлетворена, и мама собиралась присоединиться ко мне в Перми.
Однажды вечером Евдокия Федоровна, моя хозяйка, вынула колоду карт. Она раскинула для меня карты и то и дело восклицала:
— Посмотри, что выпало тебе! Каждый раз что-нибудь к свадьбе. Это значит, что скоро выйдешь замуж.
Я в этом сомневалась. Уж если я не вышла замуж, живя пять лет в Москве, встречая массу людей, ходя на приемы, как я найду кого-то здесь. Особенно кого-то, отвечающего ожиданиям моей бабушки.
Наконец приехала мама. Нет нужды говорить, что я при этом чувствовала, никогда раньше я не разлучалась с ней так надолго — больше, чем на шесть месяцев. Она стала жить со мной. Для нее поставили кровать, а я устроилась на диване.
Прежде чем пойти навестить князя Голицына на следующее утро, я объяснила матери, что ношу ему молоко. Мама сказала, что пойдет со мной и посидит в парке около тюрьмы, пока я не вернусь. По дороге я сказала, что его должны послать в Чердынь, но он, видимо, этого не хочет. Как только его приходят забрать, ноге делается значительно хуже, и князя находят в кровати. Сейчас его сестра в Москве хлопочет, чтобы ему разрешили остаться в Перми.
Мама рассказала мне много о Тобольске. Она побывала в доме, где держали Царскую Семью, и разговаривала со священником, который знал их и у которого было много трогательных историй о них.
Между тем осень подошла к концу. Наступала зима. Мы много слышали о сибирской зиме и были готовы к сильным морозам. Мы привыкли к холодной погоде в Центральной России, но там морозы в 18–20 градусов по Реомюру считались большими, здесь же, как нам сказали, 30 и ниже — дело обычное.
Однажды вечером, в последних числах октября, нас ждал сюрприз. Раздался стук в дверь, и вошел князь Голицын. Этим утром он был освобожден с разрешением жить в Перми. Просьба его сестры была удовлетворена. Мы были рады. Обычно большевики старались рассеять людей так, чтобы у них не было возможности общения. Поэтому все мои близкие друзья были далеко от меня.
Князь Голицын принес мне большую коробку шоколада и выпил с нами чаю. Мы говорили о его освобождении и о том, как нам всем повезло, что разрешили жить в Перми. Пермь была большим городом с университетом, хорошей библиотекой, музеем, парками и прекрасной рекой. Князь легко нашел комнату, потому что подружился со священником из города, который лежал в больничной тюрьме и снабдил его нужными знакомствами. Мама пригласила его приходить к нам, когда он устроится. Я думаю, прошла неделя, прежде чем он зашел опять. К этому времени я и моя мама решили найти другое место для жилья. Наша хозяйка была очень мила, но нам хотелось быть более независимыми. Да и ей, вероятно, комната могла понадобиться. Ее мужу время от времени позволяли выходить, и мы не хотели быть им помехой. Мы попросили «Очки» помочь нам, и она нашла нам комнату на той же улице, где жила сама, в доме двух пожилых дам.
Она же нашла моей матери много учеников — инженеров, желавших изучить английский. К сожалению, они жили в Мотовилихе. Мама добиралась туда на поезде, а так как уроки происходили по вечерам, домой она добиралась очень поздно. Я каждый раз очень беспокоилась, когда она возвращалась со станции глухой ночью. Но оплачивалось это хорошо и очень поддерживало нас. Кроме этого, у матери были и другие ученики, даже была группа, которую она обучала во дворе нашего дома. У меня тоже было немного учеников.
Князь Голицын продолжал нас посещать, сначала раз в неделю, потом два. Мама знала многих из его друзей и родственников, так что поддерживать разговор было не трудно. Он разговаривал главным образом с матерью, между ними была разница всего в шесть лет, беседа шла об общих знакомых и родословных. Князь очень интересовался генеалогией. Позже, в Англии, у него была обширная переписка с людьми из разных стран, относительно русских исторических фамилий.
В Перми он нашел много интересных сведений в университетской библиотеке и в знаменитом музее города. Ему было интересно также изучать историю и географию этой области, потому что она вместе с большой частью Сибири принадлежала его предкам, чрезвычайно богатым графам Строгановым, у одного из которых был повар, обессмертивший это имя.
Эти вечера, проведенные вместе, были очень приятны. Князь много рассказывал нам о своих друзьях и родственниках, и это занимало нас. Хотя у нас в Москве было много общих знакомых, мы ни разу там не встречались. Несмотря на перенесенные тяготы, он был веселым человеком, с большим чувством юмора и всегда указывал на веселые стороны нашей новой жизни. Он интересовался и тем, что его окружало, той частью России, куда его забросила судьба.
Его имение было в Туле. Вырастили его тетка и дядя, родители умерли, когда он был ребенком. Образование князь получил в Московском лицее. Он не поступил на военную службу из-за болезни почек и после окончания лицея поехал в Каир, чтобы поправить здоровье. Возвратившись, провел несколько лет в петербургском обществе, а потом осел в своем имении. Ему нравилась сельская жизнь, он очень любил своих лошадей и призовых быков и незадолго перед революцией продал свой доходный дом в Москве. Позже он сказал мне, что всегда хотел жениться, но ни разу не встретил подходящей девушки, хотя однажды был помолвлен.
У него был младший брат Владимир, которому удалось бежать в Лондон в конце 1918 года с женой и тремя маленькими сыновьями. Сам же он, хоть у него было несколько возможностей уехать, предпочел остаться в России. Он не думал, что большевики расстреляют его, поскольку на государственной службе он не был, а не имея семьи, он не очень беспокоился о том, какую жизнь ему придется вести. Он остался в имении, где крестьяне его любили, но пришло время, когда власти стали возражать против того, чтобы бывшие помещики жили в своих имениях. Например, семья Кати Мансуровой оставалась в имении слишком долго, и ее отца и дядей отвели в лес и расстреляли. Князь уехал в Москву, но через некоторое время его арестовали.
Хотя ему было сорок пять, он был стройным и высоким, с темными густыми волосами. У него была замечательная улыбка, которая мне очень нравилась.
Устанавливалась зима. Везде был снег, и всё выглядело белым и чистым. Бодрящий морозный воздух придавал мне энергии, и прогулки были очень приятны. Я обычно ходила за покупками на большую рыночную площадь. Там было дешевле и лучше выбор продуктов. Город был теперь мне хорошо знаком, и я знала, где лучшие лавки.
В это время так называемый НЭП входил в силу. Можно было купить всё, что хочешь, если, конечно, были деньги. До этого мы не могли купить вообще ничего. Все магазины были пусты, а основные необходимые вещи строго распределялись. НЭП принес облегчение, и люди постепенно оправлялись после голода. Но это была лишь временная передышка, вскоре вступил в силу пятилетний план, и снова ничего нельзя было найти.
Визиты князя стали частыми, он появлялся почти каждый вечер, кроме пятниц, когда мама ездила в Мотовилиху. Наша дружба быстро крепла, и если проходил день или два, а он не появлялся, мы начинали беспокоиться, не случилось ли чего. Мы с матерью много говорили о нем. Он был значительно старше меня, но это было не так важно. Мне всегда нравилось общество старших мужчин. Мама считала, что он никогда не женится. Есть мужчины, говорила она, которые к этому не стремятся. Я так не думала, но держала свои мысли про себя.
Мы с князем никогда и никуда не ходили вдвоем, и тем более было удивительно, когда однажды в пятницу вечером я услыхала его шаги в прихожей. Я не могла поверить своим ушам. Когда он вошел, я спросила, как это случилось, что он пришел в отсутствие матери. Потом мы сидели вместе на диване. Никогда до этого мы не были наедине, за исключением того случая, когда я повела его в университет, чтобы представить библиотекарю. Внезапно он поцеловал мою руку. Я была шокирована, я подумала, что дружба наша кончена, что больше он не сможет приходить в наш дом. Он спросил, может ли он надеяться, что я выйду за него замуж. Я ответила согласием, но сказала, что он должен прежде спросить мою маму.
Мы решили, что на следующий день, в субботу, я попрошу маму встретиться с ним у церковных ворот и обо всем поговорить.
Когда мама вернулась, я, собираясь внести ужин, сказала самым обычным тоном:
— Ты знаешь, князь сделал мне предложение.
Мама, привыкшая к моим шуткам, улыбнулась и сказала:
— Я так не думаю.
— Но это правда, я не шучу.
Следующий день начался самым прозаическим образом, со всеми обычными делами: уборкой, приготовлением пищи, подготовкой к уроку с новым учеником, который должен был прийти в пять часов. Но что бы я ни делала, чувство радости переполняло меня, и я всё время думала о князе. Я понимала, что наша жизнь не будет легкой, но никто другой не мог бы мне подходить больше. Было очень важно, что я уважала его и знала, что он любит меня.
Я чувствовала себя не очень хорошо в тот день и после мучений с новым учеником легла на материнскую постель. Хозяйка принесла мне грелку. Мама пошла в церковь на встречу с князем. У меня был час, чтобы привести себя в порядок, а потом пришли после вечерни мама и он. Как обычно, мы посидели, поужинали и провели приятный вечер.
Мы были помолвлены. Надо было много всего решить. Единственный брат князя жил в это время в Лондоне. Он много нам помогал.
Примерно в это время мы получили письмо от бабушки Нарышкиной из Москвы. Она соскучилась, и ей было трудно так долго жить без нас, она хотела приехать в Пермь. Она просила присмотреть ей комнату. Но дело было не только в комнате, надо было найти кого-то для присмотра за ней, так как ей было почти девяносто. Мы сказали об этом «Очкам», и моментально она нашла бывшую монахиню, которая была как раз той, кто был нужен. Большевики закрыли большой монастырь в Перми, бедные монахини были изгнаны и принуждены искать работу.
Глава одиннадцатая Замужество
Священник, в доме которого мы прежде жили, советовал нам сыграть свадьбу как можно скорее. Но так много дел нужно было сделать: сшить свадебное платье и что-то из приданого, найти жилье, так что мы пошли на компромисс, решив зарегистрировать брак в феврале, а венчаться после Пасхи. Зарегистрировавшись, в глазах закона мы были мужем и женой, но я отказывалась принимать поздравления.
— Это ровным счетом ничего не значит, настоящая свадьба будет позже.
Пришла Пасха, но свадьба не приблизилась. Было готово платье и у меня была вуаль, присланная из Москвы, но у нас не было денег, чтобы начать совместную жизнь. Ники, как ни старался, не мог найти работу. Трудность была в том, что мы, ссыльные, не могли получить постоянную работу. Я своими уроками много не зарабатывала, да и учеников становилось все меньше.
Однажды утром, в конце апреля, в нашу дверь постучала моя подруга Катя Челищева. Она больше не могла выдержать жизни в Усолье, городе при соляной шахте, где у нее не было ни работы, ни денег, ни друзей. Катя бежала оттуда. Она хотела попробовать добраться до Казани, где жила ее тетка.
— Я всё рассчитала, — сказала она. — Я поплыву по Каме, а потом спущусь вниз по Волге до Казани.
Я была безумно рада увидеть ее и устроила так, чтобы она немного побыла у нас. Несколько дней спустя, как раз когда мы одевались, появился очень возбужденный Ники.
— Наша свадьба завтра, я только что получил чек от брата, а завтра последний день апреля. (Еще раньше я сказала ему о примете, что май несчастливый месяц для свадеб.)
— Но ничего же не готово, — протестовала я.
— Если есть желание, найдется и возможность, — возразил он.
Мы все начали действовать, и вскоре всё было готово.
30 апреля 1925 года я вышла замуж. Всё прошло гладко. У нас было четыре шафера, державших над нами венцы: сыновья наших хозяек и муж Евдокии Федоровны. Для них это было не так легко, можно было пострадать за участие в религиозной церемонии. Они были прекрасными людьми.
Вскоре после свадьбы Катя должна была уехать, она была в постоянной опасности, ее могли в любой момент поймать. Я радовалась, что она пробыла с нами это время — лучшей компаньонки для моей матери в первые дни после свадьбы, нельзя себе и представить. Никто не мог чувствовать себя одиноким, когда Катя рядом. Она отправилась вниз по реке, и мы получили от нее открытку, когда она почти достигла Казани. Больше я о ней ничего не слышала и только совсем недавно случайно узнала, что она вышла замуж в Казани и обосновалась там.
У нас было две комнаты, обе на втором этаже. Кухня находилась внизу, я пользовалась ею вместе со своей хозяйкой, вполне приятной женщиной. Наш медовый месяц прошел более или менее мирно — в чтении, прогулках после обеда и посещении по вечерам моей матери. Дни были очень длинными, окончательно не темнело, это было время белых ночей.
Немного позже мама получила письмо от бабушки, в котором та писала, что не приедет, так как наконец получила разрешение покинуть Россию. Мама была немного расстроена и озабочена тем, что бабушка в ее годы поедет так далеко совсем одна. Как потом оказалось, наша преданная служанка Маша проводила ее до Петербурга и затем до финской границы. В Финляндии у бабушки были друзья, а в Дании жила вдовствующая Императрица Мария Федоровна, с которой бабушка мечтала встретиться вновь.
Затем я забеременела, и жизнь стала очень трудной. Как ни старался муж, работы для него не было. Нам приходилось считать каждую истраченную копейку, а денег все-таки не хватало.
Мне нужно было хорошо питаться, но мы не могли себе этого позволить. Пришел день, когда хозяин попросил освободить квартиру, потому что мы сильно задолжали. Нам надо было приискать что-то другое, и это было не легко. Временно мы поселились там, где жила мама. «Очки» снова начала искать нам жилье. В конце концов, она предложила нам большую комнату в своем доме, в котором мы прожили более семи лет, до конца нашей ссылки. Там мы были очень близко к матери, что было удобно всем нам.
На Ники можно было опереться. Он всегда был бодрым и веселым, хотя и не особенно разговорчивым. Он сохранял бодрость духа благодаря тому, что всё воспринимал спокойно. В противоположность мне он был очень аккуратен по натуре, для него было важно, чтобы все вещи содержались в порядке и всё, что мы делаем, делалось бы хорошо. Это очень помогало справляться со многими трудностями в нашей совместной жизни.
Жизнь установилась. Я была занята стряпней и различными домашними делами. Ники помогал мне с покупками, нам часто приходилось делать большие концы в поисках продуктов, которые мы могли себе позволить. После того, как появились дети, я занималась ими. Когда Ники не был занят поисками работы, он проводил много времени в музее, где у него были друзья среди служащих и других постоянных посетителей. Много времени у него занимали занятия генеалогией. Если он мог найти учеников, то давал уроки английского, иногда рисовал, у него хорошо получались здания. Часто мы ходили гулять в парк и иногда в кино, но могли позволить себе это не часто. Большую часть вечеров проводили с моей матерью. По временам навещали друзей. Было много людей, находившихся в оппозиции к коммунистам и считавших своим долгом, морально поддерживать нас.
В 1925 году большевики отмечали столетие со дня восстания так называемых «декабристов», — революционеров-аристократов, пытавшихся свергнуть монархию. Их заговор не удался. Они были осуждены, и большая их часть сослана в Сибирь. Левыми они всегда рассматривались как герои, и теперь большевики тоже считали их таковыми.
Поскольку девичья фамилия моей матери была Нарышкина, та же, что у одного из декабристов, она послала прошение в Верховный суд, в котором указывала на нелепость того, что потомок одного из «героев» испытала гонения и должна проводить жизнь в ссылке. Она просила разрешения присоединиться к своей престарелой матери за границей, чье здоровье постепенно ухудшается.
Теперь у меня было немного больше учеников, и нам помогал брат Ники, но жизнь не была приятной. Повсюду были трагедии, гонения, предательства. Счастливые лица трудно было увидеть. Все казались напуганными. Люди не доверяли друг другу и взвешивали каждое сказанное слово. У нас были друзья среди ссыльных, например Наташа Любощинская, которую я знала по Бутырской тюрьме. Она содержала себя и своего отца тем, что пела и играла на гитаре в парке. Однако другие, часто очень хорошие люди, не могли открыто выказывать нам свою дружбу. Я помню очень трогательную сцену, когда в наш дом пришел рабочий. Он поцеловал руку мужа и сказал:
— Мы все знаем, кто вы, мы вас любим, уважаем, но не можем показать этого. Вы должны знать, что вы одни из нас, но мы мало чем можем помочь вам, за нами всегда следят.
С другой стороны, я слышала, как кто-то громко произнес:
— Я никогда не пожму руку князю, все они кровососы, тираны, не достойные внимания.
Нам стало известно, что бабушка Нарышкина благополучно добралась до Парижа и живет там со своим племянником, князем Иваном Куракиным. Он бежал во время революции. Его жизнь была в опасности, жена только что умерла, и он был вынужден оставить девятерых детей (от четырех месяцев до пятнадцати лет) на попечении тещи, гувернантки-англичанки и няни. Им пришлось очень тяжело, жили в маленькой избе неподалеку от бывшего имения, трое младших умерли, но в конце концов им удалось тоже уехать.
Однажды утром мама получила по почте письмо с официальным штампом. Оно было из ГПУ. Ее приглашали по срочному делу. Что случилось? Приглашение такого рода было очень тревожно. Мы взволновались. На следующий день мама зашла к нам и сказала, что всё в порядке. В ГПУ ее встретили очень вежливо, и кудрявый чекист сообщил ей, что в связи со столетием Декабрьского восстания ее просьба удовлетворена — она может уехать, когда пожелает. Мы были оглушены. Новость была хорошей, но мне было грустно. То же чувствовала и мама, но ее собственная мать очень нуждалась в ней. Ей было уже много лет и жить оставалось недолго. Мама решила, что она останется до моих родов, пока не убедится, что всё благополучно.
Был конец февраля. До родов осталось две недели. Схватки начались в один из вечеров после возвращения от матери. Был уже поздний вечер, и нам пришлось порядочно пройти, прежде чем Ники нанял извозчика. К трем часам утра мы благополучно доехали до больницы Красного креста. К восьми утра боли стали сильными. В 3 часа 50 минут родилась девочка.
Я девять дней пробыла в больнице, потом меня выписали. Наступили крестины, крестной матерью была мама, а крестным отцом был назван Вава, брат Ники, живший в Лондоне. Девочке назвали Ириной.
Между тем Ика писала матери письма, торопя ее с отъездом. Она говорила, если задержаться, решение могут отменить. Нам надо было накопить довольно много денег, так что моей матери пришлось продать несколько оставшихся драгоценных вещиц, чтобы заплатить за паспорт.
Наконец всё было готово и настал день отъезда. Ника отвез маму на станцию, а я осталась дома, — сочли, что для меня так будет лучше. Я осталась с ребенком и плакала.
Мама написала нам. Сначала из Москвы, где она остановилась на несколько дней, а потом из Финляндии, где она задержалась, чтобы попытаться вернуть некоторые ценности, оставленные нами в банке. Но оказалось, что их там нет кто-то забрал их, воспользовавшись фальшивыми документами. Потом мы получили весточку из Парижа, в которой она сообщала, что бабушка хорошо себя чувствует и бодра духом. Она встретилась там со многими из своих друзей и родственников. Несмотря на трудности жизни, все они были очень добры, милы и старались помочь. Богатая американка — Дороти Педжет — купила шато вблизи Парижа и превратила его в дом для престарелых беженцев. Бабушка стала первой обитательницей этого милого места. Там она получала необходимые ей заботу и уход. Санитар возил ее в кресле на колесах по парку. У нее была прекрасная комната и пища была хорошей. Вскоре дом был заполнен. Казалось, что весь петербургский и московский свет собрался там.
Вскоре после этого к нам приехала старая нянюшка Ники[56]. Обитель, в которой она жила с его тетей, монахиней Валентиной[57], была закрыта большевиками и разграблена. Сестры были сосланы на юг России, а няне было указано уехать из Москвы. Было большой радостью снова увидеть ее рядом. Она была настоящей няней, частью семьи, с ранней юности она жила в семье Ники.
Примерно в это же время у нас появились новые друзья — князь Шаховской, тот самый, который подметал вместе с Ники двор в Бутырке, и его жена. Они были веселыми и любили принимать гостей. Князю удалось каким-то образом устроиться на работу, и они не были стеснены в деньгах.
Пасха в том году была поздней. В хорошую теплую погоду я много гуляла с Ириной. К этому времени я вновь ожидала ребенка. Няня не очень радовалась, вероятно, она лучше нас понимала все трудности нашего положения.
Однажды утром мы прочитали в газете, что в связи с убийством известного большевика Войкова, в Москве были расстреляны двадцать наших знакомых, находившихся в таком же положении, как и мы. Мы оба чувствовали, что и в Перми может произойти то же самое, и тогда мы в первую очередь окажемся жертвами.
После обеда, когда Ники пошел купить масла, раздался стук в дверь, и на пороге появилось несколько людей из ГПУ.
— У нас ордер на обыск, — сказали они. — Где бывший князь?
— Мой муж вышел, но скоро вернется.
Они подозрительно посмотрели на меня и решили начать обыск. Ящики были открыты, простыни сброшены на пол, матрасы подняты, даже из детской кроватки все было вынуто. Они осматривали каждую игрушку, обыскали все углы. В мгновение ока комната превратилась в свалку вещей. Стопка бумаг с письменного стола была отложена отдельно, чтобы изучить ее на досуге. Это были в основном генеалогические изыскания Ники, на которые он тратил много времени, просиживая в библиотеке. В комнате няни, под кроватью, они обнаружили ящик с серебром деда и, конечно, его забрали. К концу обыска пришел муж. Тогда они велели нам собираться и сказали, что забирают нас с собой.
Мне трудно подробно рассказывать, что происходило потом. До сих пор больно это вспоминать. Они позволили нам собрать некоторые вещи, потом я, прижав к себе ребенка, выскочила в коридор, чтобы найти кого-нибудь из жильцов. Первый, кого я встретила, был молодой человек, комсомолец, говоривший, что он никогда не пожмет руку князя.
Со слезами, текущими по щекам, я сказала:
— Пожалуйста, позаботьтесь о моем ребенке, чтобы ему не был причинен вред.
Он посмотрел на меня и сказал:
— Не беспокойтесь, я присмотрю за ним. Я сделаю всё, что в моих силах.
После этого он совершенно переменился. Оставив Ирину с няней, мы ушли.
В ГПУ нас разделили. Мне пришлось очень долго ждать допроса. Когда пришла моя очередь, чиновник, в чей кабинет я попала, сказал:
— Что вы так плачете? Вы молоды, вся жизнь перед вами. Вашего мужа расстреляли, но вы легко найдете другого.
Не получив от меня никакого ответа, он сказал:
— Какой смысл в слезах? И вас расстреляют, как еще можно обращаться с людьми вашего сорта?
В конце концов я смогла пролепетать:
— Но что же мы сделали?
— Что вы сделали? Вы ничего не сделали. Но неужели вы не можете понять? За каждого убитого вашими Белыми б…, мы отомстим сотнями расстрелянных ваших.
И он приказал меня увести.
Снаружи ждала повозка с лошадью. Мой страж и я взобрались, и нас повезли. Я была уверена, что меня расстреляют на старом кладбище, мы ехали в том направлении. Тюрьма была в той же стороне, и я помню свое чувство облегчение, когда повозка свернула направо. «Не сейчас, — подумала я, — еще немного поживу».
Ворота тюрьмы отворили. Меня провели в приемную, я увидела там мужа и бросилась прямо к нему в объятья. Нас растащили и Ники быстро увели в камеру. Они отобрали мой браслет, кольца, золотую цепь и крест; я только просила, чтобы меня не помещали в одиночную камеру.
Так, в канун Троицы, мы переступили пороги камер для осужденных. Они были маленькими, узкие койки жесткими и неудобными, но я ничего не замечала. Я была в прострации. Они приносили мне пищу, но я не смотрела на нее. Они открывали дверь и звали на получасовую прогулку во дворе, я отказывалась идти. Очень часто я чувствовала, что они наблюдают за мной, но я не обращала внимания. Снова они приносили мне пищу и уносили назад. Я лежала в тоске, оплакивая моего мужа и моего ребенка. Стража была постоянно за дверью, но я не обращала внимания. Потом я обнаружила, что какой-то человек из «интеллигенции» смотрит на меня через глазок.
— Товарищ, — сказал он, — вы должны быть мужественной и гордой. Вы должны быть похожи на жену декабриста, последовавшую за мужем в Сибирь. Зачем так расстраиваться, вы не должны этого делать.
И он продолжал в том же духе. Он смотрел на меня, а я смотрела на него, но что я могла сказать? Я только чувствовала, что он хотел меня подбодрить, заставить мыслить здраво, и была благодарна ему за это. Я попросила его принести мне почитать газету, если он сможет найти. Я хотела знать, какова политическая ситуация, от нее зависели наши жизни. Он понял, и газета была принесена, но я едва взглянула на нее. Так прошли Троица, понедельник и вторник. В среду я все еще лежала на койке и почти не притронулась к обеду, когда что-то во мне сказало: «Почему ты мучаешься беспокойством о своей маленькой дочери и не думаешь о своем не рожденном сыне? Ты можешь навредить ему».
Я подскочила и села на кровати. Открылась дверь, пришел надзиратель звать меня на обычную прогулку. Я вышла в первый раз и начала ходить круг за кругом по небольшому пространству дворика. Надзиратель подбадривающе мне улыбался.
Когда внесли ужин, я взяла его и впервые всё съела. Опять ободрение от надзирателя. Потом пришла передача от няни с маленькой записочкой, в которой говорилось, что с моей маленькой девочкой всё благополучно и хорошо. Я прослезилась от радости. Я почувствовала себя по-другому, я снова была самой собой. Я попросила свидания с мужем. Надо сказать, что стража была очень добра. Они попытались устроить это. Я чувствовала, как они жалеют меня и как стараются облегчить мое горе.
Несколько дней спустя я была также внезапно освобождена, как раньше была арестована. Они пришли и сказали: «Вы свободны, можете идти домой».
За воротами меня ждал экипаж. Очень вежливый сопровождающий помог мне подняться и сел рядом. У него была речь образованного человека, и он сообщил мне, что мы направляемся в ГПУ за моими личными вещами. Они сожалеют о причиненных неприятностях, и я должна попытаться забыть происшедшее. Я ответила, что огорчена тем, что мой муж не выпущен, и как было бы хорошо, если бы он тоже был свободен. На это ответа не последовало. В ГПУ со мной обращались чрезвычайно вежливо, и все вещи, включая и ящик с серебром, были мне возвращены, а меня отвезли домой.
Когда я вошла в нашу комнату, ставни были закрыты, наша маленькая девочка спала днем. В комнате так приятно пахло ребеночком, я очень люблю этот запах в детских. Когда я вошла, она проснулась и обрадовалась мне. Вошла няня, радуясь моему возвращению, но огорченная тем, что Ники всё еще в заключении. Мы могли только жить надеждой, что его скоро освободят. Однажды я решила увидеть его во что бы то ни стало. Няни не было, а девочка никак не могла уснуть. Я спела все песни, которые знала, а она даже не закрыла глаза. Я вынула ее из кроватки, одела, и мы обе вышли из дома и направились в тюрьму. До нее было недалеко, и вскоре мы уже пересекали темный парк вблизи нее.
Я постучала в ворота и попросила, чтобы меня пустили. Часовой открыл боковую дверцу и спросил, что мне нужно. Я ответила, что хочу увидеть мужа. Он ответил, что это против правил. Я умоляла, но без результата.
Увидев, что это бесполезно, я подняла ребенка и сказала:
— Ладно, если отказ окончательный, и я не смогу увидеть мужа, отнесите ему на минутку нашего ребенка. Это принесет ему утешение.
Подошел другой часовой и пристально смотрел на нас. Оба они казались смущенными.
— Она к нам ни за что не пойдет, — сказали они.
Я подняла девочку и передала ее одному из них. Он взял ее, и дверца захлопнулась. Я ждала. Лицо часового казалось добрым и сочувственным, но я беспокоилась. Правильно ли я поступила? Но, подумав о бедном муже, я приободрилась. Для него это много значит, следовательно, я права. Я стояла и ждала, ждала.
Потом боковая дверца открылась, и моя маленькая девочка снова была у меня в объятиях.
— Она прекрасно себя вела, — сказал часовой. — Мы передали ее надзирательнице, и она ни разу не заплакала.
Когда мы счастливо возвратились домой, и я рассказала няне, где мы были, она была отнюдь не обрадована. Напрасно я убеждала ее, что ребенок совсем не был напуган.
Вскоре наступил счастливый день, когда освободили Ники. Увидев мужа в окно, я в радости выбежала из дома, чтобы встретить его. Снова началась наша обычная жизнь, но в результате неприятного приключения мы потеряли половину учеников. Ники взял учеников моей матери, когда она уехала. А, кроме того, с наступлением лета люди готовились к отпускам. Но свет не без добрых людей, и помощь пришла совсем неожиданно. У Ники была ученица девочка-подросток по имени Таня. Ее отец был выдающимся врачом, профессором-терапевтом и известным в городе человеком. Это был дорогой доктор, и его вызывали в самые богатые дома. Я никогда не встречалась с ним раньше, но муж видел его часто, давая уроки английского Тане. У профессора была прекрасная дача на другом берегу Камы в месте, известном своей красотой. Услышав, что случилось с нами (об этом говорил весь город), он пригласил нас провести лето в его доме. Он предоставил нам второй этаж, оставив первый своей семье. Мы с радостью приняли его предложение.
Ничего лучше нельзя было себе представить. Красивая река, к которой спускалась узенькая дорожка, а сзади дома лес, тянувшийся на сотни и сотни верст. Я думаю, только в России бывают такие леса. Он был как океан, глубокий и дикий. Заблудиться в нем можно было навсегда. По краю леса были расставлены предупреждения, сообщающие, что нужно делать, если заблудишься. «Не старайся найти дорогу обратно. Оставайся на одном месте. Найти тебя будет проще, если ты не будешь передвигаться с места на место».
В таком лесу были и другие опасности. Можно было повстречаться с волком или медведем! Ну, а опушка этого леса была рядом с домом, можно себе представить, каким воздухом мы дышали. Приятный запах деревьев и трав, их свежесть и чистота проникали в нас и давали энергию и здоровье, в которых мы очень нуждались. Уже через несколько дней мы чувствовали себя совершенно по-другому.
Ники однажды заблудился в лесу. Он пошел прогуляться один и на обратном пути решил срезать угол. Он хорошо ориентировался в лесу и пошел по тропинке, которая вела в нужном направлении. Через некоторое время она исчезла. Он шел и шел, но вместо того, чтобы выйти на опушку леса, оказался в чаще, где деревья стояли близко друг к другу, было сумрачно и трудно пройти между ними. Тогда он понял, что заблудился, повернул назад в надежде найти тропинку, по которой шел, но это ему не удалось. Он заметил, что время близится к закату. Он помнил, где находилось солнце, когда он вышел из дома, и понял, что пока оно еще на небе, надо идти от него. Ему приходилось спешить, а это было не просто из-за деревьев и ветвей, но в конце концов он вышел к опушке.
Я удивлялась, почему его нет так долго, к счастью, мне не приходило в голову, что он заблудился. Я пошла вдоль берега Камы, чтобы встретить его, и увидела его выходящим из другой части леса. Когда Ники сказал, что заблудился в лесу, я очень взволновалась, но он успокоил меня. Если он сам и был напуган, то не показал этого. Он никогда не показывал своих чувств. Его брат говорил, что у Ники не нервы, а веревки. В этом он был полной противоположностью мне. Первая английская фраза, которую я узнала от своей гувернантки, была: Irina, control your emotions (Ирина, контролируй свои эмоции).
Наши хозяева были милыми людьми, они часто приглашали нас к ужину и провести с ними вечер. По понедельникам мы должны были ездить в Пермь, чтобы, как обычно, отметиться в ГПУ, а потом снова возвращались в Курью до следующего понедельника. Были дни солнечные и дождливые, но всегда свежесть воздуха окружала нас, куда бы мы ни пошли.
Потом пришло время грибов. Там было очень много лисичек. Мы приносили грибы домой, и няня готовила из них вкусные блюда. Они были хорошим подспорьем, так как с деньгами у нас было туго. Грибы полезны, питательны и, кроме того, давали нам возможность сэкономить деньги. Иногда мы собирали и ягоды.
Пришли вести от матери и бабушки, а также из Лондона, и мы знали, что там всё в порядке. Так прошло лето и очень скоро наступила осень. Люди возвращались по домам в город; пришла и наша очередь. Ники и няня оставили меня с девочкой еще ненадолго, и наши хозяева пригласили меня вниз, пожить с ними, пока приготовят всё в городе к нашему возвращению. Потом няня приехала, чтобы забрать меня, и мы снова начали жизнь в нашем собственном доме. Мое время приближалось. Я чувствовала себя отяжелевшей, и все задавали мне один и тот же вопрос: «Кого вы хотите?» Я всегда давала один и тот же ответ: «У меня будет сын».
Наконец наступил декабрь. Я ждала ребенка в любой момент и волновалась. Если бы он родился 6-го, его назвали бы Николаем, а я хотела, чтобы он был Дмитрием, в честь моего отца, которого так любила. Родись он в день святого Николая, это было бы невозможно. Так что канун 6-го я провела в волнениях. 6-е прошло спокойно и только 9-го вечером я почувствовала внезапную боль. Опять глухой ночью мы шли, высматривая извозчика. Наследующий день, 10 декабря 1927 года в 15.40 родился наш сын Дмитрий.
Глава двенадцатая Семейная жизнь
Следующий, 1928-й год был для нас снова трудным. Новый поворот в экономике привел к тому, что предметов первой необходимости стало недостаточно, и цены взлетели. Наши доходы не выросли, и было невозможно свести концы с концами. Мы почти не могли себе позволить такие продукты, как масло, мясо, яйца. В основном наша пища состояла из картошки, репы и разных каш. Только когда приходила из Лондона посылка, мы радовались некоторому разнообразию. Тем не менее, детей кормили хорошо. Мы могли доставать для них молоко, а няне всегда удавалось раздобыть для Ирины кусочек мяса.
В конце года «Очки» решила продать свой дом. Подруга, с которой она жила, умерла, и она не хотела больше с ним возиться. У нее были и другие постояльцы, кроме нас. С некоторыми по временам не так просто было ладить. Она продала дом портному, который хорошо зарабатывал, специализируясь на шитье униформ, его постоянными заказчиками были люди из ГПУ. Часто, когда я сидела на крылечке, подъезжал автомобиль, и мне приходилось давать дорогу чиновникам из ГПУ. Наша бывшая хозяйка переехала на другой конец города, и мы не часто виделись с ней. Новый хозяин был милым и спокойным человеком, очень терпеливым по отношению к нам. Мы часто задерживали плату за квартиру, но он никогда не сетовал на это. Он был не очень доволен купленным домом и попросил Ники перепланировать его. Ники это всегда удавалось, он засел за работу и создал замечательный новый проект, полностью перепланировав дом. Хозяин был очень доволен и тут же нанял рабочих, для осуществления плана. Ники так переделал дом, что у нас получилась небольшая отдельная квартирка. Правда, мы по-прежнему совместно с другими жильцами пользовались мрачной кухней, но не в такой степени, как раньше. Она была в основном наша, и няня могла спать в ней. У нас были две маленькие комнаты: наша спальня и рядом с ней крошечная гостиная, где Ники мог работать над своими проектами, которыми он стал неофициально подрабатывать.
К концу года до нас дошло печальное известие о кончине вдовствующей Императрицы Марии Федоровны. Спустя два месяца ушла из жизни и моя бабушка. Они знали друг друга практически всю свою жизнь, и когда Императрица скончалась, моя мать и все вокруг держали это в тайне от бабушки. Поэтому все были удивлены, когда за несколько дней до своей кончины бабушка сказала: «Наша бедная Императрица умерла, и мой конец скоро».
В это время с нами была сестра Ники, Надя[58], для которой мы нашли комнату неподалеку. Она была с нами около года, пока ее тетка Валентина не заболела и не стала в ней нуждаться. Надя и няня часто ходили в церковь и много рассказывали мне о настоятеле церкви на старом кладбище, отце Леониде. Они считали его святым человеком, то же ощущение было и у меня, хотя я видела его всего несколько раз. Он был очень высоким и худым, удивительным было выражение его глаз и изнуренного лица. Я даже старалась избегать его, мне казалось, что он может прочесть мои мысли. Большевикам было невыносимо терпеть такого человека, и против него всё время выдвигались ложные обвинения. Он мужественно выносил постоянные притеснения и заключения в тюрьму, его лицо было спокойным и улыбающимся, он всегда был готов пошутить. Отец Леонид принадлежал к истинной Церкви — тем православным, которые не пошли на компромисс с большевиками и потому преследовались. Эта ветвь Русской Церкви существует до сих пор в России и на Западе.
В ту зиму жизнь для нас становилась все труднее и труднее. Однажды вечером, когда мы уже готовились спать, пришла няня и сказала:
— У меня осталось совсем мало дров на завтра. Нужно достать еще, и как можно скорее, — морозы сильные и продлятся еще некоторое время.
Ники ответил, что у него совсем нет денег. Мы легли спать с тяжелым сердцем. На следующее утро няня пришла будить нас. Шел густой снег. Был конец января.
— Вы знаете, — сказала няня, — сейчас приходили две дамы и дали мне это.
Она держала в руках двадцатипятирублевую купюру. Деньги были от двух дам, которые помогали нам, когда могли, хоть и сами лишились своего состояния. Ники оделся и поспешил на рынок, чтобы купить телегу дров и немного продовольствия.
К этому времени мои три года ссылки кончились, и мне было сказано, что я свободна ехать, куда хочу, и жить, где хочу, в пределах СССР, конечно. У Ники оставалось еще три года. Это значило, что он не только не может искать работу, но и остается заложником, и в случае какого-нибудь серьезного инцидента, происшедшего где угодно, он будет одной из первых жертв в этом городе. Вот что значило жить в ссылке.
Поскольку мы очень нуждались в деньгах, муж решил снова попытаться найти работу. Несколькими днями позже мы прочитали в местной газете отвратительную статью. Начиналась она так:
«Вчера мы столкнулись с очень необычным просителем. Представьте себе, князь, настоящий князь, появился в нашем учреждении и просил, вернее, требовал работу. Это ничтожество, не утруждавшее себя в прошлом никаким трудом и только украшавшее себя звездами спереди и сзади, теперь решило делать что-нибудь полезное. Мы, разумеется, не удовлетворили его просьбу. Он не работал раньше — у него не будет работы и теперь».
Но несколько месяцев спустя счастье улыбнулось мужу. Началось составление планов по реконструкции и развитию Перми, и были нужны знающие работники. Работа была прямо для Ники. Никогда не обучаясь этому, он имел способность к планировке зданий. Кто-то пригласил его частным образом, и работа пошла. Он не получал всех денег за проделанный труд — тот человек часть брал себе, но тем не менее это было большим подспорьем. Наш стол улучшился, но всё равно мы не могли позволить себе фрукты.
В 1930 году мы решили, что остается одно — бежать за границу. Как мы можем существовать в той окружающей нас ненависти, с бесконечными пятилетними планами, обещающими никогда не осуществляющуюся лучшую жизнь? Мы решили, поскольку я свободна, то поеду в Москву и снова свяжусь с другом Сталина — Енукидзе.
Наступил день, когда я попрощалась с Ники, детьми и няней. Я оставляла детей в хороших руках, так что не беспокоилась. Единственной моей мыслью было добиться чего-нибудь, приложить все силы, чтобы вырваться и спасти нас. Прежде чем уехать из Перми, мне пришлось пойти к дантисту. Приводя мои зубы в порядок, она попросила меня о небольшом одолжении.
— Уж раз вы едете в Москву, не будете ли вы так добры поставить за меня свечку перед чудотворной иконой Божией Матери, которая называется «Нечаянная Радость». Она находится теперь в маленькой кирпичной церкви за кремлевской стеной.
Она дала мне денег, и я, конечно, обещала выполнить ее поручение.
Как только я приехала в Москву, то сразу, не теряя времени, позвонила в Кремль и попросила аудиенции. Я говорила с самим Енукидзе, назвав ему свою девичью фамилию и объяснив, что проделала весь путь от Перми специально для встречи с ним. Он назначил мне день встречи, выдав распоряжение охране пропустить меня.
Свидание с Енукидзе не очень обнадежило. Он был очень милым и сочувствующим, но объяснил, что со дня нашей последней встречи его влияние сильно уменьшилось, и он не может мне ничего обещать, но попробует что-то сделать. Итак, я выполнила свою миссию, и всё, что мне осталось сделать, — это поставить свечу перед иконой «Нечаянная Радость». Я решила поставить свечу и за себя, и. когда зажигала, как же я хотела этой нечаянной радости для нас!
Прежде чем уехать из Москвы, я навестила старинную подругу моей матери. Она была парализована, а ее муж умирал, но все ее разговоры были о том, как добры люди, как за ней ухаживают, какая радость, что племянники носят ее по воскресеньям в церковь. Я слушала и удивлялась: какой характер, какая надежда на Бога, какой любовью веет от нее — ее можно почти видеть и ощущать. Когда мы заговорили о моей матери, она улыбнулась и сказала:
— Ну, что же, ты увидишь ее.
Я вернулась в Пермь, чтобы встретить еще одну суровую зиму. Племянница нашей няни, и единственная родственница, просила ее приехать в Москву. Бедная няня не знала, что делать. С одной стороны, она считала себя обязанной поехать, так как у ее племянницы больше никого не было, с другой стороны, она была очень привязана к нашим детям, в сущности, ко всей семье Ники. Она жила в их доме больше пятидесяти лет. Няня разрывалась между преданностью нам и своим родственникам. Последнее победило, и она решила ехать. Итак, няня уехала, а мы остались лицом к лицу с трудностями жизни.
Ближе к весне Ники заболел тифом. Мы послали телеграмму, и няня сразу же вернулась. Какой радостью было снова видеть ее милое доброе лицо. Я думаю, что она чувствовала то же самое. Она любила свою племянницу и ее маленьких внучек, но было видно, что ее сердце оставалось с Ники и его детьми. К счастью, болезнь протекала легко и Ники быстро поправлялся.
Так наша жизнь и шла. Дети росли. Буля была очень хорошенькой, а Мима — прелестным мальчиком, крепким и крупным для своего возраста. Если я бывала свободна от уроков, то все время проводила с детьми. Мы гуляли по окрестностям, устраивали пикники. Ники был занят работой по проектированию.
Весной 1931 года нам стало трудно выносить последствия пятилетнего плана. Хлеб и всё необходимое для жизни было нормировано, но мы классифицировались как «лишенцы», и нам карточки не выдавались. Мы прочли в газете «Известия», что вдова Ленина сказала: «Дети нежелательных элементов не должны страдать из-за своего происхождения». Ободренная этим, я пошла и попросила карточки для детей. Меня спросили, что я делаю сейчас и чем занималась до замужества. На эти вопросы можно было ответить, что я учительница. А потом спросили, чем занимался мой отец.
— Губернатор! Он не мог быть из рабочего класса, он был дворянином?
— Да, — ответила я.
— И у вас хватает наглости приходить сюда и просить, чтобы ваших детей приравняли к детям из рабочего класса?
Я объяснила, что так сказала Крупская.
— Да, конечно, — он на минуту задумался. — Но здравый смысл подсказывает, если мы не можем снабдить всех, то в первую очередь идет рабочий класс.
Вот и всё.
В конце концов мне удалось добыть две карточки на другое имя через подругу знакомой, работавшей там, где их выдавали.
Я опять ждала ребенка. Поскольку у меня были некоторые неприятности с правым легким, я решила проконсультироваться у профессора Лебедева. К нам он относился очень хорошо и навещал, когда у нас бывали трудности. Я пришла к нему в кабинет, он внимательно осмотрел меня и что-то написал на листочке бумаги.
— Возьмите это в клинику, они будут знать, что делать, и всё будет в порядке.
Я была удивлена его серьезным тоном.
— Что вы хотите, чтобы они сделали со мной? — спросила я.
— Послушайте, сделайте то, что я вам говорю. Вам нельзя рожать еще одного ребенка. Вы это знаете так же хорошо, как я.
Комок встал у меня в горле.
— Почему? Разве я очень больна?
— Еще нет, но если вы выносите ребенка, у вас разовьется туберкулез легких. Беременность в условиях, в которых вы живете, может быть роковой.
Я пошла домой с тяжелым сердцем. Я не хотела никому говорить об этом и подумала о священнике. Однажды, будучи в унынии, не зная к кому обратиться, я была у него и почувствовала облегчение. Другой раз я ощутила прилив мужества, только посмотрев на его лицо, многие люди чувствовали то же самое. Если он пошлет меня в клинику, что ж, значит. Бог так хочет.
Я сказала Ники, что пойду к вечерне и хочу повидать отца Леонида. Когда я пришла в церковь, люди выходили оттуда. Я подождала священника и рассказала ему, что случилось.
— Вы уже больны туберкулезом? — спросил он.
— Нет, пока только легкое пятнышко в легком, но если беременность будет продолжаться, я заболею.
— Значит, пока туберкулеза нет, тогда не ходите в клинику.
Я вздохнула с облегчением.
К концу лета заболела няня. Боль в ноге, которая, казалось, прошла, началась опять. Сначала она старалась не обращать внимания, но скоро мы все поняли, что надо что-то делать. Позвали доктора, и няне пришлось лечь в постель. Состояние ее не улучшалось. Я могу и сейчас ясно видеть ее в темной мрачной кухне, лежащей на большом деревянном сундуке, служившем ей кроватью. Единственное окно выходило в узкий глухой переулок и почти не давало света, но она могла слышать голоса играющих детей, и это приносило ей утешение.
Такое печальное положение вещей продолжалось около трех месяцев, хотя и не без облегчения. Помощь была ниспослана. Пришла дама, просившая мужа помочь ей освежить ее английский. Договариваясь с ним, она увидела нашу бедную няню. После этого редкий день проходил без того, чтобы она не приходила обиходить няню. Она была сиделкой, и ее помощь была как раз тем, что было необходимо в это время. Для нас она тоже была большой поддержкой, она была замечательным человеком.
Пришел священник, чтобы причастить няню, после этого ей стало немного лучше. Однако профессор по-прежнему настаивал на том, чтобы поместить ее в больницу, считая, что там, при всех необходимых процедурах, она быстрее поправится. Мы навещали ее в больнице, ей было удобно, и за ней хорошо ухаживали. Однажды я почувствовала беспокойство, сама не знаю почему. Я поспешила в больницу и нашла няню лежащей с закрытыми глазами. Она как-то неясно отвечала, когда я спросила, как она себя чувствует.
— Вы узнаете меня? — спросила я.
И она ответила:
— Конечно, узнаю, я слышу ваш голос и чувствую вас рядом.
Потом, минуту спустя она сказала:
— В кухне на шкафу направо несколько яиц, они для Мимочки.
Она бредила, я думаю, это были ее последние слова.
Мы потеряли нашего лучшего друга. Похоронили ее на старом кладбище, вблизи церкви, которую она так любила. Однажды, ближе к началу ноября, когда началась холодная погода, мы сидели и разговаривали с нашей подругой, сиделкой, о няне. Вдруг маленькая бабочка стала кружить вокруг нас. Нам обеим пришла в голову одна и та же мысль — это от няни. В это время года не бывает никаких бабочек.
Позже случилась другая странная вещь, которую я тогда так не расценила. Мы пошли на кладбище, поставить на могилу няни крест. Вдруг подошла незнакомая женщина и спросила, долго ли мы тут останемся.
— Я только что испекла шанежки, я принесу сейчас вам и вашим детям.
— Спасибо, — сказала я.
И она ушла. Почти мгновенно она вернулась с грудой вкусных горячих булочек. Давно мы не пробовали ничего подобного. Почему она подошла к нам и угостила — загадка. Мы, правда, были очень голодны, но одеты вполне прилично, на детях были новые пальто и платья, подаренные друзьями, а наша с Ники одежда хоть и была старой, но не потрепанной. И откуда она появилась, и как могла так быстро принести еду? Вблизи старого кладбища не было домов, оно было за городом. Я думаю, что это был ангел.
Жизнь казалась трудной. Мы оба боролись. Здоровье Ники в то время было расстроено. У него всегда был больной желудок. Когда-то, по его словам, он отравился рыбой, а позднее образовалась язва.
Мои роды приближались. По временам приходили продовольственные посылки из Лондона, и тогда мы могли лучше кормить детей. Мы сознавали, насколько труднее становится жизнь. Несмотря на все наши усилия, мы до сих пор ничего не достигли, а наши силы убывали. Тогда мы и послали нашу знаменитую открытку брату Ники. В открытке можно было сказать больше, чем в письме, менее вероятно, что она подвергнется строгой цензуре. Кроме обычных слов, там была фраза, звучавшая так: «Если не придет настоящая помощь, мы погибнем».
Было 31 декабря, и наши соседи, — семья инженера, который знал моего отца и его семью, — готовили большой праздник с шампанским, чтобы отметить приход нового, 1932 года. Мы, оба были приглашены. Мы приняли приглашение, но мысли наши были далеко не праздничными. Мы принарядились, мне удалось натянуть на себя красивое вечернее кружевное платье, оставшееся от прежних времен. Оставив детей под присмотром пожилой женщины, жившей рядом, мы отправились встречать Новый год.
Когда мы пришли, большинство гостей уже собралось. Мы сели за стол, нас было одиннадцать. Не хватало одного гостя, доктора-француза, его ждали с минуты на минуту. Раздался звонок у входной двери и вошли два человека. Доктор привел с собой старую мать. Я подумала: нас будет тринадцать — предзнаменование, которого, как я знала, надо избегать. Я почувствовала беспокойство и решила, что единственно возможный выход — встать и уйти незамеченной. Все свяжут это с моим состоянием. Едва я успела дойти до наружной двери, как хозяйка остановила меня.
— Куда вы идете? — спросила она.
Я что-то пробормотала о том, что неважно себя почувствовала и для меня будет лучше побыть спокойно дома. Но хозяйка не хотела и слушать. Похоже, она догадалась о моих мыслях, потому что сказала:
— Я знаю, вы беспокоитесь, но забудьте об этом, беспокоиться нечего, и не думайте нас так покинуть, это невозможно, вы испортите вечер.
Последний аргумент был достаточно убедительным, но еще прежде, чем она произнесла его, я почувствовала, как ребенок дернулся с такой силой, что у меня мелькнула неожиданная мысль: «Я не буду тринадцатой за столом, потому что нас уже двое», и я выпустила ручку двери. Вечер оказался очень веселым. Мы ушли рано утром, чувствуя, что это пошло нам на пользу.
Следующая неделя была последней перед рождением нашего третьего ребенка. В Сочельник я пошла достать молока для детей. По пути я встретила матушку нашего священника, которая сказала:
— Я вижу, вы торопитесь в церковь.
Я слегка смутилась и ответила:
— Нет, я спешу за молоком.
Я почувствовала, что она разочарована. В такой вечер немыслимо не быть в церкви. Рождество прошло обычно, и наступило 8 января. В три часа пришел на урок маленький мальчик. Я чувствовала себя очень сонной. Наконец время приблизилось к четырем, я сказала мальчику, что он должен сделать к следующему разу, и он ушел. Спать мне было совершенно некогда.
Мне надо было приготовить макароны к ужину. Я пошла на кухню и начала щепать лучину для печки-голландки, но когда я подняла топорик, то почувствовала, что со мной происходит что-то необычное. Я уронила топорик, побежала в комнату и сказала Ники, что произошло, он помог мне лечь в постель и поспешил за женщиной, жившей через дорогу.
Он вернулся очень расстроенным. Добрая женщина сказала ему: «Что же вы делаете, ей надо было быть в родильном доме давным-давно. Ребенок может родиться с минуты на минуту».
Бесполезно было искать извозчика, в этом районе их не бывало. Ники помог мне встать, надеть пальто, и мы отправились пешком. Такое путешествие трудно забыть. Больница была версты за две, а боли уже начались, мы могли продвигаться только в промежутках между ними. При каждой схватке мы вынуждены были останавливаться и пережидать. Мой бедный муж ужасно беспокоился, тщетно смотрел он по сторонам в надежде увидеть извозчика или любое средство передвижения — ничего не было. И мы шли и шли. Время между схватками становилось всё короче и короче.
Наконец мы прибыли в больницу. Меня приняла сестра, и, поскольку Ники не разрешили остаться, он ушел. После обычной рутины меня положили на высокий стол в родильной палате, рядом со мной был колокольчик, сестра сказала, чтобы я позвонила, когда роды действительно начнутся, и ушла. Мне было очень больно, я встала со стола и попробовала ходить, мне казалось, что это облегчит боль, потом села опять и снова встала. Я просто не знала, что делать. Никого поблизости не было. Иногда я слышала голоса за закрытой дверью и пыталась позвать, но никто не приходил. Один раз мне удалось привлечь внимание, и довольно сердитая сестра появилась в дверях.
— В чем дело? — спросила она.
— Роды начались, — ответила я, — пожалуйста, подойдите и помогите мне.
Она вошла в палату, подошла ко мне близко и сказала:
— Ничего похожего, лежите смирно и не беспокойте никого. У нас мало персонала, и мы перегружены.
Она укрыла меня одеялом и вышла. Самые мрачные мысли стали приходить мне в голову, я взяла колокольчик и стала трезвонить, но никто не приходил. Измученная болью, физическим и душевным страданием, я решила снова лечь. То меня бил озноб, то я обливалась полом. Я лежала в прострации, скованная болью.
Внезапно быстрыми шагами вошла сестра, поправила одеяло, протерла мне лицо и едва успела убрать стул с колокольчиком, как дверь распахнулась, и вошла большая группа людей. Все были одеты в белое, а во главе был пожилой приятного вида мужчина. Он подошел прямо к высокой койке, на которой я лежала. За ним последовали и остальные, все молодые, студенты, врачи и среди них несколько сестер.
Добрым взглядом он окинул мое измученное и несчастное лицо и сказал:
— Вы много страдали, но теперь это продлится недолго.
И, повернувшись к группе, сказал:
— А теперь посмотрите, так бывает, когда всё в порядке, — он осторожно положил руки мне на живот. — Головка здесь, всё так, как должно быть.
В этот момент началась безумная боль и я застонала. Врач быстро убрал руки с моего живота, последний раз посмотрел на меня ободряюще и, прежде чем выйти из комнаты, отдал строгое распоряжение старшей сестре:
— Не оставляйте ее одну, ребенок может родиться в любую минуту.
Дверь закрылась, а акушерка засуетилась, принося тазы, наливая горячую воду, разбавляя ее холодной, раскладывая чистые полотенца и так далее. Я сказала:
— Не думаю, что выживу на этот раз.
Она посмотрела на меня и ответила:
— Еще как выживешь, с тобой всё в порядке.
Добрый доктор был прав. Когда все приготовления были закончены, родилась девочка. Акушерка все время стояла рядом и направляла мои усилия. Она была очень опытной, быстро сделала всё, что нужно для малышки, и положила ее рядом со мной, чтобы я могла на нее посмотреть.
Потом меня положили на носилки и перенесли в палату, где лежали остальные женщины. Было немного больше 8 часов вечера, когда меня уложили в постель. Я была очень голодной, так как не ела с самого утра, но ужин был уже закончен, и не было никакой надежды поесть. Одна из женщин отломила кусок хлеба и протянула его мне. Я съела его с большим удовольствием. Позже я узнала, что милый старый доктор, демонстрировавший меня студентам, был очень важным человеком. Он был профессором и главным врачом этой больницы. Я узнала также, что в это время больница находилась в очень плохом состоянии. Не хватало персонала, и она не могла содержаться в должной чистоте. Как раз в это время ее должны были закрыть для чистки и дезинфекции, кроме того, было необходимо сделать некоторые перестройки. Поэтому пациентов выписывали, как только температура становилась нормальной, и Ники забрал меня домой уже на третий день.
Я себя хорошо чувствовала, но у меня всё время чесалась голова. Скоро я, к своему ужасу, поняла, что у меня вши. Спустя несколько дней оказалось, что на правой стороне шеи сзади у меня появилось пятно, которое зудело. Я начала расчесывать его, и через несколько дней оно стало больше и выглядело как нарыв. При этом температура у меня поднялась, и Ники решил позвать нашего профессора, посмотреть меня. Я лежала в кровати, а новорожденная рядом на стуле.
Появившись, доктор посмотрел на меня и сказал:
— Когда вы приходили ко мне восемь месяцев назад, я вас предупреждал. Эта воспаленная опухоль у вас на шее туберкулезного происхождения, и вы приобрели ее из-за того, что не прервали беременность, теперь у вас туберкулез.
— Разве его нельзя вылечить? — спросила я, чувствуя, что задела его чувства непослушанием.
— Попробуем, что можно будет сделать, но ваше состояние не очень хорошо, и лечение займет много времени. Туберкулез — это надолго.
Он едва взглянул на ребенка, но прописал лекарства и мази, объяснил, как мазать вокруг воспаленного места и ненадолго остался, чтобы поговорить с мужем. Как только я получила лекарство и мазь, я стала делать всё, что было прописано, но, несмотря на это, опухоль не только не уменьшалась, но, наоборот, росла всё больше и больше. Обширнее становилась и область покраснения кожи. Боль тоже усиливалась, и дошло до того, что я не могла пошевельнуть шеей. От вечера к вечеру росла температура, и было ясно, что лечение не приносит мне облегчения. Муж решил позвать специалиста. Тот был в ужасе от моего состояния.
Оказалось, что мне был прописан совершенно неправильный курс лечения и что моя опухоль ни в малейшей степени не была туберкулезной. Это был опасный вид абсцесса, который нужно было вскрыть не откладывая, иначе последствия могли быть фатальными. Прописанная мазь способствовала его развитию. Женщина, которая помогала нам в то время, помогла мне добраться до клиники, но мы не смогли увидеть нужного человека, и ничего не было сделано. На следующий день Ники повел меня сам. На этот раз меня сразу взяли в операционную. Я нервничала, потому что слышала о недостатке анестетиков и о том, что они не дают их людям вроде нас. Но мне дали хлороформ, операция была сделана. Я проснулась с большим чувством облегчения — боли не было.
Несколько дней спустя пришло письмо из Лондона. В нем были слова: «…Появилась новая идея, и, на этот раз, она может удасться». Эта волшебная фраза была как первая ласточка, как начало чего-то большого.
Всё шло хорошо. Рана на шее прекрасно заживала, вскоре должны были снять повязку, и я снова смогла бы вести нормальную жизнь. Ребенок совершенно не создавал мне никаких трудностей, у меня был много молока. Двое старших были в порядке.
Вдруг в конце февраля, когда мы готовились мыть всех троих детей, дверь внезапно открылась, и в комнату вошла группа людей. У меня упало сердце. Я поняла, кто это, несмотря на их штатскую одежду. Они старались быть вежливыми и даже извинились, что побеспокоили нас, но для меня это не имело значения. Они забрали мужа с собой, и я понимала, куда. Когда они ушли, я закончила купанье и уложила детей. Потом села и заплакала. Зашла девушка-коммунистка, жившая наверху. Она дружила с гэпэушниками и, наверно, была послана, чтобы проверить мою реакцию. Я взяла себя в руки и предложила ей чаю.
Когда она ушла, я послала помогавшую нам женщину к друзьям, семье инженера, жившим совсем близко от нас, чтобы сообщить им о случившемся. Жена инженера прислала мне записочку, в которой просила, чтобы я ни при каких обстоятельствах не упоминала, что была с ними знакома. Я все хорошо поняла. Мне не к кому было обратиться. Но как я буду жить? Денег нет — в спешке Ники захватил свой кошелек, нет друзей, каждый боится признаться, что знает нас, и трое маленьких детей, которые остались на моем попечении.
Я вошла в детскую. Дети мирно спали. Я упала на колени перед Казанской иконой Божией Матери, которая висела в углу над моей кроватью, и взмолилась. Я просила ее спасти нас. Я просила: «Верни мне моего мужа, а потом вызволи нас отсюда, из этой страны. Я знаю, что безрассудно просить это, но я не могу больше переносить эти страдания. Молю тебя, Пресвятая Богородица, помоги нам». После этого я разделась и легла в постель. И, странно сказать, после этого на меня снизошло спокойствие. Совершенно спокойно я решила: первое, что я должна сделать завтра утром, — пойти к нашему профессору, он не откажет мне, и попросить денег взаймы в связи с тем, что у нас случилось. Потом я потушила свет и приготовилась спать.
Вдруг я услышала снаружи шаги по снегу, шаги моего мужа. Я слушала, не веря своим ушам, раздался знакомый стук в окно гостиной. В радостном исступлении я выскочила из кровати и подбежала прямо к окну. Он был там. Я помчалась открыть дверь и упала в его объятия. Нет слов, чтобы выразить то, что я чувствовала. Богоматерь выполнила первую часть моей молитвы.
Я сияла от счастья: мой Ники был со мной, это было всё, что мне нужно. Я прекрасно знала, где он провел эти последние четыре часа, и я знала также, что из этого места так скоро не возвращаются. Могли пройти месяцы, прежде чем он получил бы новый и такой же несправедливый приговор, и после этого много месяцев, а может быть, идет новой разлуки. Зная хорошо Ники, я не могла понять, почему он не разделяет моей радости. Он выглядел замученным и хоть и улыбался и старался казаться радостным, какая-то мрачная мысль, которой он не хотел поделиться со мной, не давала ему покоя. Я не пыталась заставить его объяснить причину беспокойства. В конце концов, кто может радоваться в тех обстоятельствах, в которых мы жили, зная, что в любое время они могут прийти и сделать с нами всё, что им заблагорассудится.
Ники более трезво смотрел на вещи, чем я. Я была на двадцать лет моложе и всё еще очень наивна. И хотя до женитьбы он никогда не беспокоился о том, что может с ним случиться, теперь, когда у него была семья, дело обстояло иначе. Обычно он делился со мною всем, что его беспокоило, теперь же он знал, что мне придется сделать (ему уже пришлось это сделать), и он знал, что я буду сопротивляться.
Он сказал мне, что, возможно, получит работу. Позже он сообщил, что нам предстоит пойти в «это место» вдвоем.
— Зачем? — спросила я.
— Не беспокойся, они просто хотят знать, что ты не работаешь против них.
— Но они знают, что я ненавижу их.
Ники улыбнулся и сказал:
— Не говори им этого, ты должна обдумывать каждое слово. Помни, что у тебя дети.
Несмотря на то, что Ники старался успокоить меня, я беспокоилась и решила поспешить с крещением. Ники всё организовал, и крещение прошло хорошо. У крестной матери был даже золотой крестик для ребенка. Она уж отчаялась его достать, ювелиры их не продавали, людям не разрешали их носить, могли осудить даже за рождественскую елку, как вдруг она нашла крестик на земле в саду друзей. Моя дочь Валентина до сих пор носит его.
Служба очень растрогала меня. Существовал такой полный любви, святой и милый мир, а тот, в котором мы были принуждены жить ежедневно, был жестоким, страшным и безобразным.
Наступил роковой день. При нашем появлении в ГПУ нас разделили. Меня провели в просторную комнату, где за письменным столом сидел человек. Глупый разговор затянулся на часы и часы. Нет смысла передавать его весь, настолько он был туп. Диалог шел примерно так:
Человек: Мы хотели бы дружить с вами. Поэтому мы попросили вас поговорить с нами. Я надеюсь, вы не возражаете?
Я: Я бы не возражала, если бы не была так занята. У меня очень много работы дома.
Человек: Я прекрасно понимаю. Домашняя хозяйка с семьей и детьми всегда очень занята. Тем не менее, всегда можно найти какое-то время и для другой деятельности.
Я: Какой деятельности? Я же говорю вам, я очень занятая женщина.
Человек: Пожалуйста, не торопитесь так. У меня есть еще несколько вопросов, которые я хотел бы задать вам. Мне хотелось бы выяснить некоторые ваши взгляды.
Я: Какие взгляды?
Человек: Ваши взгляды на жизнь, политическую ситуацию и так далее.
Я: Я не интересуюсь и никогда не интересовалась политикой. Я только мать и жена, и это всё.
Человек: Да, я понимаю. Но мне хотелось бы знать ваше отношение к нам.
Я: Мое отношение? Я не понимаю вашего вопроса. Какое отношение может быть к людям, которых встречаешь первый раз?
Так разговор и шел, пока я не поняла, чего они от меня хотят. Они хотели, чтобы я подписала бумагу, в которой декларировалась моя лояльность к существующему режиму; в подтверждение же этой лояльности мне пришлось бы помогать им ловить людей, нелояльных к этой власти.
Я: Иными словами вы хотите, чтобы я стала шпионом?
Человек: Не будьте так резки. Мы не хотим ничего плохого, а всё, что я пытаюсь сделать, — это помочь вам.
Этот бесполезный разговор длился и длился и никуда не приводил. Было уже заполночь, я понимала, что моя маленькая Валентина проголодалась. Мои блузка и кофточка промокли от молока. Я была усталой, выдохшейся, и чувство глубокой горечи пронзило меня. Для чего все это, думала я. Кто дал им право вторгаться в жизнь невинных людей таким образом? Чего они хотят?
Внезапно я задала себе вопрос: «Одинока я в этой жизни, или есть кто-то, кто нуждается во мне?» Ответ на этот вопрос был поворотным пунктом нашего безрадостного разговора.
Неподалеку, за несколькими дверями меня ждал Ники. Мой маленький ребенок, наверное, плачет, двое других проснулись и с нетерпением ждут нашего возвращения, а я здесь с этим идиотом веду дурацкую беседу.
Я посмотрела на него и сказала:
— Так что же вы хотите от меня?
— Чтобы вы поставили свое имя на этой бумаге, — ответил он, — только и всего, поставьте свою подпись.
Я опять сказала:
— Но я уже говорила вам, что я не создана быть шпионом. Меня по-другому воспитывали, и я не гожусь для этого.
Человек: У вас много друзей, вы очень популярны и могли бы быть нам крайне полезны.
Я: Я так не думаю, все мои друзья похожи на меня. Они не имеют никакого отношения к политике, и всё, чего они хотят, — чтобы их оставили в покое.
Человек улыбнулся: Возможно, но, положим, вы столкнетесь с нашим врагом. Каково будет ваше отношение к этому?
Я: Не знаю, я никогда с этим не сталкивалась.
Выйдя из себя, я сказала:
— Я сказала всё, что могла сказать. Из меня не получится шпион. Я лояльна, чего вам еще надо?
— Это годится, поставьте здесь свою подпись.
Я подписала. Он вывел меня к Ники, который сидел с тремя другими мужчинами.
— Можно отпраздновать, — сказал мой мучитель с гадкой усмешкой, — нашего полку прибыло.
— Нам надо спешить домой, — сказала я Ники, — ребенок уже плачет.
Ни на кого не глядя, мы ушли домой.
Мой муж получил работу, теперь у нас были карточки. Но мы не ощущали радости, а мое здоровье ухудшилось. В начале июня меня вызвали опять. Они сказали, что ни я, ни мой муж не приложили ни каких усилий, чтобы доказать свою лояльность, и по отношению к нам должны быть приняты меры. Я решила сыграть. Я знала, что мы находимся в списках ГПУ как шпионы и нам никогда не выпутаться из их сетей, но я понимала, что с женщиной они будут менее суровы, чем с мужчиной. Я сделалась очень милой и вежливой и сказала:
— Мне очень жать, что мой бедный муж ничего не сделал, чтобы помочь вам. Но я этим не удивлена. Он не разговорчивый человек. Людям скучное ним, и никакой разговор не получается. Даже со мной, своей женой, он почти не разговаривает. Оставьте бедного человека в покое, он не способен ни на что.
Мой следователь казался довольным. Я продолжала:
— Вы просто вычеркните его из списков. Я совсем другое дело, я знаю, как заставить людей разговориться.
Опять он казался довольным. Я играла дальше:
— Я сделаю всё, что могу, но муж не сможет вам помочь ничем.
Мы расстались как друзья, но я проплакала всю дорогу домой.
Приехала навестить нас моя сестра. Это было для меня большой подмогой, и мы много разговаривали. Она хотела мне помочь, но мы были слишком разными, и приходилось избегать некоторых тем. Один из разговоров глубоко огорчил меня. Она была добрая душа и хотела хорошего, видела наши трудности и страдания. Сестра принимала жизнь такой, как она есть, у сестры была хорошая работа, она стояла во главе большого детского сада, где дети воспитывались в антирелигиозной атмосфере. Эта атмосфера была ужасом моей жизни.
Сестра предложила взять моих двух старших детей и поместить в одно из таких заведений.
— Я смогу присматривать за ними, и это будет для тебя большим облегчением, — сказала она.
Я была в ужасе даже при мысли об этом.
— Ты не можешь вечно держать их у своей юбки, государство не допустит этого. Они почти школьного возраста, и тебе придется их куда-то отдать.
Я молчала, но была ужасно расстроена. О, как хорошо я запомнила этот день и дни, что последовали за ним.
Глава тринадцатая Отъезд
17 июня я заболела. Пришлось лечь в постель. Ближе к часу, когда я лежала и дремала, а Ика возилась на кухне, я услышала шаги Ники, и вот он уже в моей комнате. Страшная мысль мелькнула у меня в голове. Неужели я так плоха, что Ники пришел среди дня, чтобы взглянуть на меня? У него на работе было очень строго, и отлучиться можно было, только если случалось что-нибудь действительно серьезное.
«По-видимому, мне осталось не долго жить, и он пришел повидать меня», — подумала я. Я сказала ему, что мне пришло в голову, но он только спросил, как я себя сейчас чувствую. Потом сообщил, что мы едем за границу.
— Вчера вечером я получил повестку из ГПУ, но ничего не сказал тебе, чтобы не волновать. Утром вместо работы отправился в это ужасное место. Меня приняли очень вежливо, называли князем, усадили и предложили сигарету. Потом один из них спросил: «Князь, вы бы хотели уехать за границу?» Не колеблясь, я ответил: «Да, мне хотелось бы уехать за границу». — «Ладно, мы можем это устроить для вас и для вашей семьи. Нам будет приятно помочь вам чем-то. Теперь вы знаете о наших добрых намерениях по отношению к вам. Я советую пойти и обсудить всё с женой. Вы можете начать с того, что поедете в Москву, естественно, мы оплатим все расходы, так что вы можете не беспокоиться относительно этого. Вы можете выбирать лучшие гостиницы. Забудьте обо всех беспокойствах и трудностях. Живите и развлекайтесь, как хотите. Всё нами будет оплачено, мы позаботимся о вашей жене и семействе.
Если ей что-то понадобится, пусть приходит к нам, мы поможем. Тем временем мы приготовим для вас визы, паспорта и все остальное, это займет время, как вы понимаете. Потом вы сможете отправиться».
Услышав это, я встала с постели, я была здорова, я моментально поправилась. Все недомогание исчезло. Когда Ика вошла в комнату и увидела меня, она воскликнула:
— Что ты делаешь? Разве ты не знаешь, как ты больна? Как ты могла встать?
Я только и могла ей ответить, что всё в порядке, что я хорошо себя чувствую и мы отправляемся за границу. Я думаю, что этот день был счастливейшим в моей жизни. Богоматерь исполнила вторую мою просьбу.
Мы совершенно не знали, откуда пришло наше спасение. Большевики держали это в секрете от нас. Они дали нам понять, что сами организуют наш отъезд. Они также рекомендовали помалкивать об этом, так чтобы не могли распространиться слухи. Итак, Ники уехал в Москву. Он полагал, что через десять дней вернется, а ГПУ будет держать меня в курсе его дел.
Прошло три недели, отпуск сестры закончился, и ей пришлось вернуться в Москву. Прошло еще две недели, никаких известий о возвращении Ники. В ГПУ мне всегда говорили одно и то же:
— С ним всё в порядке, наслаждается жизнью, ходит в театры и тому подобное.
Наконец он вернулся. Он жил в первоклассном отеле. Еда была прекрасной, ванна каждый день, он мог делать, что хочет, видеться с друзьями при желании. Но каждый день в определенный час он должен был встречаться с определенным человеком, который спрашивал его, как он проводил время и что он делал. Человек был всегда вежлив, шутил и даже советовал, куда Ники стоит пойти и чем себя развлечь. Недели проходили, и Ники начинал думать, что что-то надо делать. По приезде он сразу же запросил визы и паспорта, но время шло, а ничто не двигалось с места. Прошло уже шесть недель, а всё оставалось по-прежнему.
И, наконец, он прозрел: всё это был трюк, потому что в один прекрасный день этот человек предложил Ники крупную сумму денег, если он останется в России.
— Вот вы сейчас развлекаетесь, а жизнь беженца в чужой стране ужасна.
Ники отказался и решил, что наступила пора действовать.
К тому времени из завуалированных намеков в письмах из Лондона, из намеков на учителя немецкого языка, учившего Ники и его брата в юности, мой муж понял, что наше освобождение имеет какое-то отношение к главе германского правительства. На следующее же утро он узнал, где находится германское посольство, повидался с послом, объяснил ситуацию и выяснил, что тот очень хочет помочь нам. Когда позже, в тот же день он сказал об этом своему «посетителю», тот стал бледнее бумаги, а Ники получил распоряжение собираться и немедленно покинуть Москву.
Так Ники вернулся домой.
— Что мы будем делать? — спросила я, — что с нами случится?
— Ничего, — ответил он, — посол знает о нас, и они не посмеют нас тронуть. Мы сами должны готовиться к отъезду. Нам придется продать вещи. Этот жуткий человек сказал, что теперь они не помогут нам ни копейкой и мы должны справляться сами.
Трудно передать, что мы чувствовали в этот опасный период нашей жизни. Но внутренний голос говорил, чтобы мы были готовы, собраны, спокойны и действовали, держа себя в руках и не оглядываясь по сторонам, и, укрепившись духом, шли прямо к цели. Но нас подстерегали опасности, и мы не знали, в чьих руках находимся. На другой день после возвращения Ники, я решила нанести визит в ГПУ.
Я вошла так, как будто ничего не произошло, и прошла прямо в обычную комнату. Мой гэпэушник был на месте, но с какой холодностью он меня встретил, с каким равнодушием, будто говорил: «Я не понимаю, зачем вы пришли».
Я пыталась завязать разговор, но безрезультатно. Я попросила муки, поскольку у меня вся вышла. Ответ был:
— Мы не можем снабжать вас больше, ваш счет закрыт.
— Но с какого времени?
— Нам это неизвестно, но он закрыт, и это окончательно.
— Но когда мы уезжаем? Присланы ли паспорта?
— Нам это неизвестно, — был ответ.
Было ясно, что больше я ничего не узнаю. И я ушла.
Мы продали свои пожитки: зимнюю одежду, пальто, посуду, кухонные принадлежности, лишнюю одежду, даже примус и большой самовар, но не выручили много. Правда, мы выговорили себе право пользоваться ими, пока не уедем. Но главное, что следовало продать — нашу двухкомнатную квартиру. В них была большая нужда, так что было не трудно найти людей, желавших купить нашу. Итак, мы продали квартиру с условием пользоваться гостиной, пока не сможем уехать. Но каждый раз, как я ходила в ГПУ узнать, не прибыли ли наши паспорта, ответ был прежним:
— Никаких новостей, и вы не можете уехать, не поставив нас в известность.
Дни тянулись, мы продали всё, что имели, и не могли уехать. Однажды мы сидели дома в скверном настроении, вдруг раздался стук в окно, заставивший нас поднять головы, и нам была вручена большая кастрюля горячего борща. Какой праздник был у всех нас в этот день! Я никогда не пробовала ничего подобного, — настолько он был вкусен. Мы почувствовали себя лучше и решили снова действовать.
— Почему бы не уехать, например, завтра, — предложила я, — чего мы ждем? Мы продали всё, даже квартиру, и новые жильцы начинают проявлять нетерпение, квартира принадлежит им, а мы всё еще тут. Пойдемте на старое кладбище, попросим отслужить молебен и отправимся.
Ники согласился, и мы все — малютка, дети и мы — пошли в церковь на старом кладбище. Вечерняя служба кончалась. Несмотря на то, что это был канун Успения Богоматери и церковь была полна народа, мы не могли найти священника, чтобы отслужить молебен. Мы вернулись домой, чувствуя, что нам пока ехать нельзя.
Мы всё обсудили и решили, что надо найти надежного человека, который мог бы поехать в Москву нашим курьером. Мы оплатили бы ему дорогу туда и обратно и дали бы письмо к тете Нине, объясняющее нашу ситуацию, с просьбой связаться с германским посольством. Наши новые хозяева были очень добрыми людьми, и к тому же в их интересах было, чтобы мы скорее уехали. Они нашли для нас молодого человека, который согласился проделать то, что мы хотели.
Через несколько дней он вернулся, сказав, что тетя Нина отказалась пойти для нас в посольство.
— Они не должны валять дурака, а собрать вещи и сами приехать в Москву. Это всё, что я могу сказать. До свиданья.
Мы были ошеломлены. Две мысли мучили нас: то ли последовать совету тети Нины, то ли искать другой путь.
— Она не отдает себе отчета, в какой ужасной ситуации мы находимся. Мы как мыши в ловушке, — сказала я.
Мой муж помолчал некоторое время, а потом сказал:
— Давай соберемся и отправимся как можно скорее. Ожидание ничего не даст. Этот узел надо разрубить так или иначе.
— Мы должны пойти в церковь, — сказала я, — мы не можем уехать без молебна.
На этот раз всё было совершенно по-другому. Мы сразу нашли священника, он отслужил молебен, благословил и пожелал всего хорошего. Ники пошел сообщить ближайшим друзьям о нашем решении, а потом мы в деталях разработали план действий. Мы решили, что на следующее утро Ники должен пойти на станцию и купить билеты и организовать перевозку нашего большого сундука. Мы точно знали, когда отбывает поезд. Мы должны были покинуть дом в три очереди. Сначала выйдет Ники, совершенно один. Потом подруга, которой можно было доверять полностью, возьмет Булю, а последней выйду из дома я с малюткой на руках и с Мимой. Нам нужно было еще написать открытку и отослать ее этим же вечером, но не тете Нине, а нашим друзьям, которые дадут ей знать, если что-то с нами случится. Текст открытки был следующим:
«Сентябрь. 7. 1932. Семья Бебишон (прозвище Валентины) выезжает из Перми восьмого. Надеемся, что у вас все благополучно и каникулы прошли хорошо».
Рано утром подъехала большая телега и забрала наш большой сундук и несколько вещей меньшего размера. Ники вышел, как было запланировано, а вскоре наша подруга забрала Булю. Потом вышла я с двумя младшими детьми, но вместо того, чтобы сразу пойти на станцию, я свернула в сторону и постучала в дверь священника. Матушка открыла дверь и впустила нас.
Услышав, что мы уезжаем, она спросила, есть ли у меня еда для детей. Я ответила, что у меня ничего нет. Она отрезала большой ломоть хлеба, завернула и вручила его мне.
— Путь длинный, вам он понадобится.
Я попросила ее благословить нас, поцеловала ее руку, и мы вышли. Отец Леонид был опять в тюрьме.
Утро было сереньким, и слегка моросило. По пути мы встретили женщину, которая стирала наше белье. Увидев меня, она спросила:
— Вышли погулять?
Немножко пройтись, — ответила я.
На вокзале Пермь-1 наша маленькая группа воссоединилась. Поезд был уже подан. Появились два ближайших друга — крестная мать малютки и девушка, которая носила нам воду из колодца. Мы попрощались с ними и вошли в вагон. Ники сел у окна. Между ним и мной мы поставили корзинку с ребенком. Двое детей сели напротив. Внезапно дверь открылась, и вошла группа людей в форме с револьверами в руках. Они посмотрели вокруг, уставились на нас, а затем один из них сказал:
— Мы должны искать с начала поезда.
Они вышли, оставив дверь открытой. Один из пассажиров заметил:
— Они ищут кого-то.
Мы не произнесли ни слова. Я сидела и молилась. Кого еще они могли искать — конечно, нас… Ужасные мгновенья, их невозможно забыть… Но наконец паровоз засвистел, и поезд тронулся. На станции Пермь-2 поезд стоял двадцать минут. Мы сидели и ждали, не смея произнести ни слова, потом опять гудки, и поезд начал двигаться. Он шел быстрее и быстрее и скоро пересек Каму.
После этого Ники сказал:
— Теперь, думаю, всё обошлось.
Я не была так уверена, но ничего не сказала, надеясь на лучшее. Чем дальше мы ехали, тем лучше себя чувствовали. Это было долгое путешествие. Мы могли покупать еду на некоторых станциях, но были очень рады большому куску хлеба. Ехали весь этот день, ночь, весь следующий день и всю следующую ночь, а в девять часов утра 10 сентября поезд остановился у московского перрона.
Мы взяли извозчика и приехали в дом тети Нины. По счастью, моя сестра Елизавета была как раз там. Мы были так счастливы оттого, что наконец оказались все вместе. Тетя Нина могла нам предложить только маленькую комнату, так что Ники нужно было устраиваться в другом месте. У него когда-то был доходный дом, который он продал незадолго до революции, но дворник там остался прежним и предложил приютить его. Так что после приятного обеда Ники сразу ушел. Нужно было много всего сделать, самое главное выяснить вопрос относительно паспортов и виз. У тети мы устроились очень удобно. Я спала на большой постели моей бабушки вместе с Мимой. Бабушка скончалась за два месяца до нашего приезда. Ники дважды в день приходил к трапезам. Он был очень занят, организуя всё для нашего дальнейшего путешествия.
Все шло замечательно. Через день после того, как мы прибыли в Москву, паспорта были готовы, а вскоре и визы. Нам стало ясно, что ГПУ не старается препятствовать нам, но пыталось запугать, чтобы мы сами отказались от поездки. Они сделали последнюю попытку, когда мы покидали Пермь, сделав вид, что обыскивают поезд. Когда же мы уехали из Перми, они сдались.
Наши десять дней пребывания в Москве были очень приятными. На второй день мы все пошли на кладбище Александра Невского, где покоились моя дорогая бабушка Татищева и тетя Тун. Узнав о нашем приезде, многие наши друзья приходили повидать нас. Детей баловали и восхищались ими. Тем было интересно в новой обстановке. Даже спустить воду в уборной было очень любопытно. Они шептались и постоянно пробегали по коридору, чтобы дернуть за цепочку, до тех пор пока не вмешалась тетя Нина. Поскольку всё шло так хорошо с нашим отъездом, мы несколько успокоились и чувствовали себя лучше физически и морально.
Наконец, когда все приготовления были закончены. Ники решил пойти купить билеты. Это было самое последнее, что осталось сделать, и к тому же самое простое, потому что очень немногим разрешалось ехать за границу и билетов покупалось мало. Ники ушел, как всегда, и мы ожидали его на следующее утро с билетами в руках. Когда я открыла дверь, его лицо было серьезным, а не улыбающимся, как обычно. Я посмотрела на него и спросила, что случилось, получил ли он билеты.
Он ответил, что не смог достать никаких билетов.
— Но почему? — спросила я, начиная паниковать.
— Я не знаю, — ответил он, — у них нет, или они не хотят продать их.
Как молния пронзила меня мысль: «Я не поблагодарила Матерь Божию за избавление, не сделала ни малейшей попытки, не сделала и шага по направлению к церкви». Тетя Нина говорила мне, что большевики закрыли маленькую кирпичную церковь у Кремля и что икона Пресвятой Богородицы, перед которой я молилась о нашем спасении, перенесена в церковь совсем недалеко от того места, где мы жили. Я легкомысленно полагала подождать с благодарностями, пока мы не доберемся до Берлина.
Я не стала говорить об этом, мы провели вечер тихо, и, уходя от нас, Ники сказал, что завтра утром он опять попытается купить билеты.
На следующее утро тети Нины не было дома, она давала уроки. Я одела двух детей, оставив малютку на попечении Маши, преданной прислуги, которая ухаживала за моей бабушкой, и мы направились прямо в церковь. К тому времени, как мы пришли, Литургия подошла к концу, и люди постепенно расходились. Я подошла к столу, где продавались свечи, купила одну и подошла вместе с детьми к чудотворной иконе Пресвятой Богородицы «Нечаянная Радость». Людей вокруг было немного. Мы преклонили колени и поцеловали икону, и я поблагодарила Пресвятую Деву за ее великую милость к нам. Потом мы тихонько вышли из церкви и пошли домой. Вскоре появился Ники, я поспешила ему навстречу и спросила о билетах. Он улыбался, ответа не требовалось.
Следующий день, 16 сентября 1932 года, был днем нашего отъезда. Поезд отходил в 11 вечера. Мы решили, что нас будет провожать только сестра, для тети Нины это было бы слишком тяжело. Она выглядела грустной, когда мы расставались. Она знала, что последний раз видит нас на этом свете. Разлучаясь так, люди делают это не ради удовольствия, не для того, чтобы увидеть другие страны или составить себе состояние; они вынуждены покидать свою страну, чтобы избежать участи быть раздавленными. В этом, быть может, заключалось некоторое утешение.
На вокзале мы окончательно попрощались. Ика плакала и перецеловала нас всех. Поезд тронулся. Горечь расставания перемешивалась с огромным облегчением и радостью при мысли, что наши страдания подходят к концу.
На следующее утро мы доехали до последней остановки перед границей. Это был день, когда Православная Церковь празднует исход из Египта по дну Красного моря. Нам нужно было пересесть в другой поезд и пришлось вытащить все наши вещи и сундук на станцию. Там мы ждали два часа, пока все вещи подвергались тщательному досмотру. Они, видимо, пытались найти драгоценности, золотые и серебряные вещи, но их не было. То немногое, что у нас было — иконы и немного бриллиантов, доверенных нам немецкой гувернанткой Катей Мансуровой, — находились в надежном месте — немецком консульстве. Их должны были передать нам по прибытии в Германию. Пока шел досмотр, мы пережили два часа волнений. Мы знали случаи, когда людей возвращали обратно прямо с границы.
Наконец досмотр был закончен, и нам пришлось упаковывать вещи заново. Мы погрузились в поезд, который шел на Берлин через Польшу. Паровоз заработал, мы медленно отъехали от станции. Поезд шел всё быстрее и быстрее, но вот мы подъехали к границе, и он слегка замедлил ход.
Ники сказал:
— Красный флаг, посмотри на него в последний раз. Мы смотрели на него, пока он не исчез из виду. После этого мы перекрестились.
Эпилог
Через тридцать шесть часов после отъезда из Москвы мы прибыли в Берлин, усталые, но счастливые. Нас встретила милая немецкая дама — баронесса фон дем Кнезебек. После нескольких недель пребывания в их поместье, мы жили еще некоторое время в Южной Германии, в замке кузена матери и его жены, Кирилла и Руфи Шмидт-Нарышкиных[59]. Потом, после воссоединения с матерью. Котом и многими старыми друзьями в Париже, мы переехали в Англию.
Мы узнали, как было устроено наше бегство. Моя мать встретила в Париже родственника Ники, который упомянул, что племянник президента Гинденбурга[60] женат на Голицыной. Она в сущности не была родственницей моего мужа, но стоило попробовать. Вава написал Гинденбургу, а тот Сталину с просьбой разрешить «кузенам» навестить его. В то время Советское правительство пыталось установить дружеские отношения с Германией. Поэтому они не решились отказать и, тем не менее, не говорили нам об этом. Такая прямолинейность была не в их духе, а ведь мы были им совершенно не нужны, и наш отъезд не мог ничему повредить.
В конце концов, мы обосновались в Лондоне, и три года спустя родилась наша третья дочь — Мария. Жизнь не была легкой: у нас не было собственных денег, а здоровье Ники постепенно ухудшалось. Кроме того, в течение первых лет из-за экономического кризиса нам не разрешалось работать. Но мы видели так много доброты и от русских, и от англичан. Теперь я живу рядом с моими четырьмя детьми и пятью маленькими внуками. Мой дорогой Ники умер в 1958 году. Все эти трудные годы он прожил, не теряя бодрости.
История моей жизни в послереволюционной России — это свидетельство о страданиях и трагедиях. Каждое мгновенье я должна благодарить Бога за великую милость к нам, ибо Он не только вывел нас живыми из того ужасного места, каким стала Россия, но через страдания привел нас к познанию Своего существования. Это величайший дар. Наша история не является исключением, — существуют тысячи других, более тяжелых. Для тех из нас, кто постиг эту великую истину, самое главное теперь — жить в соответствии с ней и стараться передать ее тем, с кем сводит нас судьба.
Послесловие
Княгиня Голицына умерла в 1983 году, так и не вернувшись на родину. Она говорила, что коммунисты разрушили ее страну, и потому она никогда не вернется в Россию, пока они находятся у власти. Но она дожила до прославления мучеников — Николая II и членов его семьи, а также всех Новомучеников и Исповедников Российских, которое состоялось в 1981 году в Америке.
Дети и внуки княгини Голицыной, благодаря появившейся возможности посещать Россию, стремились, естественно, выяснить судьбу тех мест, с которыми была тесно связана жизнь княгини и которые она так живо описала в своих мемуарах.
В Ворганове от дома сохранился лишь фундамент, вокруг которого лежат возделываемые поля. Дом, окруженный красивым лесом, стоял на вершине круто поднимающегося холма. Он был разрушен, по-видимому, в 1944 году. В свою очередь, губернаторский дом в Ярославле, в котором княгиня Голицына провела часть своих детских лет, недавно был отреставрирован, и теперь в нем расположилась картинная галерея города.
Степановский дом еще недолго оставался музеем после того, как княгиня Голицына побывала в нем в последний раз в 1921–1922 годах. После закрытия музея все его содержимое было передано в музеи Твери. Позднее в этом доме расположилась психиатрическая лечебница, число больных в которой за последние годы сократилось, и теперь она занимает лишь одно крыло огромного здания, которое находится в самом печальном состоянии.
Одна из внучек княгини Голицыной ежегодно посещает Степановское со своей семьей уже на протяжении трех лет. В свой первый визит они встретили Софию Ивановну Базалову — старейшую жительницу близлежащего поселка Ивашково. Она была ученицей княгини Голицыной во время ее кратковременного учительствования в местной школе в 1921–1922 годах. София Ивановна хорошо помнила княгиню, а также ее мать и бабушку и рассказала много интересных эпизодов из их жизни. Во время другого посещения удалось найти место, где стояли церковь и приют для сирот, построенный Елизаветой Нарышкиной в том месте, где в роднике была обретена икона. Все строения уже давно были разрушены, но родник сохранился, а вода оставалась точно такой же, какой ее описала княгиня, — очень холодной, с сильным привкусом железа. Недалеко от источника находится кладбище.
В картинной галерее Твери, которую они также недавно посетили, можно было увидеть некоторые из полотен, висевших прежде в Степановском доме; они были бережно показаны нам хранителями музея. Коллекция произведений искусства в этом доме была настолько обширной, что в музее выставлена лишь незначительная ее часть, а оставшиеся ценности находятся в хранилище.
В Якшине, поместье супруга княгини — князя Николая Эммануиловича Голицына — в настоящее время расположен детский санаторий. Основное здание сохранилось. В нем расположен главный корпус санатория. Это здание полностью обновлено и перестроено внутри и снаружи. Вместе с тем красивый кирпичный домик сохраняет свой прежний вид, по крайней мере, снаружи. Церковь, прихожанами которой были жители Якшина и соседнего поместья, была осквернена и в настоящее время находится в крайне запущенном состоянии. Рассказывали о том, что во время земляных работ неподалеку от храма был обнаружен гроб, надпись на котором гласила, что в нем лежит тело молодой женщины, умершей в По во Франции. Это была мать князя Николая Эммануиловича — Екатерина Николаевна Голицына[61], урожденная Гордеева.
Таким образом, настоящее поколение, вернувшееся наконец в Россию, восстанавливает связи, соединяющие его с людьми, о которых с таким волнением писала княгиня Голицына.
Указатель имен
Абрикосова Анна Ивановна (аббатиса Екатерина)
Александр I Император Всероссийский
Александра Федоровна, Императрица
Алексий, епископ (Симанский, Сергей Владимирович)
Анна, горничная
Антоний, митрополит (Александр Васильевич Вадковский; 1846–1919)
Базалова София Ивановна
Балин Иван
Бенкендорф Нита
Бенкендорфы
Бердяев Николай Александрович
Бронштейн (Троцкий) Л. Д.
Бусни, мадмуазель
Ванда
Васильчикова Екатерина Петровна (Катуся)
Виктория, королева Великобритании
Владимир Мономах
Войков П. Л., советский полпред в Варшаве
Вырубова Анна Александровна
Гарольд, король Англии
Георгий Михайлович, Вел. князь
Герингер Мария, камер-фрау императрицы Александры Федоровны
Гинденбург Пауль фон
Голицын Владимир Эммануилович (Вава)
Голицын Дмитрий Николаевич
Голицын Николай Эммануилович (Ники)
Голицына Валентина Николаевна
Голицына Ирина Николаевна
Голицына Мария Николаевна
Голицына Надежда Эммануиловна
Голицына Юлия Федоровна
Голицына Екатерина Николаевна
Гончарова Елена Борисовна
Гордеева Валентина Сергеевна
Гордеева Екатерина Николаевна
Гринвей Кейт
Гринвуд, мисс
Грэхем Александр
Губарев, дворецкий
Данзас Юлия Николаевна
Данзас де Вилле Ольга
Данзас де Вилле Федор
Дмитрий, священник
Евгения Нестеровна, гувернантка
Евдокия Федоровна, домохозяйка
Елизавета Федоровна, Вел. княгиня
Енукидзе А. С.
Жендр, мадмуазель
Иоанн Кронштадтский, протоиерей (Сергеев)
Каналетто Дж. А.
Каплан Фаина
Керенский Александр Федорович
Кнезебек фон дем, баронесса
Козен Александр Федорович
Козен Александра Алексеевна (тетя Саша)
Крупенские
Крупенский Михаил
Ксения Георгиевна, Вел. княжна
Куракин Алексей Борисович
Куракин Иван Анатольевич
Куракин Федор Алексеевич
Куракина Александра (Элли) Ивановна
Куракина Елизавета (Вета) Ивановна
Куракина Ирина Ивановна
Куракина София Дмитриевна
Лебедев, профессор
Ленин В. И.
Леонид, священник
Лина, горничная
Лихачева Мара
Лихачева Наталья
Лорис-Меликов Василий Тариелович, граф
Лорис-Меликова Александра (Сандра) Тариеловна, графиня
Лорис-Меликовы, графы
Львова, княжна
Любощинская Наташа
Мансуров Николай Николаевич
Мансурова Екатерина Николаевна
Мария Александровна, Вел. князь
Мария-Антуанетта
Мария Георгиевна, Вел. княгиня
Мария Николаевна. Вел. княжна
Мария Павловна, Вел. княжна
Мария Федоровна, вдовствующая Императрица
Мария Федоровна, гувернантка
Матсон, мисс, гувернантка
Мещерский, князь
Михаил Александрович, Вел. князь
Муравьев Валериан Николаевич (1885–1932?)
Нарышкин Кирилл Анатольевич (дядя Кира)
Нарышкин Кирилл Кириллович (Кирок)
Нарышкин Петр Кириллович (Петрик)
Нарышкина
Нарышкина Елизавета Алексеевна
Нарышкина Наталия Кирилловна (тетя Тата)
Нарышкина Нита
Николай II, Император Всероссийский
Нина Георгиевна, Вел. княжна
Обухова София Михайловна (тетя София)
Ольга Николаевна, Вел. княжна
Палавандова, княжна
Педжет Дороти
Петр Великий
Попова
Прасковья Федоровна, учительница
Пушкин Александр Сергеевич
Распутин Григорий Ефимович
Ратиев, князь
Рейнольд, мадмуазель
Рисс, мисс
Ростопчин Федор Васильевич
Сабурова Ксения Александровна
Сабуровы
Сергей Михайлович, Вел. князь
Соколова
Сталин Иосиф Виссарионович
Стасова Елена Дмитриевна
Строгановы, графы
Сухотина Татьяна Львовна
Татищев Дмитрий Николаевич (отец)
Татищев Илья Леонидович
Татищев Николай Дмитриевич (дедушка автора)
Татищев Николай Дмитриевич (Кот), брат автора
Татищев Николай Николаевич (дядя)
Татищева Анна Михайловна
Татищева Вера Анатольевна (мать автора)
Татищева Елизавета Дмитриевна (Ика)
Татищева Наталья Николаевна (тетя Тун)
Татищева Нина Николаевна (тетя Нина)
Татьяна Николаевна, Великая княжна
Тихон, митрополит
Толстая Лидия Павловна
Толстой Лев Николаевич, граф
Туркестанов Петр Александрович, князь
Хохлова Мария Никитична, няня
Чавчавадзе, княжна
Челищева Екатерина
Челищева Нелли
Шаляпин Федор Иванович
Шаховской, князь
Шереметев Павел Сергеевич, граф
Шереметев Сергей Дмитриевич, граф
Шмидт-Нарышкин Кирилл
Шмидт-Нарышкина Руфь
Эдинбургский, герцог
Эристова Елена
Юсупов Феликс Феликсович, князь
Юсупова Ирина Александровна, княгиня
Яковлева
Примечания
1
На форзаце данного издания приводится оригинал письма П. Гинденбурга по поводу судьбы князей Голицыных.
(обратно)2
Толстая Лидия Павловна (1882–1975) — похоронена на кладбище Гансбури (Gunnesbury) в Лондоне, дочь Павла Сергеевича Толстого (1848–1940), графа с 1930.
(обратно)3
Татищев Дмитрий Николаевич (1867–1919) — граф, генерал-лейтенант, командующий Отдельным корпусом жандармов, расстрелян большевиками.
(обратно)4
Гарольд Годвинсон (?—1066) — король Англии, погиб в битве при Хастингсе.
(обратно)5
Татищев Николай Дмитриевич (1829–1907) — дед автора, генерал от инфантерии, женат на Анне Михайловне Обуховой (1846–1932), дочери Михаила Петровича Обухова и его жены Наталии Федоровны, урожденной Левиной.
(обратно)6
Нарышкин Кирилл Анатольевич (1868–1924) — друг детства Николая II, флигель-адъютант, полковник Л.-гв. Преображенского полка, с декабря 1916 до февраля 1917 г. генерал-майор и начальник военно-походной канцелярии Царя.
(обратно)7
Татищева Вера Анатольевна (1874–1951) — урожденная Нарышкина, жена графа Дмитрия Николаевича Татищева, дочь Анатолия Дмитриевича Нарышкина и его жены, урожденной княжны Елизаветы Алексеевны Куракиной.
(обратно)8
Нарышкина Елизавета Алексеевна (1838–1928) — урожденная княгиня Куракина, обер-гофмейстерина Императрицы Александры Федоровны, статс-дама, кавалер-дама, председательница Петроградского дамского благотворительного тюремного комитета, приюта имени принца Ольденбургского для женщин, отбывавших наказание в петербургских местах заключения, Общества попечения о семьях ссыльнокаторжных и приюта для арестантских детей; вдова Анатолия Дмитриевича Нарышкина (1825–1883).
(обратно)9
Обухова София Михайловна (тетя София) (1844—?) — сестра Анны Михайловны Татищевой (бабушки автора).
(обратно)10
Козен Александра Алексеевна (1840–1919) — урожденная княжна Куракина, жена (1870) генерала А. Ф. Козен, статс-дама. Дочь Алексея Борисовича Куракина (1809–1844) и Юлии Федоровны, урожденной княжна Голицыной (1814–1881).
(обратно)11
Козен Александр Федорович (1833–1916) — генерал от инфантерии.
(обратно)12
Нарышкина Наталия Кирилловна — урожденная Нарышкина, фрейлина, дочь Кирилла Александровича и его жены Анны Михайловны Казариновой.
(обратно)13
Penny Farthing — английское название первого велосипеда, который имел одно маленькое заднее колесо и большое — переднее. Во времена изобретения велосипеда Penny Farthing называли самую большую медную монету в Англии.
(обратно)14
Куракин Федор Алексеевич (1842–1914) — князь, сын Алексея Борисовича Куракина и Юлии Федоровны, урожденной княжна Голицыной.
(обратно)15
Иоанн Кронштадтский — протоиерей, в миру — Сергеев Иоанн Ильич (1829–1908). Причислен к лику святых в 1964 г. в эмиграции, в 1990 г. в России.
(обратно)16
Татищев Николай Николаевич (1865—?) — земский начальник Одоевского уезда.
(обратно)17
Антоний (Александр Васильевич Вадковский; 1846–1919) — митрополит Петербургский и Ладожский, первенствующий член Святейшего Синода.
(обратно)18
Куракин Алексей Борисович (1809–1872) — князь, генерал от кавалерии, тайный советник, член Академии изящных искусств, сын Бориса Алексеевича Куракина и Елизаветы Борисовны, урожденной княжна Голицыной.
(обратно)19
Гончарова Елена Борисовна (1864–1928) — урожденная княжна Мещерская, фрейлина. Муж, Николай Иванович Гончаров (1869–1902) корнет 1887, земский начальник в Волоколамском уезде, отставной поручик 1890. Имела трех братьев: Бориса (1850–1904), Сергея (1852—?) и Алексея (1854–1928).
(обратно)20
Куракин Иван Анатольевич (1874–1950) — князь, предводитель дворянства Ярославля, действительный статский советник, член Государственной Думы, министр финансов Белой армии (Архангельск), православный священник с 1931 г., епископ с 1950 г.
(обратно)21
Куракина Александра (Элли) Ивановна (1902—?) — княгиня, дочь князь Ивана Анатольевича Куракина, замужем (с 1929 г.) за Жаном дю Пти-Туара де Сен Жорж.
(обратно)22
Куракина Ирина Ивановна (1903—?) — княгиня, дочь князь Ивана Анатольевича Куракина, замужем (с 1951 г.) за Великим князем Гавриилом Константиновичем (1887–1955).
(обратно)23
Куракина Елизавета (Вета) Ивановна (1905—?) — княгиня, дочь князь Ивана Анатольевича Куракина, замужем (с 1927 г.) за Сергеем Николаевичем Плаутиным.
(обратно)24
Куракина Софья Дмитриевна (1882–1917) — княгиня, урожденная графиня Толстая, жена князя Ивана Анатольевича Куракина.
(обратно)25
Ольга Николаевна (1895–1918) — Великая княжна, старшая дочь Царя, убита большевиками в Екатеринбурге.
(обратно)26
Татьяна Николаевна (1897–1918) — Великая княжна, вторая дочь Царя, убита большевиками в Екатеринбурге.
(обратно)27
Виктория (1819–1901) — королева Великобритании и Ирландии (1838–1901) в период наибольшего расцвета Британской империи.
(обратно)28
Мария Федоровна (1847–1928) — урожденная принцесса Мария-София-Фредерика-Дагмара Датская, дочь датского короля Христиана IX, с 1866 г. супруга Александра III; от их брака родилось шестеро детей. Шеф Кавалергардского полка (с 1881 г.). В России осуществляла высшее управление учреждениями ведомства Императрицы Марии. По ее инициативе возникли Мариинские женские училища для малообеспеченных девушек-горожанок. После Февральской революции вместе с семьей старшей дочери, Великой княгини Ксении Александровны, находилась на положении ссыльной в своем имении в Крыму. 11 апреля 1919 г. на борту английского броненосца «Мальборо» покинула вместе с родственниками пределы России. Проживала и умерла в Дании в 1928 г.
(обратно)29
Ростопчин Федор Васильевич (1765–1826) — кабинет-министр иностранных дел, действительный тайный советник, член Государственного Совета, обер-камергер, главнокомандующий (1812–1816) Московской, Тульской. Калужской и др. губерний.
(обратно)30
Юсупов Феликс Феликсович, младший (1887–1967) — князь, граф Сумароков-Эльстон, убийца Распутина, женат на дочери Великого князя Александра Михайловича, Ирине.
(обратно)31
Мансуров Николай Николаевич (род. 1867–1918?) — церемониймейстер. Женат на Марии Александровне, урожденной Ребиндер, фрейлине.
(обратно)32
Юсупова Ирина Александровна (1895–1970) — княгиня, урожденная Великая княжна, дочь Великого князя Александра Михайловича и Великой княгини Ксении Александровны.
(обратно)33
Михаил Александрович (1878–1918) — Великий князь, младший брат последнего Царя, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, член Государственного Совета. Во время войны командир кавказской Туземной конной дивизии, 2-го кавалерийского корпуса, позднее генерал-инспектор кавалерии. С 1911 г. женат на княгине Н. С. Шереметевской (Брасовой). 2 марта 1918 г. Царь отрекся от престола в пользу своего брата Михаила, который отказался от власти, оставив вопрос о ней на усмотрение Учредительного Собрания. Убит большевиками в окрестностях Перми.
(обратно)34
Татищев Илья Леонидович (1859–1918) — граф, генерал-адъютант Великого князя Владимира Александровича, с 1905 г. генерал-майор Свиты Императора Николая II. Добровольно последовал с Царской Семьей в ссылку, при переводе в Екатеринбург вместе с князем В. А. Долгоруковым был посажен в тюрьму и расстрелян 10 июля 1918 г.
(обратно)35
Вырубова Анна Александровна (1884–1964) — урожденная Танеева, фрейлина, ближайшая и преданнейшая подруга Императрицы Александры Федоровны с 1904 по 1917 г., горячая поклонница Григория Распутина. В 1920 г. эмигрировала в Финляндию. Была тайно пострижена в монахини под именем Мария, похоронена в Хельсинки. Автор книги мемуаров «Фрейлина Императрицы».
(обратно)36
Георгий Михайлович (1863–1919) — Великий князь, троюродный брал Николая II, генерал-адъютант, генерал-лейтенант, состоял при Ставке Верховного главнокомандующего. В 1915–1916 гг. с особой миссией ездил в Японию. С 1900 г. женат на Марии Георгиевне, принцессе Греческой (1876–1940). Убит большевиками в Петропавловской крепости.
(обратно)37
Мария Георгиевна (1876–1940) — Великая княгиня, урожденная принцесса Греческая, жена Великого князя Георгия Михайловича.
(обратно)38
Васильчикова Екатерина Петровна, фрейлина.
(обратно)39
Вот хорошо, этого хватит до конца моих дней (фр.).
(обратно)40
Мария Николаевна (1899–1918) — Великая княжна, третья дочь Николая II и Александры Федоровны. Расстреляна в Екатеринбурге вместе с семьей в ночь с 16 на 17 июля 1918 г.
(обратно)41
Елизавета Федоровна (1864–1918) — урожденная принцесса Гессен-Дармштадтская, Великая княгиня, жена Великого князя Сергея Александровича (1857–1905), старшая сестра Императрицы Александры Федоровны. После гибели мужа ушла от мирской жизни, основательница и настоятельница Марфо-Мариинской обители милосердия. Убита вместе с Великими князьями в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. под Алапаевском. Позднее останки Великой княгини были перезахоронены в Иерусалиме, в усыпальнице русского монастыря Марии-Магдалины в Гефсимании.
(обратно)42
Сергей Михайлович (1869–1918) — Великий князь; с 1905 г. генерал-инспектор артиллерии, в 1915–1917 гг. полевой генерал-инспектор артиллерии при Верховном главнокомандующем; убит в ночь с 17 на 18 июля 1918 г. под Алапаевском.
(обратно)43
Стасова Елена Дмитриевна (1873–1966) — член партии большевиков, член президиума Петроградской ЧК, работала в Коминтерне.
(обратно)44
Татищева Анна Михайловна (1846–1932) — жена Николая Дмитриевича Татищева (деда автора), дочь Михаила Петровича Обухова и его жены, урожденной Наталии Федоровны Левиной.
(обратно)45
Их дом находился на улице Сивцев Вражек.
(обратно)46
Сабурова Ксения Александровна (1900–1984) — дочь Александра Петровича Сабурова и Анны Сергеевны, урожденной графини Шереметевой.
(обратно)47
Дом графа С. Д. Шереметева в Москве на Воздвиженке, № 8.
(обратно)48
Имение под Москвой — Остафьево, а дядюшка — граф Павел Сергеевич Шереметев.
(обратно)49
Енукидзе А. С. (1877–1937) — член президиума и секретарь ЦИК СССР.
(обратно)50
Алексий (Сергей Владимирович Симанский; 1877–1970) — с 1913 г: епископ Тихвинский, викарий Новгородский, с 1945 г. Патриарх Московский и всея Руси.
(обратно)51
Сухотина Татьяна Львовна (1864–1950) — дочь писателя графа Л. Н. Толстого. Комиссар-хранитель толстовского музея в Ясной Поляне, заведующая толстовским музеем на Пречистенке. В эмиграции с 1925 г.
(обратно)52
Данзас Юлия Николаевна (1879–1942).
(обратно)53
Туркестанов Петр Александрович (1902–1956) — князь.
(обратно)54
Адъютантом. — Ред.
(обратно)55
Абрикосова Анна Ивановна (1882–1936) — родилась в купеческой семье Абрикосовых, закончила Кембриджский университет. Приняла католичество в 1908 г. в Париже. В 1913 г. вступила в т. н. Ill орден Св. Доминика (доминиканское объединение мирян) с именем Екатерина. В 1917 г. в Москве Абрикосова основала русскую доминиканскую женскую общину. В 1923 г. она была арестована и осуждена как участница контрреволюционного шпионажа. После длительного заключения аббатиса Екатерина умерла в тюремной больнице в Москве.
(обратно)56
Мария Никитична Хохлова. — Ред.
(обратно)57
Валентина Сергеевна Гордеева, урожд. Ушакова (1862–1931) — жена Николая Николаевича Гордеева (1850–1906), брата Екатерины Николаевны Голицыной. Она стала настоятельницей Марфо-Мариинской обители в Москве после ареста Великой княгини Елизаветы Федоровны в 1918 г. Умерла в Туркестане 19.07.1931 и похоронена при храме Покрова.
(обратно)58
Надежда Эммануиловна была арестована с некоей Агафьей Александровной, старостой церкви, и расстреляна в Туркестане в 1938 г.
(обратно)59
Шмидт-Нарышкин Кирилл — сын Натальи Федоровны Нарышкиной и поручика Баденской службы Г. Шмидта. Руфь — жена Кирилла Шмидт- Нарышкина.
(обратно)60
Гинденбург Пауль фон (1847–1934) — генерал-фельдмаршал, начальник Генштаба, президент Германии (1925–1934).
(обратно)61
Екатерина Николаевна Голицына, урожденная Гордеева (1853–1888) В 1876 г. вышла замуж за князя Эммануила Васильевича Голицына.
(обратно)


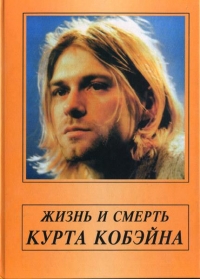

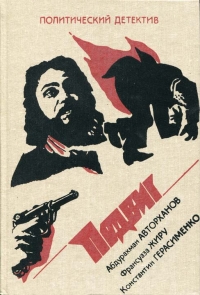
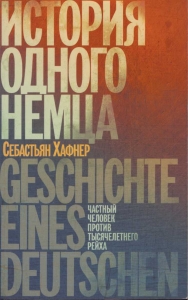

Комментарии к книге «Воспоминания о России (1900-1932)», Ирина Дмитриевна Голицына
Всего 0 комментариев