Владимир Медведев Грехи Брежнева и Горбачева: воспоминания личного охранника
© Медведев В.Т., 2016
© ООО «ТД Алгоритм», 2017
От автора
Мемуарное творчество вошло в моду среди советских руководителей. Поделились воспоминаниями Хрущев, Брежнев, Горбачев. Уже и Раиса Максимовна Горбачева не упустила возможности оставить воспоминания в качестве жены президента.
Теперь и чиновники уровнем пониже также ударились в мемуарную литературу. Ничего не сделав для страны, для собственного народа, который, как никогда прежде, – в бедности, эти политики делятся опытом своей бесполезной работы с зарубежными (в основном) читателями.
О себе не пишут сейчас только самые ленивые.
Я взялся за перо одним из последних – когда Брежнев и его время были окончательно развеяны и осмеяны, когда ушли в прошлое еще три генеральных секретаря ЦК КПСС и их времена оказались приговорены к еще более позорному столбу. Когда диктаторский режим сменился наконец демократическим, но и это принесло лишь беды; когда, наконец, была попытка государственного переворота (или мятежа?) и мое имя попытались очернить, обвинить в измене – обвинил не кто-нибудь, а Горбачев.
Я молчал эти долгие месяцы и годы, так как любой ответ на упреки выглядел бы как оправдание, а это я считаю для себя унизительным. Я никогда не был замешан в политиканстве, тем более в интригах и заговорах, никогда ни разу не изменил присяге, и время, кажется, само расставило все по своим местам. «Кто есть кто», как любил говорить последний Генеральный секретарь ЦК КПСС, теперь выяснилось, остались лишь подробности.
Я работал и жил под присягой, не расставаясь с оружием 24 часа в сутки. В личной охране Брежнева состоял 14 лет, пришел туда во второй половине шестидесятых годов, когда Леонид Ильич был в полной силе и страна, и мир надеялись на его плодотворную деятельность. На моих глазах происходил затем нравственный и физический распад личности. У Горбачева я возглавлял личную охрану все шесть лет его пребывания у власти.
Именно чужие книги подвигли меня наконец на свои собственные воспоминания. Жизнь вождей я видел и познал изнутри. И когда стал знакомиться с воспоминаниями людей, бывших на вершинах власти, я увидел четкое, иногда наивное самооправдание. А самооправдание и правда – не всегда одно и то же.
Мне представляется, что мемуары первых лиц государства – это как бы официальная версия правды, не более. Потому что редкий вождь сознается в серьезных просчетах и поражениях, и уж никогда – в болезнях, грехах, пороках.
А надо ли знать о личных слабостях своих вождей простым смертным – о вспыльчивости и неуравновешенности Хрущева, физической и нравственной деградации Брежнева, бесхарактерности и непостоянстве Горбачева? Да. Когда при тоталитарной или псевдодемократической системе страной безраздельно заправляет единственный человек, от его личных прихотей не защищен весь народ. От блажи, причуд, нездоровья этого одного человека, от того, с какой ноги он встал, роковым образом зависела иногда судьба не только собственной страны. Если хотите, события в августе 1991 года, так взволновавшие весь мир, стали возможны тоже во многом благодаря личным порокам президента Горбачева, изъянам его характера – нерешительности, в результате которой он суетился, ошибался, делал глупости, лавировал, предавал, и полной слепоты по отношению к людям, которых он приближал к себе.
В который раз я задумываюсь о бездарном провале всей августовской затеи. Странное это было предприятие. Мятеж? Путч? Переворот? По-моему, точного ответа нет до сих пор. Ельцин утверждал, что переворот готовился почти год, демократы много раз заявляли об опасности со стороны армии, и в то же время после образования правительства России много месяцев не назначался председатель Государственного комитета по обороне. Что это – легкомыслие? Казалось бы, готовить путч должны были враги Горбачёва – нет, у истоков стояли его единомышленники и даже друзья. Казалось бы также, что путч должны были приветствовать сторонники жесткой руки, сталинисты во главе с Ниной Андреевой, – нет, они были против.
Я убежден, до какого-то момента, вплоть до начала переворота, они все были нужны друг другу – и путчисты, и Горбачев, и даже Ельцин. Именно в этом причина того, как странно развивались события, а не в том, что, как думают многие, мы вообще ничего не умеем делать и проваливаем все, за что ни возьмемся, поэтому, дескать, и тут кучка людей не сумела сделать элементарных вещей.
Глубокое заблуждение. Как раз по части кровавых мятежей и переворотов у нас огромный опыт, тут мы, к сожалению, едва ли не впереди планеты всей еще с 30-х годов. Советская военно-бюрократическая машина раздавила не один режим, не в одной стране пролила моря крови. Что же, на другом полушарии уничтожили Троцкого, а Ельцина по соседству не сумели арестовать? Или не догадались?
Никак не могу согласиться, что руководители армии и госбезопасности такие уж невежественные люди. И в армии, и особенно в КГБ механизм отлажен, надо лишь нажать кнопку, и отлаженная десятилетиями машина заработает безотказно.
Никто не блокировал Кремль, Манежную площадь. Телевидение спокойно сообщало о выступлениях Ельцина и демонстрациях протеста. Что это – безалаберность путчистов? Но не до такой же степени.
Было еще несколько долгих часов: когда в Белом доме начали организовывать оборону, там поначалу царила неразбериха, организаторов обороны можно было без труда (и пока без большой крови) взять, как говорят, тепленькими. Да и потом, когда были построены баррикады, ставшие знаменитыми, почти легендарными, смять их, как игрушки, не составляло труда. И не надо никаких вертолетов, о которых было столько разговоров. ОМОН расчленил бы площадь, в образовавшиеся коридоры хлынула бы «Альфа». За полчаса было бы все кончено – я знаю этих ребят из «Альфы», они наши – КГБ. Да, за полчаса. Но теперь бы уже, при сопротивлении, без большой крови не обошлось.
Но если безоружная, гражданская толпа не смогла бы остановить штурмовиков, как же можно было созывать народ на оборону Белого дома, то есть приглашать людей на верную смерть? Многим, наверное, вспомнились в эти дни схожие ситуации. В январе 1991 года в Эстонии также возникла угроза штурма правительственного здания, и там Эдгар Сависаар, наоборот, призвал людей не собираться на площади перед его резиденцией: долг правительства, сказал он, обеспечивать безопасность граждан, а не подставлять его под пули. Подобным образом, кажется, поступил в Чили и Альенде в 1973 году.
Что заставило Ельцина поступить наоборот? Не могу поверить, что Борис Николаевич хотел устроить перед своими окнами бессмысленную бойню, превратить людей в «пушечное мясо». Значит, остается единственный вариант: он знал, что штурма не будет. От кого? Ну, от кого еще можно знать – естественно, из первых рук.
Тогда понятно, почему Борис Николаевич выступил против кровавой хунты не сразу, а спустя несколько часов, – почему, наконец, войска, вошедшие в Москву, не были вооружены – бронемашины без боекомплектов и даже личное оружие офицеров – без патронов.
Вспомните пресс-конференцию мятежников вечером 19 августа, когда они заявили, что собираются договориться и сотрудничать с Ельциным.
Политические игры мятежников говорят о том, что они не хотели проливать кровь. Близкие к Горбачеву люди, они верно служили ему, пока не иссяк запас терпения. Будучи связаны с ним общими делами и личными отношениями, они не способны были на насилие и убийство.
И это погубило их. Действуй они жестко и непоколебимо – народ бы против не полез. Народ и до сих пор не знает, куда лезть.
Среди них не оказалось истинного лидера, хотя бы наполовину равного Ельцину. И это также погубило их.
Личной корысти у таких людей, как Язов, Крючков, Пуго, возглавлявших всю возможную истребительную, карательную силу, не было. Все, что им нужно было иметь лично для себя, они имели. Они действительно верили в спасительную силу чрезвычайного положения. Другое дело – методы…
А Горбачев – во всей этой истории? На упомянутой пресс-конференции путчисты объявили, что Горбачев вернется и они будут с ним вместе работать. Анатолий Лукьянов после того, как его выпустили из тюрьмы, подтвердил: даже Крючков надеялся на то, что договорится с Горбачевым. А изоляцию в Форосе президента Лукьянов назвал: «Самоизоляция».
Любопытно, что то же самое задолго до этого сказал человек, далекий от союзного президента, – Геннадий Бурбулис:
– Не думаю, что он (Горбачев. – В.М.) не мог, с кем надо, связаться. Иногда мне кажется, что ему изоляция была нужна самому. Так сказать, руками ГКЧП, не оставляя следов, ввести чрезвычайное положение. И, скорее всего, он одинаково не хотел путча и подталкивал к нему.
Но при таком раскладе и степень вины путчистов должна быть иной. При чем тут измена Родине или даже захват власти? Я говорю не о невиновности, а, повторяю, о степени вины.
Теперь мы пришли к логическому концу. Теперь, когда вспоминают защитников баррикад Белого дома, слово «героические» все чаще берут в кавычки. Напрасно, может быть: люди-то не знали о политических играх, они пришли действительно стоять намертво за демократию. Теперь и «демократия» стала словом ругательным.
Считалось, что я охранял лидеров двух разных, противоположных режимов – тоталитарного и демократического. Август 1991-го ярко высветил, подчеркнул, что это были разновидности одного и того же тоталитарного режима, просто Горбачев, начав заигрывать с демократами, по привычке всех прежних руководителей отступил было назад, но – оступился и провалился, и вслед за собой утащил в пропасть всех нас. Дело не в том только, что мы никогда так худо не жили, – наш народ терпеливый, а в том, что все – разуверились, были утомлены и деморализованы. Если от прежнего лидера, больного, потерявшего разум, ничего не ждали и тем не менее жили прилично, то от Горбачева, молодого, энергичного, ждали чрезвычайно многого – он ведь сам наобещал нам всего, столько назаявлял, а в итоге мы оказались на обломках государства. Обострились до непримиримости противоречия национальные, социальные, религиозные, возрастные. Все возненавидели всех и каждый каждого.
Отношение народа к лидерам – чуткий барометр, если к Брежневу даже в худшие годы относились с иронией и насмешкой, то к Горбачеву – с враждой и злобой.
19 августа 1991 года стало венцом борьбы двух диктатур – коммунистической и посткоммунистической.
Вот в какие дни я вошел в одно из зданий на территории Кремля и протянул в окошечко свои документы – меня увольняли из КГБ.
Когда-то я впервые вошел в это здание, в этот подъезд и именно в это самое окошечко с волнением протягивал свое заявление с просьбой принять на работу. Это было 30 лет назад. В другую эпоху.
Неужели все это было – со мной?
При Брежневе
Приглашение в КГБ
В начале 1962 года начался отбор молодежи, прошедшей армию, в систему КГБ. Такие отборы проводились время от времени и на предприятиях, и в некоторых вузах. Отбирали в основном по анкетным данным.
Меня вызвали в военкомат. За столом сидели двое в штатском. Один тут же вышел, а второй повел беседу: как служилось в армии? на гауптвахте не сидел? как дела сейчас на работе? Насчет гауптвахты и остального он и сам все знал, выяснил, прежде чем пригласить. Ему было, видимо, важно не только, что я отвечаю, но и как. Отвечал я коротко, не болтливо, почти по-военному. Он сказал мне, что к чему.
– У нас служба военная.
Это мне не подходило. Я дорожил тем, что еще недавно носил тельняшку, бушлат, бескозырку, и менять теперь бывшую морскую форму на общевойсковое обмундирование не хотел.
– Не торопись, – спокойно объяснил мне хозяин кабинета. – В военной форме – только на работе. Все остальное время – в штатском.
Заметив мое колебание, добавил:
– Зарплата – 160 рублей. Возьми на всякий случай номер телефона, надумаешь – звони.
Я не хотел идти к ним и звонить не собирался. Но, скажу правду, сманила зарплата. Я получал на заводе чуть не вдвое меньше – 90 рублей, и, в общем, перспектив – никаких. Товарищи на заводе сомневались поначалу: «Такие деньги зря платить не будут, пахать придется, видно, крепко». А потом рассудили: «Не понравится, на завод всегда вернешься. Иди». И Светлана, жена, сказала: «Иди».
Через несколько недель я позвонил:
– Согласен…
– Очень хорошо, – с удовлетворением ответил знакомый голос. – Завтра же и приходи. Знаешь, куда?
– Да, – ответил я и назвал адрес райвоенкомата.
– Нет. В Кремль. К десяти часам. Через Троицкие ворота. Там покажешь паспорт и – направо, под арку, опять покажешь паспорт, там тебе скажут – куда.
Я заволновался – в Кремле я прежде никогда не был. Возникло вдруг желание никуда не идти, но я понимал – уже поздно.
Приехал чуть не за час. Прошел несколько часовых, прежде чем оказался в нужном кабинете. Все тот же мужчина в штатском поднялся мне навстречу, протянул.
– Решил?
– Решил.
– А почему? – поинтересовался вдруг.
Я врать не стал:
– Зарплата…
Он улыбнулся.
В соседней комнате я заполнил массу разных бланков и анкет.
– Иди, продолжай работать. Никому ничего не говори. Когда надо – я позвоню, жди.
Прошла неделя. Месяц. Два, три месяца. Я решил, что не подошел. Но через полгода, шел уже август, раздался звонок. Видимо, они так долго изучали мое досье, делали какие-то новые запросы. Начальник цеха, узнав о моем уходе, отпускать отказался:
– Ты что? У нас план горит – петля! Надо поработать.
Я пришел к заместителю директора, и тот, прочитав заявление: «Прошу уволить в связи с переходом в Комитет госбезопасности», подписал его, не моргнув глазом.
Товарищи по цеху шутили: «Володя, если будет все в ажуре, позвони, за такие-то деньги и мы в госбезопасность придем».
В КГБ я дал подписку о неразглашении государственной и служебной тайны.
Меня зачислили в 9-е управление КГБ, в народе хорошо известное и именуемое как «девятка». Управление престижнейшее, ведало обеспечением безопасности руководителей партии и правительства, а также глав зарубежных государств, прибывающих с визитами в нашу страну. Заместитель начальника 9-го управления внушал мне необычайную важность моей службы, говорил о политической бдительности. Было множество других бесед и служебных напутствий, в том числе и казенных, ставших впоследствии анекдотическими: «Враг не дремлет!», «Болтун – находка для шпиона» и т. д.
Я приготовился к чему-то не только важному, но и возвышенному… Но сначала все оказалось гораздо прозаичнее и будничнее, а «святая святых» – личная охрана вождей, осталась в стороне.
Как раз в 1962 году, именно в год моего прихода в органы, в 9-м управлении КГБ был создан отдел по охране спецсооружений. Туда я и попал. Мне предстояло изучить несметное количество рабочих документов из категории так называемых «закрытых», в их числе уставы различных служб, руководства к действию при сигналах воздушной, химической, пожарной, боевой и прочих «тревог» и т. д. Это по части теории. Практика была интереснее – занимались рукопашным боем, стреляли из пистолета в тире, выезжали на стрельбище и за город, там уже вели огонь из автоматов, кроме того, бегали кроссы, плавали, сдавали разнообразные зачеты по легкой атлетике, зимой ходили на лыжах. Учились оказывать первую медицинскую помощь.
Собственно говоря, на практике, впрямую нам все это в первые годы было совершенно не нужно. Мы охраняли «объект». Будь это на гражданке, можно было бы назвать нас просто сторожами. Но спецсооружение являлось оборонным, сверхсекретным, я и теперь не могу назвать его. Оно в ту пору только возводилось – пыль, едкий дым, ядовитые запахи сопровождали всех нас потом еще многие годы.
Работали посменно: сутки дежуришь, двое – выходные. После смены выходили на улицу с бледными, синюшными лицами. Так продолжалось пять лет. Я, может быть, и не выдержал бы этого испытания, но у меня появилась цель – попасть в 18-е отделение, которое считалось «цветом» нашего 9-го управления. Именно там готовились сотрудники личной охраны, в простонародье – телохранители, там формировались команды для сопровождения руководителей партии и правительства по стране и за рубежом. По большим праздникам в Кремле или на демонстрациях я видел своих товарищей из личной охраны, завидовал им и надеялся когда-нибудь окунуться в эту работу, чрезвычайно ответственную, разнообразную, оперативную, мечтал поездить по стране и по миру. Влекла не только престижность, но и романтика.
Не я один, каждый сотрудник «девятки» мечтал попасть в это подразделение.
В этот период удалось осуществить давнее желание – поступить заочно в институт. Я понимал к тому же, что без высшего образования мне не видать хорошей офицерской должности. В гражданские вузы работнику КГБ поступать не разрешалось, за исключением юридического и физкультурного. Я выбрал Всесоюзный юридический заочный институт. Поступил и учился легко.
За исключением нескольких человек, с которыми я расстался навсегда и безвозвратно, никто не знал о моей работе в КГБ, ни мать, ни отец – никто.
Из того невыразительного, занудного времени запомнились осенние дни 1964 года. Убрали Хрущева, пришел Брежнев. Нас посадили на казарменное положение и продержали в полной боевой готовности трое суток, пока не выяснилось, что никаких волнений ни в армии, ни в спецслужбах не предвидится. Все обошлось, тем не менее начальник личной охраны Брежнева простоял все эти ночи у дверей его квартиры с автоматом в руках…
Шел к концу 1967 год, когда меня перевели в долгожданное 18-е отделение. За какие заслуги? Конкретно – ни за какие, все тут сошлось в совокупности: «чистая анкета» без пяти минут высшее образование, примерный семьянин, по службе – ни одного нарекания, все зачеты по теории и практике – сдаю безукоризненно, физически крепок и вынослив, не пью, не курю. Что еще – не знаю. Может быть, элементарно повезло, были же и другие ребята, наверное, не хуже.
В 18-м отделении тоже еще нужно «показаться». Это только база для перехода в личную охрану. Но уже несколько месяцев я, младший лейтенант, наблюдал Леонида Ильича Брежнева на расстоянии, сопровождая во второй машине утром с дачи на работу и вечером – обратно. Издалека видел его на даче во время прогулок.
На следующий год, в 1968-м, меня откомандировали летом в Крым готовить к отдыху Генерального секретаря ливадийский пляж. Мы осмотрели пирсы, причалы, побережье, все морское дно. Необходимо было обезопасить побережье не только от возможных магнитных мин, но и очистить его от мелочи – битых бутылок, склянок, прочего стекла.
Еще через пять лет там же, на ливадийском берегу, меня назначили заместителем начальника личной охраны Брежнева.
Начальником охраны был Александр Яковлевич Рябенко. Они встретились с Леонидом Ильичом еще до войны, в 1938 году. Рябенко-шофер получил новый «бьюик» и, как было велено, подъехал к обкому партии. Вышел парень – в белой рубашке, рукава закатаны.
– Поехали.
– Куда? Я жду секретаря обкома Брежнева.
– Я и есть Брежнев.
– Ну-да…
Их разлучила война. Рябенко тоже ушел на фронт. А после войны встретились и больше не разлучались. Бок о бок сорок лет.
В то лето, перед тем, как Рябенко назначил меня своим заместителем, произошла любопытная история. В 1973 году Брежнев пригласил на отдых в Нижнюю Ореанду Людмилу Владимировну, жену сына Юрия. Она взяла с собой Андрея, которому было тогда лет шесть-семь. Леонид Ильич очень любил внука. Подвижный, любопытный мальчишка, исследуя большую дачную территорию, исчезал на долгие часы, домочадцы каждый раз волновались, его приходилось разыскивать с помощью охраны. Леонид Ильич попросил Рябенко выделить кого-то, чтобы Андрей был под постоянным присмотром. Выбор пал на меня.
С утра, иногда даже до завтрака, мальчик мчался куда глаза глядят, и я вынужден был следовать за ним. В конце концов я объяснил ему, что дедушка просил меня быть с ним неотлучно и без меня он не должен никуда уходить. Андрей согласился, потому что побаивался деда, к тому же со мной ему было просто веселее.
Пришлось забросить свои прямые обязанности, не оставалось времени на спортивные занятия, даже постирать, погладить одежду едва успевал. С раннего утра Андрей уже ждал меня у порога. Я еще только сажусь завтракать, а он уже спрашивал у охраны: «А где дядя Володя?» Если в течение дня мне необходимо было отлучиться, со всех постов звонили: мальчик ищет, ждет. Мы ловили крабов, обследовали всю округу, излазили все самые дальние уголки. Мальчик был очень шустрый и интересный – пересказывал мне фильмы и книги, сам придумывал невероятные небылицы. Мы подружились.
Однажды я немного задержался, и Андрей ушел один. Я обнаружил его в небольшой бамбуковой рощице, мальчишка ломал молодые деревца. Их и без того было очень мало.
– Андрей, нельзя, – сказал я ему.
– Ну-да, нельзя, – ответил он и продолжал ломать.
И тут я шлепнул его по заднему месту. Мальчик обиделся:
– Я расскажу деду, и он тебя выгонит.
Повернулся и пошел домой.
Что могло последовать, если внук расскажет, что его отшлепали? Я был рядовым охранником. Малейшего неудовольствия Леонида Ильича достаточно, чтобы меня здесь больше не было. Но, кажется, я уже знал характер этого человека, который не только безумно любил своего внука, но и старался быть требовательным к нему.
Как я потом понял, Андрей не только дедушке, вообще никому ничего не сказал о нашей ссоре. Он даже домой не пошел. После обеда он подошел ко мне и – извинился… Дружба наша продолжалась.
..А ведь он, наверное, гордился всесилием своего деда. Наивное и чистое существо, сколько раз я вспоминал его потом, когда тоже гордившаяся всесилием имени Раиса Максимовна бесконечно жаловалась на меня Михаилу Сергеевичу – по всяким пустякам, к которым я и отношения-то не имел; когда горничная только за то, что пыталась усовестить внучку Горбачевых, была выгнана…
Телохранитель
Но я отвлекся.
Через какое-то время Александр Яковлевич Рябенко в довольно непринужденной обстановке, у бассейна, объявил мне:
– Ты назначаешься моим заместителем.
– Постараюсь оправдать ваше доверие, – ответил я по-военному.
Перед этим у Рябенко состоялся разговор с Леонидом Ильичом. Начальник охраны, как полагается в таких случаях, охарактеризовал меня: дело знает, четкий, выдержанный, не пьет, не болтун.
– Это какой Володя? – переспросил Брежнев. – Который с Андреем, ходит?
– Да. Он, между прочим, уже два года подменяет моих замов.
– А не молод еще?
Мне тогда было 35 лет. И Рябенко напомнил:
– А когда я вас, Леонид Ильич, впервые у обкома ждал, вам сколько лет было?
Больше вопросов не возникло. Я вошел в эту семью как свой. Вплоть до того, что собирал и складывал Леониду Ильичу в чемодан все вещи, когда мы отправлялись в командировку. И Виктория Петровна была спокойна за мужа, когда я был рядом.
Я и теперь считаю, что личная охрана потому и называется личной, что во многом это дело и семейное.
В просторечии, в народе, профессия моя именуется’ «телохранитель», профессионально же говоря, я – «прикрепленный».
Не могу сказать, что овладел этой наукой на каком-то этапе, нет, я овладевал ею всю жизнь. Разные этапы, разные государственные режимы, разное, если хотите, противоположное отношение народа к своим лидерам – все это создавало новые условия для нас, иные требования.
Как во всяком почти деле, были в нашей подготовке и издержки, нелепости, которые шли от казенщины. Так, мы проходили строевую подготовку, и в Кремле, в Тайнинском саду, нас заставляли маршировать, лишь в середине семидесятых эта муштра прекратилась. Проверка личного оружия – пистолеты, автоматы – проводилась почему-то именно перед большими праздниками, как будто в другие дни его можно было не чистить. Конечно, это все формально делалось, для галочки. Одна из проверок общефизической подготовки – лыжные кроссы, их почему-то всегда планировали весной, и хоть там дождь прошел и снега почти нет, а все равно заставляют бежать – план! Кстати сказать, Косыгин, Демичев, Соломенцев, некоторые другие, когда были помоложе, прекрасно ходили на лыжах, некоторые охранники на зимней лыжной прогулке не успевали за своими подопечными. Мои оба – и Брежнев, и Горбачев – южане, на лыжах не ходили.
Вместе с тем освоили мы и многое из того, что необходимо не только для службы, но и в повседневной личной жизни. Как наложить повязку при сломанной ноге или руке, как остановить кровь при помощи жгута, как спасать утопающего, какие лекарства при каких приступах и обострениях необходимы – все это мы знали назубок. Разве не важно знать не только нам, охране, но и каждому человеку, что предпринимать, например, при остановке сердца? Мы отрабатывали приемы на импортных резиновых куклах: накачиваешь и правой рукой берешь за подбородок, поднимаешь голову, левой зажимаешь нос и через марлю дышишь – рот в рот. Одновременно напарник давит на грудную клетку, загоняет внутрь воздух: три-четыре толчка – вдох… Это мы прошли еще в 18-м отделении, теперь же мы, все трое «прикрепленных» – заместители Рябенко, попросили Михаила Титовича Косарева, личного врача Брежнева, выделить нам инструктора для дополнительных занятий по приемам реанимации.
Кто бы мог подумать, что эти приемы мне придется использовать – один раз в жизни, в роковой час…
Многое из того, что мы знали и умели, нам вообще не понадобилось, и слава Богу: прикрывать охраняемого огнем, эвакуировать из зоны обстрела нападения. Одних только видов стрельбы сколько осталось невостребованными – навскидку, из завалов и укрытий, на бешеной скорости, в окружении людей, по движущейся цели, сверху – из окна или балкона, и т. д. Если не пригодилось все это, значит, мы неплохо делали свою главную работу – профилактическую, теоретическую. А стрелять для нас – дело последнее, это больше для кино, чем для жизни. Плохо мы сработали, что-то упустили, если до пальбы дошло.
Ежедневная работа телохранителя куда тоньше, она незаметна даже для очень внимательного постороннего глаза. Прикрыть охраняемого надежно, но так, чтобы не теснить его в малейших движениях; не касаясь рук охраняемого, уберечь их от неожиданных наручников или от рук прокаженного; на огромной скорости в один момент схватывать взглядом меняющуюся дорогу, подъезды, крыши, балконы, толпу. Для людей свободных, праздных – пейзаж, для нас – «окружающая местность».
Как-то в Железноводске (места Горбачева – Ставрополье, здесь его знают, помнят) мы выходили из магазина, многие здороваются с ним, а один схватил его за шею и крепко поцеловал. Люди вокруг свои, и Горбачеву объятие было, наверное, приятно, но по большому счету это – наше упущение.
Всякие наши усиления и укрепления обычно следовали после каких-либо ЧП. Так, в семидесятых годах в Архангельске во время праздничной демонстрации на трибуну, где стояли местные руководители, ворвался бандит и открыл огонь из автомата. Несколько человек были убиты, многие ранены. Милиция просто растерялась. Какой-то военный кинулся и выбил у преступника автомат. У нас в Москве после этого начались собрания, инструктажи, накачки, проработки методик.
Может быть, и не мешало иногда, время от времени, напоминать охране о каких-то моментах, но дело в том, что, как я уже говорил, многое делалось для «галочки», и это, наоборот, расхолаживало, а в итоге частенько заканчивалось начальственными глупостями. В Минске погиб на трассе первый секретарь ЦК Компартии Белоруссии Петр Машеров – любимец республики, Герой Советского Союза, получивший награду за войну и в войну. Перед этим водитель-старик пожаловался Петру Мироновичу, что его хотят убрать на пенсию. А они работали вместе уже очень давно, чуть не с войны. Машеров сказал ему: «Не волнуйся. Ты будешь работать, пока я работаю».
В роковой аварии оказался во многом виноват и водитель, который тоже погиб.
По всей стране стали менять шестидесятилетних водителей спецмашин. Но я знал многих из них – опытных, мудрых, не растерявших ни реакции, ни зоркости, они некоторым молодым могли дать сто очков вперед.
На Ленинградском шоссе на машину Косыгина наскочил «Запорожец». На косыгинском автомобиле – ни царапинки. «Запорожец» – развалился (водитель чудом уцелел, и Алексей Николаевич просил не наказывать его). И что же? На другой же день на всех улицах, проспектах и даже самых широких и просторных магистралях Москвы появились знаки ограничения скорости до 60 километров в час (вместо прежних 80). Разве не глупость? На хороших трассах при высокой культуре автодвижения и на скорости в 160 километров можно ехать без риска, а не соблюдая элементарных правил или садясь за руль в нетрезвом виде, и при 60 километрах в час – попасть в аварию. Кажется, в те же дни со многих машин сняли спецсигналы, это сделали правильно. В ту пору тысячи блатных москвичей обзавелись ими: директора комиссионных магазинов и заведующие складами ездили, как члены Политбюро, – красные фары, правительственные сирены, странные, непростые номера. Немудрено, если на сирену косыгинской машины в тот день на дороге не обратили внимания.
Быстрое и формальное реагирование для отчетности – «меры приняты» – приводило к тому, что частности иногда губили хорошие планы.
По примеру ведущих зарубежных держав у нас решено было создать в Москве вертолетный парк. Президент США имеет возможность приземляться прямо у Белого дома, во Франции президент опускается на лужок у дворца в Рамбуйе, то же – в ФРГ. А нам как? У нас то ли не сумели, то ли не решились приспособить кремлевскую территорию для взлетов и посадок, а может быть, исходили из личного повседневного быта Леонида Ильича – ему от дачи в Заречье до работы всего 10 минут езды на машине. Решили соорудить вертолетную площадку… прямо возле дачи Брежнева в Заречье. А летать куда? Как куда – в Завидово, на охоту. Раз в неделю. Очень скоро выяснилось, что выигрыш во времени невелик. До Завидова – 150 километров, на машине полтора часа езды, даже меньше. На вертолете – 43 минуты. Но пока подъедем к вертолету, загрузимся, запустим движок, пока раскрутим, проверим машину – выигрыш во времени невелик. А главное – зависимость от погоды. Однажды поднялись и попали в грозу. Командир экипажа пытался обойти грозовую тучу, подняться выше – ничего не получалось. Вертолет трепало, как игрушку, то бросало камнем вниз, то снова вверх, грозовые огненные стрелы пронзали все воздушное пространство вокруг нас. Состояние было чудовищное. Мы испереживались за Брежнева. Высота – метров 250.
А Леонид Ильич спокойно сидел в кресле и смотрел с интересом в окно, как смотрят в зале приключенческое кино. Отчаянный человек.
После этого случая руководство гражданской авиации стало перестраховываться, сообщая нам о возможных грозовых фронтах в пути, сильном ветре и прочих напастях. Несколько раз мы подолгу ждали летную погоду, и в конце концов Генеральный секретарь плюнул на вертолетные затеи.
Окончательно точка была поставлена после истории с членом Политбюро В.Воротниковым. Вертолет, в котором он летел, попал в полосу сильного тумана, при посадке машина сильно ударилась, лопасти винта зацепились за землю, но продолжали крутиться, вовлекая в круговое движение и всю кабину. У помощника Воротникова оказалось сломано много ребер. Наш сотрудник безопасности, пытаясь удержать охраняемого в кресле, при ударе о землю был отброшен к стене, где висели вешалки для одежды. У него оказались серьезно повреждены шейные позвонки, после этой тяжелой травмы его попросту отправили на пенсию.
Воротников же отделался легким испугом, он даже не поинтересовался потом судьбой того, кто его спас.
Аварии вполне могло не быть, если бы командир экипажа спросил у Воротникова разрешение на приземление в любой другой точке, где нет тумана. Но он побоялся обратиться к «самому» члену Политбюро, это было бы нарушением традиций, нарушением устного наказа перед полетом и в конце концов – нарушением инструкции. Между партийным руководителем и тем, кто его обслуживает, – стена. Инструкция превыше всего.
От мысли «догнать» Запад отказались, на правительственном вертолетном транспорте поставили крест.
Только недавно к нему снова стали возвращаться.
Если после аварий и чрезвычайных происшествий, кроме накачек, ничего, в общем, не следовало, то гибель лидеров или покушения на них, где бы это ни происходило, серьезно влияли на содержание нашей работы.
В 1968 году прошла информация о том, что премьер-министр Австралии, купаясь в море, исчез. То ли утонул, то ли его утащили подводники каких-то спецслужб – непонятно. После этого случая руководство 9-го управления решило создать службу подводников-аквалангистов. Комиссия для отбора была намного строже, чем при наборе в армейские Военно-Воздушные Силы: около недели крутили на разных табуретках, провели все медицинские исследования. В конце концов отобрали группу молодых, физически сильных сотрудников – что-то около десяти человек, в нее вошел и я.
Дальше начались занятия – чрезвычайно суровые. Плавали в глубине бассейна до изнеможения, как только дыхание на исходе – всплываешь на мгновение у бортика, дыхнешь кислорода и опять на дно. Нас учили не бояться глубины: мы ныряли в узкую трубу – полная темнота и замкнутое пространство действуют ужасно, далеко внизу, на дне, в кромешной тьме мы должны найти акваланг, надеть его и вплыть.
Не все смогли пройти жесткий отбор. Из десятка половина отсеялась. Я, как и по многим другим, «сухопутным», дисциплинам, оказался среди лучших. Именно после этих крещений меня, кстати, и направили в 1968 году в Ливадию готовить пляж к отдыху Брежнева.
Личная охрана – это не только наука, это еще и повседневное огромное испытание: физическое, психологическое. Сочетание холодного рассудка и оперативной смекалки. И нравственность – обязательное качество, безнравственный человек в нашем деле просто опасен.
Я уважаю свою профессию прежде всего и больше всего за то, что у нас нельзя осесть по блату. В стране и в ту пору, а нынче особенно, протекционизм играл большую роль – и за деньги, и по приятельству можно было и в институт попасть, и на выгодную работу устроиться. Протекционизм, если хотите, процветал и в высших эшелонах государственной и партийной власти. Так вот к нам, в личную охрану, может быть, тоже молено было просочиться по блату, не знаю, но по блату осилить нашу ношу – невозможно. Случалось даже, не оправдывали ожиданий те, кто, кажется, по всем статьям годился. При Брежневе горели в основном по пьянке или из-за болтливости, в нынешние времена – из-за мелкого предпринимательства в заграничных командировках. Точные приметы времени. Но это, я скажу, единицы за десятилетия.
Тем, кто не очень верит на слово, думает, что я что-то преувеличил, превознес в нашей службе, в том числе и трудности, могу порекомендовать совсем небольшую проверку. Когда увидите на скорости президентский автомобиль, попробуйте «сесть на хвост» машине прикрытия. Если сумеете хотя бы немного продержаться, гарантирую острое ощущение. Но для охранников эта скорость – как азбука, они ее не чувствуют. Они каждую секунду видят, как прикрыть охраняемого спереди, сзади, справа, слева. Охрана не сидит в машинах, как это обычно принято, но все – с автоматами наизготовку, на краешках сидений, в полуприседе, как бы на корточках, в любой момент готовы выскочить.
Сколько пролитого пота за этой скоростью. Умение резко развернуться на 180 градусов, проскочить между препятствиями с миллиметровыми зазорами, вывести машину из заноса, управлять на такой же скорости на мокром или заснеженном асфальте… Водители машин – виртуозы, асы.
Вместе с ними все эти экзамены сдавали и мы, охрана.
Описанное мною лихое подразделение называется «выездная охрана». Так же, как и служба подводников-аквалангистов, она родилась не на пустом месте, а после покушения. На Брежнева…
Это произошло в январе 1969-го, через год после моего прихода в личную охрану. Случилось не в мою смену, но подробности знаю.
Офицер Советской Армии Ильин служил в части, расположенной в Ленинграде. Прихватив два пистолета Макарова с полными магазинами патронов, он заявился в Москву накануне возвращения из полета очередных космонавтов. В столице он поселился у родственника – сотрудника милиции. У него он стащил милицейскую форму и в таком наряде объявился у Боровицких ворот Кремля.
Москва в день встречи космонавтов была расцвечена флагами, гремела музыка. Десятки тысяч москвичей приветствовали героев космоса на всем пути следования из аэропорта Внуково-2. Диктор по радио передавал информацию о пути следования правительственного коржа. Ильин смешался с нарядом милиции, сам активно занимался наведением порядка у Боровицких ворот и сбил с толку сотрудников госбезопасности. Когда по радио объявили, что космонавты едут в первой машине, а во второй – Генеральный секретарь ЦК КПСС, Ильин прошел на территорию Кремля и встал здесь. Все рассчитал правильно – машины на въезде всегда сбавляют скорость.
Но у Брежнева случилась какая-то задержка, и его машина двинулась не второй, а пятой. Возможно, это спасло ему жизнь.
Когда вторая автомашина поравнялась с Ильиным, он открыл ураганный огонь, разрядив две полные обоймы. В этой машине сидели космонавт Береговой, внешне немного похожий на Брежнева, Терешкова, кто-то еще. Несколько человек были легко ранены, а водитель ГОНа (гараж особого назначения) получил смертельное ранение и по дороге в больницу скончался. Ранен был и один из мотоциклистов.
Сотрудники КГБ схватили террориста лишь после того, как он расстрелял все патроны. После судебно-медицинской и психиатрической экспертизы Ильин был признан невменяемым и помещен в психбольницу. Не могу сказать, насколько правильно поставили диагноз, как известно, наша судебно-психиатрическая медицина в ту пору была достаточно запятнана.
Сравнительно недавно по ленинградскому телевизионному каналу показали этого Ильина, он давал интервью. То ли выпустили его из больницы, то ли собираются выпустить – не понял, опоздал к началу передачи. Ясно увидел другое – из Ильина уже делают героя, страдальца, и это вызывает у меня внутренний протест. Можно по-разному относиться к общественному и государственному устройству страны, принимать его или не принимать, можно по-разному относиться к лидеру государства. Но в любом случае пуля не метод, никто не дает права одному человеку лишать жизни другого человека.
До этого случая у членов Политбюро был лишь начальник личной охраны и два заместителя, у кандидатов в члены Политбюро – двое в охране, у секретарей ЦК КПСС – один комендант-охранник. Теперь охрану увеличили у всех.
Созданная «выездная охрана», о которой я рассказал, – это десять человек: трое работают в три смены и один подменный. В каждой смене – «прикрепленный», являющийся заместителем начальника личной охраны.
Разложу нашу работу по степени сложности, как по полочкам.
1. Самые сложные дни, с оперативной точки зрения, – праздничные. Всякое большое скопление народа – уже напряжение. В многотысячных массах всегда может оказаться шизофреник, наркоман, просто агрессивно заряженный человек.
Перед каждым 1 Мая и 7 Ноября проводятся многочисленные совещания, инструктажи, составляется «план мероприятий». Все это повторялось каждый год, одно и то лее. В итоге накапливалось какое-то неприятное напряжение.
2. Второе по сложности – поездки за рубеж. Другие люди, другой язык, незнакомая территория. Трудно не столько с оперативной точки зрения, сколько психологически.
3. Поездки по стране. Тут многое зависит от того, куда едешь. В крупных городах сложнее, чем в колхозах. Особенно сложно на Севере, в Сибири – в криминогенных зонах.
4. Заводы и фабрики в Москве, здесь попроще, все под рукой, все можно продумать до деталей.
5. Как ни странно, на эту ступень, пятую, я ставлю охоту. Там есть достаточный риск, об этом я расскажу.
6. Отдых.
При Горбачеве сложностей никаких, при Брежневе острых моментов хватало.
7. Будни. Маршрут с работы на дачу и обратно. Тут отработано – никакого напряжения, никаких проблем.
В семье Брежнева
…Рабочий день мой начинается в Заречье, на даче Генерального, в 8.30 утра. Принимаю смену, и уже с Леонидом Ильичом возвращаемся в Москву. В основной машине (раньше – «Чайка», позже – «ЗИЛ») впереди водитель и Генеральный, сзади, на откидных сиденьях, – мы с Рябенко. За нами – машина с «выездной охраной», еще дальше – сзади и впереди, метрах в трехстах, – трассовики. Задним работы немного, кроме обгона, ничего нам не грозит, передним забот побольше – затор, гололед, дерево упало, то есть все, что на трассе, – по их части.
Через Боровицкие ворота подъезжаем ко второму подъезду первого корпуса Кремля.
К десяти часам Брежнев уже в кабинете. Кроме хорошо известных приемной и кабинета, в котором он принимал гостей, было еще маленькое уютное помещение, около 10 квадратных метров, где он обедал, здесь же стоял стол с телефонами, за которым он иногда в тишине работал, дальше такого же размера комната отдыха – тахта, зеркало, раковина для мытья рук, и наконец – предбанник с вешалкой и туалетом. Сюда, в предбанник, мы и заходим через отдельный личный вход. Я помогаю Леониду Ильичу снять пальто и через коридор прохожу в приемную, здесь у меня своя отдельная дежурная комнатка (2x2 метра) с прямой связью.
У входа в кабинет несет службу еще один сотрудник «выездной охраны».
Цековские апартаменты на Старой площади были скромнее – основной кабинет плюс комната, в которой стояли тахта и столы, кроме того – полки с книгами и туалет. Некоторые ведомственные кабинеты были куда просторнее. Я уж не сравниваю с апартаментами американских президентов, в Белом доме руководителю государства принадлежит практически весь третий этаж. Но, правда, здесь не только рабочие кабинеты, но и жилые помещения, президент проживает здесь с семьей. Еще во времена Никсона я довольно подробно изучил весь третий этаж.
Брежнев работал больше в Кремле. Как только мы приезжали, начальник охраны уходил, и я оставался один. Иногда сидел в приемной, так как Брежнев частенько вызывал меня. Если один звонок, значит – секретарю, два – мне.
Распорядок дня не менялся все долгие годы. После часу дня зовет (или через секретаря, или звонит сам в дежурную комнату):
– Володя, я сейчас пойду обедать. Давай, что там у тебя.
Я клал на стол бумаги.
Официант привозил на тележке обед. Для Генерального, для членов и кандидатов в члены Политбюро и обеды, и ужины готовились на одной, так называемой особой, кухне. Врач-диетолог старался разнообразить меню, однако Брежнев, боровшийся с весом, не считался с ним и заказывал то, что сам считал нужным, обычно – немного салата из капусты, ложку овощного супа и сырники или просто творог. И стакан сока или компота.
После обеда часа полтора спит. И молодой был – тоже спал.
Дважды в день пользовался услугами парикмахера: утром брился, если надо, и стригся, а после дневного отдыха – укладка волос, с такой шевелюрой – процедура на час, не меньше.
Около шести у секретаря раздается два звонка – мне: конец рабочего дня. Генеральный кивает на стол, я беру в левую руку портфель и папку, разворачиваюсь обратно и через приемную, коридор, через личный вход захожу в комнату отдыха, помогаю Леониду Ильичу одеться.
Когда был молод, мог работать и до девяти-десяти вечера.
Усталый, он примерно за километр выходил из машины и, заложив руки за спину, молча шел до дачи пешком. Один охранник впереди, другой – сзади, а «прикрепленный» – рядом с ним, чуть поотстав. Людей на этом участке встречалось мало, никакой опасности возникнуть не могло.
Это пешее возвращение продолжалось до последних лет, пока он совсем не ослаб.
На даче, внизу, я помогаю Леониду Ильичу раздеться, свое пальто бросаю на вешалку, и мимо столовой, где в это время Виктория Петровна обычно смотрит телевизор, мы поднимаемся на второй этаж, в спальню. Кладу папку на стол, рядом – портфель и ухожу к себе в служебный домик. Докладываю по телефону оперативному дежурному: «Мы на месте».
Один из охраны заступает на пост у главного дома, остальные готовятся к ночному дежурству.
В 20.30 звонят официантки: «Владимир Тимофеевич, вас приглашают на ужин». Леонид Ильич сидит за столом, ждет меня. За все время ни разу без меня не поужинал, до меня обычно даже стол не накрывали.
Брежнев и в молодости, когда был стройным красавцем, строго следил за своим весом, а с возрастом и болезнями борьба с весом стала маниакальной, приобрела род недуга. Он следил за каждой ложкой, чтобы не переесть, отказался от хлеба. На ужин – капуста и чай, все. Или творог и чай. В лучшем случае мог позволить себе пару сырников. Поскольку сам ел мало, считал, что и другим достаточно. Поужинаем, спрашивает у меня:
– Ну, как?
– С такого ужина, Леонид Ильич, и ног таскать не будешь…
– Да ну? – искренне удивляется. – А ты что, голодный уходишь?
– Конечно.
– Витя, – просит жену, – принеси ему колбасы.
– Аня! Катя! – кричит Виктория Петровна в столовую. Иногда сама идет к холодильнику, достает ветчину. Иногда из столовой приносят пару сосисок. Леонид Ильич с интересом наблюдает, осведомляется:
– Ну и что теперь?
– Приду к себе в дежурку, наверну еще колбасы с хлебом, это дело.
В принципе он очень любил украинский борщ, а Виктория Петровна – легкий рыбный суп, повара из лучших чувств приготовят что-нибудь сытное, вкусное, но, оказывается, у Леонида Ильича прибавился вес на 500 граммов, и все меню меняется.
– На пятьсот граммов? – он нервничал, раздражался. – Этого не может быть, я же мало ем.
Он приказывал поменять весы. Мы меняли, он снова взвешивался.
Опять 500 граммов…
– Это не те весы… Поменять.
Весы всех видов и марок – отечественные и лучших зарубежных – стояли и на даче в Заречье, и в охотничьем Завидове, и в кремлевском кабинете. С утра дома встал – сразу на весы, приехал на работу, с порога – на весы, перед сном – снова взвешивается. Члены Политбюро успокаивали его:
– Вес, это ничего, Леонид Ильич. Вес – это даже хорошо, это энергия.
– Нет. Мне сказали – на сердце нагрузка.
Иногда с утра взвесится – все в порядке, вес в норме, даже поменьше, он совершенно счастлив:
– Вот видишь! – улыбается. – Буду еще меньше есть и больше гулять.
Весь день у него радостное настроение, и окружающие – дома и на работе – тоже все довольны. Потом встает на весы – опять эти лишние 500 граммов!.. Опять меняем весы.
Тут еще провоцировали его верные соратники. Встретятся, он жалуется на полноту, а они дружно успокаивают:
– Да что вы, Леонид Ильич, вы прекрасно выглядите, подтянуто, свежо.
– Да вес же, вес…
– Нет-нет, все в порядке. У вас весы врут.
И, конечно, советы: побольше двигаться, гулять. Леонид Ильич спросит кого-нибудь:
– Ты чего на завтрак ешь?
– Одно яйцо и чай.
Он, может быть, с утра десять яиц ест, но разве скажет. «Одно…»
На другое утро повара спрашивают, что приготовить на завтрак. Леонид Ильич отвечает:
– Одно яйцо и чай.
Все весы, а их было десятки, надо было держать на контроле, не дай Бог – разнобой.
Раньше в Завидове в дни охоты стол ломился от закусок, и сам Генсек был молод и ел с аппетитом, и окружение тоже было далеко не малоежки – помощники, егеря, охрана, врачи. Официанты (все – из КГБ, из «девятки») вовсю старались угодить. Когда же с середины семидесятых Брежнев стал бороться с весом и перешел на творог, капусту, свеклу, он и всех прочих перевел на подобное меню.
Прелюдией к новому рациону стал один случай. Директор охотхозяйства как-то увлекся за столом черной икрой, ел ее ложками. Леонид Ильич молча наблюдал за ним и, когда тот закончил трапезу, сказал:
– Это же икра, а не гречневая каша.
– Что вы говорите? – не растерялся директор. – А я и не заметил.
После этого Брежнев отдал команду начальнику, личной охраны сократить для всех рацион питания. Думаю, что при общей скромной пище ему самому было легче сдерживать аппетит.
Эпизод с икрой он любил вспоминать потом за обеденным столом.
При росте 178 сантиметров Брежнев удерживал вес в пределах 90–92 килограммов.
С дачей в Заречье я познакомился, когда только-только закончилось ее строительство, точнее – реконструкция, Брежнев еще не жил в ней. Я осмотрел все – электросистему, пожарные краны, посты, какие деревья растут под окнами. Всю территорию дачи и всю округу, вплоть до пионерских лагерей по соседству.
Место само по себе замечательное – уютный уголок, густой лесопарк на высоком берегу речушки Сетунь; и вся эта заповедная красота, повторю, всего в десяти минутах езды от Кремля. Асфальтовые дорожки, яблоневый сад – предмет личной заботы Леонида Ильича. Кроме яблонь по его просьбе из Молдавии привозили и саженцы вишни, малины, смородины. Теплица с парниками. Открытый плавательный бассейн – 25 на 12 метров, в котором Леонид Ильич не купался (может быть, пару раз за все время), поэтому был бассейн не ухожен, запущен, в нем плавали осенние листья, плитка облетела, его все время с бесполезным постоянством ремонтировали.
Гаражи и помещения для охраны размещались за территорией дачи, которую огораживал зеленый деревянный забор.
Особой любовью Брежнева была голубятня. Десятка два красавцев голубей (отдельно – молодняк, отдельно – крупные) он иногда сам подкармливал. Водитель рядом с интересом наблюдал, и Леонид Ильич как-то спросил его:
– Соображаешь в голубях-то?
– Соображаю.
– Вот и займись, корми.
Сама по себе дача мне, откровенно говоря, с самого начала не понравилась. Она похожа была на Дворец культуры или административное здание. Полезной площади было здесь мало – огромные холлы, переходы, коридоры. Огромная мраморная лестница шириной в два метра вела на второй и третий этажи, от нее веяло холодом. Большие окна, стеклянные двери, модные витражи – все создавало вид музея. Не было здесь тепла, уюта да просто жилого духа.
На первом этаже кроме столовой размещался небольшой кинозал, а также зимний бассейн – 14 метров, три дорожки, здесь Леонид Ильич плавал каждое утро. Температуру воды держали 27–28°, а когда Брежнев постарел – 30°. Внизу располагались и комнаты для обслуживающего персонала, кухня, подсобные помещения. У обслуги был отдельный выход на территорию дачи, но им пользовались и Брежневы, а парадные двери открывали, в основном, когда приезжали званые гости, это было не часто.
На втором этаже – спальня его и Виктории Петровны и еще четыре спальные комнаты для детей и внуков. На третьем этаже находился кабинет, в нем Леонид Ильич работал, а также библиотека, на полках которой хранились сигнальные экземпляры многих изданий.
Стоял бильярд, но ни хозяин, ни гости никогда не играли.
Казенность и холодность сооружения еще более подчеркивали одиночество далеко уже не молодой пары, проводившей здесь время по преимуществу вдвоем. Я представляю себе, как странно неуютно смотрелись со стороны мы трое за ужином: большая, просторная столовая, большой, на десять персон, стол, и в торце его, как бы приткнувшись, Леонид Ильич, Виктория Петровна и я.
После вполне семейного ужина я вставал из-за стола: «Спасибо».
Леонид Ильич довольно часто отвечал: «Оставайся, посмотрим «Время»».
С нашей стороны стола стоял «Рубин». В другом конце комнаты – японский телевизор с видеомагнитофоном и набором кассет, но туда Леонид Ильич не подходил, это все было – для детей и внуков. Мы устраивались у «Рубина».
Сидим, смотрим втроем. Когда на экране появлялся он сам, Виктория Петровна оживлялась: «Вот какой ты молодец!» Она ему льстила. Потом, когда он уже начинал шамкать, она иронизировала. В последние годы околотелевизионные разговоры все чаще вертелись вокруг одного и того же. Увидев кого-то из старых зарубежных или наших деятелей, Виктория Петровна говорила: «Смотри, как хорошо выглядит».
Или: «Усталый какой».
Кроме «Времени» еще любил смотреть «Фитили», ни одного не пропустил – и то, и другое служило ему, оторванному от жизни, источником информации. Показывают в «Фитиле»: построили цементный завод в Навои, а сырья на месте не оказалось, возят его откуда-то с севера, за тысячи верст.
– Леонид Ильич, – спрашиваю я, – что же это за хозяйство такое?
Виктория Петровна тоже удивляется.
– Все вы вот такие… – отвечает он. – Давай вам сразу все…
– Да не сразу, но как же так-то? – не унимаемся мы.
Леонид Ильич замкнется, молчит. В последние годы, случалось, «Время» не смотрел, поднимался спать. Она говорила: «Иди. Я посмотрю передачу и приду». Около одиннадцати шла вслед за ним.
Одна из любимых передач Виктории Петровны – фигурное катание. Руководство телевидения знало об этом, и все семидесятые годы телеэкраны были заполнены трансляциями этого вида спорта: чемпионаты мира, Европы, СССР, Олимпийские игры, на приз газеты «Псковские новости» и так далее.
Сам Леонид Ильич с азартом смотрел футбол и хоккей. Тут уж он в одиночестве оставаться совсем не мог.
– Давай хоккей посмотрим.
Ему, конечно, не хватало общения – обычного, человеческого, без лести к нему и подобострастия. Он не то чтоб уж очень болел, просто отдавал предпочтение клубу ЦСКА. А в Политбюро многие болели за «Спартак», и он на другой день на работе подначивал своих соратников: «Как мы вам вчера!..»
Часто брал с собой кого-нибудь на хоккей или футбол. Черненко болел за «Спартак», тут уж Леонид Ильич подначивал его, не щадил. Устинов же, как и Брежнев, был за ЦСКА, и поэтому, когда они сидели в ложе рядом, Леонид Ильич в пику ему начинал азартно болеть за «Спартак». Приглашал он и Громыко, тот ни в спорте вообще, ни в хоккее в частности ничего не понимал, но – ездил. В перерыве могли позволить себе рюмочку-другую выпить.
Эти спортивно-зрелищные посещения начались еще при Хрущеве, они на пару с Брежневым ходили довольно часто и на футбол, и на хоккей. Хрущев, кстати, был поклонником «Спартака». Иногда после ужина шли в небольшой, на несколько человек, кинозал. Брежнев любил детективы, еще больше – «про разведчиков», «про войну». Вспоминал свои военные годы, даже и довоенные, поэтому мог смотреть фильмы и на колхозные темы. Когда здоровье уже было подорвано, смотрел и плакал. Из отечественных фильмов больше всех обожал «Подвиг разведчика» с Кадочниковым. Из иностранных трофейных – «Серенаду солнечной долины», «Девушку моей мечты». Посмотрит, вздохнет:
– Раньше они мне больше нравились.
Опять начнет вспоминать молодость.
Мог заказать три документальные ленты «Клуба кинопутешествий», и до художественного фильма дело не доходило.
Из актеров любил Андреева, Бернеса (несколько раз смотрел «Два бойца»), Крючкова, Матвеева, Глебова, Тихонова. Из эстрадных артистов – Райкина.
С опозданием просмотрел «Семнадцать мгновений весны». Медсестра, которая втерлась к Брежневу в доверие и с которой у него сложились особые, скажем так, отношения (о ней речь впереди), подсказала, что разведчик Исаев – реальное лицо, жив и поныне, всеми забытый. Все, что происходило дальше, стало анекдотом. Брежнев дает нам поручение:
– Узнайте, был ли такой разведчик Исаев и что с ним теперь?
– И узнавать не надо. Не было, – отвечали мы. – Это собирательный образ.
Разговор происходил несколько раз. Наконец он сам позвонил Андропову. Юрий Владимирович ответил то же, что и мы, тем не менее по картотекам все перепроверили. Нет такого. Но Брежнев уже настроился на заслуженную награду забытому человеку и в результате распорядился наградить Золотой Звездой… артиста, который играл роль Исаева. Имело значение, конечно, и то, что Вячеслав Тихонов – молодой, обаятельный, стал уже артистом придворным. С чувством читал по телевидению «Малую землю», каждый правительственный концерт 7 Ноября после открытия парадного занавеса начинали с торжественных пафосных декламаций во славу партии того же Тихонова.
Теперь, конечно, можно поиронизировать или посокрушаться. Но давайте взглянем на все это и с другой стороны. У истока всего – что? Добро, которое хотел делать Генеральный. Он вообще любил делать добро. Скажут: за чужой-то счет, за государственный, легко быть добрым. А я отвечу: другие ни за какой счет добрыми быть не хотят: на за свой, ни за чужой. И в том, что наградили Тихонова, беды нет. Беда в том, что по законам культа личности, кроме него, в многосерийной ленте больше не нашлось ни одного, достойного награды. А разве меньше заслуга в создании этой киноэпопеи ее режиссера Татьяны Лиозновой, стоявшей у истоков всего? Но тут уже больше виноваты советники по культуре, по кино. «Советчики», а не советники. Смотрели в рот, ловили любой вздох – особенно разочарования.
– Царь не дурачок был, зачем так? – сказал он, увидев «Агонию», и фильм запретили.
Очень не любил в фильмах поцелуи.
– Секс. Распущенность.
Видимо, до руководства кинематографии эти оценки не дошли, иначе бы во всех фильмах, наших и зарубежных, все поцелуи были бы вырезаны. Лучше ведь перебдеть, чем недобдеть.
Из певцов любил Утесова, Шульженко, Штоколова, Магомаева. Не любил модных Пугачеву и Высоцкого.
Советники-советчики ловили все. Не исключено, что его отношение к Высоцкому сыграло роль в судьбе замечательного певца.
Застойный период делало окружение. Он был – ширмой. Я еще расскажу об этом…
Жизнь на даче протекала, в общем, лениво, скучно, одиноко. Часто они с Витей – так он ласково называл Викторию Петровну – сидели летними вечерами в беседке. В руках – журнал «Крокодил», сидят, обсуждают. Видимо, в «Крокодиле», как и в «Фитиле», он черпал знание о нашей действительности. Обернется ко мне:
– Пакеты есть? Неси.
Фельдсвязь он не задерживал. Я заранее надрезал пакеты, он вставит палец – раз, быстро по шву разрывал, тут же расписывал резолюции и адреса и отправлял обратно в Москву. Иногда оставлял бумаги до утра и забирал на работу. Если раздавались звонки от Андропова или Громыко с просьбой «срочно», я разыскивал Брежнева где-нибудь на прогулке. Он просил: «Соедини меня с ним». Или звонил сам. Тех, кто мог просить Генерального «срочно», было немного, человек пять-шесть. Остальные просили: «Не срочно, по возможности доложить».
Кто-то из врачей внушил Брежневу, что ему нужно спать не меньше девяти часов – таков якобы его организм. Он поэтому укладывался довольно рано, засыпал всегда с трудом, его часто мучила бессонница.
Бывало, фельдъегерь привозил почту, когда Генеральный уже спал. Просил, как обычно:
– Срочно.
– Он спит. Будить?
– Нет-нет.
Иногда звонили поздно от министра обороны Устинова, тот работал до полуночи.
– Срочно.
– Будить?
– Да.
– Хорошо, но вы отвечаете, если я разбужу.
На том конце провода молчание, видимо – совет, потом ответ:
– Не нужно. До завтра.
В обычные дни он к вечеру уставал и в Заречье работал только по выходным дням с обязательным сном после обеда.
Далеко не каждую неделю, приезжали на субботу и воскресенье дети, внуки. Кажется, для стариков это радость. Но они проводили время как-то врозь. Молодые гуляют, старые сидя, кино смотрят, или наоборот, – молодые придут в кинозал, смотрят там фильм «про любовь». Он заглянет: «Тьфу!» – и уходит.
Чувствовалась какая-то скованность, даже напряженность между отцом и детьми. Иногда дети доставляли его в любимое Завидово и тогда чувствовали себя беззаботно, весело.
Однажды Леонид Ильич сказал довольно грустно:
– Если они приезжают, значит, чего-то им нужно, чего-то будут просить…
Галина, дочь, конечно, попортила много крови и отцу, и матери. Управы на нее практически не было, она делала все, что хотела, об этом уже написано много. Причина в том, что характером она была в отца, а воспитывать ее пыталась мать, так как Леонид Ильич был занят. Что могла мягкая Виктория Петровна против державной, иногда крутой дочери? В КГБ знали обо всех ее кутежах, закидонах и с мужьями, и с не мужьями, но докладывать Леониду Ильичу не решались.
Сын, Юрий Леонидович, занимал высокий пост первого заместителя министра внешней торговли – спокойный, выдержанный, к родителям относился с уважением, но, как мне кажется, на дачу он приезжал довольно часто «навеселе».
С внуками отношения были естественнее и проще. И Леонид Ильич, и Виктория Петровна больше всего любили дочь Галины – Викторию (Витусю), практически она была у стариков на воспитании и безвыездно жила на даче. Дети Юрия Леонидовича – Леонид и Андрей – жили с родителями и бывали в Заречье не так часто.
С особой любовью и уважением Леонид Ильич относился к двум женщинам – к матери и жене. Мать, маленькая, сухонькая старушка, подолгу жила на даче в Заречье. Сидела обычно у подъезда. Он утром уезжает – сидит, вечером приезжает – сидит, как будто и не уходила. Так она его провожала и встречала каждый день. А он иногда, в выходной, среди дня подойдет:
– Мама, смотри, солнце печет, уйди в тенечек.
Сын он был ласковый и о матери очень заботился.
Когда она умерла, он очень плакал. Это было в середине семидесятых годов, он уже принимал вовсю снотворное, психика была расшатана. На похороны съехалось много родни, у одной только Виктории Петровны были две многосемейные сестры. Похоронили на Новодевичьем кладбище, недалеко от центральной аллеи. И когда несли гроб, и когда закапывали – тоже плакал.
Отношения Леонида Ильича и Виктории Петровны друг к другу можно без преувеличения назвать старомодными. Однако, когда дело касалось работы, он был жестким, неумолимым. Однажды комендант сказал Виктории Петровне, что появилась ставка помощника коменданта, который должен заниматься хозяйственными делами, и посоветовал ей взять кого-нибудь из охраны: ребята свои, все знают – и хозяйство, и обстановку. Виктория Петровна предложила эту идею Леониду Ильичу без ссылки на коменданта. Разговор был как бы мимоходом, они шли по коридору.
Он вспылил:
– Это не твое дело! Ребят не трожь! Охрана выделена для меня, а не для тебя.
Ты – жена, домашняя хозяйка, мать семейства, в этом весь круг твоих обязанностей. Такую линию он проводил беспрекословно. Его предшественник – Хрущев – любил ездить за границу с женой, а иногда и всей семьей (знаменитая поездка на теплоходе), и особенно увлекался зарубежными поездками с женой пришедший на смену Горбачев. У Брежнева же в этом смысле были свои принципы – Виктория Петровна сопровождала мужа в заграничных командировках крайне редко. Брежнев справедливо считал, что служебные командировки – не прогулки, он утверждал списки пофамильно. Бывало, что помощники Генерального пропихивали своих друзей – «прокатиться», а Брежнев собственноручно вычеркивал их. Но Виктория Петровна ни на что не претендовала.
Так и жили: она не вмешивалась в политику и государственные дела, он – в домашние. Весь быт, уклад дома был на ней.
Она очень тяжело болела диабетом. Он переживал:
– Как бы Витю поднять на ноги…
После ужина и совместных теле– или кинопросмотров он поднимался к себе в спальню, а я уходил в дежурку. Там у меня было две комнаты. В первой, небольшой, стояли телефоны, телевизор, вторая – спальная комната, здесь рядом с кроватью был установлен домофон – прямая связь с Леонидом Ильичом.
Сижу, никуда не выхожу, пока где-то в двенадцать – полпервого ночи с поста напротив окон Генерального не поступает информация: «Товарищ полковник, свет в спальне погас». Я тут же вызываю дежурного: «Срочно ко мне», сажаю его на телефоны и обхожу посты. Проверяю все службы охраны, заполняю суточный наряд. Возвращаюсь.
Ложусь, закрываю глаза, но не сплю. Нам на дежурстве спать нельзя по инструкции, кроме того, я знаю, что Леонид Ильич спит очень плохо и за ночь пару раз мне позвонит:
– Володь, ты спишь? Сколько сейчас времени?
Но чаще звонил по другому поводу:
– Приходи покурить.
«Покурить» – можно взять в кавычки. Курил я, обкуривал его среди ночи, а он жадно вдыхал дым.
Раньше он был заядлым курильщиком. Мы чистили ему мундштук. Сигареты менялись, он мог накануне спросить у своего секретаря, помощника, члена Политбюро:
– Ты что куришь?
Тот показывает:
– Да вот…
Брежнев затянется:
– Хорошо!
И мы уже утром по смене передаем: достать такие-то и такие-то сигареты.
Где-то в первой половине семидесятых годов врачи категорически запретили ему курить, и он стал это делать тайком. Курил даже в ложе Дворца спорта. Придем – сидит, смотрит. Достанет сигарету, а в это время диктор по радио громко объявляет: «Уважаемые товарищи! В нашем Дворце спорта не курят».
Я говорю:
– Слышите, Леонид Ильич?
– Это не для нас, – и украдкой, в кулак, затягивается.
Прежний доктор – Родионов – умер, новый личный врач Михаил Титович Косарев оказался хоть и молодым, но тверже, принципиальнее прежнего.
В Завидове на отдыхе Брежнев иногда вынет сигарету и не без опаски спрашивает – ему кажется, тихо, но голос-то у него громкий:
– Закурю, пожалуй. А доктора здесь нет?
Врач из другой комнаты отвечает:
– Нет, нет…
То же повторялось в Заречье. Подойдет ко мне:
– Сигареты есть? Закурим.
– Давайте.
– А Виктория Петровна не увидит?
Она из беседки отвечает:
– Нет, нет, не увижу. – И смеялась.
Иногда она просила меня:
– Смотри, как он закашливается. Скажи ему, чтоб не курил, он только тебя слушает.
Иногда я говорил ему:
– Может, правда, не надо?
Он покорно соглашался:
– Ну не надо, так не надо.
В конце концов врачи запугали худыми последствиями, и в 1975 году курить он бросил. Однако нам, охране, в связи с этим добавилось заботы.
Как-то, проезжая по Кутузовскому проспекту мимо собственного дома, Брежнев сказал вдруг:
– Володя, давай я тебя сделаю начальником охраны квартиры? Будешь получать такую же зарплату.
Я уже был тогда заместителем начальника личной охраны. В голосе чувствовалась ирония. «Что случилось?» – спросил я.
– Да какая же польза от тебя, ездишь со мной и не куришь.
– Закурю-закурю, Леонид Ильич, – тоже полушутя ответил я. – Если надо – не проблема.
Шутки шутками, но обкуривать Генерального мы стали со страшной силой. Едем в машине – Рябенко и я еще с кем-нибудь из охраны и курим по очереди без передышки. Пытался и он сам иногда закурить, но мы отговаривали: «Лучше мы все еще по разу курнем». И он соглашался. Зато когда подъезжаем, нас кто-то встречает, распахиваем дверцы машины, и оттуда – клубы дыма, как при пожаре.
У меня первый месяц очень болела голова. Однажды на даче в беседке он попросил меня покурить. Я вытащил сигарету и стал пускать дым в его сторону. Он смотрит:
– Так ты же не куришь – балуешься.
– Как не курю, дым-то идет.
– Ну и правильно…
Далее, когда проводил Политбюро, просил:
– Посиди рядом, покури.
Конечно, не всем членам Политбюро – старикам – это нравилось, были ведь и некурящие, но возразить никто не смел. Все мы, «прикрепленные», так и делали – и я, и Собаченков, и Федотов, и сам Рябенко. Насчет утечки информации никто не волновался, мы в этом смысле были надежнее, чем любой член Политбюро.
Тут все и всё знали. А вот на каких-нибудь армейских совещаниях или республиканских партийно-хозяйственных активах картина выглядела потрясающе. Местное партийное начальство сидит, все чинно, благородно, а мы, охрана, в присутствии Генерального, прямо за его спиной, дымим, смолим. В глазах у всех удивление, чуть не испуг: вот дают, лихие ребята, да просто нахалы.
Это была большая его слабость. Мог попросить и любого члена Политбюро: закури, Коля, Миша…
А нас просил – везде, даже когда плавал в бассейне. Подплывет к бортику:
– Закури…
Мы уже ставили к бортику ребят-выездников, настоящих курильщиков. Не вылезая из бассейна, прямо в воде он надышится, наглотается дыма и доволен:
– Молодцы, хорошо курите! – и поплыл дальше.
Иногда все-таки и сам потягивал потихоньку.
– Только доктору не говорите, – просил он.
За здоровье свое он все-таки побаивался, и воздействовать на него было можно. Я пишу об этом заранее, впереди наступят события, когда Генеральный начнет бесконтрольно употреблять губительное количество лекарств и его никто не остановит – ни трусливое медицинское руководство, ни тем более врачи.
На Мавзолее
…Звонит Брежнев:
– Приходи покурить.
Среди ночи я надевал спортивный костюм и на цыпочках входил: в одной руке зажженная сигарета, в другой – зажигалка. Он лежит на боку, лицом ко мне, Витя – спиной к нам, спит или делает вид, что спит. Я сажусь на корточки и пускаю ему дым в лицо. Ему приятно. Курю «Мальборо»: они горят быстрее, я знаю, что вторую сигарету он не заставит курить.
– Что же это они у тебя так быстро горят-то?
– Не знаю.
– Ну, спасибо, буду дальше спать.
Я ухожу. Снова проверяю посты, иногда вдвоем с начальником смены комендатуры. Хоть парой слов, но обязательно со всеми перекинусь. С молодыми – о настроении, о бдительности, со старослужащими – о семье, о жизни.
Возвращаюсь около трех ночи. Иногда попью чаю – сахар, печенье, конфеты у нас, «прикрепленных», общие. Но чаще ложусь, стараюсь все же немного прикорнуть. Сплю, но все чувствую и слышу: шаги по асфальту или зимой скрип снега – хруп-хруп, это меняются посты. Ночью прапорщикам вместе сходиться нельзя. Я среди ночи снова поднимаюсь и вижу, как они с разных концов сходятся. Звоню на пост тому, который дальше ушел, он бежит бегом обратно. Мне в окно все видно. Он вбегает в постовую будку, хватается за телефон – поздно, я успеваю положить трубку. Постоит-постоит, молодой парень, скучно ему, опять начинают сходиться. Я звоню теперь уже другому… Бежит.
А утром говорю:
– Ну что, набегались?
Краснеют.
Утром – зарядка, бритье, чай.
Чувство усталости и напряжения за ночь накапливается.
В 8.15 приезжает мой сменщик, знакомится с суточ-ным журналом. Я рассказываю, как прошла ночь в комендатуре, у охраны. Докладываю о состоянии здоровья и настроении подопечного. О звонках в Москву и из Москвы. Много поручений личного характера. Надо переговорить с парикмахером, заехать на примерку костюма, взять в мастерской новые очки, вызвать зубного врача, отправить охотничьи трофеи или какие-то другие личные посылки в такие-то и такие-то министерства. И если Леонид Ильич вчера «стрельнул» у кого-то сигарету и она понравилась ему, я, чтобы не подвести сменщика, предупреждаю: с утра надо достать такие-то сигареты.
Он мне, в свою очередь, докладывает о трассе следования, какая была связь, как работали на дороге оперативники.
Весь разговор – полчаса, не больше. Никаких подписей в передаче и приеме смены, расписываются только начальники смен охраны дачи.
Звонит официантка: «Леонид Ильич в столовой». Мы вызываем машину к подъезду. Я иду в дом. Леонид Ильич поднимается к себе почистить зубы. Я – следом, забираю документы, портфель. Спускаемся вместе на лифте. Помогаю ему внизу надеть пальто, обгоняю, успеваю одеться сам. Кладу документы на заднее сиденье, мы с начальником охраны – на откидных. Вперед, в Кремль.
Выезжаем часов в девять – полдесятого.
Смена закончена, я устал за эти сутки без сна, но напряжение спадает.
Постам по дороге дана команда, все прочие машины разогнаны или остановлены, дорога освобождена, мы мчимся по пустой трассе. Идем километров сто двадцать в час, на Кутузовском сбавляем до сотни.
Ехать по этой трассе, как и по завидовской, – одно удовольствие, все знакомо, все свое: любой поворот, любая встречная береза.
В мою смену только однажды случилось небольшое ЧП – заглох мотор, и мы пересадили Генерального в оперативную машину.
Вообще же за двадцать лет на этих пригородных маршрутах произошло лишь одно ЧП. Без Брежнева. В начале второй половины семидесятых годов. В Завидове менялась смена личной охраны, ехали в Москву. Навстречу, сбоку, вылетела грузовая машина – солдатик за рулем влево не посмотрел. Наш водитель от прямого столкновения ушел, но «ЗИЛ» развернуло и ударило о трейлер. В машине было шесть человек, сотрудники личной охраны успели скоординироваться и уцелели; у одного оказалось сломано шесть ребер, у другого – два, остальные тоже получили переломы, ушибы, ссадины. А Володя Егоров – спал. И ему снесло череп.
Это случилось утром, около одиннадцати, уже было светло.
Володе было едва-едва за тридцать лет…
1 Мая и 7 Ноября служба охраны усиливается. И та смена, которая заканчивает дежурство, и та, которая заступает, – обе сопровождают Генерального на Красную площадь.
Накануне звонят начальники личной охраны членов Политбюро:
– А во что будет одет Леонид Ильич?
Боятся выделиться. А откуда я знаю – какая завтра будет погода.
7 Ноября очень часто было холодно. В последние годы я помогал Леониду Ильичу одеваться – теплое белье, под пиджак – пуловер, зимние ботинки. Выезжали с таким расчетом, чтобы без десяти десять быть на углу первого правительственного корпуса, возле Сенатской башни Кремля. Мавзолей – рядом. Там стоят уже все члены Политбюро. Разговоры каждый раз одни и те же: как здоровье, как самочувствие, вы сегодня хорошо выглядите, Леонид Ильич. Он с удовольствием рассказывает, что ест на завтрак, на ужин, чтобы сохранить вес, потому что врачи рекомендуют ему уменьшить вес, большой вес – это плохо. Брежнев оглядывает всех:
– О-о, вы все в шляпах, а я – в шапке!
– Правильно, правильно, Леонид Ильич, на трибуне холодно, ветер.
– Но вы-то в шляпах, а я – в шапке.
– И мы, и мы, Леонид Ильич, будем в шапках.
Я уже вижу, наши ребята, охрана – все держат шапки за спинами. Мгновение – и у всех на головах шапки, как в волшебном кино.
Бывало и наоборот, когда тепло – Леонид Ильич надевал шляпу, и тогда все члены Политбюро выходили на трибуну мавзолея в одинаковых фетровых шляпах.
Успевают переброситься и несколькими деловыми репликами.
– Ну, как, Юра, дела? – К Андропову.
– Да выяснил я, Леонид Ильич, все в порядке.
Без двух минут десять начинаем движение. Сначала мы, охрана, впереди, на подъеме в мавзолей пропускаем Леонида Ильича вперед. На трибуне рядом с ним – члены Политбюро, за ними – кандидаты в члены Политбюро, еще дальше – секретари ЦК КПСС, еще-еще дальше – военачальники. Площадь застыла, остается еще несколько секунд.
– Как здоровье, Леонид Ильич? – спрашивает кто-то, кто еще не успел спросить.
Он хорохорится, старается показать себя. Смотришь на него и не узнаешь. Еще час назад еле-еле двигался на даче, а тут – бодрый, даже молодцеватый. У него был огромный запас внутренних сил и энергии, его умению преображаться на людях удивлялись даже врачи.
Охрана располагается слева от Брежнева, позади него. С площади нас не видно. Напряжение огромное. В течение нескольких часов я не свожу глаз со своего подопечного, даже если смотрю по сторонам, я его все равно – вижу… Если кто-то меня отвлечет, второй ‘прикрепленный» не спускает глаз с Брежнева.
Если прохладно, то уже часам к одиннадцати появляются два официанта с термосами и набором хрустящих белоснежных пластмассовых стаканчиков (если не холодно, приходят чуть позже). В термосах – горячее вино с какими-то вкусными добавками. Ширина прохода на Мавзолее метра полтора, не меньше, когда позади вождей проходят официанты или охрана, с площади не видно. От стены Мавзолея идут два выступа, которые служат столиками, выбиты ниши, они покрыты деревом и обшиты сверху материалом – удобные сиденья. Всего шаг назад – Леонид Ильич садится за стол, выпивает, отдыхает и возвращается в строй. Точно так же после него пригубляют, согреваются остальные. Исчезновение их на краткое время незаметно ни тысячам людей с площади, ни тем более телезрителям.
Случается так, что первой вино распробует охрана. И я прошу официанта отнести вино «горкому партии». Они – слева, пониже, с благодарностью кивают мне.
Позади Мавзолея, перед Сенатской башней, есть пристройка к Кремлевской стене с малозаметным входом.
Здесь буфет – зал с большим столом, за которым умещаются все члены и кандидаты в члены Политбюро. На трибуне Мавзолея Леонид Ильич делает мне знак, я провожаю его в эту комнату, он сидит отдыхает. Выпьет рюмочку.
Около гостевых трибун – свой буфет.
Раньше празднество продолжалось до двух часов. На трибуне действительно ветер, холод. Четыре часа я не свожу глаз с Брежнева. Поворот головы, и я иду.
– Володя, позови…
Или:
– Пригласи…
Может попросить не меня, а Андропова, который рядом. Я приглашаю кого-нибудь из Совмина, из горкома партии – из тех, кто на гостевой трибуне. Народу много, скученность, но приглашенный быстро и радостно под взглядами окружающих пробирается к главной трибуне страны.
Если кто-то идет по своей инициативе, без приглашения, я пристраиваюсь рядом.
Такие приглашения следовали сразу после военного парада, перед демонстрацией. Но если речь шла об иностранном госте, его приглашали сразу же, до парада.
Приветственно машет руками последний сводный отряд. Леонид Ильич – им, приветственно и прощально. Все спускаются вниз. «До встречи». – «Да, на приеме встретимся». Руководящие товарищи расходятся по кабинетам, переодеваются, освобождаясь от теплой одежды.
Прием проходит в банкетном зале Кремлевского Дворца съездов. Руководители партии и правительства приходят с женами, и, естественно, накануне меня уже обзвонили начальники охраны соратников Леонида Ильича все по тому же волнующему щепетильному вопросу: «А Виктория Петровна будет? А во что она будет одета?»
Собиралось до двух с половиной тысяч человек. Столы – богатейшие: коньяки и вина разных марок, водка, закуска. Вначале Леонид Ильич произносил небольшую праздничную речь, минут на десять – пятнадцать, которая заканчивалась тостом «за Великую Октябрьскую социалистическую революцию» (или, если 1 Мая, «за Международный день солидарности трудящихся»). Брежнев поднимал бокал, и все, кто поближе, стремились к нему – чокнуться.
Микрофон убирался, начиналось веселье, тут уже мы подтягивались к Генеральному поближе.
Выстраивались в очереди – пожать руку – священнослужители, военачальники, писатели, бизнесмены, артисты. Иностранные дипломаты подходили с рюмками – чокнуться, они чувствовали себя посвободнее: кто-то где-то когда-то встречал Брежнева, провожал или сопровождал.
В конце приема, перед десертом, – концерт минут на сорок. Обязательно – балетный номер, оперная ария, эстрадные песни, стихотворение.
Пели Кобзон, Магомаев, Руденко, Синявская, Толкунова и почти всегда – Зыкина.
Виктория Петровна бывала не часто. Если приходила, вела себя чрезвычайно скромно, общалась, в основном, с Анной Дмитриевной Черненко, Татьяной Филипповной Андроповой, Лидией Дмитриевной Громыко. Добрые отношения сохраняла также с женой Тихонова, вплоть до ее смерти. Виктория Петровна была очень простая, мне кажется, по мягкости характера, по расположению к людям, интеллигентности она была схожа с Ниной Петровной Хрущевой.
Прием длился часа два. Хозяева разъезжались, а гости оставались – артисты, писатели, военные чины.
Вначале Леонид Ильич выдерживал часа полтора. Потом свое пребывание сократил до получаса.
Стали со временем сокращать и демонстрации на Красной площади, «отрезали» колоннам «хвосты» и уходили на банкет!
Официально же время парада и демонстрации сократили после вот какого случая. Мы ехали из Заречья на первомайское празднество. В машине впереди, как всегда, – Брежнев, сзади – мы с Рябенко. Неожиданно, прямо в пути, пошел снег с дождем. Когда въехали на Кутузовский проспект, Леонид Ильич увидел стоящие колонны мокрых, съежившихся людей.
– Что же людей-то мучить, а? – спросил он нас с Рябенко. – Вон, дети мерзнут, мокрые, с зонтиками. Сейчас посоветуемся с товарищами, может, отменить…
У Сенатской башни, поздоровавшись, он кивнул на небо и спросил:
– Что это, сегодня – обязательно?
И все дружно поддержали:
– Нет, нет.
А если бы сказал: «Товарищи, я считаю, несмотря на непогоду…» – все так же дружно закивали бы: «Конечно, конечно».
После этого решили укладываться до половины первого.
При Горбачеве и военный парад, и демонстрацию еще раз сократили – ровно до двенадцати.
В такие дни лучше утром сдавать смену, чем заступать на нее. Тогда больше напарник, а не я, персонально отвечает за благополучие вождя. А я слежу за наружным порядком. Согревает чувство: сейчас отработаю и через четыре часа свободен.
Охота
В сознании очень многих охота стала символом барских забав Брежнева. В многочисленных анекдотах и легендах на эту тему, которые перевесили, пожалуй, все прочие небылицы о нем, очень характерно отражены всемогущество и немощность Генерального секретаря: и кабанов-то ему привязывали к дереву, и куропаток в воздух подбрасывали, и даже на рыбалке водолазы ему рыбу на крючок насаживали.
Рыбалку он вообще не обожал, начнем с этого. Что до охоты, надо знать хоть немного характер Брежнева – его страсть к бешеным скоростям, многочасовым плаваниям в штормовом море, к прочему риску на грани спортивной авантюры, чтобы исключить подобные послабления в любимом занятии.
Мне кажется, нездоровый интерес время от времени подогревала печать. Я помню светскую хронику о том, как Хрущев охотился с Тито, гостившим у нас, сообщалось об их лесных трофеях.
Не знаю, охотился ли Леонид Ильич в Днепродзержинске или Днепропетровске, мне кажется, именно от Хрущева передалась ему эта страсть. Никита Сергеевич постоянно, всегда приглашал Брежнева на выходные дни в Завидово.
Эти лесные угодья принадлежали хозяйственному управлению Министерства обороны СССР. При Хрущеве хозяйство было маленьким, скромным: небольшой дом для охотников и несколько летних сборных домиков для охраны, в которых зимой стоял такой холод, что ночью в ведрах замерзала вода. Правда, территория лесных угодий и тогда была огромной, захватывала и Московскую, и Калининскую области. Леса были не обихожены, никаких асфальтированных или хороших грунтовых дорог. На машинах ездить было невозможно, впрягали лошадей: зимой – на санях, летом – на телеге.
Со временем, при Брежневе, охотничье хозяйство разрослось, обустроилось и стало самым мощным в стране – и по территории, и по организации. Здесь создали приличное подсобное хозяйство: стали содержать лошадей, коров, овец, разводить уток, куропаток – мясо птиц сдавали. Развели рыбопитомник, создали даже питомник норок – шкурки тоже продавали. То есть существовал какой-то вид самоокупаемости. Коллектив подобрался солидный, не меньше полусотни человек, не считая охраны.
Стрелял Леонид Ильич блестяще – мастер пулевой стрельбы, без преувеличения, и в ружьях толк знал. Товарищи, соратники – и наши, и зарубежные, – зная его слабость, дарили ему в дни рождения и в любые другие подходящие дни самые роскошные ружья. На ближней даче, в Заречье, в специальной комнате у него хранилось в трех больших сейфах примерно девяносто стволов! Любимых ружей было три-четыре гладкоствольных, все импортные, для охоты на уток, гусей, других пернатых и небольших зверюшек – зайцев, лисиц и т. д.; и столько же, три-четыре, нарезных ружей, импортные и тульское, для серьезной живности – кабана, лося, оленя.
Но мы, охрана, содержали в боевой готовности абсолютно все стволы, мало ли – он мог выбрать любое ружье. Несколько раз в году мы их все чистили, протирали насухо, заново смазывали. Возни было очень много: для четверых членов охраны работы каждый раз на полнедели.
Мне лично он дал итальянское восьмизарядное гладкоствольное ружье фирмы «Косми». Восемь патронов – как автомат! Прекрасная вещь, но капризная. Чуть гильза намокнет – все, отказывает, патроны очень строгие – по весу, по габаритам.
Охотился он на лося, на марала. Водились в хозяйстве и пятнистые олени, но они были такие красивые, грациозные, что рука на них не поднималась. Мы часто останавливались на опушке леса, где их было особенно много, и засматривались: красавцы олени, как будто чувствуя, что ими любуются, подпускали нас довольно близко и элегантно вышагивали перед нами. Однажды Леонид Ильич поинтересовался у егеря:
– Можно их стрелять?
– Можно, – ответил егерь. – Их у нас много расплодилось.
– Нет, такую красоту убивать нельзя.
Больше всего Брежнев любил охотиться на кабана. Этого зверя развелось много, охота на него была просто праздником, тут сходилось все – и огромный спортивный азарт, и риск, и наслаждение удачей.
Зимой зверь выходит к подкормке после четырех часов дня, осенью – в восемь-девять вечера. В район, где находится зверь, заранее подъезжаем на машине. Каждый раз егерь предупреждает, чтобы из машины выходили аккуратно, без шума, дверцей не хлопать. Двигаемся осторожно, чтобы не зацепить корень дерева, не хрустнуть веткой. Так крадемся километра полтора; где-то рядом кормятся кабаны, тут же, неподалеку, пасутся пятнистые олени. Вожак стада, почувствовав наше приближение, издает пронзительный свист, невольно останавливаешься, слышишь топот и треск веток – это разбегаются кабаны. Общий вздох разочарования, иногда смех, у кого-то вырвется крепкое словцо. Вызываем по рации машину, садимся, едем на другое место, все начинается сначала.
Когда удавалось подобраться незамеченным, пути наши дальше расходились – Леонид Ильич шел к вышке с егерем без охраны. Мы нервничали, это было грубым нарушением с нашей стороны: вышку мы обязаны заранее проверять и сопровождать до нее шефа. Но дело в том, что несколько наших проверок закончились тем, что при всей осторожности мы спугивали кабанов. Мы же не профессиональные охотники. Леонид Ильич с егерем притаятся на вышке, ждут – час, два, три…
– Почему нет кабанов? – спрашивает у егеря.
– Откуда им взяться, ваши ребята тут побывали…
Он накидывался на нас, всякие проверки запретил. Так продолжалось довольно долгое время.
Как это часто бывает, помог случай. Секретарь ЦК КПСС Борис Николаевич Пономарев вот так же вдвоем с егерем приближались к вышке и… их из-под вышки обстреляли. Они залегли… Оказалось – браконьеры. Их даже не нашли потом. Искали – не нашли. Деревень вокруг много. Территория огромная, не огороженная. Охрана – спецбатальон солдат, человек двести – триста. Браконьеры сквозь них, как сквозь сито, – и внутрь, и обратно. Они, местные жители, знают все тропинки.
Однажды начальник охотничьего хозяйства сам увидел на вышке браконьера, с трудом забрал у него ружье.
В общем, мы сказали Брежневу: «Раз нельзя проверять вышки заранее, значит, кто-то из охраны будет сопровождать вас».
Усаживаемся на вышке втроем – Леонид Ильич, егерь и я. Довольно тесно. Начинается долгое выжидание. Час, два, три. Где-то хрустнула сухая ветка – молча показываешь соседям направление. Напряжение нарастает, иногда хочется кашлянуть – нельзя, даже слюну нельзя сглотнуть, приспичит – хватаешь шапку, в нее выдохнешь. Наконец появляется осторожное стадо. Впереди – мелочь, небольшие подсвинки, потом – самки, и только после них замыкают шествие – матерые кабаны, хозяева стада. Матерые не торопятся, ждут, когда молодняк начнет хватать подкормку. Те пошумят немножко, убегут, испугавшись своего же шума, потом вернутся снова, начнут уже спокойнее хватать зерно. Потихоньку на площадку выйдут самки, прислушаются, успокоятся и тоже примутся за подкормку. И уже затем выходит самец-хряк – очень осторожно, с поднятой головой, принюхиваясь и сопя. Подбирается осмотрительно, с края на середину не спешит, двигается всегда рылом в сторону охотника…
Спугнул нечаянным вздохом или легким движением – все. Сиди и жди еще часа два.
Удивительно все же чувство самосохранения этого зверя. Ведь он идет вперед головой, не подставляя бок под пули, даже еще не чуя охотников, не подозревая об опасности. Если подраненный кабан убегает в лес, он, умирая, обязательно разворачивается головой в сторону погони.
Раненый кабан очень опасен, было немало случаев, когда он разворачивался и набрасывался на преследователя. Говорят, он плохо видит, и, когда мчится на тебя по прямой, как торпеда, нужно резко отскочить в сторону, тогда зверь промчится мимо. Но для этого надо иметь самообладание и хорошую реакцию.
Леонид Ильич любил, спустившись с вышки, подходить к убитому кабану, чтобы самому найти место поражения, насладиться результатом. Однажды он повалил огромного зверя, по привычке спустился, направился к нему. Когда оставалось метров двадцать, кабан вдруг вскочил и двинулся на Брежнева. Оказалось – не убит, ранен, лежал в шоке. У егеря был в руках карабин, он мгновенно, навскидку, дважды выстрелил и… не попал. Зверь отпрянул, изменил направление и помчался по кругу. «Прикрепленным» в тот день был Геннадий Федотов. Стоит рядом, в левой руке карабин, в правой – длинный нож. Он быстро воткнул нож в землю, перекинул карабин в правую руку, но выстрелить не успел: кабан бросился на него, ударил рылом в нож, согнув его, и помчался дальше. Заместитель начальника личной охраны Борис Давыдов попятился и, зацепившись ногой за кочку, упал в болото. Кабан перепрыгнул через него и ушел в лес. Леонид Ильич стоял рядом, все это видел и, надо отдать должное, даже в лице не изменился.
Борис с маузером в руке поднялся из болотной жижи, грязная вода стекала с него, весь в водорослях. Леонид Ильич подошел и с юмором спросил:
– А что ты там делал, Борис?
– Вас защищал, Леонид Ильич.
Вышло так непосредственно, что оба рассмеялись.
Раненого кабана сколько ни искали по всей округе, так и не нашли.
Нечто подобное произошло с министром обороны СССР, маршалом Гречко. Раненый кабан кинулся на него, а он вместе с охранником бросился к смотровой вышке. Картина – замечательная: маршал еще бежит, а его охранник уже на вышке.
– А ты как здесь впереди меня оказался? – спросил Гречко.
– А я вам дорогу показывал, товарищ маршал.
Тот рассмеялся, охранника не уволил, даже, кажется, не наказал.
Со мной был случай неприятнее. Мне пришлось добивать кабана, можно сказать, в рукопашной схватке.
Как обычно, Леонид Ильич выстрелил. С вышки не видно: убит кабан – не убит. Тем более уже сумерки. Упал, и все. Брежнев попросил меня спуститься и дорезать зверя, как мы говорим, «спустить ему кровь».
Я взял карабин, нож и направился к добыче. Убедившись, что кабан не двигается, положил карабин на землю и воткнул нож в горло. Вдруг он резко приподнялся на задние ноги. Нож у меня был длинный, я моментально пригвоздил его голову к земле. Он же, мощный самец-хряк, килограммов за сотню весом, пытаясь от меня освободиться, стал выписывать круги вокруг ножа. Привстав на задние ноги, он крутился волчком. Не знаю, как долго длилась эта карусель. Я взмок. Почувствовав, что кабан наконец ослабевает, я отпустил нож, схватил карабин и выстрелом в голову добил его.
Леонид Ильич встретил меня довольно своеобразно:
– Ты чего стрелял! Кабанов всех разогнал, они, наверное, рядом были.
Лицо рассерженное. Я, едва не погибший только что по его вине, тоже «завелся» и в тон ему ответил:
– Стрелять надо уметь, тогда и мне стрелять не придется.
Он обиделся:
– Что, я плохо стреляю?!
Конечно, Брежнев в сгустившихся сумерках не видел мою борьбу с кабаном. Я рассказал, и он улыбнулся.
– Ладно, успокойся. Не переживай.
Я не переставал удивляться его темпераменту, энергии, физическим силам. Довольно часто он вместе с нами преследовал подраненного зверя – несколько километров по снегу, по лесным завалам.
В знак особого расположения Генеральный секретарь приглашал на охоту людей достаточно ему близких или важных гостей. Из зарубежных деятелей в Завидове охотились Киссинджер, Кекконен, Тито. Рауль Кастро прибыл вместе с женой, она со всеми вместе пробиралась к вышке, выжидала зверя и, надо сказать, прекрасно стреляла, получше многих мужчин. Из наших отечественных деятелей кроме Гречко бывали в Завидове Подгорный, Полянский, Тихонов, Косыгин – пока были у него силы. Последние охотники, пожалуй, – Громыко и Черненко.
Для некоторых приближенных Генерального события развивались прискорбно, можно даже сказать, трагически. Каждый понимал приглашение на охоту как знак близости, даже особого доверия. Болея, дряхлея, люди не могли отказаться от благорасположения Генерального, а уж открывать свою немощь и вовсе не хотели.
– Позвони Косте, завтра поедем, – говорил Брежнев и называл час выезда. Я звонил Черненко. К телефону подходила жена:
– Владимир Тимофеевич, вы знаете, Константин Устинович очень плохо себя чувствует. Вы как-то скажите Леониду Ильичу…
Брал трубку он сам.
– Да, Володя, чувствую себя неважно.
– Давайте, я доложу, что к вам должен приехать врач и вы не сможете…
– Нет-нет…
И я докладывал Брежневу, что Константин Устинович всю ночь работал, устал.
Тогда Леонид Ильич звонил уже по дороге из машины:
– Костя, бросай работу. Тебе надо отдохнуть. Приезжай, жду.
Черненко, тяжело, неизлечимо болевший бронхиальной астмой, поднимался с постели и ехал…
На вышке сидеть холодно, сыро. Каждый раз Константин Устинович простужался и, вернувшись, укладывался в постель с температурой.
Брежнев возвращался после охоты бодрый, в приподнятом настроении. Если ему охота прибавляла сил, здоровья, продлевала жизнь, то старых и больных соратников охота добивала, укорачивала им жизнь.
Однажды приехал в Завидово Суслов – главный идеолог страны. Он вышел из машины в галошах. Понюхал воздух.
– Сыро, – сказал он с ударением на «о», влез обратно в машину и уехал. Даже в охотничий домик к Брежневу не зашел.
После удачного выстрела, когда кабан у наших ног, Леонид Ильич разрешал нам разлить по рюмке водки. Это был неизменный ритуал, мы поздравляли друг друга «с полем».
По окончании охоты следовал другой ритуал, который как бы продлял удовольствие охоты. Он поручал начальнику охраны – кому какой кусок мяса отрезать в подарок. Вначале через охрану, а позже через фельдсвязь Брежнев отправлял кабанятину некоторым членам Политбюро, министрам. Вдогонку звонил, рассказывал подробности охоты, советовал, как лучше готовить вырезку, грудинку и т. д.
Любил Леонид Ильич и охотиться и на утку. На вечерней или утренней зорьке мы загружали ему в лодку патроны, ружье, питание, водичку, и он вместе с егерем отправлялся по заводям Московского моря. В хорошую погоду пройтись по чудесным местам вдоль реки Моши, где заросли ив, ольхи, – одно наслаждение, снималось любое напряжение после работы. Уток было много, так как хозяйство само разводило их. Осенью десятки тысяч птиц, собравшись в стаи, улетали в теплые края, а весной многие возвращались.
Каждый год первый секретарь Астраханского обкома партии Бородин приглашал Леонида Ильича поохотиться на гусей. Мы вылетали туда дня на два-три из Москвы или после летнего отдыха в Крыму, по дороге домой залетали в Астрахань и оттуда на вертолете – к месту охоты. Это случалось обычно в конце августа, когда начинался перелет гусей.
В этих краях – целые заросли бамбука, можно было часами любоваться ими, подстерегая пролетающих птиц. Все же надо было очень любить охоту, чтобы вставать в три часа ночи, в теплую погоду надевать плотную, жаркую одежду, чтобы не съели комары, которые летали тучами – большие, злые, они, как мы шутили, прокалывали кирзовые сапоги.
Когда шеф отдыхает, а ты вроде не при деле, одолевает скука. Летом в Крыму иногда смотришь на море и думаешь: хоть бы ты замерзло. В Астрахани прибавлялось еще и чувство бессилия и тревоги. Никакие кабаньи тропы не внушали нам столько чувства опасности, как здесь – астраханские поймы. У катера мы вынуждены были оставлять Леонида Ильича, дальше он отправлялся с егерями. Потом пересаживался в плоскодонку, которую лодочник толкал шестом. Темнота, река, заросли… Ни охраны рядом, ни врача. В Завидове мы хоть местность знали, егеря – свои, солдаты спецбата по окружности.
Лодочник с егерем бесшумно доходили до мостиков, где пролетали или садились на отдых птицы. Каждого гуся, в которого целился Генсек, опытный егерь тоже держал на мушке, и если гусь оказывался только подранен, без промаха добивал его. Поэтому добыча всегда оказывалась внушительной, за утреннюю зорьку – десятка два гусей или уток. Леонид Ильич возвращался довольный. И мы вздыхали спокойно.
Возвращался он часов в одиннадцать дня. То есть целых восемь часов охраняемый был вне нашей досягаемости.
Об охотничьей страсти Брежнева знал весь мир. Руководители компартий социалистических стран, чтобы завязать или укрепить доверительные отношения с нашим Генсеком, устраивали для него роскошную охоту. Так бывало в Болгарии, Чехословакии, Югославии, Германской Демократической Республике. Охота обставлялась торжественными обрядами. В ГДР, например, начало ее возвещали охотничьи рожки, музыканты исполняли марш открытия.
Когда Брежнев совершал удачный выстрел, громче всех аплодировал Хонеккер.
После окончания охоты трубили отбой. Разжигали большой костер, рядом с которым раскладывались охотничьи трофеи, возле которых выстраивали охотников. Каждый показывал свою добычу, после чего торжественно объявлялся король охоты. Надо ли говорить, что всегда им оказывался Леонид Ильич. Охота превращалась не просто в добычу мяса, а в азартное спортивное соревнование.
Конечно, услуга была: Леониду Ильичу выбирали надежную кабанью тропу; если же ставили на вышку, то рядом подкладывали подкормку, так что кабан выходил обязательно. Но в остальном подставок, или, как мы говорим, «туфты», не было: повторяю – Брежнев стрелял безупречно.
Меня всегда умиляли азарт и радость побед больших начальников. Иногда не понимаешь: догадываются ли они об особых условиях или о форе для них. Это относилось не только к Брежневу, самолюбие и тщеславие которого было легко усладить. Но ведь и Алексей Николаевич Косыгин, человек строгих нравов, не терпевший мишуры возле себя, тоже поддавался на подобные подарки. Мне рассказывали, как он лечился в Железноводске и с большим азартом играл там в бильярд. Самым большим мастером оказалась заведующая санаторной библиотекой, – которая выигрывала едва ли не у всех мужчин, местных и приезжих. Алексея Николаевича и все его высокое окружение она мастерски «заводила»: легко вела в счете до семи шаров, затем позволяла сравнять счет и на 7:7, в «равной игре», проигрывала. Если позволяла себе победить в одной партии, то проигрывала в двух следующих. Алексей Николаевич уходил довольный. Уезжая из санатория, он подарил часы директору санатория, главврачу и… заведующей библиотекой.
С одной стороны, смешно: игра в поддавки и – государственная благодарность за это. С другой – она тоже создавала ему замечательное настроение, влиявшее и на самочувствие, и на выздоровление. Разве это – не в масштабах страны?
В конце семидесятых здоровье Генерального секретаря ухудшилось. Поздравляя «с полем», он уже не пригублял рюмку. Уже во время стрельбы ослабевшие руки не прижимали плотно к плечу знаменитое ружье с оптическим прицелом. После выстрелов ружье давало отдачу назад, и ему прицелом разбивало лицо. Возвращался в Москву – разбиты в кровь то нос, то бровь, то лоб. Для врачей и медсестер, да и для нас потом – волынка, врачи старались как-то замазать, забелить раны. Он останавливался перед зеркалом, рассматривал себя и как-то по-детски жаловался неизвестно кому:
– Ну вот, опять. Как теперь с подбитым глазом на работу идти!
Врачи пытались запретить ему охотиться, отговаривали и мы. Однако он упрямо не желал лишать себя, может быть, последней в жизни радости.
Однажды, в первый день охоты на кабанов, он стрелял из машины и разбил себе бровь. На другой день стрелял с вышки и разбил переносицу. Обе раны – довольно тяжелые, в кровь. Самое неприятное, что буквально через день-два предстояла поездка в Прагу и Братиславу. Врачи долго возились с его лицом, во время всей поездки по нескольку раз в день замазывали раны.
После этого случая Леонид Ильич сам с грустью понял: он больше не стрелок.
Но от охоты не отказался. Так же сидел на вышке или в машине, так же выжидал зверя, но… не стрелял. Ружье он передал нам, «прикрепленным». Мы стреляем, а он рядом переживает.
Последний раз он «охотился» за сутки до смерти.
После смерти всякого вождя память о нем стирается, изничтожается. Отбрасывают в сторону, в тень, всех тех, кто окружал его. Чтобы они не напоминали о «бывшем». В этом было одно из угождений новых верноподданных.
Кому мог помешать Щербаков, старый опытный егерь, десятилетиями служивший верой и правдой своему делу, знающий огромное хозяйство как свои пять пальцев, живущий и работающий далеко в стороне от всех событий?
Мы перезванивались иногда. Как-то он сообщил мне:
– По-моему, готовят документы о моем уходе на пенсию.
Ему только-только перевалило за шестьдесят.
– Подожди, я выясню.
Министерство обороны всегда держало со мной связь. Ко мне как раз в это время обратился помощник министра обороны:
– Что теперь будет с охотничьим хозяйством – при нас останется или отберут?
Я обратился к Горбачеву, он сказал:
– Пусть останется как загородная резиденция. Я перезвонил помощнику и упомянул о егере.
– Нельзя ли оставить его как бы консультантом? Он же все знает.
– Нельзя. Коллектив против…
Помощник министра обороны извинился передо мной.
А я – перед егерем. Я знал, что не коллектив против, а новый директор, «новая метла». Я позвонил:
– Извини, Василий Петрович, извини, ничего не смог сделать.
Отношение к людям
…Не знаю почему, Брежнев любил охотиться со мной. Возвращаемся из леса на базу.
– Ты не можешь со мной завтра поехать на охоту?
– Мне неудобно, Леонид Ильич. Завтра Володя Собаченков меня меняет.
– Ты не волнуйся, я у него спрошу.
В общем-то, какая проблема? Генеральному распорядиться, Собаченкову бы позвонили: «Завтра не приезжай». И все дела. Но Леонид Ильич чувствует неловкость, бестактность даже.
На другое утро бреется, я – рядом. Появляется Володя Собаченков. Брежнев просит:
– Володя, ты не будешь против, если Володя со мной поедет?
– Что вы, Леонид Ильич, конечно.
Брежнев продолжает испытывать неловкость.
– А ты знаешь, я тебя одного отпущу на охоту. Тебе же и самому интереснее. Возьми егеря.
Этот эпизод очень точно характеризует взаимоотношения Генерального с окружением из низов. К людям он привыкал, привязывался, держал их на близкой дистанции – ни кичливости, ни барства не позволял. Простота в общении была более чем естественной. В этой близости и привязанности к рядовым людям были и плюсы, и, как ни странно, минусы.
У него было три сменных водителя, два – старых и один – молодой. Молодой как-то загулял, видимо, очень был пьян, потому что на улице ловил какого-то шпиона. В итоге его «замели» в милицию.
Через несколько дней Брежнев поинтересовался:
– А почему Бориса нет?
Я сказал, что его с работы уволили, объяснил, что к чему.
– Выясни, – попросил Генеральный.
– А чего выяснять – все ясно.
– Если ничего больше не было, позвони ему на работу, пусть вернут.
Через несколько дней Боря снова за рулем. Леонид Ильич спрашивает:
– Ну, ты чего там, какого шпиона-то ловил?
– Да, было дело… – водитель замялся.
– Выпил немного? – снова спросил шеф.
– Да, было…
– Ну вот, видишь, пришлось звонить тебе на работу.
– Спасибо, Леонид Ильич, больше этого не повторится.
Брежнев положил руку ему на плечо:
– Ладно-ладно.
В том, что Генеральный заступился за своего шофера, беды нет, тем более человек оступился первый и последний раз и ничего страшного, в общем, не совершил. Когда я говорил о минусах, имел в виду другие факты, их было достаточно. Например, личный врач Брежнева Николай Георгиевич Родионов оказался человеком крайне недисциплинированным, отлынивал от работы, а главное – врал совершенно беззастенчиво. Леонид Ильич его спрашивает – нет, исчез. Мы разыскиваем везде, где можно, – нет. У него родственников и знакомых много, пойди найди. Звоним Чазову: «Евгений Иванович, у вас Родионова нет?» Начальник 4-го кремлевского управления отвечает: «А что, нет его?»
Наконец объявляется, не моргнув глазом, объясняет Леониду Ильичу:
– Я был у вашей мамы.
– Я звонил, тебя там не было.
Это повторялось постоянно, к нашему удивлению, никаких мер не принималось. Родионов привязал шефа тем, что, несмотря на запреты медицинского руководства, выдавал Леониду Ильичу снотворные и прочие лекарства практически в неограниченном количестве – столько, сколько тот попросит. «Заменят его на медсестру», – говорил мне в шутку Рябенко.
Шутка сбылась. Медсестра Н. взяла потом полную власть над Леонидом Ильичом, Родионов оказался отодвинутым в сторону, и это вполне устроило доктора, он стал свободен.
Но самый невероятный пример – парикмахер Леонида Ильича. Его звали Толя. Как я уже говорил, он должен был приходить дважды в день – утром и после обеда, но часто запаздывал, а иногда не появлялся вовсе, потому что часто пил. Леонид Ильич ждет – нет его. Сердится, ругается, ругает нас, охрану:
– Ты предупреди его, если еще раз повторится…
Парикмахер принадлежал хозяйственному управлению ЦК КПСС. Я звонил Павлову, который заведовал этим управлением, но ничего не менялось.
– Позвоню сам Павлову, чтоб выгнали! – горячился Леонид Ильич, но быстро отходил и часто сам подтрунивал над Толей: – Ну, как праздник провел?
– Да ничего, собрались, «шарахнули».
– Стаканчик-то опрокинул?
– Да побольше.
Но не в том даже главная беда, что запивал и не приходил, а в том, что являлся утром с похмелья. Он брил опасной бритвой. Это могло плохо кончиться.
Дикость! Первое лицо могучего государства, а уровень взаимоотношений и безответственности хуже, чем в жэке.
Эта личная, на бытовом уровне, история – точный слепок того, что происходило в стране. Мягкость и всепрощенчество главы государства приводили к общему упадку и началу анархии в стране, к тому, что такие партийные лидеры, как Рашидов, Медунов и прочие (а ведь Андропов докладывал о них), чувствовали себя в безопасности.
Бывал ли суров и строг? Бывал. И как почти всякий большого уровня руководитель, которому некогда и незачем вникать в детали и мелочи, бывал и неправ.
Однажды у нашей кремлевской буфетчицы был день рождения. Смена выпала не ее, но Брежнев попросил накануне, чтобы она пришла. Я передал просьбу секретарю. Но тот не нашел ее, сменная буфетчица сказала ему по телефону: «Вы ее в такой день и не найдете». Секретарь не стал даже искать, но, главное, мне не доложил.
Как только мы утром приехали в Кремль, прямо в коридоре увидели буфетчицу, но – не ту…
– А где эта? – спросил Брежнев.
– Не знаю, – ответил я то, что отвечать никак не полагается.
– Не знаю, не знаю, – пробурчал он и прошел к себе в кабинет.
Через несколько секунд у секретаря раздалось два звонка: мне. Я вошел.
– Ты чего?! Почему?! – он сорвался и минуты три меня чехвостил. По спине потекла струйка пота.
Вышел, перевел дыхание. Через полминуты – опять два звонка. Вхожу – все сначала:
– Почему ты так относишься к моим указаниям?! Расхлябанность! Ты обманул меня, не доложил! Я же хотел ее по-человечески поздравить!
Я пытался как-то объясниться, но он не слушал:
– Ты не владеешь информацией!
В основе всего было доброе желание, он приготовил, видимо, какой-то подарок, и вдруг…
Мог иногда ввернуть и мат. Но когда ругал кого-то официально, держался также официально – обращался холодно, по фамилии и даже на «вы». Если же честил, как свой своего, тогда – по имени и с матерком.
Но злобы никогда в нем не было ни к кому. А главное, я говорил уже, был отходчив. В конце того злополучного дня я перед отъездом на дачу принес ему папку.
– Ну, как дела? – спросил он.
– Да тяжело, Леонид Ильич, тяжело…
– Вот как я тебе врезал, будешь знать, – сказал примирительно.
Был заботлив. Если судить по конкретным практическим делам, может быть, он не так уж и много сделал для подчиненных, но ведь никто у него ни о чем и не просил. Валено его чисто человеческое участие: всегда интересовался у всех наших, как дома дела, кто как живет, даже список просил составить – кто в чем нуждается. Интересовался и сам, и через начальника личной охраны. Не знаю, вышколенность это или воспитание, но все отвечали: спасибо, у нас все есть.
В целом народ у нас был действительно хороший, не попрошайки. Тот же Толя-парикмахер в этом смысле был чрезвычайно скромный, он стриг Брежнева с конца шестидесятых и ни разу ни на что не намекнул, хотя зарплата была невелика (он получал ее по основному месту работы – в ЦК), стриги он в городском салоне, одних чаевых больше бы имел, а семья у него – трое детей, жена, родители. Жили они в небольшой трехкомнатной квартире. Ни дачи, ни машины. Леонид Ильич от кого-то узнал о его заработке, позвонил Павлову, зарплату повысили.
Думаю, Брежнев тут не очень сам себе противоречил. Конечно, надо бы гнать Толю за его загулы, но уж если шеф решил его держать, то не за мелкие же деньги.
В отношении всяких просьб со стороны – мы его оберегали, все письма, записки отправляли в приемную ЦК. «Достать», «добыть» – таких просьб Леонид Ильич не любил даже от детей.
Если сослуживцы или родные просили меня, скажем, достать лекарства, тут я старался помочь – через личного врача Генерального.
Без всякой моей просьбы Леонид Ильич распорядился, и я получил в Крылатском трехкомнатную квартиру – 45 м2 на четверых.
В 1980 году умерла Светлана – жена, и он, Брежнев, помог организовать похороны.
Кажется, единственное, чего он не прощал, – сплетен о себе, о своей семье. Не любил болтунов.
До меня работал «прикрепленным» полковник Борис Михайлович Давыдов – зам. начальника личной охраны. Профессионал, всю жизнь прослужил в охране. Кто-то на него «накапал», грубо говоря, Брежнева на него науськали, и Генеральный, даже не поговорив с ним и далее, я думаю, толком не разобравшись, распорядился убрать полковника – «не пускать на объект». Я тогда был офицером личной охраны, подробностей не знаю, но думаю, что кто-то просто сыграл на слабых струнах Брежнева, донесли, что вот, мол, он за вашей спиной разносит слухи… Была ли какая-то правда в доносе – не знаю, но вызвать, выслушать человека, безусловно, было нужно.
Сплетен – не любил, а анекдоты о себе, более-менее мягкие, которые мог слышать только от родных и близких, переносил вполне нормально.
Жаль, что он не ушел вовремя и в памяти у всего мира остался как дряхлый маразматик, развалина. А ведь главными чертами этого человека были, как ни странно, лихость, бесшабашность, молодечество. При всем том, что, скажем, нянчился со своим избыточным весом, он даже в дряхлые годы сохранил характер отчаянного ухаря. Такое вот противоречие внешнего облика и внутреннего содержания.
Когда еще был в силе и по многу часов преследовал раненого зверя, в мороз, через снежные завалы, никогда не надевал рукавиц. Уже одряхлев, осенью, выходил часто в непогоду безо всякой верхней одежды.
– Леонид Ильич, – просит доктор, – наденьте куртку.
– Тебе надо? Надень.
Я прошу:
– Наденьте, холодно.
– Отстань.
Или в Крыму. Доктор уговаривает:
– Я вас прошу, не надо сегодня плавать – шторм, холод.
– Да ладно, не волнуйся.
Идет, плавает часа полтора.
Когда садился за руль машины, никаких ограничений скорости для него не существовало. Начальник охраны сидит сзади со мной, просит:
– Леонид Ильич, можно потише?
– Ты чего, боишься, что ли?
Со времен войны Брежнев водил машины разных марок и любил лихую езду. Однажды он домчался до Завидова, если точно, это 148 километров, за 50 минут!!
Когда началась и стала быстро прогрессировать болезнь, он начал терять и силу, и реакцию, но не отдавал себе в этом отчета, по-прежнему садился за руль, и для охраны наступали непередаваемые минуты – и у Рябенко, и у меня спины были мокрые. Один раз мчались после охоты из Завидова. Брежнев – за рулем.
– Что-то вправо меня тянет…
Водитель сидит рядом.
– Скорость, скорость снижайте и вправо, вправо!
Оказалось, лопнуло правое переднее колесо. Как он удержал на такой скорости руль – уму непостижимо.
В другой раз, в Крыму, проснулся, снотворное еще не выветрилось, он сел за руль иномарки, посадил рядом двух женщин-врачей и помчался из Нижней Ореанды в охотничье хозяйство. Это случилось без меня. Он еще не отошел ото сна, на крутом повороте не справился с управлением, но успел нажать на тормоз, и переднее колесо буквально повисло над обрывом.
Несколько раз ему (а значит, и нам) просто повезло.
С машинами иностранных марок – как с охотничьими ружьями: руководители держав знали пристрастия Генерального, и у него скопилось немало замечательных подарочных автомобилей. Английский черный «роллс-ройс», который он любил больше других (подарен был ему давно, еще до меня), два немецких голубых «мерседеса», японский «президент», «кадиллак», «линкольн».
– «Линкольн» – жидковат, – говорил он, что это обозначало, не знаю.
Это все были его личные машины. Чтобы они не застаивались, он старался соблюдать очередность езды на них.
Как человек военный, считал: садиться за руль служебной машины он не имеет права, она тебе не принадлежит. Хочешь сесть за руль – бери личный автомобиль. Когда была плохая погода – дождь или гололед, мы старались его обмануть и предлагали служебный «ЗИЛ», заранее зная, что он за руль не сядет. Он отказывался, стоял на своем и иногда назначал иномарку сам:
– В прошлый раз на какой машине ездил? На «линкольне»? Давай «мерседес».
Когда ехали на государственной машине, часто не давал водителю покоя, подгонял:
– Прибавь скорость! Ты же не молоко везешь.
За неделю до того, как наши генеральные секретари отправлялись в Крым на отдых (и при Брежневе, и при Горбачеве), в один-два вагона загружали ЗИЛы», «Волги» и отправляли заранее на юг. При Леониде Ильиче грузили еще и пару иномарок: обязательно черный «роллс-ройс» и еще что-нибудь в придачу. Иногда сразу после прилета в Симферопольский аэропорт он садился за руль.
Если за баранкой водитель, до Ялты мы доезжали минут за 40, до Нижней Ореанды – за 1 час 10 минут. Если же за руль садился Леонид Ильич, а с ним рядом – Виктория Петровна, он при ней особенно не лихачил, мы добирались до места за 1,5–2 часа.
Отдых на море
Вспоминаю ранние поездки в Крым. Замечательное время, наверное, так только кажется потому, что были молодыми.
Обычно Леонид Ильич приезжал на отдых в начале июля. В первые же дни местные комитетчики проводили совещания, докладывали нам оперативную обстановку: столько-то убийств, разбойных нападений, изнасилований, столько-то венерических заболеваний и т. д. Рекомендации всегда одни и те же: с местными ребятами не связываться, с девочками тоже лучше не общаться.
Но у нас в охране ребята подобрались тогда молодые, здоровые. Одевались хорошо. В свободное от дежурства время дружно шли вечером на танцы в соседний профсоюзный санаторий. Приглашали девочек на танец, знакомились; представлялись кто как – спасатели на лодках… военные строители… геодезисты… отдыхающие из санатория пограничников… Но девочки, глядя на компанию подтянутых, крепких парней, догадывались, что за люди. Они же видели, как дружно мы «смывались». В 23.00 все должны быть на месте. Я возвращаюсь, а меня уже мои младшие коллеги обгоняют бегом. За опоздание – неувольнение на неделю-две.
На следующий день собираемся, смеемся:
– Ты кем вчера был?
– Военным строителем. А ты?
– Лодочным спасателем…
И с отдыхающими, и с местными ребятами старались не связываться – ни с трезвыми, ни с пьяными. До нас, еще при Хрущеве, произошла приличная драка между его охраной и местными орлами. Разнимала милиция. Потом был скандал.
С нами тоже все-таки произошел один случай. Подрались… Собственно, драки как таковой особенно не было, к нам пристали, не отпускали, и мы довольно легко со всеми разобрались. Кто что заслужил, тот получил. Со стороны это, наверное, выглядело эффектно.
На другой же день крымское начальство донесло Генеральному: ваши ребята наших местных… Мы думали – попадет. А он улыбнулся – ничего… Мне кажется, в душе остался даже доволен, что постояли за себя.
Да, хорошее было время. Я еще не был заместителем начальника охраны. Был молод. Обязанностей не так много, в свободное от дежурства время иногда мог выпить вина и пива.
…Нет, не только в молодости было дело. Если бы в последние годы, на рубеже девяностого, я захотел бы, как прежде, посидеть на лавочке в Ливадии и, отключившись хоть на несколько минут от суеты сует, выпить стакан хорошего вина, я бы не сумел этого сделать – уже ни вина хорошего в розлив, ни пива, ничего не стало. Все исчезло, испарилось, и крымская земля теперь неизвестно чья, делят – поделить не могут…
У членов Политбюро было два отпуска: летом – месяц и зимой – полмесяца.
Довольно притягательным местом являлась Пицунда, где находилось несколько госдач, одна из них – 9-я – отводилась для Генерального. Горбачев отдыхал там практически каждую зиму – в январе. Хрущев бывал там и летом (Пицунда в итоге стала для него ловушкой). Именно для Хрущева в середине пятидесятых годов на Пицунде был построен оригинальный бассейн с морской водой. Нажмешь кнопку – и стены бассейна из легкого алюминия раздвигаются, открываются гладь моря и горизонт. Плывешь – и полное ощущение, что ты не в бассейне, а в открытом море. У кого слизали этот проект – не знаю, я много ездил, но нигде подобного не видел.
В конце пятидесятых годов точно такой же бассейн был построен, тоже для Хрущева, и в Нижней Ореанде.
Брежнев отдыхал на Пицунде, кажется, единственный раз – зимой. Любимым местом отдыха для него всегда оставался Крым – Нижняя Ореанда. Чудесный уголок неподалеку от Ялты. Вокруг – хвойные и лиственные деревья: сосны, кедры, пихты, дубы, платаны, вязы, клены. Розы, вечнозеленые кустарники. Даже в тридцатиградусную жару здесь было прохладно – оазис, благоухание.
Двухэтажный особняк довольно скромен, особенно в сравнении с виллами будущих партийных, советских, военных руководителей, провозгласивших демократию и перестройку. На первом этаже – три комнаты и маленький детский бассейн, на втором – спальня супругов, рабочий кабинет, столовая и гостиная. На север и юг выходили две большие лоджии, на первой хозяева завтракали, на второй – обедали.
Особняк соединялся переходом со служебным домом, там находились комнаты начальника охраны, двух его заместителей, дежурное помещение и кухня, откуда доставлялась на тележке пища в главный дом.
Остальная охрана жила довольно далеко – наверху, отдельно. У ребят была своя столовая, кинозал, спортивная площадка, для них организовывались экскурсии в Ялту, Севастополь.
Тем не менее жизнь охраны протекала довольно однообразно, с годами у всех накапливалась усталость. Некоторые приезжали заранее, а поскольку Генеральный еще иногда продлевал себе отдых, командировка у многих офицеров затягивалась иногда до двух месяцев.
На берегу моря стояло еще два домика. В одном из них жил помощник Леонида Ильича, которого он брал на юг для работы. В другом размещалась береговая охрана, наблюдавшая за акваторией моря, здесь же, рядом, находилась лодочная станция – с водными лыжами, спасательными кругами, аквалангами. Дежурили опытные аквалангисты.
Дни Генерального планировались просто и были похожи один на другой. Довольно рано, в 7–7.30, вставал, до 9 плавал. Завтракал. Зарядкой после семидесяти лет почти не занимался, чуть-чуть разомнется, и все. Впрочем, врач-инструктор по физкультуре иногда неожиданно появлялся.
Днем регулярно делал массаж.
С 16 до 18 ежедневно приглашал к себе для работы помощника.
Купался Леонид Ильич часто и подолгу. Случались заплывы до двух с половиной часов. Мы, охрана, замерзали в воде, а он все плавал. Доктор Родионов буквально умолял подшефного выйти из воды, просьба вызывала обратное действие:
– Что, замерз? Уходи.
– Я поплыву.
Родионов возвращался на берег, а мы продолжали оставаться в воде… Опасений, что Генерального схватит судорога, не было: я с напарником плыл рядом, в десяти – пятнадцати метрах от нас двигалась весельная лодка с двумя сотрудниками охраны, сзади, в полусотне метров, шел катер с аквалангистами и врачом-реаниматором.
Мы настолько замерзали в море, что, ступив на пирс, тут же просили у доктора спирт. Леонида Ильича била дрожь, и он шел либо под горячий душ, либо в бассейн, где вода была значительно теплее.
Всякие уговоры в море – холодно, волна, шторм и т. д., на него не действовали, он входил в азарт. Еще как-то можно было вести разговор по дороге на пляж: «Может быть, лучше сегодня поплавать в бассейне?» Он соглашался, что море штормит, но настаивал: «Пойдем, там видно будет», и, конечно, лез в воду практически в любую погоду.
Обычно он доплывал до конца зоны, до фарватера – это метров 800 от берега, и затем плыл вдоль побережья. Устанет – подплывет к лодке, уцепится за трап – отдохнет. Или схватится за лодку: «Ну-ка, ребята, покажите силушку», и они тянут его по воде. Иногда держится – против течения, а обратно – сам.
Однажды во время утреннего заплыва сильное течение и ветер погнали пловца от берега. Я предложил Леониду Ильичу залезть в лодку или взяться за трап, чтобы ребята подтянули его к берегу. Он отказался, нас уносило все дальше, уже пора было двигаться к завтраку, а мы с Брежневым все барахтались в воде, борясь с течением, он беспомощно болтался, как пробка. В итоге все же взялся за трап, ребята стали грести к берегу, оставалось где-то метров 400, когда он отцепился и вновь попытался плыть сам. Течение подхватило и понесло его теперь уже вдоль берега. Мы миновали наш основной пирс, затем женский пирс, лодочную станцию и, наконец, всю территорию госдачи. Нас тащило все дальше – миновали санаторий «Пограничник», попали уже в зону профсоюзного санатория… Брежнев упорствовал, отказывался от всяческой моей помощи и советов. На руках у меня были морские, водонепроницаемые часы, я поглядывал на них.
Лишь в полдесятого нам с трудом удалось выбраться на берег, мы пешком через чужие пляжи двинулись обратно. Отдыхающие двух санаториев с огромным удивлением наблюдали, как по их берегу в окружении охраны вышагивает в одних плавках Генеральный секретарь ЦК КПСС.
Упрямый Леонид Ильич и после этого случая считал, что не ветер и не течение виной, а просто слишком далеко заплыли в море и на возвращение не хватило сил. После этого он придумал маневр: брался за трап, лодка утаскивала далеко в море, и там он, чуть не в километре, плыл вдоль берега.
Это произошло в конце первой половины семидесятых годов – перед начавшейся потом болезнью, он был очень крепок и полон сил. Но и потом, даже в год смерти, он в последний свой отпуск заплывал также далеко, В 1980 году прервал отдых, полетел в Москву, выступил на открытии Олимпиады. Говорил невнятно, но был еще крепок. Потом снова, сразу же, вернулся в Крым, опять – в море.
Да, плавал также далеко и подолгу, но уже – медленно. Он задыхался, волны накрывали его, я – в ластах, брал его под мышки, поднимал над водой, волны снова и снова накрывали нас обоих. Рядом плыли сотрудники личной охраны. Несколько раз в воде ему было плохо, он заваливался на бок, терял ориентацию и, случалось, полностью отключался. Такое бывало даже в бассейне. Мы соорудили сети, как гамак, проталкивали под него и, когда ему становилось плохо, поднимали в лодку.
Однажды была очень крутая волна, шторм – балла четыре, не меньше, и он полез в море. Это было подводное плавание, потому что волны накрывали его постоянно. Так он плавал минут пятнадцать. Мы с напарником, в ластах, практически стояли в воде и старались держать его под мышками над волнами. Неприятные минуты, страшные даже. А дальше – зрелище еще страшнее. Волны набрасывались на пирс и с упругой силой тащились обратно. Мы с трудом ухватились за поручни, закрыли собой железную лестницу, одной рукой ухватились за нее, а другой – за Генерального и так, в волнах, брызгах и пене, с огромным трудом вытащили его. Смертельный трюк – без преувеличения.
Происходило это за год до смерти.
Никогда, до последних дней, Брежневу не создавали на отдыхе больничных условий, как, например, это случилось позже, в сентябре 1983 года, когда на эту же самую крымскую «первую дачу» Андропову привезли «искусственные почки»; комнаты, переоборудованные и для него, и для медицинского персонала, превратились в больничные палаты.
У Леонида Ильича за все годы пребывания на отдыхе считанные разы заболевали зубы, вызывали врача – вот и все.
На рубеже семидесятилетия ему, правда, пришлось перенести довольно тяжелую операцию, кажется, связано было еще с фронтовым ранением. Врачи просили его лечь заранее, чтобы подготовиться. Он же лег буквально накануне, едва ли не за день до операции. И выписался также раньше срока.
Врачей он вообще не жаловал.
Мне кажется, его могучий организм был запрограммирован жить лет до девяноста. Сгубили его снотворные, и окончательно добила авария в Ташкенте…
Одна из главных достопримечательностей дачной территории – грот, уютный и живописный. К естественной его красоте добавилось творение человеческих рук: привозная земля, кактусы, агавы, валуны среди мелких морских камней. Три помещения: маленькая кухня – здесь заваривали чай или кофе; комната отдыха, также небольшая – две кровати, тумбочки, стулья, зеркала; зал для переговоров. Здесь каждый год в дни отдыха Леонид Ильич встречался с главами государств Восточной Европы. Некоторые из них нередко отдыхали в Крыму, пользуясь случаем, наносили визиты, но в основном программа составлялась заранее, задолго до отдыха Леонида Ильича. Даже когда он уставал или чувствовал себя неважно, на вопрос: «Может, не надо?» всегда отвечал: «Ну как же, товарищи просят – надо».
Ежегодные ритуальные, обрядовые встречи.
Машины подъезжали к южной стороне дачи, Леонид Ильич вместе с Викторией Петровной выходили встречать высоких гостей. Каждый раз, прежде чем пригласить в грот, хозяин показывал владения, приводил к бассейну, сам нажимал на кнопку – стены раздвигались, и открывался вид на море. До купания дело ни разу не доходило.
Каждый гость прибывал с помощником и представителем своего ЦК партии, видимо, из отдела или сектора социалистических стран. Не думаю, что здесь решались какие-то важные вопросы, особенно в последние годы жизни Брежнева, просто поддерживались традиции. Для многих приглашенных, правда, все это имело немалое значение, они, особенно Хонеккер, да и другие, вставшие недавно у власти, старались держаться поближе к советскому вождю. Хонеккер громче всех аплодировал Брежневу; как только вся компания собиралась фотографироваться, он первым оказывался возле нашего лидера: очень хотел, чтобы в его стране все знали, как он близок к вождю могущественной державы.
В грот шли уже где-то после 17.00. Жара стихала, с моря дул приятный ветерок. Мы, охрана, вместе с охраной гостей располагались у бассейна – метрах в двадцати от грота. Разговор не слышали, только отдельные возгласы, смех. Чтобы не сидеть, как утюги, разговаривали друг с другом. «Как там у вас в Болгарии рыба – ловится, не ловится? Как погода?», «Какие цены в Чехословакии, как с продуктами, с товарами?»
Профессиональных разговоров не вели, это все обсуждалось на уровне начальников управлений в Москве. Тем более не касались обсуждения охраняемых.
На столе у Брежнева находилась радиокнопка, он нажимал ее – я получал сигнал приема, входил. Когда шеф был занят разговором, я молча стоял за его спиной. Вижу, что освободился, наклоняюсь:
– Слушаю, Леонид Ильич.
– Принесите нам кофе. Или:
– Чай. Или:
– Пусть принесут по рюмочке коньяку.
Иногда, очень редко, заказывали бутылку, но уже не через меня – через официантов.
После грота Леонид Ильич и Виктория Петровна приглашали гостей на ужин. Естественно, приглашение принимали с удовольствием все… кроме Чаушеску.
– Спасибо. Мне тут рядом домой.
Конечно, рядом, меньше часа лету на своем самолете. Но ведь и другим ненамного дальше. Дело было в натянутых отношениях. На совещаниях Политического Консультативного Комитета все лидеры стран – участниц Варшавского Договора выступают по полчаса, а Чаушеску полтора, даже два часа, дольше, чем Брежнев. Уже все выходят из зала, а он еще говорит. Иногда бывал непредсказуем, старался подчеркнуть свою самостоятельность, показать себя лидером стран восточного блока. Это вызывало у остальных улыбку, относились к нему без злобы, как к шалуну мальчишке, тем не менее жаловались Брежневу.
Прогуливаются лидеры по аллее, кто-то обязательно начнет этот разговор, а кто-то поддержит:
– Опять Николай не то сказал… не туда полез…
– Опять он не то сделал…
У Брежнева голос густой, я иду сзади, слышу:
– Ну, я с ним поговорю.
Дважды Брежнев отчитывал Чаушеску очень строго. Это происходило в Сосновке, под Ялтой. Там тоже собирались лидеры соцстран. На земле расстилали брезент, на него – ковровые дорожки. Столы, стулья. Однажды хлынул дождь, и все убежали в деревянный домик Сталина – по соседству. Случилось это где-то в начале семидесятых годов, после чего быстро соорудили дворец в виде шатра с прочной крышей и раздвижными стенами, он и название получил – шатер. Удобно: солнце – стены раздвинули, непогода – сдвинули. Кухня, туалеты, кабинет для Брежнева, зал с синхронным переводом. В этом шатре Леонид Ильич дважды уединялся с Чаушеску, и я слышал его громкий голос, он почти кричал… У Чаушеску голос был тихий, и что он там отвечал – не знаю. Конечно, Генеральный отчитывал строптивого гостя не от своего имени, а от имени всех. И потом, снова объединившись где-нибудь в аллее, он полушутя передавал все, что высказал ‘Николаю» и как тот реагировал.
Чаушеску прилетал чуть не на полдня. Но со своими поварами, продуктами, даже со своей водой.
На ужин он так ни разу и не остался.
Многие хорошо знали русский язык. Но, скажем, Живков, если разговор шел серьезный, предпочитал вести его через переводчика. Да, собственно, все приезжали с переводчиками, кроме Гусака, который знал русский прекрасно. Интеллигентный, мягкий, этот человек располагал к себе, он нравился и Виктории Петровне.
Кроме чисто человеческих симпатий к чехословацкому лидеру Брежнев, я не исключаю, чувствовал и свою ответственность за его судьбу. Все-таки кровавая акция 1968 года висела на нашем Генсеке.
Все долгие годы своего правления Гусак оставался для Брежнева самым близким и верным товарищем из глав всех государств Восточной Европы. И Брежнев оставался ему верен, причем в ситуациях критических, о которых теперь мало кто знает.
Где-то в начале второй половины семидесятых годов в катастрофе погибла жена Гусака, он очень тяжело воспринял случившееся. Из Праги в Москву стала приходить информация, что Густав Гусак запил… Брежнев, как он сам потом рассказывал, несколько раз беседовал с чехословацким лидером, тот давал слово взять себя в руки. Однако время шло, а тревожная информация из Праги продолжала поступать.
В конце концов Леонид Ильич вынужден был отправиться в Прагу, присовокупив поездку к какой-то дате. Год шел 1978-й. Как раз накануне этой поездки, за день-два, Леонид Ильич во время охоты дважды прицелом винтовки ранил самого себя, тяжело, в кровь, разбив сначала бровь, а затем и переносицу. И хотя ему замазывали раны, как я уже говорил, по нескольку раз в день, все равно видок у него был еще тот.
По дороге в самолете Брежнев рассказывал сопровождавшим его лицам о состоянии Гусака. Слов не помню, но помню интонацию – сочувствие, желание помочь. Такого, что вот, мол, он нас всех подводит, – не было, нет.
В аэропорту Брежнева встречал, как и положено, Густав Гусак со свитой. Мне бросилось в глаза, что он постарел, как-то сгорбился, лицо потускнело. Очки с сильными диоптриями придавали ему беспомощный вид. Он и прежде видел плохо, но тут еще стал ходить как-то неуверенно, мелкими шажками, медленно и осторожно, опустив голову, глядя себе под ноги.
Внешне все было как всегда. При подъезде к резиденции в Пражском граде советскую делегацию приветствовало много народа. Войска, почетный караул. После торжеств во дворце Пражского града все вместе вошли в резиденцию, где в специальной комнате советская делегация во главе с Генеральным секретарем сфотографировалась вместе с Гусаком. Справа – представительские апартаменты, слева – личные апартаменты Брежнева и его ближайшего окружения. Прежде всегда хозяин с высоким гостем удалялись в одну из представительских комнат, беседовали, пили чай или кофе, могли выпить и что-нибудь покрепче, и через полчаса хозяин провожал гостя в его комнаты, чтобы тот отдохнул с дороги. Они прощались до встречи.
На этот раз беседа длилась всего несколько минут, Брежнев очень быстро распрощался с Гусаком. Оба знали о предстоящей неизбежной беседе на неприятнейшую тему, оба чувствовали себя скованно, неловко. Внешне, для посторонних, это было незаметно – те же поцелуи, объятия, но я, как человек опытный, хорошо знавший их обоих, видел всю искусственность короткой беседы, они даже не смотрели друг другу в глаза. Предстоящая личная беседа тяготила обоих.
На второй день по программе пребывания наша делегация должна была посетить пражское метро. Утро было солнечное, теплое, настроение у всех приподнятое.
Мы подъехали на автомашинах, Гусак ждал нас на обозначенном месте у входа в метро. Когда он сделал навстречу нам несколько шагов, мы все увидели, что он совершенно пьян. Его «прикрепленный», мы знакомы были лет семь-восемь, шепнул мне:
– Володя, подстрахуйте, пожалуйста.
Леонид Ильич расцеловался с Гусаком и сам же, не без труда, удержал его в вертикальном положении. Надо отдать должное Брежневу, он совершенно не подал виду, как обычно, при встрече шутил, разговаривал с Гусаком, интересовался предстоящим осмотром метро.
…Представьте себе двух целующихся, обнимающихся коммунистических лидеров. Один – совершенно пьян, у другого – разбиты бровь и переносица. Были ли рядом телевизионные операторы и фотокорреспонденты – не помню, кажется, поблизости не было. Не помню также, были ли потом снимки в газетах, если публиковали, то какие-нибудь виды издалека или под определенным невинным ракурсом.
По программе нужно было проехать в метро одну остановку. Когда стали спускаться по ступенькам, Гусак едва не упал, и Брежнев попросил, чтобы мы помогли ему. Я пошел рядом с Гусаком, незаметно придерживая его за руку с одной стороны, с другой вел своего шефа мой знакомый чех. Я чувствовал, как моему коллеге неудобно смотреть нам в глаза, улучив момент он виновато-оправдательно шепнул мне:
– Беда у нас. После той семейной трагедии никак не возьмет себя в руки.
– Да, я вас понимаю, – сочувственно ответил я.
В тот же день после обеда лидеры встретились для личной беседы, которая обоих смущала, один на один. Гусак уже привел себя в порядок и приехал в Пражский град, как всегда, без переводчика.
Они уединились надолго. Часа на два, не меньше. Вышли наконец – оба раскованные, улыбающиеся, словно и не было никогда напряженности. Только тот, кто хорошо знал чехословацкого лидера, мог заметить, что он как-то излишне подобострастен, благодарственно суетлив, рассыпается в мелкой любезности. Он быстро попрощался и с сосредоточенным лицом двинулся к выходу. Леонид Ильич лее, направляясь к себе, сказал в коридоре:
– Беседа удалась, разговор был теплый, благожелательный.
Разговор ли повлиял или Гусак сам взял себя в руки, но больше ни одного сигнала из Праги не было. Несколько лет спустя я спросил своего знакомого чехословацкого коллегу:
– Как дела?
– Завязал. Только пиво.
Настало время и мне смущаться перед чехословацким коллегой. Мы как бы поменялись местами. Густав Гусак выздоровел, зато Леонид Ильич стал окончательно разваливаться.
В 1981 году Брежнев выступал на XVI съезде Компартии Чехословакии. Всех волновала тогда тревожная ситуация в Польше. Генеральный секретарь перепутал листки и вместо рассказа о положении в Польше стал повторять уже прочитанные строки. С ответной речью выступил Гусак. Говорил на родном языке, но закончил так: «А сейчас, Леонид Ильич, я скажу по-русски. Мы очень рады, что вы приехали на наш съезд. Большое вам спасибо!» Брежнев вдруг повернулся к переводчику и громко, с обидой спросил:
– А ты почему мне не переводишь?
В зале наступила гробовая тишина.
Через год, летом 1982-го, Брежнев и Гусак встретились последний раз. Леониду Ильичу оставалось жить несколько месяцев. В Москве, в Грановитой палате, Гусак поднялся и обратился с приветственным тостом к своему старшему собрату по партии. Неожиданно на полуслове Брежнев обратился к сидевшему рядом Тихонову: «Николай, ты почему не закусываешь?» Спросил громко, на весь зал. Гусак растерянно оборвал пламенный тост, старый старичок Тихонов съежился, да и все сидящие удивились неожиданной бесцеремонности Генсека. Гусак молча стоял, а Брежнев, словно они были только вдвоем с Тихоновым, зычно продолжал: «Это мне есть нельзя. А ты давай, Николай… Вот хоть семгу возьми».
Он уже и тогда, когда в 1978-м приезжал наставлять чехословацкого лидера, был плох, это замечали если не все, то многие. В посольство СССР в Чехословакии пришло немало писем, подобных этому: «Как вам не стыдно иметь такого руководителя? Вы выглядите жестокими людьми, эксплуатируя больного человека».
В задачу всех посольств входило собирать отклики из страны, где с визитом был Генеральный секретарь. Подобные письма, конечно, никуда из стен посольства не выходили, а в Москву отправляли другие отзывы – восторженные, пафосные. Организовать такую почту – дело нехитрое.
Зарубежные поездки
Чем дальше отступает то время, тем больше мне кажется: если бы Брежнев ушел с поста в середине семидесятых, он сохранил бы о себе хорошую память. Ведь все дурное, трагикомическое было связано с ним в последние шесть-семь лет его правления. Может быть, я наивен или субъективен. Может быть. Тем не менее ведь это же было при нём: введена пятидневная рабочая неделя, установлены пенсионные возрасты для мужчин и женщин (соответственно 60 и 55 лет), колхозникам стали платить деньги и так же, как и горожанам, назначили пенсии. Повышались зарплаты, снижались цены. Теперь говорят, что, мол, за счет расходов национальных богатств – золота, нефти, газа. Но ведь и освоение этих богатств в районах Сибири и Дальнего Востока широко началось именно во времена Брежнева – Уренгой, Надым, Сургут. В Европу потянулись трубопроводы. А ВАЗ, а КамАЗ, другие гиганты – тоже при нем. А космос, а мощные вооруженные силы, а ядерный потенциал? Мы были действительно сверхдержавой, с нами считались все.
В международных делах – договоры о противоракетной обороне (ОСВ-1, ОСВ-2), укрепление связей с ФРГ, Францией, США.
Конечно, после событий в Праге в августе 1968 года репутация страны оказалась крепко подмочена. Но уже в начале семидесятых снова наступила разрядка международной напряженности, главу советской державы снова приветствовали в разных странах мира, в том числе в США.
1969–1975 годы характеризовались самой активной внешнеполитической деятельностью Брежнева – поездки по стране, по Европе, визиты в Индию и США, встречи с главами государств, деловыми людьми, интеллигенцией. В этот период началось потепление в наших отношениях с Соединенными Штатами и странами, входящими в блок НАТО. Думаю, что это было концом «холодной войны». Встречи и беседы в верхах – с президентами США и главами европейских стран – показали, что можно вести мирный диалог, не бряцая оружием. В ту пору и были заложены основы для заключения в 1975 году мирного Хельсинкского соглашения по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Больше всего в этот период мне запомнилась моя первая поездка в США в качестве заместителя начальника личной охраны Брежнева. Шел июнь 1973 года. Я впервые попал на тот континент, было интересно буквально все.
Как только мы приземлились и вышли из самолета, хлынул мощный ливень. Мы промокли до нитки. А через пять минут снова засверкало солнце, и сразу стало жарко и душно, как в парной. Температура была больше тридцати градусов. Как будто нас специально окатили, чтобы смыть все то лишнее, что мы могли привезти из Москвы.
На лужайке у Белого дома состоялась торжественная встреча советского лидера, звучали гимны двух стран, и я вместе с волнением испытывал и чувство гордости за свою страну. После переговоров Брежнева с Никсоном кавалькада машин двинулась в Кемп-Дэвид – загородную резиденцию американского президента. Безупречно ровная, как стол, дорога, аккуратные городки и поселки, леса, луга, поля – как на рекламном макете. Первое, по сути, знакомство с Америкой, первое, невольное сравнение с нашей страной – увы, далеко не в нашу пользу.
Кемп-Дэвид удивил меня довольно простым снаружи видом – обычные темно-зеленого цвета домики, обитые досками. Внутри, однако, они оказались очень уютными, располагали к отдыху. Просто, но со вкусом. У каждого домика стояли электрокары, можно было моментально добраться до любой точки территории.
Охраняли резиденцию бравые морские пехотинцы, жившие тут же. Наша охрана разместилась по соседству с ними. Очень интересно было наблюдать за американскими коллегами – и как несут службу, и как отдыхают, и как питаются. И опять – сравнение не в нашу пользу. Мясные стейки, соки, воды, витамины. Наше питание от их – как небо от земли.
По традиции их секретная служба несла охрану и нашего Генерального секретаря.
После Кемп-Дэвида мы снова вернулись в Вашингтон, здесь у Брежнева состоялись встречи с бизнесменами, другой почтенной публикой. Очень много разговоров велось вокруг так называемого еврейского вопроса. Тема в ту пору была очень болезненной, и, видимо, помощники нашего Генерального заранее хорошо потрудились, потому что он рассказывал о положении евреев в СССР очень четко и ни одна реплика не застала его врасплох.
В. конце визита Никсон пригласил Брежнева к себе на ранчо в Сан-Клементе – местечко неподалеку от Лос-Анджелеса, на берегу Тихого океана. 23 июня 1973 года на машине «шевролетт» с американским водителем я возвратился в Кемп-Дэвид, чтобы забрать вещи Леонида Ильича, оставшиеся там после его переговоров с американским президентом. Еще раз любуясь сельскими просторами, провинциальной благоустроенностью, я думал о том, что вот земля и природа у них те же, что и у нас, и когда же мы наконец заживем так же безбедно, как люди Нового Света. Забрав вещи, мы примчались обратно в Вашингтон, и тут же с военного аэродрома я вылетел в Калифорнию. Следом, минут через сорок – сорок пять, на президентском самолете должны были вместе вылететь Никсон и Брежнев.
В аэропорту Калифорнии вместе с американскими ребятами мы перегрузили вещи в вертолет и вылетели на ранчо. Вертолет был большой, мощный, при взлете задняя стена его поднялась, открылся земной и небесный обзор, как будто мы летели на ковре-самолете. Приземлились на лужок возле ранчо Никсона.
Вскоре прибыли американский президент и наш Генеральный секретарь. Вышли из вертолета смеющиеся, довольные. Между ними сложились, видимо, дружелюбные личные отношения. Через короткое время в одной из комнат президентской дачи состоялась их беседа, которая затянулась до полуночи. За это время я ознакомился с территорией. Личные апартаменты Никсона впечатления не произвели, вполне скромные – одноэтажный дом с внутренним двориком.
В этот вечер произошло редкостное событие. Охрана Президента США дала прием в честь… сотрудников КГБ. Встреча проходила в ресторане в непринужденной, веселой обстановке. Наверное, за всю историю наших отношений ни до, ни после не случалось подобных дружеских застолий двух величайших секретных служб.
Сам я на встрече не был, знаю о ней по рассказам. Меня, видимо, как самого молодого, оставили в этот вечер на дежурстве. Ближе к ночи Леонид Ильич вернулся после беседы и ужина с Никсоном и, закончив вечерний туалет, лег спать. Я остался дежурить у дверей его спальни. Покои американского президента находились почти напротив, там тоже дежурили, прохаживаясь по коридору, два американских охранника. Ночью, часа в два-три, дверь спальни Никсона распахнулась и на пороге появилась жена Президента США – Патриция. Американская охрана где-то прогуливалась. Патриция – в длинной ночной рубашке, босиком – двинулась в сторону спальни Леонида Ильича. Руки ее были вытянуты вперед, словно она шла в темноте и боялась на что-то натолкнуться. Я шагнул навстречу и увидел, что взгляд ее устремлен куда-то неопределенно вверх. Очевидно, что она находилась в полной прострации. На мои попытки заговорить она не отвечала и двигалась вперед, прямо на меня, не собираясь обходить. Что-то надо было срочно делать. Что? Я остановил ее, какое-то время мы стояли друг против друга. Развернуть ее обратно я не смог.
…Я поднял Патрицию на руки и понес в ее спальню.
Там горел неяркий свет, видимо, ночной светильник, прямо посреди комнаты стояла кровать – что-то вроде топчана. Одеяло валялось на полу. Самого Никсона не было, видимо, он ночевал в своей комнате. Я подошел к кровати слева, чтобы удобно уложить жену президента – головой на подушку. Она произнесла что-то невнятное, я очень осторожно положил ее, придвинул подушку под голову, поднял с полу одеяло, накрыл ее, все это время ласково уговаривая заснуть. И она действительно закрыла глаза и погрузилась в глубокий сон. Я на цыпочках вышел.
Американская охрана уже бежала ко мне по коридору, я махнул им рукой: «О’кей!» Они остановились, засмеялись и медленно двинулись к ее дверям.
Оставшиеся до утра часы прошли для меня в большой тревоге. Все же не каждую ночь мне приходилось носить на руках жен американских президентов. А если все снова повторится?
Утром на площадке перед ранчо состоялась церемония подписания совместного советско-американского коммюнике. Затем хозяева дали обед – на открытом воздухе, практически на берегу океана, в окружении цветущих деревьев и кустарников. Среди приглашенных были видные политические и государственные деятели США, деловые люди, актеры из Голливуда и Лос-Анджелеса.
Во время этого приема мы с Рябенко стояли в сторонке, начальнику личной охраны я, конечно, рассказал о своих ночных приключениях. И теперь я обратил его внимание на то, что Патриция, разговаривая с дочерью, все время смотрит в нашу сторону. У меня было полное ощущение, что ночное происшествие она восприняла как сон… Там, во сне, она видела кого-то, кто очень похож на меня… Рябенко согласился: наверное.
В этот день мы улетели в Москву.
Брежнев пригласил американского президента к себе, на крымскую дачу. На следующий год Ричард Никсон посетил и Москву, и Крым.
Тогда в Кемп-Дэвиде Леониду Ильичу и нам, его охране, подарили куртки с президентским гербом на груди. Я берегу подарок как знак дорогой памяти о том первом, действительно дружественном визите в США.
В 1974 году во Владивостоке состоялась встреча в верхах между Генеральным секретарем Брежневым и новым Президентом США Джералдом Фордом. Не хотелось ударить в грязь лицом перед очередным президентом великой страны, и место встречи тщательно готовили. Это было уютное местечко, где обычно отдыхали руководители Приморского крайкома партии. Все коттеджи приводили в божеский вид – белили, красили, ремонтировали, перестраивали, заново асфальтировали дорожки. Работы велись под непосредственным руководством первого секретаря крайкома партии. Брежнев прибыл во Владивосток загодя, чтобы лично убедиться в надлежащей готовности «объекта», он сам осмотрел все коттеджи, пищеблоки, другие подсобные помещения. Особое внимание уделил особняку, в котором должны были состояться переговоры.
В день прилета Форда в аэропорту собралась масса корреспондентов. Погода стояла солнечная, хотя и довольно морозная, шел ноябрь месяц. Брежнев встречал высокого гостя в зимнем пальто и в шапке «пирожок» из черного каракуля. Форд вышел из самолета довольно легко одетый, в летнем пальто. Очень скоро ему пришлось надеть русскую ондатровую шапку, которой он, судя по всему, никогда прежде не носил. После взаимных приветствий и протокольных процедур кавалькада машин двинулась на железнодорожную станцию, откуда вся процессия на поезде отправилась во Владивосток. Там гостей приветствовало множество народа.
Переговоры касались важнейшей темы – как уменьшить военное противостояние между двумя сверхдержавами, проходили они трудно. Леонид Ильич находился в напряжении, нервничал. Кажется, в итоге все закончилось более-менее нормально. По нашей же части случилась маленькая осечка. Неожиданно выпал снег, который шел не переставая. Солдат-водитель, очищавший аэродром от снега, задремал за рулем и зацепил крыло президентского самолета. Пришлось американскому президенту подзадержаться с отлетом.
Поломку устранили. Леонид Ильич выехал в аэропорт провожать высокого гостя. После прощания Форд в накинутой на плечи волчьей шубе начал подниматься в самолет. Брежнев, смеясь, крикнул ему вслед, что, мол, шуба у него хороша, в ней на охоту ходить здорово. Американскому президенту на ходу перевели. Он остановился на трапе, развернулся, снял с себя шубу и вручил ее Брежневу. Тут же легко взбежал по трапу, помахал на прощание рукой и скрылся в самолете. Все случилось быстро, неожиданно, Генеральный секретарь растерялся, с некоторым опозданием проговорил:
– Ну что же, спасибо!..
Несколько лет спустя, в июне 1979 года, в Вене состоялась встреча с очередным Президентом США – Джимми Картером.
Это были три встречи – трех разных Брежневых. Первого – молодого, энергичного, обаятельного. Последнего – и всего-то лишь шесть лет ровно минуло от июня 1973-го до июня 1979-го – больного, склеротичного старца. Встреча же с Фордом между этими двумя – как бы переходная. Именно в этот раз – осенью 1974-го – выявились первые серьезные признаки болезни. После проводов американской делегации Леонид Ильич из Владивостока отправился с визитом в Монголию. В поезде произошло нарушение мозгового кровообращения, Брежнев впал в невменяемое состояние. Видели его в таком виде охрана и врачи, а узнала о случившемся – вся советская делегация.
Врачи под руководством Евгения Чазова поставили больного на ноги.
Почти сразу после Монголии Брежнев посетил Францию, 1974 год завершился успешно, но отсчет болезни уже начался – зловещий метроном включился…
Ноябрь 1974-го стал переходным не только в состоянии здоровья лидера, но и его духовном распаде, явившемся частично, может быть, как следствие болезни. С этого времени у него обнаруживается слабость к подаркам (не только к иностранным машинам или дорогим охотничьим ружьям, но и к красивым безделушкам) и наградам.
Именно с середины семидесятых годов в стране, начиная с верховных властей, начнут процветать взяточничество, воровство, бездуховность.
Красивая волчья шуба с плеча американского президента стала как бы символом этого переходного времени.
Упомянутая встреча уже больного Брежнева с Картером в Вене в июне 1979 года была посвящена переговорам по ОСВ-2. С главами двух государств прибыло много сопровождающих лиц. Австрийская служба безопасности работала с большим напряжением, хозяева выделили свою охрану в помощь обеим делегациям.
По программе встреча лидеров предполагалась сначала в посольстве США, а затем в нашем посольстве. Тут произошла история непонятная и неприятная во взаимоотношениях служб безопасности – американской, австрийской и нашей. Нашу охрану в американское посольство не пустили. Я провел своего коллегу не без труда, нелегально… Но главное – американцы не пустили в посольство представителей австрийской службы безопасности. Они захлопнули перед хозяевами дверь, выставив им барственно за порог несколько бутылок кока-колы. Конечно, австрийская охрана от подачки отказалась, они покинули дом и остались дежурить неподалеку в машинах.
Остался неприятный осадок. Ведь хозяева очень старались, много помогали и американцам, и нам.
Когда настал черед нашей стороны, в советское посольство пустили всех, кто желал и имел право прийти. Прием был безупречным – и радушие, и хлебосольство.
Апогей встречи – подписание документов по ОСВ-2. В огромном зале расположились делегации США и СССР, а на подиуме – американский президент и Генеральный секретарь ЦК КПСС. Я внимательно и с любопытством наблюдал за Картером. С одной стороны, в его походке, во всех движениях чувствовалось огромное достоинство главы великого государства, с другой – подчеркнутое уважение к лидеру советской страны, что проявлялось дайке в мелочах. Он пропустил Брежнева впереди себя на подиум, сел в кресло лишь вслед за ним, выступая после подписания документа об ограничении стратегических вооружений, вполоборота смотрел на Брежнева. И даже целовался с ним подчеркнуто долго. Я любовался этим человеком, обладающим огромной внутренней культурой. Он не думал в те часы об амбициях руководителя большой, богатой страны, о том, кто и как оценит его поведение. Всем своим видом он подчеркивал главное – значительность момента, который должен войти в историю.
В дни пребывания Леонид Ильич проехал по улицам Вены, посмотрел город. Стареющий лидер решил, что в Вене, как в Москве, перекроют улицы и повсюду будет зеленый свет. Но оказалось, что в Вене свои правила дорожного движения, свой жизненный распорядок – при поездке по городу главы какого бы то ни было государства улицы не освобождаются от городского транспорта, никто никого не тормозит и не загоняет в переулки. Проехав несколько кварталов и простояв у каждого светофора немало времени, мы решили отказаться от затеи и вернуться в резиденцию. Брежнев покорно согласился.
Опять невольное сравнение с прежним Брежневым, шестилетней давности. В мае 1973 года он посетил ФРГ. Канцлер Вилли Брандт подарил ему «мерседес». Машину пригнали к гостинице, Леонид Ильич вышел на улицу. Немецкие специалисты стали объяснять ему, где какие ручки, кнопки, переключатели, как трогать машину с места, как останавливаться. Брежнев внимательно слушал, сел в машину и вдруг резко дал газ и… скрылся ото всех. Ни охраны нашей с ним, никого из местной службы безопасности – укатил один! Какой-то полицейский чин кинулся к телефону. По дороге, на подъеме, полиция выставила поперек две машины и перекрыла путь. Брежнев вынужден был остановиться, развернулся и приехал назад в гостиницу. Вышел из «мерседеса», засмеялся:
– Ну, как я от вас всех сбежал? Испугались? Не бойтесь, все в порядке.
Эта лихая поездка и теперь – чинная, по Вене…
Судьба распорядилась так, что несколько лет спустя я снова оказался в ФРГ, уже с Горбачевым, и снова советскую делегацию разместили в этой же гостинице – в живописном районе, на горе, над рекой Рейн. Тогда, в пору Брежнева, гостиница напоминала старый замок, внутренние покои также были пропитаны стариной, запомнился ни с чем не сравнимый, особый колорит. Теперь же я не узнал ее, гостиница оказалась перестроена практически заново – другой, современный внешний вид, шикарнейшие внутренние апартаменты: огромные лестницы и холлы, залы для приемов множества гостей, первоклассные огромные номера. Великолепная отделка стен и потолка, чудные светильники и люстры, много стекла и света, даже дверные ручки привлекали глаз.
Замечательная гостиница, но – таких замечательных много в мире, а та была – как штучное изделие.
Во всех своих поездках, и по стране, и за рубежом, Брежнев выступал по бумажке, до мелочей были расписаны все возможные вопросы ему и ответы на них. Группа подготовки, от которой во многом зависели успех или неуспех визитов, работала на совесть. И в молодости Леонид Ильич также не обходился без шпаргалок даже в достаточно простых ситуациях. Принципиальная разница в том, что прежде докладчик сам принимал участие в подготовке своих выступлений, в конце же был просто, как именуют некоторых теледикторов, «говорящая голова».
Докладов было множество. Поездка в ГДР по случаю 20-летия восточногерманского государства – доклад, визит в Польшу в связи с 25-летием ПНР – доклад, посещение Венгерской Народной Республики – опять доклад (на сессии Государственного собрания), едва ли не любая поездка по стране – выступление. Бывали речи по нескольку часов, как, например, на торжественном заседании в Кремлевском Дворце съездов, посвященном 100-летию со дня рождения Ленина. Многочисленные выступления на съездах партии, пленумах, конференциях.
Помощники Генерального секретаря – Г.Цуканов, А.Александров-Агентов, А.Блатов – создали группу, которая готовила речи. В нее входили Г.Арбатов, А.Бовин, В.Загладин, покойный ныне Н.Иноземцев и многие, многие другие. Когда очередной доклад был вчерне написан, Леонид Ильич дней за 15–20 до выступления с авторами выезжал в охотничье хозяйство «Завидово», там начиналась проработка каждой страницы. На втором этаже дачи, над столовой, был разбит «зимний сад – около 70 квадратных метров, стоял стол человек на двадцать, здесь и велась работа по ежедневному распорядку. В 9.00 завтрак, затем работа до обеда. Обедают в 13.00 – все вместе. Потом отдых, небольшая прогулка, и снова за работу.
Сам Леонид Ильич часто ранним утром уезжал на охоту, возвращался поздно вечером, часов в десять, и за ужином расспрашивал о проделанной работе.
Никакой палочной дисциплины не существовало, желающие могли расслабиться и за ужином выпить, некоторые позволяли себе это и в обед. Довольно пикантная ситуация возникла, когда Леонид Ильич повел решительную борьбу с весом. Все разработчики докладов были с весьма и весьма солидной кубатурой, некоторые едва ли не в полтора раза тяжелее Генерального. И вдруг он посадил их наравне с собой на скудный рацион. Ему говорили, что с такой едой молено протянуть ноги, он улыбался:
– Ничего-ничего, это для вас полезно.
Смешно, но люди украдкой просили у официантов дополнительное питание.
Чем меньше времени оставалось до выступления, тем напряженнее становился график, приходилось работать и ночами, теперь уже и ночью референты позволяли себе расслабляться коньяком.
При обилии докладов, а сроки всегда были невелики, люди часто работали на пределе сил, и однажды Цуканов не выдержал, сказал об этом Брежневу, однако никаких последствий разговор не имел, одни и те же люди в бесконечном режиме продолжали непрерывную работу.
Неумение Генерального секретаря обходиться без бумажки ставило его иногда в нелепое положение и в стране, и за рубежом. Выступая в Баку, он где-то в середине вдруг перескочил на другую тему, сообразил, что что-то тут не то, начал крутить и вертеть страницы, обернулся в президиум собрания, подозвал начальника личной охраны, что-то шепнул ему. Рябенко стал выискивать глазами Александрова, заметив его, двинулся к нему. Но помощник и сам сообразил, в чем дело, и начал судорожно искать недостающую страницу в резервном экземпляре. К сожалению, все присутствующие поняли, в чем дело, – трудно было не понять. Ситуация, конечно, пренеприятнейшая, кто оказался виноват, не знаю, но Генеральный потом сурово отчитал своего помощника.
Подобный казус случился и за рубежом, в Венгрии. Утром Леонид Ильич произнес речь и текст ее вернул К. Русакову, работавшему тогда в его аппарате. В 12 часов дня Брежнев должен был выступать перед парламентом Венгрии. За несколько минут до выхода Александров и Русаков передали ему запись речи и направились спокойно в соседнюю комнату выпить кофе. По дороге в президиум он на ходу обнаружил вдруг, что в руках у него – утренний доклад. Леонид Ильич растерянно обернулся и, увидев меня, дал знак подойти. В мгновение я оказался рядом, он протянул мне бумаги и произнес единственное слово:
– Где?!
Я пробежал глазами первые строки, с ужасом понял, что произошло, и, сорвавшись с места, кинулся искать помощников. Увидев меня, оба поняли: что-то случилось. «Где выступление?» – спросил я. «У Леонида Ильича, я отдал ему», – ответил Русаков. «Посмотрите у себя». Дрожащими руками Русаков вынимал из кармана листы, повторяя, что это уже использованный доклад. Я буквально выхватил страницу, глянул текст и кинулся обратно к шефу. Заседание уже началось, двери были закрыты, хорошо, что венгерская охрана знала меня. Я едва успел войти, как председательствующий объявил выступление Генерального секретаря ЦК КПСС.
Момент был напряженнейший. Опоздай я, Брежнев стоял бы на трибуне беспомощный, как глухонемой.
К счастью, никто из окружающих ни о чем не догадался.
Конечно, подобные ЧП не проходили бесследно для здоровья помощников и моего собственного. Нервы иногда бывали напряжены до предела.
Престарелые соратники
На дачу в Завидове позвонил как-то Алексей Николаевич Косыгин. Брежнев в этот момент прогуливался, и дежурный офицер сообщил:
– Леонид Ильич вне связи.
Чуть позже Косыгин перезвонил и в шутливой форме рассказал о своей безуспешной попытке связаться. Получалось так, что вроде бы Генеральный секретарь не захотел разговаривать с премьер-министром.
Сразу после разговора Брежнев вызвал начальника охраны Рябенко и устроил разнос: почему вы сталкиваете меня с людьми, стоящими у руля государства? Ваше дело не только физическая безопасность, но и взаимоотношения внутри руководства. Что за дубы у вас там дежурят на телефоне?
Ну, и добавил еще матерком.
В тот же день под непосредственный контроль Рябенко и наш, его заместителей, на телефон был посажен офицер личной охраны. Нам было указано: если звонят премьер-министр Косыгин, председатель КГБ Андропов, министр обороны Устинов или секретарь ЦК, главный идеолог страны Суслов – соединять немедленно в любое время дня и ночи.
– Эти люди по пустякам звонить не будут, – сказал Брежнев.
Действительно, Алексей Николаевич Косыгин во время отдыха Брежнева звонил крайне редко. Между ними сложились непростые отношения. По своей бесстрастной натуре, по характеру сухаря Косыгин был далек от Брежнева, но Генеральный очень уважал и ценил премьера как специалиста, понимая, что тот в хозяйственно-экономических делах – настоящий профессионал. Если мы докладывали: «Косыгин у телефона’, Брежнев бросал другие дела и брал трубку. В крайнем случае, перезванивал потом сам. Отчетливо понимая, что уступает Косыгину в знании дел, Леонид Ильич вел себя с ним неуверенно-стеснительно. При разговоре казался раскованным, шутил, но чувствовалось напряжение, положив трубку, он как бы расслаблялся.
Косыгин знал себе цену, разговаривал всегда с достоинством, он, пожалуй, единственный из высокого окружения не пел здравиц Брежневу.
Алексей Николаевич очень любил гулять на воздухе. Нередко часть пути домой шел пешком – от Кремля до начала Ленинского проспекта. По дороге на улице Димитрова заходил в гастроном. После первого же его посещения в этот магазин стали завозить все продукты, он стал одним из лучших в Москве.
Еще Алексей Николаевич любил греблю. Однажды во время прогулки на байдарке-одиночке он перевернулся вместе с лодкой и оказался в холодной воде. Охрана сработала мгновенно, ребят потом наградили.
После смерти Косыгина улицу, на которой он жил, назвали его именем. А гастроном на улице Димитрова снова стал заурядным, как все.
Таким же точно Далеким по характеру от Брежнева был и Михаил Андреевич Суслов, к концу жизни Генерального практически второй человек в партии. Перестраховщик, педант, догматик – ив словах, и в поступках. К тому же очень упрямый человек. Его, главного идеолога партии, более всего опасалась передовая творческая интеллигенция.
В высоком же окружений характер и привычки этого человека вызывали иронию. Чего стоят одни галоши, с которыми он не расставался, кажется, даже в ясную погоду и которые стали чем-то вроде его визитной карточки, как, впрочем, и его старомодное пальто, которое он носил десятки лет. После шутливого предложения Брежнева членам Политбюро скинуться на пальто Суслову тот наконец приобрел себе обнову.
Выезжаем иногда на Можайское шоссе и плетемся со скоростью 60 километров в час: впереди – скопление машин. Леонид Ильич шутит:
– Михаил, наверное, едет!
Брежнев ко всем обращался на «ты» и если не на людях, не при всех, то по именам – Юра, Костя, Николай. Суслова он мог назвать по имени лишь заочно, обращался же к нему, как и к Косыгину, только по имени и отчеству. Видимо, потому что с Сусловым, как и с Косыгиным, Генеральный чувствовал себя менее уверенно, чем с другими, и тот и другой могли ему возразить. Бывало так, все «за», а Суслов – «против». И когда решался, скажем, вопрос о наградах или лауреатстве и все шло как по маслу, всегда кто-нибудь скажет: «Как еще Михаил Андреевич посмотрит…» – «А вы объясните ему… – говорил Брежнев и через паузу добавлял: – Ну, я сам с ним поговорю».
Самым близким к Брежневу человеком из высокого окружения был, несомненно, Юрий Владимирович Андропов. И чрезвычайно для него важным, ибо Андропов, возглавляя самое могущественное и практически никому не подконтрольное ведомство – КГБ, был в курсе всех дел в стране – не только коррупции, преступности, возможных заговоров, но и состояния экономики, межнациональных отношений, внешнеполитических дел, настроений в народе. Человек интеллигентнейший, образованный, совершенно бескорыстный, веривший в социалистические идеалы, он напоминал мне большевиков начала века. Имея рядом такого информированного и преданного человека, Брежнев был застрахован от всякого рода неприятных неожиданностей. Я слышал, что после смерти Суслова Брежнев готовил Юрия Владимировича на его место – место второго человека в партии, но что-то там сорвалось.
Андропов был в высшей степени деликатным, во всяком случае, по отношению к Брежневу. Без предупредительного звонка не являлся и вообще понапрасну Генерального не беспокоил ни звонками, ни тем более визитами. Звонит его помощник – Крючков, тоже, как и шеф, гражданский, оба обходительные, я отвечаю: «Владимир Александрович, у него сейчас люди». Он отвечает, если дело срочное: «Все равно доложите» или «Сразу же доложите, как освободится». Когда звонил сам Андропов, в первую очередь справлялся о самочувствии Леонида Ильича. У него сейчас тот-то, отвечал я, а потом будет тот-то. «Доложить ему сейчас?» – «Нет-нет, ни в коем случае, у меня не срочно. Как только он освободится, вы мне позвоните».
Черненко, Кириленко, Тихонов, ну еще, может, кто-то, звонили Брежневу напрямую, Андропов – только через нас или через секретаря. Кириленко мог тряхнуть Брежнева за плечи: «А-а, Леня…» Подгорный тоже вел себя панибратски: «Леонид, ты…» Андропов же всегда обращался к Генеральному подчеркнуто уважительно, по имени-отчеству.
Думаю, что Андропов для Генерального был приятным собеседником даже в сложных делах, потому что, задавая какой-то вопрос, Андропов сам же ненавязчиво, в форме совета, подсказывал и ответ, не заставляя Генерального ломать голову. Он как бы щадил Брежнева, вначале – учитывая его занятость, потом – болезнь. Эта манера разговора с вышестоящим руководством была в традициях органов безопасности. Даже на нашем уровне, если кто-то обращается, скажем, к генералу с каким-то вопросом, то должен заранее вникнуть в суть, проанализировать все «за» и «против» и держать в уме предполагаемый ответ начальства.
Мне неоднократно приходилось быть свидетелем разговора Брежнева с Андроповым. Юрий Владимирович входил – всегда спокойный, рассудительный: «У меня, Леонид Ильич, несколько вопросов». Задавал четко, кратко, при этом как бы извинялся за то, что вынужден отвлекать Генерального от других важных дел. Брежнев обычно задумывался, а Андропов аккуратно заполнял паузу: «Думаю, надо поступить таким образом, как вы считаете?»
Все вопросы решались как бы сами собой, на том беседа заканчивалась, если вдруг Брежнев не спрашивал:
– Ну, Юрий, скажи, что ты на ужин ешь? Как с весом борешься?
– Да никак не борюсь.
Но эти вопросы Леонид Ильич задавал чаще Тихонову, тот худенький был. Выслушает, потом вызывает Рябенко:
– Давайте мне на завтрак, обед и ужин то же, что Николай Александрович ест. Вон он сухой какой.
Виктория Петровна также очень уважала Андропова, его жену, которая, как и она сама, не интересовалась политикой и не вмешивалась в государственные дела мужа.
Подобная практика доверия соратникам приводила к тому, что Брежнев, к сожалению, часто не вникал в суть проблем, и теперь, спустя годы после его смерти, многое ему вышло боком. Ошибки или безответственность многих исполнителей легли пятном на Генерального. Все правильно: он руководил страной – он за все в ответе.
Именно в пору правления Брежнева вспыхнуло движение диссидентов, отказников, которые вынуждены были покидать Родину или которых просто выдворяли за границу, отправляли в ссылки и лагеря. Самое удивительное, что лично Брежнев относился к диссидентам спокойно. Но приходил Андропов, как истинный коммунист, стоящий на столбовом социалистическом пути, докладывал, сам же давал ответы на поставленные вопросы, и Брежнев отвечал:
– Ну и давай занимайся. Если комитет считает, что…
Сахаров, Солженицын, Галансков, Гинзбург, Даниэль, Синявский, Максимов, Буковский… Андропов докладывал Брежневу по каждому имени. По каждому!
Или взять войну в Афганистане. Я хорошо помню, как во время визита в одну из социалистических стран Леониду Ильичу позвонил из Москвы Андропов и доложил, что Амин уничтожил Тараки и взял власть. Брежнев был и взволнован, и возмущен, стал вдруг рассказывать о Тараки как о национальном поэте, писателе, просто как о человеке – вспомнил добром. Никакого разговора о вводе войск тогда не было и в помине.
Зато потом все члены Политбюро стали практически ежедневно собираться в Ореховой комнате. Это продолжалось несколько месяцев. Ю.Андропов, Д.Устинов, А.Громыко – руководитель госбезопасности, министр обороны и министр иностранных дел, – они внушали Брежневу мысли об опасности соседства войск стран Североатлантического блока на наших южных границах. Решили: введут «ограниченный контингент», и все встанет на свое место. И думать не думали, что война затянется на десять лет, что пятнадцать тысяч наших молодых ребят сложат там головы, что страна запятнает себя позором.
Собственно говоря, Брежневу ничего внушать уже было не нужно, в ту пору он уже мало что соображал.
Сейчас говорят, что именно Андропов повел решительную борьбу с преступностью, с коррупцией. Да, он – когда стал Генеральным секретарем. Но где же он был раньше? Вся информация находилась в его руках. Неужели бороться с преступниками нужно лишь на посту главы государства? (Кстати сказать, вся информация о Щелокове, Чурбанове, Галине также шла к нему, но он не решался довести ее до Брежнева.)
Некоторые робкие попытки, впрочем, были.
В один прекрасный день я находился в кабинете Леонида Ильича, когда ему позвонил Андропов. Связь переключили с телефонной трубки на микрофон, все было слышно. Я поднялся, чтобы выйти из кабинета, но Леонид Ильич взмахом руки попросил остаться. Юрий Владимирович докладывал о первом секретаре Краснодарского обкома партии Медунове, говорил о том, что следственные органы располагают неопровержимыми доказательствами того, что партийный лидер Кубани злоупотребляет властью, в крае процветает коррупция.
Как обычно, Брежнев ждал конкретного предложения.
– Что же делать?
– Возбуждать уголовное дело. Медунова арестовать и отдать под суд.
Брежнев, всегда соглашавшийся, долго не отвечал, потом, тяжело вздохнув, сказал:
– Юра, этого делать нельзя. Он – руководитель такой большой партийной организации, люди ему верили, шли за ним, а теперь мы его – под суд? У них и дела в крае пошли успешно. Мы одним недобросовестным человеком опоганим хороший край… Переведи его куда-нибудь на первый случай, а там посмотрим, что с ним делать.
– Куда его перевести, Леонид Ильич?
– Да куда-нибудь… Заместителем министра, что ли.
На этом разговор закончился. Он продолжался минут десять.
Леонид Ильич был очень огорчен: Медунов – его ставленник – подвел его. В том, что Андропов сказал правду, Брежнев не сомневался.
Медунов из обоймы руководителей не выпал еще и потому, видимо, чтобы не было разговоров, утечки информации.
Бывало и так, что Брежнев не хотел верить дурным донесениям. Ему, например, докладывали о первом секретаре ЦК Компартии Узбекистана и руководители КГБ, и Чурбанов, который ездил в республику и многое узнал от местных доброхотов. Леонид Ильич продолжал сохранять с Рашидовым дружбу. С жалобами на Шарафа Рашидовича приехала в Москву Насретдинова – Председатель Верховного Совета Узбекистана, но пробиться на прием к Брежневу не смогла. О ней самой говорили много нехорошего. Тут, видно, пошел клан на клан.
Много жалоб на местных партийных лидеров поступало во время поездок Генерального по стране. Но это никогда не имело никаких последствий – ни во времена Брежнева, ни во времена Горбачева. Помню многочисленные жалобы людей на Горячева – первого секретаря Новосибирского обкома партии, на Черного – первого секретаря Хабаровского крайкома партии, народ в глаза говорил все, что думал о них. Никакой реакции.
«Стабильность кадров – залог успеха», этот тезис выдвинул Суслов, а Брежнев подхватил его и осуществил на практике. Постоянство кадрового состава Генеральный считал одним из гарантов стабильности жизни государства и собственной устойчивости. Брежнев даже гордился тем, что в период его руководства все местные партийные лидеры прочно сидели в своих креслах, не было никакой чехарды.
Так создавался «застойный период». Многие на местах почувствовали себя неприкосновенными, стали грести под себя; от них, местных партийных лидеров, поползли по стране, как раковые метастазы, коррупция, взяточничество, воровство.
Первые секретари попадали на прием к Генеральному свободно. Во время партийных съездов, пленумов, конференций они собирались группами по 15–20 человек, Брежнев или помощник предлагали: заходите все вместе, а если у кого что-то личное – по одному. Заходили вместе, кому нужно было остаться в высоком кабинете – оставались. После таких встреч Генеральный пребывал в хорошем расположении: и людей повидал, и получил очередной заряд лести.
В рот ему смотрели все.
«Команда» формировалась по принципу личной преданности, другой системы подбора и отбора кадров просто не существовало. Конечно, и в демократических странах есть принцип, по которому в президентское окружение попадают люди, хорошо знакомые, но на первом месте здесь – деловые качества. У нас же всегда существовал, задолго до Брежнева, элемент клановости и даже сговора.
Попасть в орбиту Генерального, обратить на себя его высокое внимание становилось смыслом существования. Как-то, находясь в приемной, я услышал сигнал вызова Брежнева и быстро вошел в кабинет. Леонид Ильич сидел за столом и разговаривал с кем-то по телефону. Он поманил меня и молча с улыбкой протянул телефонную трубку. Я услышал голос И.В.Капитонова, который взахлеб докладывал Генеральному секретарю о своей замечательной встрече с избирателями, о том, что эта встреча еще раз подтвердила, как наш народ любит своего мудрого вождя Леонида Ильича Брежнева, волнуется за его здоровье, люди мечтают встретиться с ним и т. д. Несколько минут я слушал хвалебные словоизвержения, а когда поток лести стал иссякать, вернул трубку.
После разговора Брежнев, смеясь, кивнул на еще не остывший телефонный аппарат:
– Очень уж хочет быть кандидатом в члены Политбюро.
Кандидатом он так и не стал.
Кажется, я помню лишь единственный случай отказа от назначения. Точнее, попытки отказа.
Я находился в кабинете Леонида Ильича, когда к нему вошел секретарь ЦК КПСС Петр Нилович Демичев. Как это обычно бывало, я хотел выйти, но Брежнев знаком остановил меня. Политбюро должно было утверждать Демичева министром культуры. С чем обычно приходят в таких случаях? Поблагодарить Генерального за оказанное доверие, пообещать приложить все силы, чтобы оправдать… и т. д. Вместо этого Петр Нилович стал возражать: не может принять подобное предложение, не готов, не компетентен, что-то еще.
Брежнев не очень любил возражения на уровне секретарей ЦК. Ни гнева, ни даже раздражения этот отказ не вызвал, но Генеральный ответил жестко:
– Доводы считаю неубедительными. Вопрос сейчас будет решаться на Политбюро.
Брежнев сидел, Демичев стоял. Весь разговор занял минуты две-три. Петр Нилович уходил расстроенный.
Главное, и в Политбюро ни у кого не возникло сомнения в том, что человек, никогда прежде не занимавшийся вопросами культуры и сам откровенно признающийся в некомпетентности, может принести пользу на новом месте. Считалось, что деятель, попавший в обойму высоких партийных руководителей, может возглавлять любое дело.
Если речь шла о ближайшем окружении, то все вопросы – кого приблизить, а кого отодвинуть – Брежнев решал сам, кандидатуры менее значительные подбирали ему помощники. Если же говорить о первых секретарях обкомов и крайкомов, то при назначении каждого из них приводили в кабинет Генерального секретаря.
Система назначения и снятия сбоев не давала. Тем не менее случались моменты, когда Брежнев чувствовал себя не совсем уютно. Хорошо помню, как он волновался перед тем, как отправить на пенсию КМазурова – первого заместителя Председателя Совета Министров СССР. Член Политбюро, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда – весь набор званий и наград. Он очень помог Брежневу, непосредственно занимаясь осуществлением пражской операции в августе 1968 года. Что уж там произошло на самом верху – не знаю. Когда мы ехали из Завидова после охоты, Леонид Ильич из машины позвонил Черненко:
– Костя, у меня предстоит разговор с Мазуровым. Об отставке… Как лучше – пригласить к себе или…
Генерального беспокоило: Мазуров – довольно немолодой, но энергичный, вдруг откажется уходить! В результате перед пленумом, прямо в зале заседаний, Брежнев побеседовал с Кириллом Трофимовичем, уговорил его обратиться в адрес пленума с просьбой об отставке. Как обычно, все прошло гладко.
А если бы не согласился? Это практически исключалось. У власти было много способов наказать неугодного или, наоборот, поощрить послушного, пусть даже снятого с высокой должности. То же назначение чрезвычайным и полномочным послом – оно могло быть и поощрением, и наказанием: смотря в какую страну. Или знаменитая инспекционная группа в Министерстве обороны, там многие безбедно доживали свой век, сохраняя важные льготы и практически ничего не делая.
Я не исключаю, что, по чьей-то подсказке убирая Мазурова, Леонид Ильич хотел с какой-то стороны обезопасить себя. Как бы он ни доверял, например, Андропову, как бы ни прислушивался к его мнению, а заместителем к нему все же приставил надежнейшего С.Цвигуна, которого знал давно, еще по работе в Молдавии. Цвигун баловался разного рода литературными сочинениями, главной темой которых была бдительность органов КГБ, пограничников. Брежнев просил меня:
– Соедини меня, Володь, с этим, как его…
– С кем?
– Ну, с писателем…
– С Цвигуном?
– Да, да.
А Цвигун ему в конце любого разговора, прощаясь, говорил с улыбкой:
– Леонид Ильич! Граница на замке!..
Такие были шуточки.
Одним из близких людей и соратников Брежнева являлся Константин Устинович Черненко, они работали вместе в Молдавии, и с тех пор Черненко сопровождал Леонида Ильича до конца его жизни. Я застал Константина Устиновича в ту пору, когда он заведовал общим отделом ЦК КПСС. Этим он занимался и в Молдавии, то есть всю жизнь был аппаратчиком. Обращаясь ко многим на «ты», Брежнев тем не менее на людях называл соратников по имени-отчеству, к Черненко же всегда и при всех: «Костя, ты…»
Аппаратная служба не требовала особого ума, знания, опыт – это главное. Однако при всей казенности участок работы был важный, общий отдел ЦК готовил все материалы к заседаниям Политбюро, Секретариату. Совещания, встречи, проводы делегаций, практически весь рабочий календарь для Генерального секретаря составлялся общим отделом, сотрудники его ежедневно засиживались до 11–12 часов вечера.
Конечно, Черненко дело свое знал и, пока был здоров, успевал переваривать огромный объем информации, отличался трудолюбием, добросовестностью, исполнительностью. Когда стал физически сдавать, начались проколы. Брежнев отчитывал его:
– Ну, что же ты, Костя? Забыл?
Или:
– Надо же думать, соображать!
Черненко выходил из кабинета жалкий: лицо красное, руки дрожат.
Из окружения Генерального нельзя не упомянуть Андрея Андреевича Громыко. Он был дипломатом не только по должности, но и по натуре, я не помню, чтобы он хоть раз в чем-то возразил Генеральному. Громыко, по-моему, был удобен для всех.
Устинов, Громыко, Андропов, Черненко, Тихонов, Кулаков, Кириленко – по праздникам они приезжали на дачу в Завидово. Иногда бывал Бугаев – бывший личный пилот Брежнева, а затем – министр гражданской авиации. Когда Леонид Ильич был помоложе, он сам встречал гостей внизу. Позже Виктория Петровна просила меня:
– Володя, помоги пальто снять.
Я помогал им раздеться, за женами они ухаживали сами. Когда все собирались, я поднимался наверх:
– Леонид Ильич, все в сборе.
Бывал на даче и Алиев, пару раз он приезжал по делу отдельно ото всех.
Я не могу никого из этих людей назвать товарищами. На таком уровне товарищей не бывает. Товарищи по партии – да, то есть коллеги, соратники.
Позволю себе утверждать: Брежнев в людях разбирался достаточно хорошо. Во всяком случае, никто его не предал, как это было до него с Хрущевым и после него – с Горбачевым. И в рамках той системы подбора и назначения руководителей, которая существовала, повторяю, задолго до него, кадры подобрались сильные – Косыгин, Андропов, Устинов были людьми просто незаурядными. Другое дело, что они старели, многие теряли не только работоспособность, но и разум. При этом, не желая покидать насиженные места, удерживали в кресле и самого Генерального секретаря, терявшего разум вместе с ними.
Подобострастие и поддакивание Черненко стали принимать форму пародий. Однажды в кабинете Леонид Ильич завел разговор о том, что у него очень плохой сон, на что Черненко ответил своей обычной, ставшей потом знаменитой, фразой: «Все хорошо, все хорошо». Брежнев повторил: Уснуть ночью никак не могу». Черненко, к тому времени сам принимавший большие дозы снотворного и тоже разваливающийся, как и Генеральный, снова ответил, будто не слыша или не понимая: «Все хорошо». Брежнев вскипел, выругался и громко крикнул:
– Что ж тут хорошего? Я спать не могу, а ты – «все хорошо»!
Черненко словно очнулся:
– А-а, это нехорошо!
Слушая нелепый диалог, я едва удержался, чтобы не рассмеяться, хотя тут больше грустного, чем смешного. Черненко был уже секретарем ЦК КПСС, однако Брежнев по-прежнему относился к нему как к сотруднику общего отдела. Печальное было зрелище, когда, выходя из кабинета Генерального секретаря, Черненко просил меня зайти в кабинет Леонида Ильича и дать ему дополнительную информацию о мероприятиях, которые они только что обсуждали вдвоем. ‘Уточни, он все перепутал…»
Я заходил и как можно деликатнее уточнял распорядок дня на завтра: подъем во столько-то… Брежнев взрывался:
– Только что Черненко называл другое время, на два часа позже.
Тут же приглашалась референт Галина Дорошина, и мы выясняли, кто из двух склеротичных стариков все перепутал.
Самое главное даже не в болезнях дряхлеющих руководителей, а в том, что они пытались их скрыть. У Черненко были очень слабые легкие, он задыхался, с трудом не только ходил, но и говорил, выходил больным на работу. Кто сочтет теперь, сколько дней, месяцев, а может быть, и лет жизни он сократил себе, выезжая на охоту с Генеральным и часами высиживая там на морозе. Боясь отказом от охоты вызвать неудовольствие шефа, скрывал недомогание… Поистине: кресло дороже жизни.
Они пытались скрыть то, что скрыть уже было невозможно.
Точно не помню, где это случилось, кажется, в Польше. Да, в Польше. После переговоров наша делегация спускалась по большой крутой лестнице. Я скорее почувствовал, чем услышал, шум. Оглянулся и увидел: Председатель Совета Министров СССР Николай Александрович Тихонов падает – как-то неуклюже, плечом вниз. То ли нога соскользнула со ступеньки, то ли оступился, но он беспомощно рухнул, покатился вниз боком по парадным ступеням и внизу, на полу, еще продолжал катиться, уткнувшись наконец в ноги Громыко. Брежнев с опозданием оглянулся:
– Что там?
– Николай Александрович «загремел», – ответил я.
– Пойдем-пойдем, не оборачивайся, – быстро сказал он.
Возле лежавшего Тихонова уже стояла охрана.
Хорошо, что нас не сопровождали ни журналисты, ни фотокорреспонденты.
Поднявшись, придя в себя, Тихонов спросил охранника, который, согласно инструкции, шел сзади: «Где ты был?!» По приезде в Москву на общем совещании 1-го отдела начальник 9-го управления КГБ сделал охраннику внушение за «упущение в работе», тем дело и кончилось. На работе его оставили. А за что, собственно, выгонять? За то, что Тихонов такой немощный? Не нападение же было – ноги подкосились.
К этому эпизоду Брежнев деликатно не возвращался.
Но если бы он был один, этот эпизод…
Уже после случившегося в Болгарии собрался Политический Консультативный Комитет стран Варшавского Договора. Работали и жили в Софии, в правительственном комплексе особняков. Вечером, перед ужином, наша делегация прогуливалась по аллее. Горели фонари, было светло. Громыко шел рядом с Брежневым, неожиданно на ровном месте споткнулся, у него заплелись ноги, и он упал, довольно сильно ободрал об асфальт руку. Хорошо, что Леонид Ильич успел как-то подцепить его, попридержать, последствия могли быть хуже. Старик поддержал старика.
С министром иностранных дел разного рода ЧП случались неоднократно. В конце семидесятых годов Брежневу вручали очередную Золотую Звезду Героя. Все соратники и единоверцы стояли на почтительном расстоянии, выходили по очереди к микрофону и дружно аплодировали каждому восхвалению своего вождя. Неожиданно Громыко стало плохо, он начал заваливаться. С одной стороны к нему прижался стоявший рядом Андропов, с другой притиснулся еще кто-то, и так, сжатого с двух сторон, Андрея Андреевича в полуобморочном состоянии вынесли из зала.
Был с ним и еще случай, точно такой же, его снова выносили из зала…
Раза два-три ко мне кидался охранник Ворошилова:
– Где мой дед? Не видел?
Ворошилова во время съездов и разных совещаний часто окружали его луганские знакомые и уводили подальше от всех, даже от охраны. Коллега мой волновался потому, что хорошо знал: Климент Ефремович мог ходить нормально, без поддержки, только по прямой, на поворотах же его заносило, мог завалиться и где-нибудь на лестнице. Таково было «рабочее» состояние бывшего командарма, который в народной памяти так и остался – могучий, лихой кавалерист.
Ноги не держали их.
Да только ли в ногах было дело…
Один из главных лидеров страны в перерыве большого всесоюзного совещания зашел в туалет, сел на унитаз и… заснул там. Охрана сорвала дверь, разбудила! Я не могу назвать его фамилию – стыдно. За страну стыдно, за великую державу.
Андрей Павлович Кириленко, который еще в 1950 году сменил Брежнева на посту первого секретаря обкома партии в Днепропетровской области, являлся фактически третьим лицом в партии, а значит, и в государстве. У него началась атрофия головного мозга, но он продолжал работать. Как-то в поликлинике мы встретили Андрея Павловича, и он сказал, что готовится на отдых.
– Куда отдыхать-то поедете? – спросил Е.И.Чазов.
– Да-а… – тот задумался, находясь, как мне показалось, в полной прострации. – Да-а… куда-то… на море.
Черт меня дернул за язык, я стоял рядом и «подсказал»:
– Да куда повезут, туда, наверное, и поедете.
Все рассмеялись, а Кириленко даже не отреагировал: то ли не услышал, то ли не понял.
Мне приходилось быть свидетелем телефонных разговоров Кириленко с Брежневым. Тот звонит:
– Леонид, здравствуй!
– Здравствуй.
– Это я, Андрей.
– Слушаю, слушаю тебя, Андрей.
– Ты знаешь… – вдруг замолкал.
Наступала длительная пауза. Леонид Ильич сидит, улыбается, ждет.
– Леонид, извини, вылетело из головы…
– Ну ничего. Вспомнишь – позвони.
Брежнев с улыбкой и с удовольствием передавал мне:
– Ну вот, хотел что-то сказать и забыл.
Леонид Ильич в эту пору уже сам заметно ослаб, и подобные звонки доставляли ему удовлетворение и вселяли оптимизм: вон они уже какие, а я, смотри, еще ничего. Рядом с такими безнадежно больными людьми он чувствовал себя вполне крепким и здоровым.
Как ни сложно это было, но Брежнев вынужден был отправлять Кириленко на пенсию. В одном из телефонных разговоров он деликатно завел разговор на эту тему, Андрей Павлович ответил, что еще полон сил и готов по-прежнему приносить пользу Родине.
– Отдыхай, Андрей. Ты хорошо поработал и заслужил право на отдых.
Кириленко написал Брежневу письмо с просьбой оставить его на работе.
На пенсию его отправили в первые лее дни после прихода к власти Андропова. Но практически вопрос был решен при Брежневе, незадолго до его смерти.
Многие из них, даже те, которые умирали, казалось бы, в результате каких-нибудь ЧП, на самом деле – оттого, что душа едва держалась в теле.
Косыгин не сумел восстановить здоровье до конца после того, как перевернулся на байдарке-одиночке, наглотался воды, его вытащили без сознания и он с трудом пришел в себя. Но ведь перевернулся он потому, что в оболочке мозга разорвался сосуд, нарушилось мозговое кровообращение и он потерял сознание, еще будучи в лодке.
Точно так же простудился в Крыму Генеральный секретарь Андропов, сменивший на этом посту Брежнева. В жаркий день он сел в тени на каменную скамью и сильно простудился. Была сделана операция, но здоровье не вернулось к нему. Можно сказать: где была охрана, врачи?! Но ведь тысячи людей ищут тень в жаркую погоду, отдыхают на скамейках, купаются и т. д. Просто у Андропова было больное сердце, с трудом работали почки, которые можно было легко застудить где угодно. Весь организм расшатан, Андропов готов был споткнуться на самом ровном месте.
В конце августа 1983 года Константин Устинович Черненко, ставший после смерти Андропова Генеральным секретарем ЦК КПСС, отдыхал в Крыму. Министр внутренних дел В.Федорчук, также отдыхавший в Крыму, поблизости, прислал в подарок Генеральному рыбу домашнего копчения. Обычно подобные подарки, от кого бы они ни исходили, тщательно проверяют в специальных лабораториях, которые есть и в Москве, и в Крыму. Даже безобидные сувениры, которые дарят Генеральному на отдыхе в Крыму, фельдъегери отвозят в Москву для проверки. Рыбу ту якобы не проверили (так, по крайней мере, утверждали потом руководители кремлевской медицины), она оказалась недоброкачественной. Черненко почувствовал себя плохо, резко сдали сердце и легкие. Константина Устиновича срочно отправили в Москву, где собрались лучшие врачи во главе с Чазовым. Спасти больного удалось, но восстановить здоровье оказалось невозможно.
Можно, конечно, опять винить охрану, которая проморгала лабораторных специалистов, мимо которых все это прошло. Но я думаю, главное в том, что ослабленный организм Черненко готов был к тому, чтобы где-то дать сбой. Я даже не уверен, что рыба оказалась недоброкачественной. Ее коптили в домашних условиях, ели ее наверняка и сам министр внутренних дел, и его родня, прочее окружение. Пострадал лишь тяжело больной Черненко, потому что его ветхий организм, как и в случае с Андроповым, готов был пострадать от чего угодно.
При всем кажущемся недосмотре или какой-то другой случайности все они умирали от дряхлости, до конца дней обеими руками держась за высокое кресло.
В ту пору в народе ходил стойкий анекдот. Перед праздником 7 Ноября заводской парторг решает, кому нести на Красной площади флаг в строевой колонне: «Ты, Иванов, понесешь!..» На следующий год снова: «Иванов, ты». И спустя год опять: «Иванов, флаг понесешь ты!» – «Все я да я, – сокрушается рабочий, – и при Брежневе – я, при Андропове – я, при Черненко – я, каждый год – я». – «Неси, неси, Иванов, у тебя рука легкая…»
Злой анекдот, нехороший. В конце концов те, кто каждый год умирал, сменяя друг друга, тоже были жертвами ими же охраняемой системы.
Злой анекдот. Но – к месту. Потому что главным страдальцем, главной жертвой был – народ. Уставший, во всем изуверившиися, народ ждал, что встанет наконец когда-нибудь у руля руководитель молодой, сильный, умный и честный.
…Покоя нет, я – в ожидании, даже когда мы летим в самолете. Я – в основном салоне, где охрана, помощники, референты, врачи, машинистки, всего 32 человека.
Звучит вызывная трель звонка – дзинь-дзинь, я вскакиваю, быстро направляюсь к Генеральному, по пути миную небольшой салон для членов Политбюро, на восемь человек, буфет, комнату отдыха Генерального. В его рабочем салоне – диван справа, два стола и два дивана слева.
Даже когда вызывают помощника – все равно через меня. Позже я вскакивал и на требовательные звонки Раисы Максимовны Горбачевой.
В дальние зарубежные рейсы мы летали на «Ил-62», поскольку он самый удобный, комфортабельный. Длинные перелеты внутри страны – на «Ту-154». Эти самолеты большие, тяжелые, не каждый аэродром мог принять их, поэтому на короткие расстояния по Союзу мы летали на «Ту-134». Было по три-четыре самолета каждого вида с гербами СССР, готовых к немедленному взлету.
«Зачистка» аэропортов, подготовка трассы к ним и от них – как в любом городе страны, в любой стране мира. На трассе следования должны быть отделения милиции, телефонные пункты, медицинские учреждения с обязательным стационаром, в котором готова отдельная палата, ее никто не занимает. В большом городе, за рубежом ли, у нас ли в стране, на длинной трассе готовятся три таких стационара – в начале, в середине и в конце пути, в небольших городах – один.
Кроме главного готовятся точно так же два-три запасных маршрута, и не только на аэропортовских путях но и при всех поездках от объекта к объекту.
При Сталине трассовики знали не только все ходы-выходы, но и всех дворников в лицо, а через них – все жильцов, кто выехал, кто приехал. Тогда это было проще, у Сталина было не так много маршрутов, да и Москва была не столь густо заселена.
При Брежневе, когда я работал, все строилось на устных рассказах, планах и схемах трасс. Теперь – проще и надежнее, к услугам спецслужб – видеокассеты любых трасс следования.
Однажды, незадолго до смерти Брежнева, случилось так, что за ночь не просто подготовили трассу, но – построили новую дорогу. Дело было весной, Леонид Ильич поехал отдыхать в Болгарию, но погода там не заладилась, шел мокрый снег. Он поручил выяснить, какая погода в Сочи, и мы вылетели туда на первую госдачу. По окончании отдыха то ли погода оказалась нелетная то ли заболела Виктория Петровна и не могла лететь самолетом – точно причины не помню, но, в общем, ре шили возвращаться в Москву поездом. Чтобы не привлекать при отъезде ничьих глаз, за одну ночь (!) построили новую дорогу – метров 150, не меньше – от госдачи прямо к железнодорожному перрону, где высокого гостя ждал спецсостав: первый вагон-салон – для Брежнева, второй – для охраны, дальше – управление правительственной связи, вагон-ресторан, энергетические вагоны, два тепловоза.
Куда бы мы ни направлялись, всюду строили подъездные пути, украшали фасады, белили заборы. От «объектов», которые были не готовы, мы отказывались, в захудалые колхозы не ездили. Подобная практика касалась многих социалистических стран, в Венгрии, например, нам показывали потемкинские деревни, нисколько не хуже наших.
И охрана наша в социалистических странах чувствовала себя как дома – независимо, диктовала свои условия и принципы. В капиталистических же странах, а также в ГДР, к нашим советам и просьбам относились сдержанно. «В резиденции делайте, что хотите, – говорили нам, – переставляйте столы, стулья, меняйте шторы, но в охрану – не вторгайтесь, безопасность – наше дело». Если мы и присутствовали на каких-то их оперативках, то с правом совещательного голоса. Надо сказать, никаких серьезных проколов со стороны западной охраны в отношении наших лидеров за все время моей службы не было.
Мне приходилось работать в составе экипажей «выездной охраны» и с американцами, и с немцами, и с итальянцами, и с испанцами, я видел много сильных спецов, да и просто классных ребят. Но судить о них глубоко не могу, я их в серьезном деле не видел. Что-то заимствовали мы у них – например, оборудование оперативных машин с личной охраной; что-то взяли они у нас – скажем, усиленное сопровождение со спецавтобусом. Но это – частности, в принципе же их служба и наша во многом похожи. Я имею в виду уровень подготовки, цели и задачи, в конце концов – многие методы.
Но у западных спецслужб охрана количественно значительно больше, а главное – у них совершенно другие обязанности.
Я завидую американским телохранителям, они занимаются своим прямым делом, тем, чему их учили.
Американские коллеги никогда бы не справились с нашими обязанностями.
Нас обучали охранять лидеров партии и государства. Вся наша многолетняя, изнурительная, в жестком, иногда в жестоком режиме подготовка была посвящена именно этому.
Когда мы занимались стрельбой, рукопашным боем, накачивали мышцы, когда плавали, бегали кроссы, играли в футбол и волейбол, даже когда для формальной галочки мы, повинуясь казенному плану, нелепо шлепали на лыжах по весенней воде, мы готовили себя к охране лидеров. И даже когда высиживали на пустых партийных собраниях или служебных совещаниях, и тогда нас готовили, пусть казенно, не всегда умно, но готовили все к тому же – к охране лидеров страны.
В итоге оказалось, что охранять их нужно не от внешних угроз, а от самих себя, этому нигде не учат.
По инструкции я выхожу из подъезда – впереди шефа, оцениваю обстановку; по улице – со стороны людей или кустов, или переулков; по коридору – со стороны дверей, чтобы кто-нибудь не вылетел или просто не пришиб шефа дверью; на лестнице – чуть сзади. Но мы вопреки инструкции, когда наши престарелые лидеры спускаются вниз, идем чуть впереди, когда они поднимаются – чуть сзади.
Теория сопровождения охраняемого существует для охраны нормальных, здоровых лидеров, мы же опекаем беспомощных стариков, наша задача – не дать им рухнуть и скатиться вниз по лестнице.
В ГДР, в Берлине, наш правительственный кортеж встречали празднично, с цветами и транспарантами. В открытой машине, приветствуя берлинцев, стоят рядом Хонеккер и Брежнев. Фотографы, теле– и кинооператоры. Ни один человек не знает, не видит, что я распластался на дне машины, вытянул руки и на ходу, на скорости держу за бока, почти на весу, грузного Леонида Ильича Брежнева.
Где, в какой инструкции предусмотрены подобные почти цирковые номера?
Я говорил о схожести уровня подготовки нашей и западной охранных служб, об общности целей и задач. Но у них – другая школа. В Вашингтоне на торжественной церемонии Горбачев попросил меня достать из папки текст выступления. А у меня в одной руке – папка, в другой – шляпа Горбачева. Что делать? Юпитеры, телекамеры – весь мир смотрит. Я обратился к американскому коллеге рядом: не возьмет ли он на минутку шляпу… Он даже не отреагировал, ноль внимания. Мы – гости, к тому же я – старше по званию… Снова прошу. Он делает знак какому-то клерку позади, и тот освобождает меня от злополучной шляпы…
Не взял! Потому что у охранника руки должны быть свободны.
Да, я всегда завидовал американским коллегам. Они никогда не держали на торжественных церемониях шляпу, портфель или бумаги своего шефа. Им не надо следить за исправностью многочисленных весов для своего шефа, чистить ему множество охотничьих ружей, прочищать мундштуки и по ночам обкуривать его. Не надо набивать карманы пачками сигарет, которые буквально накануне понравились шефу, не надо набивать эти же карманы запасом различных очков.
Брежнев довольно часто терял очки. Однажды перед выступлением он прямо на трибуне выронил их, стал топтаться, искать и раздавил их ногами. В таких случаях, когда сам был виноват, чувствовал себя неловко, виновато, и тут же он простодушно, по-детски обратился к залу:
– Товарищи! Двое очков разбил сегодня. У кого какие есть?
Начальник личной охраны велел нам иметь полный запас очков всех видов. К футлярам мы приклеивали бумажки: «для дали», «для чтения», «для докладов» – и заполняли ими наши карманы. У одного только начальника охраны очков для чтения было трое.
У русских правителей всегда, задолго до династии Романовых, телохранители были еще и няньками.
Посещая социалистические страны, Брежнев дарил хозяевам – партийным лидерам позолоченные часы. При мне он торжественно вручал их Яношу Кадару, Густаву Гусаку, другим, это считалось знаком особого внимания, ведь на часах был барельеф с его, Брежнева, собственным изображением.
Эти часы есть и у меня. Вообще у меня хранится достаточно подарков, Почетных грамот, других благодарственных документов, подписанных людьми, оставившими свое имя в истории, – для небольшого музея вполне набралось бы.
В особом ряду – высокие правительственные награды: два ордена Красной Звезды, ордена Трудового Красного Знамени и «Знак Почета», сюда лее, в один ряд с ними, отношу и знак «Почетный чекист». Награды вручали мне и Брежнев, и Андропов, и Горбачев. И каждый раз я отвечал:
– Служу Советскому Союзу!
Любой мой коллега по охране заслужил высокие награды: никто из генеральных секретарей не получил ни одной царапины. Но уберечь их от самих себя не было никакой возможности. За этими наградами – подневольные, унизительные обязанности, о которых не подозревает никто – ни обыватели, ни ближайшее высокое окружение. С горечью вспоминаю, как мы подбирали Генеральному секретарю таблетки, стараясь как можно меньше навредить здоровью. При этом нарывались на его яростное сопротивление, рисковали не должностью или карьерой, а уголовной ответственностью; как потихоньку от Генерального разводили водой водку, которой он привык запивать эти таблетки…
Где, в какой цивилизованной стране мира личная охрана руководителя страны занимается этим?
На таблетках
Много воспоминаний, помню, кажется, любой день пребывания рядом с Леонидом Ильичем. Но больше всего, ярче всего запомнил утро, когда я, рядовой сотрудник личной охраны, впервые в жизни увидел Брежнева близко. Там же, в Крыму. Он плавал в море, гнался за доктором Родионовым и кричал ему:
– Сейчас я тебя утоплю!
– Не надо, не надо, – отвечал доктор, пытаясь оторваться.
– А ноксирон дашь? – Брежнев сокращал разрыв.
– Дам-дам-дам, только не топите.
Тогда я не подозревал еще, что игра на море имеет серьезное продолжение, я даже не знал, что такое ноксирон, нембутал и прочие препататы. Много раз вспоминал я впоследствии этот эпизод. Год шел 1969-й, Брежнев был молодой и сильный, запас здоровья и энергии казался бесконечным, лет на двадцать, не меньше. Но уже тогда, в безоблачную пору, он, как оказалось, повадился пить снотворные сверх меры, уже тогда он губил себя; тогда, в пору молодости и силы, начался отсчет метронома.
Всего через несколько коротких лет весь мир увидел человека-развалину.
О том, что якобы из-за особенностей организма он должен спать не менее девяти часов в сутки, Брежневу сказали давно, кто-то еще из днепропетровских врачей. Так я слышал, по крайней мере, от Рябенко. Леонид Ильич поддался этому внушению, старался неуклонно выполнять предписание, с тех давних пор, в общем, и началась свистопляска со снотворными.
К тому времени, когда я стал выполнять обязанности заместителя личной охраны, Брежнев уже безнадежно втянулся в лекарства. Когда организм привыкал к каким-то препаратам, он менял одни таблетки на другие. Помню, одного только ноксирона он принимал до восьми таблеток в день. Где-то в середине семидесятых годов американские ученые установили, что препарат этот чрезвычайно вреден из-за своих побочных действий. Врачам стоило поистине героических усилий, чтобы вывести его из рациона Леонида Ильича. Но сколько же он успел их выпить, этих таблеток, даже очень здоровый организм не выдержал бы такой нагрузки.
Все дело в том, что «лечил» он себя практически бесконтрольно.
Личные врачи Генерального – вначале Родионов, а после того, как он в середине семидесятых годов неожиданно скончался, Косарев, выдавали таблетки нам, охране, а уж мы по их предписанию – Леониду Ильичу. Мягкий и податливый Родионов безотказно выдавал шефу значительный запас, и тот упростил дело.
– Передай резерв ребятам, – сказал он доктору, – они выдадут. Чтоб лишний раз тебя не вызывать…
Так мы оказались втянуты в эту круговерть.
Днем Леонид Ильич чувствовал себя сонным, а ночью не мог заснуть. Конечно, организм привыкал и, видимо, реагировал хуже, чем следует, но, с другой стороны, выпив горсть таблеток, он хотел засыпать моментально. Жаловался:
– Вон, смотри, сколько принимаю и то не могу уснуть. Володя, у тебя есть резерв?
Виктория Петровна говорила и со мной, и с доктором:
– Ну, что же он спит-то все время? И ему:
– Лень, не надо, ребята тебе дают, и хватит.
Чтобы не расстраивать лишний раз Викторию Петровну, я прятал для Леонида Ильича пакет со снотворным на ночь в тумбочку заранее, до ужина. А если Виктория Петровна увлечется телевизором, совал ему прямо в руки за столом. Но ему все время было мало, он рылся в тумбочке, в шкафу, в портфеле, искал заначку.
Мы понимали, всякие уступки, излишки – дело подсудное: не дай Бог, что случится… Мы обо всем докладывали личному врачу, о каждой таблетке, выданной накануне вечером или среди ночи, и он заносил все в историю болезни. Мы, «прикрепленные», заводили разговор об излишках таблеток и с Рябенко, и с Чазовым. Оба отвечали:
– Это не наше дело.
Для главного медика Кремля Чазова – «не наше дело», а для охраны – «наше? Снять с себя личную ответственность целиком Евгению Ивановичу не удалось.
После Родионова личным врачом стал молодой, очень принципиальный Михаил Косарев. Он поблажек Генеральному не давал и нас решительно предупредил:
– Что случится, вы будете отвечать.
Брежнев перед сном вызывал Косарева и требовал снотворных.
– Полежите, уснете, – отвечал доктор.
Через несколько минут вызывал снова. Михаил Титович оставался непреклонен:
– Нельзя. Нельзя, Леонид Ильич. Это опасно для здоровья.
Брежнев начинал ругаться в самой жесткой форме, грубил:
– Выгоню! Не нужен ты мне! Ты должен мне помогать, а не… Звони Чазову.
Доктор звонил Чазову, своему непосредственному начальнику. Евгений Иванович просил выдать дополнительные таблетки. Удивительно, но факт – Косарев оставался непоколебим:
– Нет. Не дам. Не имею права. Я уже выдал то, что полагается. Приезжайте и сами решайте.
И Чазов покорно приезжал. И также покорно выписывал дополнительные таблетки.
Боялся за кресло? Почему же Косарев не боялся? Для него клятва Гиппократа, честь врача, а проще и конкретнее говоря, здоровье и безопасность пациента были дороже должностей и званий.
Брежневу Чазов докладывал о состоянии здоровья всех членов Политбюро. Андропову он тоже докладывал обо всех, плюс и о состоянии здоровья Генерального. Но этого очень мало – просто информировать. Тут больше видна забота страхующегося чиновника о себе, чем врача – о пациенте.
Мы ведь, собственно говоря, занимались с Евгением Ивановичем Чазовым одним делом, потому что здоровье тоже входит в комплекс безопасности. Физическая охрана – первый фронт, охрана здоровья – второй фронт. Я не могу себе представить: кто-то целится из укрытия в Генерального секретаря, я знаю об этом, вижу и – молчу из боязни потерять должность.
Что должен был сделать Евгений Иванович? Прийти и сказать Генеральному секретарю, как есть: «Вы себя губите. Я это вижу как врач. И как врач ничем не могу помочь вам, потому что вы не хотите меня слушать, вышли из-под моего контроля. Я не могу быть соучастником… Прошу вас об отставке».
Одни лекарства сменялись другими, вместо ноксирона появились следа, ативан и прочие. Мне и моим коллегам приходилось вновь и вновь изучать внешний вид таблеток, дозы, чтобы не перепутать, выдавать по предписанию. Мы, далеко не врачи, занимались делом хлопотным и рискованным. Брежнев, к сожалению, считал себя достаточно здоровым, с врачами дела не хотел иметь и доверял только нам, охране.
При честном Косареве запас резервных таблеток не уменьшился, стал даже больше. Брежнев подходил к соратникам, членам Политбюро: Ты как спишь? Снотворными пользуешься? Какими? Помогает? Дай попробовать». Никто ему не только не отказывал – старались услужить. Передавали лекарства из рук в руки. Не было среди них товарищей, все – политики в чистом виде с характерами подхалимов. Услуживая шефу, они губили его. Правда, за лекарствами они вынуждены были обращаться к своим врачам, и те докладывали личному врачу Брежнева. Дела это в принципе не меняло.
Жестокие игры…
Больше других старались услужить Черненко и Тихонов, которые сами увлекались снотворными. Андропов почти всегда передавал безвредные пустышки, по виду очень похожие на настоящие лекарства. Это не являлось спецзаказом, производство их было налажено за рубежом, и мы приобретали. Видимо, идея с пустышками принадлежала Чазову.
Между двух огней оказался первый заместитель начальника КГБ С.Цвигун. Он знал, что его шеф дает вместо лекарств пустышки, и сам Андропов предупреждал его об ответственности. Но отказать Генеральному секретарю «в личной просьбе» у него не хватало мужества, Цвигун передавал настоящие сильнодействующие снотворные. Вот как вспоминает об этом Чазов:
«Брежнев, считая его своим близким и доверенным человеком, изводил его просьбами об успокаивающих средствах. Цвигун метался, не зная, что делать: и отказать невозможно, и передать эти средства – значит, усугубить тяжесть болезни. А тут еще узнавший о ситуации Андропов предупреждает: «Кончай, Семен, эти дела. Все может кончиться очень плохо. Не дай Бог, умрет Брежнев далее не от этих лекарств, а просто по времени совпадут два факта. Ты же сам себя проклинать будешь».
В январе 1982 года после приема безобидного ативана у Брежнева развился период тяжелой астении. Как рассказывал Андропов, накануне трагического 19 января он повторил свое предупреждение Цвигуну. Днем 19 января я был в больнице, когда раздался звонок врача нашей «скорой помощи», который взволнованно сообщил, что, выехав по вызову на дачу, обнаружил покончившего с собой Цвигуна. Сообщение меня ошеломило. Я хорошо знал Цвигуна и никогда не мог подумать, что этот сильный, волевой человек, прошедший большую жизненную школу, покончит жизнь самоубийством».
Подмена настоящих лекарств увеличивала степень риска для больного и еще больше доставляла хлопот охране. Леонид Ильич глотал горстями пустышки, сон не наступал, он натыкался на настоящие таблетки и такими же горстями глотал их. Он мог своими руками убить себя. Нам приходилось проявлять максимум изворотливости, чтобы всюду подкладывать ему поддельные таблетки вместо настоящих. В последнее время мы полностью меняли все наборы, которые он сам себе заранее заготовлял.
Кто-то из членов Политбюро подсказал Брежневу запивать лекарства… водкой: лучше усваивается. Леонид Ильич справился у Чазова: правда ли? Правда, ответил Евгений Иванович, но предупредил, что пользоваться этим нужно редко и осторожно. Подтверждение звучало для Генерального как моральное разрешение, тем более что для него, как человека всесильного, не существовало норм. Выбор пал на «зубровку». Как-то мы приезжали в Беловежскую пущу, белорусские руководители угостили этой местной водкой, настоенной на травах, в красивых граненых бутылках. Она ему понравилась. Теперь у охраны появились новые хлопотные обязанности: чтобы у Генерального в любое время дня и ночи была под рукой «зубровка», но чтобы он как можно меньше пил и чтобы вообще обо всей этой истории знало как можно меньше народу, даже из его окружения.
Куда бы мы ни ехали, в портфеле обязательно везли бутылку «зубровки». И где бы ни были – на высоком приеме в Кремле или на заводе, – после себя не оставляли ни недопитых, ни пустых бутылок.
– Это ничего, даже полезно выпить, – повторял он, видимо, чьи-то слова.
«Зубровка» стала» для него наркотиком. Пил он понемножку, одной бутылки хватало на несколько дней, но ведь и организм был дряхлый, разваливающийся, еще в Кишиневе, когда он был первым секретарем ЦК Компартии Молдавии, перенес тяжелый инфаркт миокарда, затем – микроинфаркт…
Голь на выдумки хитра. Мы додумались разводить зубровку» кипяченой водой. Мы – это «прикрепленные заместители начальника личной охраны Геннадий Федотов, Володя Собаченков и я – собрались и сами Решили. Советоваться было не с кем. Когда о своих уловках мы поставили в известность Рябенко, Косарева, Чазова и никто из них ни «да», ни «нет» не сказал, мы поняли: если что случится, вся ответственность в итоге ляжет только на нас.
Брежнев после выпитой рюмки иногда настораживался:
– Что-то не берет…
От Виктории Петровны мы всю эту водочную эпопею тщательно скрывали (тоже дело непростое).
В очередной раз вечером, перед сном Леонид Ильич попросил у меня вторую или, не помню, третью рюмку «зубровки». Я ответил: «Больше нет», хотя водка, конечно, имелась. Леонид Ильич попытался препираться, но я настоял на своем.
Утром мне позвонил помощник Андропова, попросил приехать.
– Надо кое-что взять.
Я понял, о чем речь.
В назначенное время я сидел в приемной Андропова. Признаюсь, оказался здесь в первый раз. Из приемной меня провели в какую-то небольшую комнату – стол, кресла, диван. Окон, кажется, не было. Я ждал минут десять. Ожидал, естественно, что Юрий Владимирович войдет через ту же единственную дверь, через которую вошел и я. Но он появился вдруг, как мне показалось, прямо из стены. Я ничего не понял, встал. Он протянул руку.
– Здравствуй, Володя. Извини, что задержался. Леонид Ильич звонил, говорил, что у вас проблемы с этим напитком. – Андропов протянул мне сверток. – Я передаю это вам, но у меня просьба, чтобы он как-то поменьше употреблял. От вас многое зависит.
Я рассказал, что мы разбавляем этот напиток вполовину и что рискуем оказаться разоблаченными. Что события развиваются опасно для здоровья Генерального секретаря.
Не могу сказать с уверенностью, но мне кажется, что пустышки стали поступать нам именно после этого разговора, во всяком случае, перебоев с ними, как прежде, не было.
В каком же напряжении мы находились, сколько сил, эмоций, нервов уходило на все эти хитрости, честные обманы. Несколько раз у Леонида Ильича случались приступы, он терял сознание, в том числе и в зарубежных деловых поездках.
Разговор с Андроповым длился минуты три, не больше.
Чтобы упорядочить прием лекарств, Чазов, видимо, не без совета с Андроповым, решил установить при Генеральном медицинский пост. Хорошая идея в дурном исполнении принесла обратные результаты. Вначале работали две сменные медсестры. Но, как это часто случается, одна выжила другую. И опять, в который раз, больной старик Брежнев раскрутил и обставил всех и сделал по-своему. Между ним и миловидной медсестрой установились, как принято говорить, «особые отношения», и он объявил:
– Пусть будет одна.
Бесконтрольность стала полной.
Молодая женщина с броской внешностью, наверное, была в ряду хороших медсестер в 4-м Главном управлении. Дело свое знала, с обязанностями справлялась легко. Вначале она держалась скромно – тише воды, ниже травы: где что взять, куда что отнести. Как-то незаметно и очень быстро она обрела власть. Пришла она еще при докторе Родионове, который от работы отлынивал, которого мы вечно разыскивали и который постоянно врал Леониду Ильичу о причинах отсутствия. Теперь он передавал весь набор снотворных медсестре и почти перестал появляться на службе. Это его более чем устраивало. Устраивало и медсестру, ставшую полной хозяйкой, устраивало и самого Брежнева, прихоти которого она выполняла. Конечно, сама она не могла доставать лекарства со стороны, понимая, что в случае чего ее потянут к ответу. Но он обращалась всегда к Родионову, а тот в случае нужды – к безотказному Чазову.
Распорядительница лекарств так привязала к себе Леонида Ильича, что тот без нее не мог ступить шагу и очень боялся, как бы ее от него не отстранили. Она по-хозяйски вмешивалась в работу врача-диетолога, сама заказывала блюда, поварам подсказывала, как готовить пищу, официантам – когда и что подавать.
Виктория Петровна видела все это и очень нервничала. Конечно, медсестра попортила ей нервы и уж точно – намного укоротила жизнь Брежневу. У нее была своя семья, ребенок, свои домашние хлопоты. Она спокойно добавляла в рацион одну-две таблетки, Леонид Ильич на пару часов засыпал, а она отправлялась по своим личным делам.
Брежнев брал медсестру с собой в охотничье хозяйство «Завидово», она садилась за один стол с членами Политбюро, и в ее присутствии обсуждались важные государственные и международные проблемы.
После одного из таких обсуждений Чазову позвонил возмущенный член Политбюро Д.Полянский, присутствие медсестры на подобных высоких совещаниях он назвал безобразием. Как же отреагировал главный врач Кремля на заявление в адрес подчиненной ему медицинской сестры? Распорядился убрать ее? Хотя бы пообещал подумать, как это сделать?
«Я поинтересовался, а сказал ли он то же самое хозяину дома?» – пишет в воспоминаниях Евгений Иванович. К нему, непосредственному начальнику, обращаются: решите вопрос. А он не без ехидства: а сами-то вы…
Но Полянский как раз не побоялся и высказал Брежневу то, что думает по этому поводу, за что и поплатился – Брежнев отношения с ним порвал.
И Андропов просил Чазова убрать, перевести медсестру. Что же ответил тот? «Я поинтересовался причинами и заметил с определенной долей иронии, что вряд ли председатель КГБ должен заниматься такими мелкими вопросами, как организация работы медсестер…»
Вот как смело, лихо даже, врач «отбривает» по очереди членов Политбюро. И не кого-нибудь – председателя КГБ. Но что же он, Евгений Иванович, человек такой редкой отваги, судя по его же словам, делает по существу: подопечный же погибает на его глазах? «Мой визит к Брежневу не дал никаких результатов – он наотрез, с повелительными нотками в голосе, отказался разговаривать и о режиме, и о необходимости регулирования лекарственных средств, и о характере наблюдений медсестры».
От «повелительных ноток» Евгений Иванович оробел. Поймав затем Леонида Ильича в хорошем состоянии и настроении, он еще раз заводит беседу в ласковых тонах, и Леонид Ильич так же ласково отвечает: «Ты зря нападаешь на И. Она мне помогает и, как говорит, ничего лишнего не дает. А в целом тебе по-человечески спасибо за заботу обо мне и моем будущем».
Милый разговор двух милых людей. Только один из них гибнет и не знает этого, второй – все знает.
Кресло, кресло… Главное – удержаться в кресле.
История когда-нибудь расставит все по своим местам: кто где был и что делал, когда долго и медленно погибал Генеральный; где были и что делали главные кремлевские врачи, когда другие генеральные заступали на высокий пост, будучи тяжело, неизлечимо больными; когда буквально за несколько часов до смерти прикованного к постели Черненко заставили подняться, показать себя перед телеэкраном – «явиться народу».
Я и теперь считаю, что на Брежнева воздействовать было можно. Как? Не знаю, я не врач. Может быть, напугать – заболеете тем-то, откажет такой-то орган, может быть, обмануть как-то по медицинской части. Консилиума бы он, наверное, не признал. Но если бы прибыл какой-нибудь зарубежный ученый-светило и побеседовал с Генеральным лично, тет-а-тет, думаю, что это было бы делом небезнадежным. Ведь в конце концов хоть и с трудом, но бросил же он курить, испугавшись за здоровье. Болезней он боялся.
Пытаясь отлучить Брежнева от медсестры, его стали обманывать: завтра ее не будет – муж заболел, ребенок заболел, еще там что-то дома неладно. В конце концов дело зашло далеко, и чтобы окончательно разлучить их, понадобилось проводить целую операцию с участием руководства КГБ, Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения. Прямо не медсестра, а Мата Хари.
Сегодня, когда Евгений Иванович с благородным возмущением обвиняет во всем медсестру, он выглядит не профессионально и не по-мужски.
Я не называю ее фамилии, потому что у нее взрослая дочь; потому что муж ее, служивший в пограничных войсках и за годы близости ее с Брежневым дослужившийся от капитана до генерала, погиб в дорожной аварии в 1982 году – в год смерти Брежнева. Тоже, видимо, пришлось пережить ей потом немало.
После нее стало легче, запивать лекарства «зубровкой» Леонид Ильич перестал. Крепко он не пил даже в молодости, а в последние года два жизни даже не пригублял. На охоте, когда он уже не стрелял, а только наблюдал, мы, замерзнув на морозе, позволяли себе иногда перед едой по чашечке коньяка.
– А чего это вы там пьете-то? – спрашивал он.
– Кофе.
– А чего это вы сначала кофе-то пьете?
– Да пить захотелось.
– А-а.
Все смеются, один он не понимает. Иногда предлагал сам:
– Мне-то нельзя, а вы с егерем – давайте по рюмочке.
Нельзя не упомянуть еще об одной эпопее – она связана с зубными протезами. Здесь неудачные изыскания врачей и мучения Генерального, в отличие от истории со снотворными оказались на виду у всего мира: ужасную дикцию, ставшую источником стольких пародий, было не скрыть. Лучшие отечественные протезисты 4-го управления Минздрава СССР готовили слепки, протезы, работы затягивались далеко за полночь. Не знаю, какие там изменения произошли в челюстях Генерального, какие возникли сложности, но примеряли десятки образцов протезов – не подходили. Брежнев нервничал, выходил из себя.
Мы были в Казахстане, и Кунаев предложил своего специалиста, по отзывам – очень талантливого. Московские специалисты с сомнением отнеслись к этому предложению, но препятствовать не стали, ибо сами были бессильны. Снова – слепки, образцы, Леонид Ильич уехал из Казахстана вроде бы довольный, но в Москве протезы ни разу не надел. Мастер оказался хороший, но правы были московские специалисты: хорошую продукцию можно получить, если имеешь первоклассное оборудование и сырье.
Чазов крутился как белка в колесе, он обзвонил все крупные города в надежде где-нибудь на местах найти талантливого специалиста, умельца. Однако все высокие чиновники на периферии не помогли, они сами пользовались услугами чазовского кремлевского управления.
Евгений Иванович предложил Генеральному обратиться к специалистам из ФРГ. Предложение было встречено с радостью, последовала команда, и уже на второй день германские специалисты прилетели в Москву. В очередной раз – слепки, протезы, подгонка. Немцы предложили оригинальные облегченные изделия из специального сырья, работали тщательно. Однако проходила неделя, другая, примерки не удавались.
В конце концов зубы вставили, но Леонид Ильич не мог есть, нормально говорить, опять – раздражение, очередные вызовы немцев в Москву. Брежнев приглашал гостей на охоту в Завидове, отправлял им в Германию охотничьи трофеи. Одному из врачей понравилась голубая ель в Завидове. Ее выкопали и вместе с комлем земли отправили в Германию.
Это продолжалось довольно долго. А кончилось тем, что всем все надоело, снова обратились к тем же московским врачам, с которых начинали.
Последние пару лет я был с ним неотлучно. По дому он ходил сам, а где ступеньки – я помогал. В Завидове он уже не поднимался к себе по мраморной лестнице, только – в лифте.
На работе вначале стеснялся: «Я сам-сам…» Потом привык к моей постоянной поддержке, стесняться перестал.
Документы, которые приносила референт Дорошина, он подписывал не вникая. Все вопросы – политические, экономические, военные – решали за него, вместо него. Как-то зашел разговор о том, что вот, мол, много помогаем Вьетнаму, Кубе, другим странам. Гречко сказал: «Один день войны дороже обойдется». Помощь ни только не уменьшили, но даже увеличили.
Мне кажется, Брежнев взял на должность первого заместителя Председателя Президиума Верховного Совета СССР престарелого В.В.Кузнецова (он был старше Леонида Ильича), чтобы на его фоне чувствовать себя легче. Вообще, когда он видел крепких людей старше себя, у него поднималось настроение, он как бы примеривал их возраст к своему. Мы ехали в машине после одного из приемов, Леонид Ильич заговорил о Е.П.Славском, министре среднего машиностроения, которому было чуть не под девяносто и который мог еще осушить пару фужеров коньяка.
– Вот молодец, видишь! – сказал Брежнев с удовлетворением.
Однако подобная «психотерапия» помогала мало.
Одной его черте поражались все – и наше ближайшее окружение, и иностранцы. Бредет еле-еле, совсем плохой, а через двадцать минут – вдруг свеженький, молодцевато встает из-за стола, бодро двигается. Эти разительные перемены замечали даже телезрители.
В октябре 1979 года мы отправились на празднование 30-летней годовщины ГДР. Торжества проходили в Спорт-халле, Леонид Ильич должен был выступить утром с получасовым докладом. Накануне вечером он тайком выпил большую дозу снотворного (удружил кто-то из соратников) и наутро не смог встать. До доклада оставалось меньше часа, а он не мог ни ходить, ни даже стоять. Советская делегация уехала, а мы продолжали возиться с Генеральным секретарем. Евгений Иванович Чазов знал, что делать. После укола Леонид Ильич немного пришел в себя, и мы выехали на место встречи. Внутренние резервы здоровья и сил были в нем, видимо, огромные.
К президиуму нужно было идти через весь зал. Я проводил его. Первый секретарь ЦК Польской объединенной рабочей партии Эдвард Герек помог Брежневу подняться из президиума, а я ждал возле трибуны. И пока Леонид Ильич читал доклад, я стоял рядом, сзади: если начнет падать – подхвачу. Переживал ужасно: упадет – не упадет… После доклада я также проводил его.
Из-за слабости Брежнева устроители праздника перенесли торжественное шествие. Потом состоялся официальный обед. Стол для главных руководителей был выделен отдельно – на виду у всех. Когда мы вошли, все зааплодировали. Леонид Ильич прошел к столу, поднял ли он рюмку со всеми вместе, не помню. Зато хорошо помню, что, произошло в следующую минуту. Генеральный секретарь покрутил головой налево-направо и громко произнес:
– А что тут делать? Пойдем.
Ничего никому не объяснив, даже не попрощавшись, Брежнев двинулся к выходу. Очень было неловко, стыдно – все на нас смотрят… Пробыли, наверное, минут пять.
Подобные срывы случались все чаще и за рубежом, и в стране.
После каждого напряженного визита наступала разрядка, он в очередной раз срывался, впадал в забытье. Состояние Генерального уже было невозможно скрыть ни от кого.
Бывали ли подобные руководители в истории цивилизованных стран? Не знаю, вряд ли. Помпиду приезжал к нам очень больной, в Пицунде встречался с Брежневым. Вернувшись во Францию, вскоре умер. Но он все же прилично держался. Можно вспомнить беспомощного, в коляске, Рузвельта. Но у того была ясная голова.
Разрабатывается целая система облегчения жизни и работы престарелым лидерам…
История создания специального трапа-эскалатора для подъема Генерального секретаря в самолет стала совершенно уникальной, другой такой не сыскать.
В сентябре 1979 года в одну из пятниц директор Ленинградского опытного завода № 85 гражданской авиации И.Афанасьев получил телефонограмму срочно прибыть в Москву. Не дожидаясь понедельника, под выходные, вылетел. Здесь заместитель министра гражданской авиации Ю.Мамсуров сообщил ему, что от министра Б.Бугаева поступило срочное задание изготовить трап-эскалатор под самолет Ил-62. Фамилия Генерального секретаря не упоминалась, но гость по намекам понял: для Леонида Ильича.
– Задание выполнить в максимально сжатый срок!
– За сколько месяцев?
– За две недели!
– Две недели – абсурд… – не удержался директор.
– Будете докладывать ежедневно, – ответил замминистра.
В понедельник с утра директор собирает руководителей служб, цехов, конструкторов, технологов. Опыта – никакого. Ни чертежей, ни проектов. Срочно изучается работа эскалаторов в театрах и магазинах Ленинграда. Разузнали: в Донецке есть завод, который производит эскалаторы.
В Донецке ленинградским исполнителям заказа удалось получить два новеньких поэтажных эскалатора, они и предназначались для Москвы, но, правда, рядовым пассажирам – для доставки их с первого этажа на второй и далее с выходом на посадку в зале № 2 аэровокзального комплекса во Внукове.
В.Ечкалов, в ту пору главный инженер завода № 85:
– Полученные нами поэтажные эскалаторы были почти негодны, трудно представить, какие ржавые… Разбирали их сами, чистили, смазывали. Пытались опробовать в работе, но цепи соскакивали со звездочек, сползали с роликов резиновые поручни. Пришлось своими силами заняться доводкой узлов эскалаторов. На претензии к поставщику не было времени…
Е.Сериков, бывший заместитель главного конструктора завода № 85:
– В природе еще не было основного документа – технического задания на проектирование изделия, но работы по его изготовлению кипели вовсю. Обычный эскалатор движется со скоростью один метр в секунду. Компетентные товарищи посчитали, что это слишком быстро! Пришлось движение ленты замедлить в пять раз… А на случай непредвиденных аварийных ситуаций внедрили систему блокировок для мгновенной остановки эскалатора… Был разработан график выдачи чертежей в цех, где огородили специальный участок. Задания каждому выдавались категоричные: сделать то-то, например, к обеду завтрашнего дня!.. Если же чертежи уходили в цех не вовремя, то это, разумеется, вызывало соответствующую реакцию у сварщиков, сборщиков. Нужно заметить, каждый – специалист высокого класса! Спецзадание доверили только лучшим. Так что привлеченные два десятка конструкторов и дизайнер трудились в две смены, без выходных, в урочное и сверхурочное время. Одним словом, не считались ни с чем. Но постоянно одолевала мысль – в такой суете не дай Бог что-то упустить, проглядеть. Понимали, чем может обернуться…
В.Швец, бывший ведущий конструктор по общей компоновке трапа-эскалатора:
– Спецзаказ заставил бросить плановую разработку аэродромного автопоезда на сто семьдесят пассажиров. Начались разъезды по городам и весям! В частности, в Донбасс – по вопросам подгонки длины ленты эскалатора; в Харьков, чтобы покрасить его дюралевые ступени. Всего не перечислить…
П.Минуковский, бывший ведущий конструктор по электрической части:
– Электропитание трапа должно было быть автономным, от генератора, приводимого в движение мотором тягача «ЗИЛ-130». Кстати, на этом автомобиле и покоился весь трап. Когда стали опробовать его в работе, выяснилось, что нормальный ход ленты молено обеспечить только на высоких оборотах двигателя. Зрелище в этот момент наблюдалось фантастическое: рев двигателя, клубы дыма, изделие дрожит и раскачивается всей изогнутой конфигурацией!.. Тогда, собственно, и нарекли его заводчане «динозавром». Пришлось электропитание переделывать…
Минуло не две недели, а более четырех месяцев. Наступил уже 1980 год. В.Ечкалов:
– Ну и задала же нам хлопот перегонка первого готового изделия на товарную станцию, чтобы переправить его в Москву по железной дороге! Тронулись в путь без сопровождения ГАИ, а высота трапа-эскалатора была негабаритной для автомагистралей… Поэтому пришлось вскоре сворачивать с шоссе и пробираться к станции через лес. По проселочной дороге! Конец января, холод собачий… Но мне, как ответственному за доставку, признаться, было жарко, в прямом и переносном смысле. На ухабах шестнадцатитонный «динозавр» раскачивался так, что того гляди опрокинется. Застревали в снегу. Приходилось выталкивать руками. С грехом пополам добрались до места.
Только въехали на платформу, железнодорожники – стоп, не пойдет! Превышение габарита по высоте. Пришлось объяснять, ДЛЯ КОГО предназначен спецгруз. Подействовало. Дали зеленый свет…
Прибыли во Внуково, а никто не хочет принимать трап. Нашлось ему место в аэропорту только тогда, когда обратились к замминистра. Правда, стоянку дали под открытым небом…
Многострадальный трап, как и положено, принимала комиссия. Члены комиссии качали головами: не пойдет дело, не пойдет… Первые пять ступенек трапа были неподвижными. Не пойдет, надо, чтобы трап-эскалатор поднимал с земли, пять первых ступенек Леониду Ильичу не преодолеть. И высота ступеней высока… Перечень замечаний комиссии состоял из 24 пунктов:
– не решен вопрос перемещения пассажиров при помощи движущейся лестницы с уровня земли;
– рассмотреть возможность уменьшения высоты ступеней до 100 миллиметров;
– не обеспечена электробезопасность;
– при температуре наружного воздуха 5 градусов и ниже по Цельсию не обеспечивается перемещение поручней эскалатора (при этом передвигаются только ступени);
– использованная для трапа модель автомобиля «ЗИЛ-130» является устаревшей.
Одно из замечаний заслуживает особого внимания, учитывая возраст и состояние главного авиапассажира страны:
– наблюдается неустойчивость трапа при прохождении пассажиров на верхней площадке, возможна раскачка из-за отсутствия дополнительных опор…
Шло лето 1980 года, с начала работы минул почти год! Было затрачено четверть миллиона рублей! Это еще старые рубли, которые имели цену, в переводе на наши деньги – многие и многие десятки миллионов.
В итоге комиссия заключила: трапы-эскалаторы не выдержали испытаний и подлежат списанию.
Эпопея на этом не закончилась. Руководству Министерства гражданской авиации не давали покоя пять первых неподвижных ступенек, оно решило довести дело до конца и закупило эскалатор-трап, который поднимал с земли, за границей, теперь уже расходы пошли в валюте. Но воспользоваться чудо-техникой никто не успел, старики руководители один за другим быстро ушли, подошел 1985 год.
«Динозавров» отправили в металлолом, а иностранное дорогое приобретение – в спецхранилище.
В этой истории нравы рубежа восьмидесятых годов проявились словно через увеличительное стекло. Кто решал этот вопрос на уровне Политбюро конкретно – не знаю, но главным исполнителем-послушником явился министр гражданской авиации Б.П.Бугаев, бывший когда-то личным шеф-пилотом Брежнева. За многолетнее свое усердие он был многократно вознагражден: лауреат Ленинской и Государственной премий, дважды Герой Социалистического Труда, три ордена Ленина, два – Красного Знамени, Главный маршал авиации.
Сколько подобных усовершенствований придумывалось услужливыми, усердными изобретателями?..
В первом корпусе Кремля в зале пленумов установили перила, чтобы партийные руководители могли опираться на них, выходя на трибуну.
Во Дворце съездов смонтировали дополнительный лифт с первого этажа – вниз, в комнату президиума, прямо перед выходом на сцену.
Со стороны Кремлевской стены сделали эскалатор для подъема на мавзолей, как-никак от кремлевской земли до правительственной трибуны – высота четырехэтажного дома. Брежнев эскалатор уже не застал (в свой последний Ноябрьский праздник, за три дня до смерти, он поднимался на трибуну пешком), им пользовались очередные тяжело больные генеральные секретари – Андропов и Черненко.
При Андропове по предложению медиков для главы партии изменили систему официальных встреч и проводов: с Внуковского аэродрома перенесли в Кремль. Что-то на манер американцев. За отсутствием знаменитой лужайки, которая живописно раскинулась у Белого дома, наши лидеры стали принимать высоких гостей прямо во дворе Большого Кремля. Но однажды, при Горбачеве, когда торжественно встречали Раджива Ганди, хлынул дождь, и все кинулись под пешеходный переход. С тех пор торжественные встречи и проводы перенесли в Георгиевский зал Кремля.
Андропов сам попросил установить в новом здании ЦК трибуну не ниже стола президиума, как планировалось строителями, а рядом со столом, чтобы не спускаться. Но Андропов умер, просьбу выполнить не успели.
Атеросклероз мозговых сосудов сделал Брежнева человеком неполноценным не только физически, но и нравственно, он терял способность оценивать критически свои поступки, стал податлив на всякого рода побрякушки. Последние лет пять-шесть управделами ЦК КПСС перед каким-либо визитом звонил в республиканский ЦК своему коллеге и заранее договаривался, что лучше подарить высокому гостю – кольцо, ружье?
Склонность к стяжательству, наградам – результат старческого, склеротического состояния. Этот тяжелый, дурной перелом произошел буквально за пару лет. Вначале Леонид Ильич как-то слабо сопротивлялся услужливым соратникам. В 1978 году он отказывался ют ордена «Победа», понимая, что им награждают только за военные заслуги. Но дружный хор партийных сподвижников во главе с министром обороны, маршалом Устиновым легко убедил его:
– Ведь вы – главнокомандующий могучей державы! Боретесь за мир во всем мире!
Он согласился.
И от «Воспоминаний» своих он вначале не был в восторге:
– Ну что, подумаешь. Ничего особенного, так жизнь сложилась.
Но партийные идеологи заговорили в один голос:
– Что вы, Леонид Ильич, это же целая историческая эпоха! Такой пласт времени! Надо, чтобы все изучили эти книги.
– Ну, раз вы так считаете…
Профессиональные литераторы наперебой убеждали: замечательно, гениально! Больному старику легко внушили, что его гениальная жизнь – пример для всего поколения.
Когда Вячеслав Тихонов читал по телевидению «Малую землю», Леонид Ильич совершенно искренне проникался:
– А что – хорошо. Действительно интересно получается.
Еще бы не интересно: любимый актер с экрана рассказывает о его жизни.
Очень любил песню «Малая земля» в исполнении мужских голосов, особенно Муслима Магомаева. Впервые он услышал ее на Дальнем Востоке. Какой-то мичман Дальневосточного военного округа – высокий, крупный, мосластый парень – пел ее в местном Дворце культуры. Бас – мощный, пел – стены тряслись. Леонид Ильич растрогался, после концерта поблагодарил мичмана, пожал руку. Парень оказался пробивной, через пару лет объявился в Москве и через Рябенко добился встречи с Леонидом Ильичом. Брежнев снова поблагодарил его и вручил именные часы.
…Я снова и снова (с сожалением и горечью) размышляю о том, почему он не ушел на покой в середине семидесятых. Думал ли он об уходе? Да. Иногда, когда очень уставал или закашливался, Виктория Петровна заводила разговор:
– Леня, может, ты уйдешь на пенсию? Тяжело тебе уже. Пусть молодые…
– Я говорил, не отпускают.
Когда по телевидению показывали его, беспомощного, она также начинала этот разговор.
Действительно – не отпускали. При мне еще в середине семидесятых, после какого-то очередного награждения, он, еще будучи более-менее в норме, сказал членам Политбюро:
– Устаю. Может быть, действительно уйти на пенсию?
Все дружно заговорили: да что вы! Не может быть и речи.
А Андропов посоветовал:
– Вы поменьше себя утруждайте. Мы будем на себя больше брать.
В интервью, которое Александров-Агентов дал незадолго до своей смерти, на вопрос журналиста: «Каково вам, человеку образованному, было работать с весьма недалекой личностью, каким остался у многих в памяти Леонид Ильич?», бывший помощник ответил:
– Я никогда не соглашусь с таким грубым упрощением личности Брежнева. Он в последние годы жизни дважды ставил вопрос о своей отставке, но «старики» – Тихонов, Соломенцев, Громыко, Черненко – не допустили этого: больной Брежнев был им удобен.
Брежнев уже ничего не мог. А те, кто мог, – им ничего было не надо, кроме кресел. Они очень боялись, чтобы кто-то из молодых не вырвался вперед, и тогда всем им придет конец.
Авария в Ташкенте
Весной 1982 года произошли события, которые оказались для Леонида Ильича роковыми.
Он отправился в Ташкент на празднества, посвященные вручению Узбекской ССР ордена Ленина.
23 марта по программе визита мы должны были посетить несколько объектов, в том числе авиационный завод. С утра, после завтрака, состоялся обмен мнениями с местным руководством, все вместе решили, что программа достаточно насыщенна, посещение завода будет утомительным для Леонида Ильича. Договорились туда не ехать, охрану сняли и перебросили на другой объект.
С утра поехали на фабрику по изготовлению тканей, на тракторный завод имени 50-летия СССР, где Леонид Ильич сделал запись в книге посетителей. Управились довольно быстро, и у нас оставалось свободное время. Возвращаясь в резиденцию, Леонид Ильич, посмотрев на часы, обратился к Рашидову:
– Время до обеда еще есть. Мы обещали посетить завод. Люди готовились к встрече, собрались, ждут нас. Нехорошо… Возникнут вопросы… Пойдут разговоры… Давай съездим.
Гостеприимный Рашидов, естественно, согласился:
– Давайте, Леонид Ильич, давайте съездим.
Разговор зашел уже при подъезде к резиденции.
Вмешался Рябенко:
– Леонид Ильич, ехать на завод нельзя. Охрана снята. Чтобы вернуть ее, нужно время.
Брежнев жестко ответил:
– Вот тебе пятнадцать минут – возвращай охрану.
День стоял чудесный, ясный, мы вынесли из резиденции кресла, и Леонид Ильич с Шарафом Рашидовичем уселись на ярком солнце. Они беседовали о чем-то, Брежнев смотрел на часы, нервничал. Рябенко связался с местными руководителями госбезопасности, те стали звонить на завод. Прошло всего минут десять, не больше, Леонид Ильич не выдержал:
– Все, выезжаем. Времени на подготовку у вас было достаточно.
Колонна машин двинулась в сторону авиационного завода.
Мы знали, что принять все меры безопасности за такой короткий срок невозможно. Что делают в таких случаях умные руководители? Просят всех оставаться на рабочих местах. Пусть бы работали в обычном режиме, и можно было никого не предупреждать, что мы снова передумали и высокий гость все-таки прибудет. Здесь же по внутренней заводской трансляции объявили: едут, встреча – в цехе сборки. Все бросили работу, кинулись встречать.
Мы все-таки надеялись на местные органы безопасности: хоть какие-то меры принять успеют. Но оказалось, что наша, московская охрана успела вернуться на завод, а местная – нет. Когда стали подъезжать к заводу, увидели море людей. Возникло неприятное чувство опасности. Рябенко попросил:
– Давайте вернемся?
– Да ты что!
Основная машина с Генеральным с трудом подошла к подъезду, следующая за ней – оперативная – пробиться не сумела и остановилась чуть в стороне. Мы не открывали дверцы машины, пока не подбежала личная охрана.
Выйдя из машины, двинулись к цеху сборки. Ворота ангара были распахнуты, и вся масса людей также хлынула в цех. Кто-то из сотрудников охраны с опозданием закрыл ворота. Тысячи рабочих карабкались на леса, которыми были окружены строящиеся самолеты, и расползались наверху повсюду, как муравьи. Охрана с трудом сдерживала огромную толпу. Чувство тревоги не покидало. И Рябенко, и мы, его заместители, настаивали немедленно вернуться, но Леонид Ильич даже слушать об этом не хотел.
Мы проходили под крылом самолета, народ, заполнивший леса, также стал перемещаться. Кольцо рабочих вокруг нас сжималось, и охрана взялась за руки, чтобы сдержать натиск толпы. Леонид Ильич уже почти вышел из-под самолета, когда раздался вдруг скрежет. Стропила не выдержали, и большая деревянная площадка – во всю длину самолета и шириной метра четыре – под неравномерной тяжестью перемещавшихся людей рухнула!.. Люди по наклонной покатились на нас. Леса придавили многих. Я оглянулся и не увидел ни Брежнева, ни Рашидова, вместе с сопровождавшими они были накрыты рухнувшей площадкой. Мы, человека четыре из охраны, с трудом подняли ее, подскочили еще местные охранники, и, испытывая огромное напряжение, мы минуты две держали на весу площадку с людьми.
Люди сыпались на нас сверху, как горох.
…Леонид Ильич лежал на спине, рядом с ним – Володя Собаченков. С разбитой головой. Тяжелая площадка, слава Богу, не успела никого раздавить. Поднимались на ноги Рашидов, наш генерал Рябенко, местные комитетчики. Мы с доктором Косаревым подняли Леонида Ильича. Углом металлического конуса ему здорово ободрало ухо, текла кровь. Помогли подняться Володе Собаченкову, сознания он не потерял, но голова была вся в крови, кто-то прикладывал к голове платок. Серьезную травму, как потом оказалось, получил начальник местной «девятки», зацепило и Рашидова. Доктор Косарев спросил Леонида Ильича:
– Как вы себя чувствуете? Вы можете идти?
– Да-да, могу, – ответил он и пожаловался на боль в ключице.
Народ снова стал давить на нас, все хотели узнать, что случилось. Мы вызвали машины прямо в цех, но пробиться к ним не было никакой возможности. Рябенко выхватил пистолет и, размахивая им, пробивал дорогу к машинам. Картина была – будь здоров, за все годы я не видел ничего подобного: с одной стороны к нам пробиваются машины с оглушительно ревущей сиреной, с другой – генерал Рябенко с пистолетом.
Ехать в больницу Леонид Ильич отказался, и мы рванули в резиденцию. В машине Рябенко доложил Брежневу, что случилось, кто пострадал. Леонид Ильич, сам чувствовавший себя неважно, распорядился, чтобы Володю Собаченкова отправили в больницу. У Володи оказалась содрана с головы кожа, еще бы какие-то миллиметры, и просто вытекли бы мозги.
Конечно, если бы мы не удержали эту тяжеленную площадку с людьми на ней – всех бы раздавило, всех, в том числе и Брежнева.
В резиденцию вызвали врачей из 4-го управления Минздрава, которые прибыли с многочисленной аппаратурой. Остальных пострадавших на машине «скорой помощи» отправили в больницу. Володя Собаченков очень скоро, буквально через час, вернулся из больницы с забинтованной головой. Врачи осмотрели Леонида Ильича, сделали рентген и, уложив его в постель, уехали проявлять снимки.
Результаты предстали неутешительные: правая ключица оказалась сломана. К счастью, кости не разошлись.
Леонид Ильич отдохнул, пришел в себя, началось всеобщее обсуждение, сможет ли он завтра выступить с речью на торжественном заседали ЦК Компартии республики и Верховного Совета Узбекистана. Косарев и местные врачи настаивали прекратить визит и возвращаться в Москву. Но Брежнев ответил, что чувствует себя вполне прилично, а возвращение домой вызовет в народе массу ненужных кривотолков.
Утром следующего дня, 24 марта, состояние Брежнева ухудшилось. Врачи вновь просили его вернуться в Москву, и вновь он отказался, просил сделать все возможное, чтобы он смог выступить на праздничном торжественном заседании. Руку его укрепили на повязке.
На торжества он поехал. Перед выступлением повязку снял. Встретили его овацией. Выступал больше часа! Надо отдать должное его выдержке, если хотите – мужеству. Он осторожно перелистывал страницы доклада, и из всего огромного зала только мы знали, что каждое мало-мальское движение руки вызывает у него нестерпимую боль.
Движения были скованные, речь заторможенная. Он был похож на человека, который накануне сильно выпил. Так думали не только многие телезрители или слушатели в зале, но и люди из ближайшего окружения Генерального. Нам не стеснялись задавать вопросы на эту неприятную тему. Каждому не объяснишь. Обидно.
На другой день, 25 марта, у Брежнева хватило сил выступить на встрече с руководителями республики, а чуть позже произнести поздравительную речь при вручении ордена Октябрьской Революции первому секретарю ЦК Компартии Узбекистана Шарафу Рашидовичу Рашидову.
Возвратившись в Москву, мы сразу отправились в больницу на улицу Грановского. Повторный снимок поверг в уныние даже видавших виды врачей. Трещина в ключице разошлась, кость сместилась.
Хотели делать операцию, но не решились из-за слабого сердца.
Помните, как он отдавал честь на последнем параде 7 ноября 1982 года? Он едва-едва приподнимал руку. Ключица так и не срослась.
Если раньше здоровье Генерального постепенно, но неуклонно угасало, то после Ташкента оно просто рухнуло.
Дни Леонида Ильича были сочтены, это знали не только мы, опекавшие его. Престарелое окружение сделало достаточно для того, чтобы выставить немощь своего лидера на всеобщее обозрение.
Прошло чуть более месяца после аварии в Ташкенте. Он лежал в больнице на улице Грановского. Состояние было ужасное, говорил с трудом, не срослась еще ключица после тяжелой травмы. Члены Политбюро собрались у него в больнице, чтобы обсудить предстоящий майский Пленум ЦК КПСС: о Продовольственной программе и об очередных задачах. Леонид Ильич, как почти всегда в последнее время, попросил меня остаться:
– Покури, Володя…
Я сел рядом, обкуривал его, он с упоением вдыхал запретный дым. По существу, это было «выездное Политбюро». Брежнев обратился к Тихонову, Председателю Совета Министров:
– Может, ты, Николай, выступишь с докладом?
Как и во время злополучной поездки в Ташкент, Генеральный секретарь действительно не хотел выступать, да просто физически не мог.
– Нет, Леонид Ильич, выступать должны только вы, – ответил Тихонов. – Продовольственная программа – это ваша идея, ваша задумка. И весь мир должен так ее воспринять.
Брежнев обратился к остальным:
– Вы же видите мое состояние. Тяжело – два часа на трибуне.
Все в один голос заговорили:
– Найдите в себе силы. Это нужно для мировой общественности. Надо, чтобы именно вы поднялись на трибуну.
Брежнев заворчал, но понял это как поручение Политбюро.
Пленум состоялся буквально через несколько дней – 12 мая. Генеральный секретарь, стараясь держаться потверже, тяжело прошел к трибуне. Доклад был чудовищно длинный, докладчик не выговаривал больше половины слов, просто шамкал что-то.
Он был выставлен на публичное осмеяние, весь мир потешался потом. А мне было жалко его.
Это называлось «партийная дисциплина»: раз партия поручила…
Сразу после доклада Брежнева отвезли обратно в больницу.
Очень скоро точно так поднимали с кровати и переодевали очередного Генерального – умирающего Черненко. Тому вообще оставалось жить несколько часов, когда к его кровати подвезли урну для голосования и на несколько секунд поставили на ноги перед телекамерой. Стране демонстрировали, что Генеральный жив, все в порядке. Тот не мог даже говорить, только прошептал чуть слышно, на выдохе, свое знаменитое: «Все хорошо…» Это была затея Гришина – вытащить умирающего лидера из постели.
А врачи нашего знаменитого 4-го управления молчали, словно набрав в рот воды. Варварство.
Цепляясь друг за друга, за свои кресла, никто никому ни в чем не отказывал. Больной бронхитом Черненко и другие принуждали себя к охоте в Завидове, и Генеральный, не ведая того, сокращал им жизнь своими забавами. А они – сокращали жизнь ему, без ведома врачей едва ли не горстями всучивая таблетки.
Так доживали они, кучкуясь, губя себя и друг друга.
Смерть Брежнева
Да, дни Леонида Ильича были сочтены, мы, трое «прикрепленных», знали об этом, с тревогой ждали рокового дня, и каждый из нас думал: только бы не в мою смену, не дай Бог. Не только думали, но и обсуждали это вслух. Во-первых, чисто по-человечески – тяжело: он стал для нас своим. Во-вторых, вполне естественная смерть первого лица в государстве для каждого из нас могла обернуться чем угодно, при нашей-то системе – затаскают потом: что да как, а вы где были? О самом элементарном, о том, что останемся без работы, об этом как раз не думали.
…Весь мир знал о состоянии здоровья нашего Генерального, а никакого, хоть самого скромного медпункта на даче так и не организовали. Даже дежурную медсестру не прикрепили. То, что Брежнев медиков не жаловал, считая себя здоровым, дела не меняет.
Это не халатность, это – преступление.
Я чувствовал и ребятам говорил: можете не волноваться, все случится в мою смену, я знаю.
Почти угадал.
7 ноября 1982 года Генеральный секретарь с трибуны мавзолея приветствует военный парад. Очередная демонстрация благополучия: вождь жив, все в порядке. Он пытается отдавать честь, но рука вяло поднимается до уровня плеча, ключица по-прежнему дает о себе знать, беззвучно шамкает губами. Эти немощные попытки отдать честь превратились потом в массовую пародию, как и манера выговаривать слова по слогам.
8 тот же день, 7-го, он уехал на два праздничных дня в Завидово, «на охоту». Сидел там, безоружный, в машине, беспомощно и азартно следил за выстрелами своего телохранителя, в последний раз переживая жгучее чувства охотничьего азарта.
9 ноября я заступил на дежурство. Леонид Ильич появился на работе минут двадцать одиннадцатого. Я встретил его, как обычно, у лифта на третьем этаже. Вышел, пальто осеннее темно-серое – распахнуто, шапка ондатровая – в руках. Улыбается, руку протянул:
– Здравствуй, Володя.
Я сразу на любимую тему:
– Как охота?
– Хорошо.
До кабинета по коридору метров сорок. Я проводил его в комнату отдыха, помог раздеться. Начальник охраны уехал домой, и я остался один. Никто к нему не заходил в этот день, кроме помощников и референтов. Кажется, только Черненко зашел ненадолго по текущим вопросам. В середине дня попросил меня, как обычно:
– Я сейчас пойду обедать, что там у тебя?
Принес ему папку с повседневными делами.
Все, как всегда. После обеда он прилег на диван отдохнуть, и мы на пару часов переключили телефоны на приемную.
После обеда Леониду Ильичу нужно было сделать укладку волос. Но, увы, парикмахера не было, Толя наш в очередной раз запил… Он тоже был в Завидове, на охоте, успел утром побрить Генерального, то есть был трезв, а из Завидова приехал прямо в Кремль – очень даже крепко поддатый. Меня взяло зло: сколько можно?
– Ты что себе позволяешь!
– Будешь ругаться – вообще уйду, – ответил он невозмутимо.
– Ну и уходи!
Толя забрал свой парикмахерский ридикюль, развернулся и ушел.
Леонид Ильич проснулся в 17 часов.
– Давай Толю.
– Его нет.
– А в чем дело?
Я сказал как есть. Сказал, что прогнал его. Леонид Ильич на этот раз даже не рассердился.
– Вот разгильдяй, опять нализался, – спокойно, по-домашнему сказал Генеральный и спросил, как беспомощный домоуправ: – Ну и что будем делать?
– Да ничего страшного. Садитесь, пожалуйста, я сам сделаю вам прическу.
Он послушно сел. Я взял расческу, включил воду и вполне прилично все сделал. Брежнев оглядел себя в зеркале и остался доволен.
– Вот и хорошо.
Последняя прическа в жизни. Можно сказать, что я снарядил его на тот свет.
В 19 часов в приемной раздалось два звонка. Я вошел.
– Забирай папку, портфель. Поехали.
По дороге в Заречье я выкуриваю последнюю в жизни сигарету. (Курить по-настоящему я так и не научился, а после смерти Брежнева пропал смысл дымить.) Приехали. Я помогаю снять пальто Леониду Ильичу, успеваю раздеться сам – на ходу, на лету; провожаю своего подопечного на второй этаж, папку – на тумбочку, рядом – портфель, и, перекинув пальто через руку, спешу к себе в служебный домик, докладываю по телефону оперативному дежурному: «Мы на месте».
В 20.30 звонит официантка: «Владимир Тимофеевич, вас приглашают на ужин». Все, как всегда. Леонид Ильич уже за столом, но ни к чему не притронулся. Ждет меня.
Ужин – творог и чай. Как это часто бывало, Леонид Ильич попросил для меня дополнительно колбасы.
В этот вечер он, человек большой выдержки и мужества, впервые пожаловался на боль в горле.
– Тяжело глотать…
Он даже не сказал «больно», а «тяжело».
– Может, творог неразмятый проглотили? – спросил я.
Молчит.
– Может, врача вызвать?
– Нет, не надо.
Виктория Петровна сидит молча. Любимую передачу «Время» смотреть не стал. Поднялся из-за стола.
– Спокойной ночи. Вить, ты пойдешь?
– Да нет, Леня, я телевизор посмотрю.
Ничего настораживающего в уходе не было. В последние месяцы он иногда пропускал «Время», это бывало. А тут еще после охоты – 150 километров езды.
Около одиннадцати поднялась в спальню Виктория Петровна.
Не помню, вызывал ли он меня в этот раз среди ночи «покурить». Кажется, нет, ночь прошла спокойно.
А утром прибыл Собаченков, я сдал ему смену и стал собираться домой. Он вдруг попросил меня:
– Пойдем вместе, разбудим, потом поедешь.
Такие просьбы случались прежде, хотя и не часто. То ли стеснялся напарник мой заходить утром в комнату один, то ли решил подстраховаться – не знаю. Я особо домой не спешил, срочных дел не было. Да, честно говоря, я и сам любил дело до точки доводить: сдал подопечного с рук на руки и тогда уж свободен.
Вышли из служебной комнаты без двух минут девять.
Прошли в дом, кивнули внизу Виктории Петровне. Она сидела за столом, завтракала. Поднялись на второй этаж, я открыл дверь. Шторы на окнах задвинуты, но они прозрачные, и в комнате довольно светло. Володя направился к окнам, шторы открывались легко, но с шумом. Он с силой отдернул их. Леонид Ильич обычно сразу открывал глаза. На этот раз он не пошевелился, лежал на спине, голова опущена на грудь. Бывало иногда, он запрокинет голову, всхрапнет и задерживает дыхание чуть не до минуты. Но тут подбородок на груди, поза странная, для сна неудобная, подушка сбилась к спинке кровати, и он ее не поправил. Я легонько потряс его за предплечье:
– Леонид Ильич, пора вставать.
Никакой реакции. Стал трясти сильнее, он даже заколыхался в постели, но глаза не открыл. По коже у меня прошел легкий морозец. Я сказал Володе Собаченкову, который уже шел ко мне:
– Володь! Леонид Ильич готов…
Он остановился посреди комнаты как вкопанный.
– Как готов?
– Кажется, умер.
Он побледнел, его как будто поразил столбняк.
– Беги на телефоны, сообщай. И позови быстро коменданта.
Он рванул из комнаты вниз. Через несколько минут прибежал Олег Сторонов – комендант.
Я тормошил Леонида Ильича, хлопал его по щекам, дышал ему через марлю в рот. Олег давил ему на грудь, делал искусственное дыхание. Я – за плечи, Олег – за ноги, подхватили грузное тело и положили на пол, на ковер. Олег взмок, видимо, он повредил ребро Леониду Ильичу или что-то еще, но изо рта Брежнева брызнула мне на рубашку сукровица. Сменяя друг друга, мы делали искусственное дыхание, это продолжалось около получаса, пока не приехал Юрий Владимирович Андропов. Вошел, лицо серое.
– Ну, что тут?
– Да вот… по-моему, умер.
Он вышел из комнаты в коридор, я за ним.
– Пришли его будить и застали в таком виде.
Я рассказал, что и как мы делали. И был удивлен, что Андропов не задавал лишних или неприятных для нас вопросов.
– Да, видимо, ничем уже не поможешь. А где Виктория Петровна?
– Внизу, в столовой. Он спустился к ней.
Виктория Петровна потом обиделась, что мы не сообщили ей сразу. А как? Во-первых, я не мог оставить Леонида Ильича ни на секунду. А во-вторых, я ей сообщу, а потом приедут врачи, вдруг приведут Леонида Ильича в чувство, а Виктория Петровна уже будет лежать с сердечным приступом.
После Андропова, следом приехал Евгений Иванович Чазов. Подошел, посмотрел.
– Был теплый, – сказал я, – пытались привести в чувство.
– Ну что ж, все делали правильно. А где Андропов?
Евгений Иванович тоже спустился вниз.
Последними прибыли врачи-реаниматоры кремлевской «скорой помощи». Они вошли вместе с Чазовым, полные руки приборов. Сразу за ними – Виктория Петровна, едва-едва ступая, вся в слезах, руки трясутся, ее поддерживал Андропов. Увидев на полу неподвижного мужа, разрыдалась. Реаниматоры спросили:
– Ну, что? Делать?
– Делайте, – ответил Чазов.
Они развернули свои приборы и стали делать искусственное дыхание. Это продолжалось около десяти минут. Все стояли молча, Чазов наконец сказал:
– Прекращайте, – и, обращаясь к Андропову: – Бесполезно.
Приехал Рябенко.
Мы с медсестрой подняли грузное тело на кровать. Руки у покойного расползлись в стороны, и я помог медсестре связать их. Тяжелые, они снова безжизненно расползлись, и я снова связал.
Реаниматоры ушли. Мы все собрались внизу, потом снова поднялись наверх. Андропов и Рябенко поддерживали Викторию Петровну. Чазов наконец сказал:
– Все… Надо выносить, отправлять.
Он же и позвонил в морг, чтобы прислали машину. Я вызвался сопровождать.
В машине мы оказались вдвоем – один на один. Ни медиков, никого. Он был накрыт простыней, лицо открыто. Машину раскачивало, мотало на поворотах. Передо мной колыхался большой живот, разбрасывало по сторонам голые ноги и руки, снова развязавшиеся. Я всю дорогу старался соединить вместе непослушные останки. Человек, который одним росчерком пера, одним словом решал судьбы миллионов людей в стране, да и в мире, был теперь обычным смертным. Все в этом мире – суета сует, думал я, потому что перед вечностью – все равны, независимо от должностей и важности на земле. Был ты первым, а теперь никому не нужен, ни-ко-му.
И моя жизнь рядом с ним – кончилась, оборвалась в один миг. На втором этаже дачи он уже был мертв, но там я чувствовал напряжение, и это еще было признаком моей собственной жизни при нем. Теперь же наступил спад, полное опустошение. Здесь, в машине, возникла мысль: кому я теперь нужен, зачем я?
В последний раз мы едем вместе, в одной машине, но теперь мы равны…
Морг – справа от ворот № 2 Кунцевской больницы. Подъехала тележка на колесах, открылась дверь холодильной камеры.
Его положили на стол – раздетого, спокойного, отрешенного.
Дверь закрыли, у входа в камеру поставили охрану. Еще одного охранника – у входа в морг. Предосторожность не лишняя. Мы дожили до времен массовых надругательств даже над памятниками.
Я вернулся на дачу. В служебном домике сидели Рябенко Александр Яковлевич, Володя Собаченков, Олег Сторонов, приехал Геннадий Федотов. То есть собрались все – начальник охраны, его замы, комендант. Мы сидели долго. Обычно беспрерывно звонит телефон, наше начальство на Лубянке интересуется не только делами и состоянием нашего подопечного, но и нашим собственным настроением. Теперь же, более чем за час, – ни единого звонка. Мы оказались отключены от всего мира, сидели, словно сироты, и ясно понимали свою полную ненужность никому. Мы никогда и ни для кого не представляли самостоятельной ценности, мы были лишь частью Его. И теперь вместе с Ним умерли и мы.
Каждый понимал: мы расстаемся друг с другом навсегда, больше нам никогда не работать вместе. И по отдельности на таком уровне – тоже не работать.
Только днем, в полтретьего, я позвонил жене домой.
– Что-нибудь случилось? – спросила она.
– Случилось.
Явился домой – рубашка в крови.
По нашим совершенно идиотским правилам, о смерти никому не сообщалось, вся страна оставалась в неведении. Но уже в этот же день, к вечеру, мы с Даной, женой, отправились в магазин за хлебом, и какая-то женщина в очереди сообщила мне: «А вы знаете, Брежнев умер». – «Откуда это вам известно?» – спросил я. «Все знают, одни вы не знаете, – почти обиделась она. – Слышите, какая музыка по радио?»
Да, и по радио, и по телевидению были изменены программы, звучала траурная музыка. Был отменен праздничный концерт, посвященный Дню милиции, и Щелоков – министр, выступил в связи со своим ведомственным праздником по телевидению и ни разу не упомянул фамилию Генерального секретаря.
У меня, да и не только, думаю, у меня одного, вся эта кощунственная игра – заговор молчания – вызывала внутренний протест. Даже из смерти человека извлекалась для кого-то какая-то выгода. Обманываете страну, скрываете – ну, тогда теле– и радиопередачи не меняйте, сохраняйте все как есть. Глупость величайшая: видимость благополучия и – целые сутки траурная музыка.
Игры, игры – тактика, стратегия. Они там, на самом верху, соображают, как сообщить, ведь надо назвать председателя комиссии по организации похорон, а это автоматически – будущий Генсек.
Прежняя жизнь для нас в эти дни кончилась, а новая не началась; выбившись из прежнего многолетнего ритма, мы оказались «на подхвате». Работы хватало. Все три дня, вплоть до похорон, мотались между Заречьем и Колонным залом Дома союзов, где стоял гроб с телом. Ежедневно с 12 до 17–18 отвозили-привозили Викторию Петровну, других родственников, их много съехалось из разных городов. Мелькало множество лиц, знакомых, незнакомых, белых, черных, желтых – иностранных делегаций прибыло более сотни.
После того как прекратили доступ к телу, остались родственники. Полчаса на прощание.
Еще одно прощание – у Кремлевской стены. Опускали нормально, но в это время прогремел первый залп прощального салюта, резонанс от стены – и у миллионов телезрителей сложилось мрачное впечатление, как будто соскользнули или оборвались веревки и гроб с телом рухнул в яму.
Все разошлись, родственники задержались, постояли у портрета.
Потом состоялась гражданская панихида. В Ново-Огареве. Собрались родственники, близкие, члены Политбюро и секретари ЦК Человек около ста. Посидели, помянули. У нас, у охраны, был отдельный столик. Здесь же, кстати, была панихида по матери Брежнева, теперь – по нему, потом – по Андропову и Черненко.
К вечеру, в седьмом часу, кавалькада машин отправилась в Заречье. Сюда, на дачу, направился уже довольно узкий круг людей.
Приехали, кстати сказать, и повара, официантки, весь обслуживающий персонал из всех смен. Мы были, без преувеличения, как члены семьи.
Произносились речи об ОСВ-1, ОСВ-2, о международной обстановке, о противоракетной обороне. Протокольные речи исчезли, как только заговорила Виктория Петровна. Она вспомнила, как Леня, жених, впервые появился у ее родителей и как он им понравился. Хорошо говорила, тепло.
Ушел из жизни очень близкий мне человек, это чувство было и осталось. Некоторые наши ребята называли его с улыбкой «дед», а у меня ни разу язык не повернулся сказать о нем, пусть даже с доброй иронией, с симпатией или жалеючи: «Дед…»
С полгода меня преследовала траурная музыка Колонного зала.
Дружную команду нашу разогнали, растрепали, пустили по ветру. Володе Собаченкову предложили место заместителя начальника одной из комендатур, в каком-то особняке, точно не знаю. Он отказался, ушел на пенсию, хотя и моложе меня.
Геннадий Федотов заново, через низы (поработал в одной из комендатур) попал к члену Политбюро Воротникову – заместителем начальника отделения личной охраны. Должность та же, что и при Брежневе, но охраняемый – не та фигура. После вертолетной аварии, в которую попал Воротников и о которой я рассказывал, Федотова отправили заместителем начальника отделения охраны Алмазного фонда, и уже оттуда, где-то в конце 80-х его, «ушли» на пенсию.
Александр Яковлевич Рябенко еще поработал заместителем начальника 11-го отдела КГБ СССР, занимался охраной резервных дач (бывших членов Политбюро) – Делом для него мелким. Но и это было проявлением благосклонности, все же он был намного старше нас всех. Оттуда его вскоре свели к пенсии. Я оказался долгожителем.
При Горбачеве
Между двумя Генеральными
Уже в дни похорон руководство 1-го отдела велело мне явиться на беседу. Начальник 18-го отделения предложил пойти к нему заместителем. То есть он назвал мне свою недавнюю должность, которую оставил, пойдя на повышение. Ввели там, кстати, перед этим и еще одну должность заместителя – специально для бывшего начальника личной охраны Громыко. Разговор был довольно натянутый. Практически я оставался на той же служебной ступеньке, но с другими обязанностями.
18-е отделение обеспечивает безопасность глав различных делегаций – и зарубежных, и наших. Если раньше я как «прикрепленный» Генерального секретаря направлял и проверял работу служб безопасности, то теперь сам стал непосредственным исполнителем. Кое-кто из руководителей, пытавшихся прежде наладить со мной доверительные отношения, теперь вел себя иначе.
– У нас сложная работа, надо знать людей, – говорили мне не без высокомерия, давая понять, что я – «голубая кровь», раньше жил на всем готовом, ездил, снимал сливки, а теперь вот – попаши-ка сам.
Вкалывать я умел, а черновой работы и прежде не чурался. Одно из первых заданий – подготовить поездку Гейдара Алиева, первого заместителя Председателя Совета Министров, члена Политбюро, в Вологду и Череповец. Еду заранее на место, встречаюсь с партийными и советскими руководителями области, конечно, с местными службами госбезопасности и милиции, с хозяйственниками. Согласовываю сроки и программу визита. Дел множество, и все – важные, ничего упустить нельзя. Подготовить площадку в аэропорту, зарежимить ее. Наметить посты. Выбрать транспорт, который за день до прибытия гостя должен комиссоваться. Комиссия, в состав которой входят механик, электрик, оперативный работник КГБ, проверяет транспорт – основную машину, запасную, багажную, составляет акт. Подготовить трассу следования (она разбивается на участки, согласовывается связь между ними, планируется запасная дорога), сопровождение. Дальше – осмотр резиденции: тоже комиссия (электрики, сантехники, лифтеры, строители, представители КГБ), тоже – акт. Отдельный разговор – со службой питания.
Я встречаю Алиева в аэропорту. Но разговор – в резиденции. Я должен доложить главе делегации все по протоколу: «Ваш визит подготовлен». Или бывало и такое: «Изменили маршрут следования». Гость должен это знать, потому что гостеприимные хозяева могут «подставить»: «Мы хотели лучше, а ваши приехали, поменяли…»
Все учитывается, не только вкусы, но и капризы. Какие комнаты: куда окна – на юг или на север, с видом на реку или на лес, какие шторы – плотные или прозрачные, какого цвета; какой свет в ванной – яркий или приглушенный; как поставить кровати. Конечно, перед тем как вылететь на место, я встречаюсь с «прикрепленным» Алиева, выясняю привычки и вкусы руководителя. Раньше с этим обращались ко мне, теперь я превратился в исполнителя при более мелких фигурах.
Работа черновая, но мне – нравилась, более живая, чем прежде. Динамичная, разнообразная. При первом лице ездишь – по готовому живому коридору, видишь все из окна машины, ни с кем ни одного нормального слова, как в аквариуме. А тут – все создаешь своими руками. Тому же Алиеву я готовил поездку во Вьетнам. Побывал на электростанциях, заводах, ездил по селам, мотался по всей стране без передышки, иногда за день бутерброд перехватишь, и все. Но зато я познакомился с интересными людьми, узнал страну, жизнь ее увидел изнутри. Дел по моей части здесь хватало, порядка, скажем прямо, было немного. На заводах, в цехах – завалы угля, шлака, подъездов нет – ямы, ухабы. На сталеплавильном заводе возле старых мартеновских печей я обнаружил в металлоломе гильзы от снарядов. «Да они не взорвутся», – уверяли меня и убрать отказались. Что-то удалось поправить, на берегу одной из рек, например, по моей просьбе был сооружен помост к парому, изменили один из маршрутов и т. д.
Когда прибыл Гейдар Алиевич, я доложил ему о гильзах и попросил, нельзя ли от поездки на завод отказаться. «Нельзя, – ответил он, – нас ждут там, надо ехать». Тогда я предложил ему обойти эти печи, и он согласился. Он вообще, надо сказать, хоть и восточный человек, но оказался непривередлив, организацией поездок остался доволен и после визитов в самолете благодарил меня: «Все было хорошо. Спасибо».
За эти короткие годы, между Брежневым и Горбачевым, я побывал в Польше с нашим премьером Тихоновым. Там нас опекал начальник Управления ГБ Польши, боевой генерал, прошедший войну, он сразу сказал: «Не волнуйтесь, все будет в порядке».
Съездил в Бразилию с секретарем ЦК КПСС Михаилом Васильевичем Зимяниным, он курировал тогда идеологию. Эта поездка, около десяти дней, запомнилась мне. Я чувствовал себя более или менее раскрепощенно: хоть и отвечал за его безопасность, но все-таки у него был свой комендант по типу «прикрепленного», не говоря уж о бразильской охране. То есть забот, конечно, меньше, чем при Генеральном. К тому же Зимянин оказался чрезвычайно прост в общении, я был даже поражен, подобного товарищеского отношения к себе я прежде не испытывал. Веселый, остроумный. Мы исколесили на машинах полстраны – Сан-Паулу, Порту-Алегри, Бразилиа, Рио-де-Жанейро. В Сан-Паулу долго гуляли вечерами.
– Пойдемте прогуляемся, город посмотрим, людей.
Китайский квартал, японский квартал, толпы нарядных, праздничных людей. Полицейский, которого нам выделили местные власти, оказался украинцем (его дед эмигрировал в 1914 году) и хорошо говорил по-русски. Мы устали от его бесконечных расспросов, Михаил Васильевич терпеливо слушал, а потом стал рассматривать прохожих. Мы с комендантом незаметно оттерли назойливого сопровождающего. Гуляли после ужина часа по два-три, всегда с нами был кто-то из сотрудников советского посольства.
Не помню, в каком городе мы вечером отдыхали в отеле. Бразильскую охрану отпустили. Неожиданно Зимянин предложил:
– Давай в кино сходим.
– Поздновато.
– Ничего.
– Хорошо, я вызову охрану.
– Да не надо. Не надо.
Мы сели в машину. Я, как всегда, заранее выяснил интересы Михаила Васильевича и уже знал, какие театры, кинотеатры находятся в районе отеля. Позвонил лишь быстро в посольство, спросил, во сколько начинается и заканчивается сеанс.
– Фильм – эротический, – предупредил я.
Он засмеялся:
– Это тоже надо знать.
Мы вошли в зал, когда свет уже был погашен, а в конце я предупредил:
– Через пять минут фильм закончится, идемте.
Так же, в темноте, вышли. Предосторожность не лишняя, назавтра в газетах могли появиться фотографии: главный идеолог СССР, проповедник социалистического реализма всем видам искусств предпочитает киноэротику.
Мне примитивный фильм откровенно не понравился. Зимянин отнесся спокойно, не ругал и не хвалил: Обычный фильм из этого рода продукции.
На встречах с губернаторами городов шла речь о развитии культурных связей между двумя странами, Зимянин без особого напора, деликатно, но убежденно отстаивал социалистический строй, социалистический реализм и все прочее социалистическое. Отстаивал, но не навязывал. Таким, мне казалось, и должен быть нормальный политик.
Из-за забастовки то ли пилотов, то ли авиадиспетчеров наш вылет в Москву задерживался.
– Ну и Бог с ними, – махнул рукой Михаил Васильевич. – Пойдем прогуляемся по аэропорту.
Аэропорт – целый город. Гуляем. Купили на память по серебряной цепочке.
…Так шла моя новая служба. Через два года я стал уже начальником 18-го отделения, в том же звании – полковника, которое получил за год до смерти Брежнева.
В конце лета 1984 года меня пригласил начальник отдела генерал Николай Павлович Рогов. Он сообщил, что в сентябре отправляется в Болгарию жена секретаря ЦК КПСС Михаила Сергеевича Горбачева и мне предстоит сопровождать ее. Удивило несоответствие уровней: с женой одного из секретарей отправляют – ни много ни мало – руководителя отделения! Личной просьбы Горбачева быть не могло, он меня не знал.
Потом я понял, руководство КГБ все просчитало. За три последних года подходила очередь четвертого Генерального секретаря, кандидатура сомнений не вызывала. При разговоре начальник в легкой непринужденной форме намекнул: эта поездка может повлиять на мою дальнейшую судьбу. В кулуарах тоже был разговор: на смотрины.
Я был наслышан о своенравности Раисы Максимовны, ее самовлюбленности и даже вздорности. Теперь напрямую стал изучать ее характер, привычки, все, как всегда: кухня, соки, воды, шторы, температура комнаты, вид из окна. Выяснил круг интересов бывшего преподавателя ставропольского вуза – церкви, соборы, музеи, театр, литература.
Раису Максимовну сопроводили в аэропорт комендант и один из руководителей отдела. Здесь, прямо у самолета, меня представили: «Медведев Владимир Тимофеевич. Будет сопровождать вас в поездке». В Софии нас встречала дочь Тодора Живкова – Генерального секретаря Болгарской компартии, возглавлявшая Министерство культуры.
В резиденции – красивый особняк – состоялся обед. Обсудили программу, которая была тщательно составлена, расписана по дням, по часам, по объектам. Гостеприимные хозяева просили гостью высказать свои просьбы, пожелания. Раиса Максимовна скромно ответила:
– Что предложите, то и будем смотреть.
Выяснилось, что Раиса Максимовна тщательно изучила страну (к зарубежным поездкам она всегда готовилась усердно).
Она мне понравилась. Обходительная, достаточно скромная. Одевалась со вкусом, туалеты меняла, но в меру, носила все отечественное. Живая, любознательная. Я удивился тогда расхожему мнению о ней – порочная, злая, видимо, завистливая молва.
Удивился и, откровенно говоря, порадовался как приятной неожиданности.
Первое легкое разочарование, словно слабый намек: дыма без огня не бывает. Утром в назначенное время болгары ждали выхода Раисы Максимовны из резиденции. Я предупредил ее: наши друзья прибыли. Прошло 20 минут. Полчаса. Ее нет. Мне было неловко. Я снова постучался к ней: «Извините…» Она ответила, с трудом сдерживая гнев:
– А что вы так беспокоитесь за них? Ну приехали и подождут!
Она была недовольна мною.
Опоздания стали повторяться каждый день. Уставала за день? Может быть. Но в ее власти было назначить утренний выезд на более позднее время, на любой час. Я перестал ходить за ней, лишь сообщал, как говорили в старину: «Карета подана». То есть люди прибыли.
В соборах, церквях, музеях она задавала вопросы, на которые заранее знала ответ. Спрашивала, чтобы поправить гида, что-то дополнить или величественно согласиться. Это были еще только намеки – показать себя, даже перед гидом; еще только зачатки будущего – и наигранность, и искусственность, в глаза они особенно не бросались. Для каких-то неприятных выводов повода не было, в конце концов, женщина имеет право на слабости. Слухи о ней мне по-прежнему казались преувеличенными.
Но вести себя я стал осторожнее. У нее была своя связь с Михаилом Сергеевичем, тем не менее она спрашивала меня каждое утро:
– Какая информация из Москвы?
Она старалась выяснить новости по моим каналам, как будто ждала чего-то. Чего? Можно было лишь догадываться: тогдашний Генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Устинович Черненко был тяжело, неизлечимо болен…
– Все в порядке, все нормально. Ничего чрезвычайного, – отвечал я.
Поездка проходила увлекательно, мы колесили на машинах по самым заповедным уголкам страны, принимали нас всюду очень тепло. Мы с удовольствием обменивались впечатлениями о габровцах, о музеях. В один из замечательных вечеров для нас в ресторане пели и плясали цыгане. Однажды Раиса Максимовна сказала:
– Михаил Сергеевич прилетит в Болгарию, и наш дальнейший визит будет совместным.
Последнее солнечное утро застало нас в Варне, отсюда мы должны были лететь в Софию: прибывал Горбачев. Снова, как всегда:
– Какая информация из Москвы?
Мои догадки подтвердились. В самолете в этот последний совместный наш с ней перелет Раиса Максимовна интересовалась подробностями моей службы у Брежнева, расспрашивала, как была организована охрана, кто подбирал обслугу, каков был состав обслуживающего персонала – повара, официанты, уборщицы, парковые рабочие… кто еще? Расспрашивала о структуре и взаимоотношениях охраны и обслуги.
– Возможно, к этому разговору мы еще вернемся, – сказала она и подвела итог поездки: – Все у нас прошло вроде нормально, все хорошо.
Тайное стало явным. Черненко был еще жив, и жить ему оставалось еще полгода, а Раиса Максимовна уже готовилась стать «первой леди» страны.
Горбачев прибыл на торжественное заседание, посвященное 40-летию социалистической революции в Болгарии. С ним мы пробыли в этой стране еще дней пять. Мои обязанности, связанные с Раисой Максимовной, закончились, у Горбачева был свой «прикрепленный», и я как бы примкнул к его охране. В дела своих коллег я старался не влезать, тем более что охрана относилась ко мне с прохладцей и ревностью, понимая, видимо, а может быть, и зная, что меня отправили в эту поездку не зря. Я искал себе какую-то работу, чувствовал неловкость, понимая, что, в общем, лишний здесь, ребята прекрасно справлялись и без меня.
…Прошло полгода. За несколько часов до смерти Константин Устинович, наряженный в костюм, на несколько секунд был поднят с постели, словно из могилы, и предстал, неподвижный, как восковая фигура, возле урны для голосования. Все, на что хватило у него сил, – едва слышно выдохнуть для миллионов телезрителей:
– Все хорошо…
Горбачев
11 марта 1985 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС было сказано:
– Всех нас, всю нашу партию и страну постигло тяжелое горе. Ушел из жизни видный ленинец, выдающийся деятель Коммунистической партии Советского Рогоза и Советского государства, международного коммунистического движения, человек чуткой души и большого организаторского таланта – Константин Устинович Черненко. Большой и славный путь прошел Константин Устинович…
Слова, слова… Чем же так обязано покойному международное коммунистическое движение? За 45 лет партийной работы где, когда проявил он себя как «выдающийся деятель»?
Протокольная игра. Партийный ритуал. Можно ли в подобных случаях говорить так, чтобы остаться честным и не обидеть покойного? Наверное. Наверняка. Были же у этого человека свои достоинства. Верный ленинец – правда, человек чуткой души – допускаю, наконец, будучи уже больным, работал, как мог и сколько мог.
Пленум ЦК рассмотрел вопрос об избрании нового Генерального. По поручению Политбюро с речью по этому вопросу выступил А.Громыко. Он внес предложение избрать Генеральным секретарем ЦК КПСС – Горбачева.
При избрании, как на похоронах: все слова – в превосходной степени.
…Он достоин избрания Генеральным секретарем.
…Он вел Секретариат.
…Он председательствовал также на заседаниях Политбюро в отсутствие Константина Устиновича Черненко. Показал он себя блестяще.
…Михаил Сергеевич – человек острого и глубокого ума.
…Михаил Сергеевич всегда умеет находить такие решения, которые отвечают линии партии.
…Он очень хорошо и быстро схватывает суть процессов.
…Я сам часто поражался его умению быстро и точно схватывать суть дела, делать выводы, правильные, партийные выводы.
…Михаил Сергеевич человек широкой эрудиции.
…Этот человек умеет аналитически подходить к проблемам. Это – сущая правда. Умение у него блестящее в этом отношении.
…Суждения Михаила Сергеевича всегда отличаются зрелостью и настойчивостью, в лучшем смысле этого слова, партийной настойчивостью.
…Умение видеть главные звенья и главным подчинять второстепенные ему присуще в сильной степени. Это умение – достоинство, и большое достоинство.
…В лице Михаила Сергеевича Горбачева мы имеем деятеля широкого масштаба, деятеля выдающегося, который с достоинством будет занимать пост Генерального секретаря ЦК КПСС…
Очень скоро развернется совершенно оголтелая кампания против Брежнева, вспомнят его слабость перед угодничеством, лестью, холуйством, при этом сами лакеи останутся как бы в тени. Не потому ли, что потом они, холопы, сами станут выходить из тени на ярко освещенную политическую сцену. Вспоминали угодничество десяти-двадцати-тридцатилетней давности, а про мартовскую короткую речь Громыко – забыли. Забыли, что объявивший войну лести и угодничеству Михаил Сергеевич Горбачев, еще даже не заняв пост Генерального секретаря, еще только на подступах, на последних ступенях, уже принимал славословие открыто, в лицо, как должное. В ответной речи – ни попытки принять хоть часть сказанного хотя бы как аванс.
– Обещаю вам, товарищи, приложить все силы, чтобы верно служить нашей партии, нашему народу, великому ленинскому делу…
Сначала – партии, а потом уже – народу.
– Разрешите выразить уверенность, что, идя навстречу XXVTI съезду КПСС, народ и партия, сплоченные вокруг Центрального Комитета, сделают все, чтобы еще богаче и могущественнее была наша Советская Родина, чтобы еще полнее раскрылись созидательные силы социализма.
Продолжительные аплодисменты.
Из короткой речи Громыко я особенно запомнил эти слова:
– У Михаила Сергеевича партийный подход к людям.
Горбачев полностью сменил охрану. Конечно, дело его – с кем работать… Но эти ребята служили ему верой и правдой с 1978 года, то есть семь лет. Я хорошо знал их, они вышли из нашего 18-го отделения, дело свое прекрасно знали, профессионалы. Убрав их, он ни о ком не позаботился. Такое отношение у нас как-то не было принято. Эдуард Амвросиевич Шеварднадзе, к примеру, предчувствуя, что покинет свой пост, заранее побеспокоился об офицерах охраны: одного отправил во Внешнеэкономическую академию, другого – в службу безопасности в одну из зарубежных стран, третьему нашел место в МИДе. Офицеры, видимо, всегда будут вспоминать своего шефа с благодарностью. Горбачев же в отличие от Шеварднадзе перешел на новый высокий – высочайший! – пост, возможности обрел неограниченные и – бросил, иначе не могу сказать, именно бросил, людей, которые охраняли его.
Я еще не знал тогда, что Михаил Сергеевич – голый политик, в людях людей не видит, что несколько лет спустя он будет бесконечно тасовать свое политическое окружение, бросая и левых, и правых, некоторых из них снова приближая и снова бросая.
В конце концов бросили его – они.
Сложилось исторически печально: каждый новый Генеральный секретарь ведет себя так, словно жизнь в стране начинается с него, вся правда – с него, все благо – с него. Ладно, если бы предшественников просто забывали, но ведь их каждый раз топчут. Неблагодарно поступали и с ближайшим окружением первых лиц – с обслугой, охраной, без вины виноватыми.
С одной стороны, трудно было предположить, что мне доверят охрану еще одного Генерального, такого просто не бывало в истории Советского государства; наоборот – бывало, когда при одном вожде меняли охрану по нескольку раз; даже в короткие периоды Андропова, Черненко охрана менялась. Но, с другой стороны, эта поездка в Болгарию, кажется, я прошел проверку вполне успешно.
Горбачев дал команду начальнику 9-го управления – «девятки» – Юрию Сергеевичу Плеханову подобрать в охрану людей, которые прежде не служили высокопоставленным лицам, как бы «чистых». Деликатность ситуации состояла в том, что, как я говорил, подобную охрану воспитывало и подбирало 18-е отделение, которое я возглавлял. Руководство отдела запросило у меня двух сотрудников. При этом не только не поинтересовалось уровнем их подготовки, сильными или слабыми сторонами, чертами характера, другими подробностями, но даже не поставило меня, начальника отделения, в известность – куда, для каких целей забрали людей. Бесцеремонность по отношению к своим же сослуживцам, младшим коллегам. Через некоторое время я узнаю, что эти двое назначены заместителями начальника личной охраны Горбачева. Начальником же назначили человека из другого города, никогда прежде не занимавшегося организацией и руководством личной охраны. Он сам доверительно рассказал мне, что чувствует себя котенком, которого бросили в воду. Он не знал своих обязанностей, не знал совершенно Москвы, государственных объектов и т. д. Ему было тяжело, это увидел и Горбачев.
Минул месяц.
10 апреля с утра мне позвонил начальник 1-го отдела, велел прибыть к шефу управления. Прежде Плеханов никогда не приглашал меня. Когда я был на вершине, управление возглавлял другой человек, а когда появился Плеханов, я оказался слишком мал для бесед с ним. Прикинул. В отделении все вроде в порядке, ничего не случилось. В командировку? Об этом сказал бы начальник отдела.
Плеханов вышел в приемную, кивнул мне:
– Поехали.
Когда остановились у здания ЦК, мысль о цели визита мелькнула, хотя уверенности не было: личная охрана Генсека ведь сформирована. Генерал молчал, ни слова.
Вошел в кабинет Плеханов. Минут через десять секретарь Михаила Сергеевича пригласила меня.
В торце длинного стола сидел Горбачев, рядом – Плеханов.
– Садись, – предложил Горбачев. – Как дела на службе?
– Как обычно – нормально, – ответил я. – Личный состав в порядке.
– А раньше чем занимался?
Я начал коротко говорить о том, что являлся «прикрепленным» Генерального секретаря, заместителем начальника личной охраны, об обязанностях, которые исполнял. Горбачев, не дослушав, перебил:
– Знаю я, как вы там служили. Все офицеры пьянствовали, кроме Рябенко.
Тогда я еще не знал о манере нового Генерального спрашивать и, не выслушивая, самому же отвечать. Меня задело, покоробило:
– Мы вкалывали, Михаил Сергеевич, как ломовые лошади, ни дня, ни ночи не видели. Дома не бывали.
– Ладно. Я тебя не имею в виду. Я сам видел, приезжал Андропов, его охрана пила. И ваших я тоже видел, вашу команду…
Видимо, он имел в виду поездку на отдых Брежнева с Андроповым. Когда руководитель КГБ повез Генерального секретаря через Минеральные Воды, чтобы, сделав там остановку, познакомить Брежнева с молодым Горбачевым, та встреча имела решающее значение в судьбе Горбачева; вообще он многим обязан Андропову в своей карьере. Не исключено, что Михаил Сергеевич что-то неладное и увидел в охране высоких гостей. Но думаю, почти уверен, что ему поставлял информацию сам Плеханов, работавший у Андропова секретарем.
– Речь о том, чтобы назначить тебя начальником личной охраны. Согласен? – спросил Горбачев.
– Если вы доверите эту службу, готов.
– Ладно, иди. Свободен. Конкретно обо всем скажет Плеханов.
Я уверен, что Юрий Сергеевич сам «сосватал» меня. Он, видимо, задергался, подыскивая людей на этот чрезвычайно ответственный пост. Со мной ему и самому было спокойнее.
Я вышел. Следом за мной, минут через пять, – Плеханов.
– Передавай свои дела и приступай.
Вот как сложилось. Когда-то я опекал маленького члена семьи Брежневых и затем вошел в их семью. Конечно, Рябенко держал меня на примете – просто сошлось. Теперь я опекал жену Генерального и снова поднялся на круги своя. Чисто внешнее совпадение, теперь я вспоминаю об этом с легкой иронией и грустью. И невольно сравниваю их, бывших подопечных, – наивного, бесхитростного внука и многоопытную, всезнающую жену.
Все-таки он, Андрюша Брежнев, совершил поступок, когда чужой взрослый дядя отшлепал его и он не только не наябедничал всемогущему деду, но и, переборов себя, нашел силы извиниться.
…Крым, утро. Раиса Максимовна подходит ко мне и, как школьная учительница провинившемуся младшекласснику, объявляет:
– Вы, Владимир Тимофеевич, плохо работаете.
Я озадачен. За четверть века работы в КГБ мне никто не делал серьезных замечаний за какие-то упущения. Не зная за собой вины, я хочу выяснить, что произошло.
– Я вам сейчас говорить ничего не буду, – медленно, со значением отвечает она. – Вот выйдет Михаил Сергеевич. Я хочу, чтобы он слышал.
Не понимаю, в чем дело, но понимаю, что она ему уже пожаловалась. Из дома выходит Михаил Сергеевич и – что это: – мимо нас проходит к морю, на пляж. Он уже забыл о ее жалобе, ему гораздо приятнее теперь идти отдыхать.
– Михаил Сергеевич! – опять важно, со значением окликает она его. Он разворачивается, подходит. – Вот, я вам говорила о Владимире Тимофеевиче…
Оказывается, Раисе Максимовне понадобилась женщина из обслуживающего персонала, но та – заболела… Теперь выясняется, почему я плохо работаю: подбирать нужно ту обслугу, которая в нужный момент не болеет, а работает. Но тон, тон – провинциального педагога. Я стою перед ней, здоровый крепкий мужик, накачанный-перекачанный, прошедший такую огромную школу КГБ за четверть века беспорочной службы.
– Да, вы плохо работаете!..
На лице ее не просто удовлетворение – удовольствие. Осанка, взгляд! Она величественно разворачивается, и они уходят. Мне почему-то казалось, что Михаилу Сергеевичу должно быть неудобно за супругу.
Те общались при мне просто, как муж с женой, как люди.
– Леня, ты…
– Витя, ты… Эти:
– Михаил Сергеевич, вы…
– Раиса Максимовна, вы… Как на сцене.
Сказал вот, что каждый новый Генеральный топчет или, скажем мягче, развенчивает предшественника, и слышу упрек: ну, уж Горбачев-то как раз обошелся без особых нападок.
А разве обязательно нападать в открытую – при нашей-то системе?
…Мы проезжали по Кутузовскому проспекту. На фасаде дома, где жил Брежнев, была приделана маленькая полочка. Каждый раз на ней лежали свежие цветы. Везуутром Михаила Сергеевича на работу – цветы. С работы – цветы. Он прямо в машине снял телефонную трубку и позвонил Плеханову.
– Ты проезжаешь мимо дома двадцать шесть? Полочку эту на фасаде видел?
Он даже не просил убрать ее. Просто поинтересовался: видел?
На другой день и все остальные дни, месяцы и годы не было ни полочки, ни цветов.
Одного этого звонка было достаточно, чтобы автоматически заработала система.
Всем памятно шумное расследование относительно министра внутренних дел Щелокова и его заместителя Чурбанова. Щелоковы – и муж, и жена – покончили самоубийством, Чурбанов уже успел отбыть наказание. Я не имею права не верить следствию – возможно, виновны оба. Но ведь надо было раскручивать цепочку до конца – тысячи чиновников разного уровня были втянуты в преступные связи. Ограничились же практически этими двумя личностями, потому что они – из ближайшего окружения бывшего Генерального: один – давний сослуживец, еще со времен Молдавии, другой – член семьи.
Невольно вспоминается «дело Соколова» – директора Елисеевского магазина, главного гастронома Москвы. Судили его в срочном порядке и также срочно расстреляли, оборвав нити, которые шли от него к высокопоставленным лицам. Так было всегда: выбирают какое-то одно лицо, одиозную фигуру, на которой и замыкают все грехи.
Когда истерия вокруг личности Брежнева достигла вершины – все было, от анекдотов и эстрадных пародий до обвинений в уголовных преступлениях, – тогда я увидел на телеэкране знакомое лицо Андрея Брежнева. Молодой человек, красивый, грустный.
– Я свою фамилию менять не буду, – ответил он тележурналисту.
Мне рассказывали, что он вырос порядочным человеком, и я очень рад за него.
«Горбачеву – ура!»
Снова все то же, все так же. Те же кабинеты – в Кремле и на Старой площади. Тот же социалистический выбор, хула капиталистического строя. Большие, но призрачные планы, обещания светлого будущего, которое обязательно наступит. Все та же лексика, но с новым бесконечным рефреном: «Перестройка, перестройка, перестройка…»
Все те же красочные парады с сотнями собственных портретов. И на Мавзолее ничего не изменилось – подать очки, пригласить кого-то из гостей. Стол, стулья, буфет, официантки, горячее вино. Вот Раиса Максимовна вместе с женой премьера Николая Рыжкова Людмилой Сергеевной, кажется, замерзли, вместе дружно спускаются вниз.
– Горбачеву ура! – выкликают на площади.
– Ура-а!
Демонстрация верности и любви сокращена теперь на полчаса – до двенадцати дня.
По окончании тот же банкет, здравицы, концерт. Если Виктория Петровна бывала на банкетах не часто, то Раиса Максимовна – всегда. Та – как бы вечная старуха, эта – вечно молодая, любящая показываться «в свете». Вопрос начальников личной охраны других персон еще более актуален: «Во что сегодня будет одета Раиса Максимовна?»
А я не знаю – в чем. Пусть все прочие жены не рискуют, одеваются поскромнее, если опасаются выделиться или перещеголять первую леди.
Рядом с Раисой Максимовной обычно Людмила Сергеевна – жена Рыжкова, жены Громыко, Язова.
По-прежнему все мои отпуска – зимой. Лишь однажды удалось вырваться в сентябре. Этот вопрос решала, по-моему, Раиса Максимовна.
Иногда мне кажется, если бы мою службу у генеральных секретарей поменять по времени местами, я бы меньше уставал и нервничал у Горбачева, и разочарований было бы меньше. Может быть, не зная другого опыта, считал бы высокомерную отчужденность, скрытность и внезапные всплески резкости Его и барственные прихоти и капризы Ее – неизбежными издержками работы? Может быть, охранник – он же обязательно и слуга, и Брежнев просто-напросто избаловал меня? Но ведь и там: внезапные, среди ночи, обкуривания Генерального, рискованные манипуляции со снотворными и ‘зубровкой», едва ли не ежеминутное обережение его не от чужих вероломных происков, а от самого себя, чтобы не оступился, – разве это не услуги мои? Но почему же я не чувствовал себя слугой, наоборот, был убежден, что телохранитель – профессия во многом и семейная?
Там я никогда, ни разу не был унижен.
Видимо, во многом виноват я сам. После немощного Брежнева я внушил себе, что при молодом и энергичном преемнике я буду заниматься лишь прямыми обязанностями – с уверенностью и увлечением. Интерес подогревался тем, что новый лидер объявил о демократическом преобразовании страны. Это значило в первую очередь демократические отношения с людьми, тебе подчиненными.
Уважать весь народ гораздо легче и удобнее, чем уважать отдельного конкретного человека. Объявить себя демократом проще, чем быть им. Раздвоение человека, которое с грустью, а потом с раздражением наблюдал весь народ, я видел на расстоянии вытянутой руки. Полный разлад между словом и делом.
Видеть это каждый день – большое испытание.
Впрочем, я забежал вперед…
Первое время личность Михаила Сергеевича вызывала восхищение. После многих лет болезней и полусонного состояния Брежнева вдруг – вулкан энергии. Работа – до часу, двух ночи, а когда готовились какие-нибудь документы (а их было бесконечное множество – к сессиям, съездам, пленумам, совещаниям, встречам на высшем уровне и т. д.), он ложился спать в четвертом часу утра, а вставал всегда в семь-восемь. Туалет, бассейн, завтрак. Где-то в 9.15—9.30 выезжает на работу в Кремль. Машина – «ЗИЛ». Он садится на заднее правое сиденье и – рабочий день начался. Тут же, в машине, он что-то пишет, читает, делает пометки. Впереди – водитель и я. В машине два телефонных аппарата, Михаил Сергеевич просит меня с кем-то соединить. Я заказываю абонента с переднего аппарата, Горбачев берет трубку и поднимает к потолку стеклянную перегородку, отгораживая наглухо свой салон от нас. За сравнительно короткий путь до работы он успевает переговорить с тремя-четырьмя людьми. Пока поднимается от подъезда в кабинет, на ходу кому-то что-то поручает, советует, обещает – ни секунды передышки.
Его ловили при выходе из машины, в коридоре.
– Михаил Сергеевич, я завтра улетаю. Что посоветуете?
– Мне сейчас некогда, я еду… Проводи меня.
На ходу, на лету он давал конкретные, четкие советы – военным, гражданским: с кем и о чем говорить, на что обратить особое внимание, на чем настаивать, на чем – не обязательно, кому передать привет и т. д. Говорил коротко и точно.
Однажды я в полном восхищении сказал ему:
– Вы как будто родились Генсеком.
Он улыбнулся, ничего не ответил.
Иногда к нему подходили, чтобы просто обозначиться, польстить. Перед зарубежными поездками Горбачева раньше него улетали готовить почву академики, профессора, помощники. Подходили перед отъездом:
– Вас так ждут там, Михаил Сергеевич. На вас надеются. Вас так любят в этой стране, вот вы, только вы сможете…
Многие на Западе были действительно очарованы новым Генеральным. Там, вдали от Родины, у меня было еще больше поводов гордиться своим шефом.
К каждому зарубежному визиту он тщательно готовился, заказывал соответствующую литературу, фильмы. Готовилась и Раиса Максимовна, ее интересы касались культурной части программы.
После десятилетий закрытости, отчужденности нашей страны от остального мира, после взаимного недоверия и политических интриг Горбачев предстал перед западными партнерами в неожиданном свете. Помню поездку в Швейцарию в 1985 году. Советская и американская делегации сидели вместе в отдельной комнате и готовили к подписанию совместный документ. Михаил Сергеевич и Рональд Рейган перед этим уже встречались один на один и теперь готовы были обсудить его и подписать. Горбачев первым направился к группе работающих. Государственный секретарь господин Шульц, заметив его, двинулся навстречу и сказал с откровенным разочарованием и огорчением:
– Господин Горбачев! Разве можно достичь каких-то результатов с такими людьми?! – Шульц кивнул в сторону Корниенко, бывшего тогда заместителем министра иностранных дел.
– А в чем дело? – спросил Горбачев.
Подошел Корниенко, который, как выяснилось, не соглашался поправить какую-то незначительную фразу. Горбачев тут же сказал Шульцу, что согласен с предложением американской стороны. А чуть позже выговорил Корниенко, что в важных вопросах нельзя заниматься крючкотворством, что одно несущественное слово может погубить серьезное дело. Если мне не изменяет память, вскоре заместитель министра ушел на пенсию.
Конечно, не всегда Горбачев был так сговорчив. Осенью 1986 года в Рейкьявике состоялась очередная встреча в верхах. И для Рейгана, и для Горбачева она закончилась практически полным провалом: документы о взаимном сокращении ядерного вооружения не были подписаны. После завершения последней встречи Михаил Сергеевич отправился провожать Рейгана к машине. Я находился рядом с ними. Перед тем как сесть в машину, американский президент попрощался с Горбачевым и сказал:
– Вы специально не подписали документ…
«Специально» – имелось в виду, что у Рейгана начиналась предвыборная кампания и советский лидер ставит ему палки в колеса, лишает его избирательских голосов.
Горбачев горячо и искренне убеждал:
– Нет, господин Рейган, нет! Давайте вернемся в дом, за стол переговоров. Вы отказываетесь от программы СОИ, и я все подписываю. Давайте вернемся.
Из глаз Рейгана потекли слезы. Да, он плакал. Я смотрел и не верил.
Он сел в машину и уехал.
Встреча была провалена. Михаил Сергеевич шел тогда, в Рейкьявике, на пресс-конференцию, как на гильотину.
– О чем сейчас говорить? – подавленно спросил он сам себя.
Но, увидев множество журналистов, направленные на него теле– и кинокамеры, Горбачев преобразился, в нем словно взыграл бойцовский дух. Он говорил об оставшихся возможностях, о перспективах, о взаимном понимании глав двух великих держав так, что даже у опытных журналистов сложилось мнение – польза от встречи все же была.
С особенным уважением относился Горбачев к Президенту Франции Миттерану, как к гибкому и тонкому политику, просчитывающему варианты на много шагов вперед. Встреч с Миттераном он ожидал с интересом, готовился к ним особенно тщательно и поэтом вспоминал: «С ним беседовать – одно удовольствие».
К большим политикам относил Горбачев и премьер-министра Италик Д.Андреотти.
И, конечно, Маргарет Тэтчер. В свое время Горбачев получил международное признание именно после удачного визита в Англию, это было еще до избрания его Генеральным секретарем. Кажется, оба они заранее знали ответы на вопросы друг друга, как опытные гроссмейстеры пропускали в разговоре промежуточные ходы, и даже если каждый оставался при своем мнении, они удовлетворялись гроссмейстерской ничьей.
И во времена Брежнева внешняя политика опережала внутреннюю, пусть и проявлялась иногда с обратным знаком.
Работы охране стало больше, чем при Брежневе, а главное – служба стала труднее, напряженнее. Но никто не только не роптал, но, кажется, делали все в охотку. Грех было жаловаться, глядя на Генерального.
У меня забот прибавилось едва ли не вдвое. Если раньше я как первый заместитель начальника охраны дежурил через день, то теперь как начальник – ежедневно. И вся ответственность – только на мне. Тяжело было не только тогда, когда Генеральный трудился, но и когда отдыхал. 38 дней его отдыха – 38 дней моего постоянного бдения при нем. Если бы мог взять с собой в Крым жену, хотя бы ненадолго, было бы полегче. Но это исключалось: я находился в служебной командировке с обычными, как у всех, суточными – 2 рубля 60 копеек, и с необычной, как ни у кого в стране, ответственностью.
Бывали дни, когда я ненавидел и море, и солнце.
Кроме чувства восхищения и гордости за своего подопечного возникала еще в ту пору и обычная человеческая жалость к нему. Вдруг оказывалось, что его работа не дает результатов. Так, готовясь, например, к очередному пленуму, он тщательнейше переделывал подготовленный ему доклад, обсасывал каждое слово. Как типичный партийный функционер, воспитанный и выросший в недрах советской системы, он привык к тому, что доклад каждого Генерального на любом пленуме взахлеб хвалила потом вся страна, все газеты цитировали абзацы из него аж до следующего очередного пленума. Теперь же лишь на другой день о пленуме сообщали газеты. Более того, если потом и вспоминали о докладе Генерального, то довольно критически. В основном, ругались хозяйственники: «Прошел пленум, он ничего не дал».
Горбачев чувствовал себя униженным и оскорбленным: «Как же так!..»
Конечно, жаль, что столько времени было потрачено едва ли не впустую. Кто был виноват в этом? Не знаю. Люди, готовившие подобные доклады, не раз говорили мне, что первоначальные варианты были сильные, действительно деловые. Но то ли под воздействием своих соратников, то ли по каким-то другим причинам Горбачев сглаживал доклад, округлял, конкретность заменял общими местами. Доклад переделывался по два-три раза, окончательно опресняясь.
Жизнь не менялась к лучшему, хотя в первые годы и не рушилась стремительно. Как-то в период перебоев с хлебом я спросил Михаила Сергеевича:
– Хлеб действительно дешевый. Может быть, повысить цены, тогда люди будут беречь его.
– А как ты себе это представляешь? Если на хлеб повышать, значит, и на макароны, и на крупу, на другие мучные изделия. Это же ударит по пенсионерам. Нет, пока нельзя.
А когда и что можно и нужно? Снова неурожай – плохо. Вдруг хороший урожай – опять плохо: ни собрать вовремя, ни сохранить не можем, все гниет. Проблемы копились десятилетиями, решить их враз, да еще одному человеку, невозможно. Я не искал оправдания Михаилу Сергеевичу, мне просто действительно жаль было видеть его пустые хлопоты, иногда – беспомощность.
В неудачах и просчетах Генерального и даже в бедах страны я не видел трагедии, ибо, если поиски искренни и если лидер готов искать выход из тупика вместе с народом и вместе с народом же делить хотя бы часть трудностей, – еще ничего не потеряно, все поправимо; все поправимо до тех пор, пока народ верит тебе. Растерянность и смятение сеют не потери зерновых или плохая угледобыча, не повышение цен, а – лукавство, обман, а значит, неизбежное предательство.
Я не только жалел Михаила Сергеевича, но и сочувствовал ему.
Была у него еще одна привлекательная черта. Он запрещал расчищать, освобождать для себя трассу. Эта операция останавливала общественный и личный транспорт, запретительные «кирпичи», знаки объезда, красный свет создавали неразбериху и столпотворение среди рядовых сограждан, люди опаздывали, чертыхались, поносили власть. Надо сказать, что и Брежнев до обострения болезни, то есть где-то до 1977 года, тоже запрещал останавливать из-за него движение. А потом, когда уже «поплыл», увидев огромное скопление машин, говорил:
– Ну, подождут немного, ничего не случится. Что же, Генсек должен ждать?
Горбачев при виде пустой трассы устраивал нам разнос. Также раздражался, когда видел на пути множество милиционеров или военных из охраны. Волновало его не то, что создаются транспортные неудобства для всех остальных, а народная молва о нем:
– Вы ж в какое положение меня перед людьми ставите.
Из кабинета Горбачева в ЦК на Старой площади мы направлялись в другой его кабинет – кремлевский. Иногда часть пути шли пешком. Люди, узнав Генерального, перешептывались, чаще всего слышалось за спиной наше, российское:
– О… мать твою, смотри, Горбачев пошел!
Кто-то автоматически здоровается, как со знакомым:
– Здрасьте.
Он улыбается в ответ:
– Здравствуйте!
Пытается заговорить, не получается: дежурные вопросы – такие же ответы. На Ивановской площади в Кремле встречаем группу людей. Горбачев спрашивает: «Откуда?» – «Из Красноярска», «из Донецка», «из Люберец». Все – приезжие, москвичей в Кремле мало бывает. Стоят – заморенные, забитые, одеты худо, головы опущены.
– Ну, что вы хотите мне сказать? – бодро спрашивает Михаил Сергеевич.
Какая-нибудь одна посмелее всегда найдется:
– Желаем здоровья вам.
Остальные молчат стеснительно и понуро.
У Покровских ворот встречаем итальянцев – совсем другое дело: они бегут за нами в восхищении, просят сфотографироваться. Горбачев останавливается.
– Ну, давайте. У кого есть фотоаппарат?
Тут наоборот – они, раскованные и свободные, задают Горбачеву вопросы: как вам Италия? Что особенно вам понравилось? А Россия как? А отношения между нашими странами?
Свободные люди свободной страны. А главное – сыты, одеты, обуты. С голодными же соотечественниками штампованные вопросы не проходят. Кроме усталости и забитости они еще очень чувствуют правду: когда их спрашивают по форме, а когда – по существу. Они видят по телевидению Генерального каждый день, его слова, одни и те же, знакомы им. Если бы он искал ответы по существу, жизнь вокруг была бы другой – они понимают это.
Лидер страны привык общаться с народом, а не с людьми. Вообще, а не в частности. Это открытие я сделал для себя в один из дней в Крыму. Горбачев шел с моря и по пути повстречал электриков – сотрудников местного отдела. Он изменился в лице и резко сказал мне:
– Если подобное повторится, я покину эту дачу!
Никакого разговора с ними у него не было и быть не могло. Одеты они были аккуратно, он тоже, как все на отдыхе – в шортах и рубашке.
Просто они прошли по Его территории – заповедной.
Но ведь и шли – по делу, не гуляли. Произойди это при Брежневе, он, не объявлявший себе демократом, спросил бы запросто: «Что случилось, хлопцы?»
А ведь это был тот самый народ.
Куда легче быть своим среди иностранцев, чем среди сограждан.
Самым, пожалуй, забитым оказался народ в средней России.
– Ну, что вы хотите мне сказать? – спрашивает высокий гость, выходя из машины.
Кто-нибудь из проверенных, подставленных:
– Чтоб войны не было, Михаил Сергеевич.
Анекдот. У него дома пусто, едва концы с концами сводит. Весь мир вокруг него – в достатке, сыт и весел. А у него забота: чтоб войны не было.
Зато когда в Литве рабочий прямо в глаза сказал правду о желании литовского народа государственной независимости, Горбачев оскорбил рабочего недоверием: поет с чужого голоса.
Как же надо не знать свой народ, чтобы все представлять в перевернутом виде: подставного собеседника принимать за истинного и наоборот. Чем оборачивается подобная слепота, наглядно подтвердили дальнейшие события в той же Литве: пролитая кровь и – все-таки независимость и суверенитет.
Более откровенно вели себя сибиряки, северяне. На заводах и фабриках, на улицах и площадях люди иногда говорили то, что думали: нет детской одежды, обуви, продуктов питания. Горбачев указывал на местного секретаря обкома партии:
– Вот он, обращайтесь к нему.
Разворачивался и уходил.
Демагогия. Что может местный руководитель? Чтобы хорошо жилось в этом городе, надо, чтобы хорошо жилось в стране. А страна-то разваливалась! Иногда Горбачев, понимая это, говорил, что то-то и то-то делается не так, говорил с пафосом и гневом, но как бы со стороны, как будто руководитель – не он.
Когда после жалоб и просьб местные начальники уводили Горбачева, тут же объясняли ему:
– Это известные в городе жалобщики. Мы их много раз принимали, для них уже столько сделано – все никак не уймутся.
Очень часто народ жаловался на произвол местных властей. В Хабаровске люди прямо говорили о Черном, первом секретаре обкома:
– Его сажать надо! Его место в тюрьме!
В ответ – та же партийно-демократическая демагогия:
– Вы же теперь сами хозяева! Плохой? Вот и сместите его. Что вы все указаний из Москвы ждете? У нас – гласность и демократия. Сами и наводите порядок.
Больше всего жалоб было на жилье. Строили медленно и плохо во всей стране.
– А что вы от меня хотите – квартиру? Ну не может же Генсек везде разъезжать и квартиры раздавать.
Нефтяники Тюмени попросили снабдить их валенками и теплыми куртками, без этого невозможно работать. Горбачев официально заверил их: обеспечим, все сделаем. И – ничего не сделал. Минуло много месяцев, едва ли не год, когда в Москву пришло от нефтяников письмо: по-прежнему не в чем работать.
Откровенно говоря, я в подобных поездках смысла не видел. Ну, помочь иногда нельзя, помогать надо всей стране, а не счастливцам, которым выпало увидеть тебя в лицо. Но хотя бы узнать народные беды, те проблемы, которые надо решать в первую очередь. Но в том-то и дело, что и этого он узнать не мог и не пытался, потому что очень быстро обрел манеру задавать людям вопросы и тут же самому на них отвечать. Он говорил и не слушал, диалог превращал в монолог.
– Ну как у вас тут настроение? – бодро спрашивал он в сибирском городе и, не ожидая ответа, сам же сразу и отвечал: – По глазам вижу, что хорошее.
И далее шло обычное, накатанное: «браться за дело», «пора», «хватит уже».
Для того чтобы высказаться самому, необязательно ехать за тысячи километров с огромной свитой. Высказался бы в Москве, в любом из кабинетов, услышала бы вся страна.
Но главное, как мне кажется, ему нечего было сказать людям по существу. Вот его речи:
«Наступила пора еще более активных действий, и это сегодня главное» (15 октября 1985 года).
«Все зависит от нас, товарищи. Настала пора энергичных и сплоченных действий» (8 марта 1986 года).
«Хотел бы еще раз повторить: нужно действовать, действовать и еще раз действовать – активно, смело, творчески, компетентно! Это, если хотите, главная задача момента» (27 января 1987 года).
«Центральный Комитет КПСС еще и еще раз призывает всех к действию. Действовать, действовать и действовать – в этом залог успеха перестройки на нынешнем этапе» (11 апреля 1987 года).
«…для нас главное сейчас – действовать, и действовать энергично и целеустремленно» (14 июля 1987 года).
«Так что, с какой стороны ни подойди, время терять нельзя, надо действовать, и действовать решительно, повышать требовательность за решение практических вопросов, которые приобретают все более острый практический характер» (29 июля 1988 года).
«Надо действовать сейчас, действовать решительно…» (19 сентября 1989 года).
«Действовать решительно – с этим все согласны… Но нельзя добиться решительных революционных изменений, если мы не будем действовать последовательно, демократическими методами, шаг за шагом идти вперед, не сбиваясь ни в ту, ни в другую сторону, не замедляя хода, не останавливаясь» (19 сентября 1989 года).
«Теперь, как говорят, поумнеть надо всем, все понять, не паниковать и действовать конструктивно всем и каждому» (28 сентября 1989 года).
«Значит, надо действовать более решительно, ибо промедление будет обострять ситуацию в стране» (2 июля 1990 года).
«Поэтому нужно действовать сейчас так, чтобы использовать все шансы для перелома ситуации к лучшему и не допустить дальнейшего развертывания негативных процессов» (17 сентября 1990 года).
Такова летопись перестройки в изречениях ее автора.
Жизнь катастрофически катилась к полному развалу, к пропасти, а велеречивый лидер безостановочно повторял одни и те же обкатанные пустые слова. Уставшие и раздраженные люди, услышав его голос, выключали радио, увидев на телеэкране, выключали телевизор.
Людей раздражало и то, что в эти во многом пустые поездки Горбачев брал с собой супругу. Раздражало ее постоянное желание как-то выделиться, обратить на себя внимание – в манере одеваться, вести себя. Писем по этому поводу шло множество – в газеты, на телевидение. Кто-то из ближайшего окружения осмелился намекнуть об этом Горбачеву.
– Ездила и будет ездить, – ответил он резко.
Если не ошибаюсь, Ирина как-то тоже сказала матери об этом. И Раиса Максимовна с обидой пересказала мужу:
– В народе недовольны, что я с тобой езжу.
– Ну, что делать, на всех не угодишь. Кто-то недоволен, а кто-то доволен. На Западе же ездят с женами.
Опять – «на Западе». Нельзя голодного и раздетого сравнивать с сытым и одетым. Там куда меньше проблем, и если президент едет куда-то – один ли, вдвоем, он решает конкретные проблемы.
Кстати сказать, Раиса Максимовна в поездках находила себе дела: встречалась с представителями местных фондов культуры, заходила в провинциальные музеи, в которых висели плакаты еще брежневских времен. Какие-то вопросы по линии Фонда культуры она через Михаила Сергеевича, несомненно, решала, надо отдать должное. Другое дело, что она уже свыклась с ролью «первой леди» еще задолго до Москвы – в Ставрополе, в другой роли себя давно не видела и от рядовых людей была так же далека, как и ее муж. Она ярко наряжалась, случалось, меняла наряды по пять раз в день (правда, в зарубежных поездках, но советские граждане наблюдали это по телевидению) и не понимала, что при пустых полках в магазине, на виду у полунищих соотечественников лучше одеваться просто, но со вкусом.
…И манера разговаривать с людьми – поучающе-покровительственная. Медленно, со значением выговаривая каждое слово, с длинными паузами между словами, словно еще более подчеркивая значение каждого звука. Словно говорила с собственным народом через переводчика:
– Я… Хочу… Поблагодарить… Вас…
Да сказала бы просто: ‘Спасибо».
Куда проще.
Не говорила – изрекала.
На Северном флоте «первая леди» вступила на подводную лодку, что вообще-то совершенно исключено по старому обычаю моряков-подводников. И тут виновато морское начальство, которое так услужливо расступилось.
Случалось, Раиса Максимовна не ездила – когда было не до торжественных встреч и парадных приветствий, как, например, в Башкирии. Под Уфой произошла утечка газа, он скопился в долине, и когда шел поезд – рвануло. Страшная оказалась картина… Так же не полетела она в Спитак после землетрясения. Это были трагедии истинно всенародные.
Время, когда я испытывал гордость за лидера страны, сменилось временем, когда мне пришлось испытать боль, горечь и стыд перед людьми.
Мы направились в Белоруссию, в край поистине замечательных людей – трудолюбивых и терпеливых. По всей стране – смута, стрельба, кровь, национальные конфликты. А тут – тихо. Торжественная встреча в Минске. Торжественный президиум на сцене за столом, покрытым красным кумачом. В президиуме – ответственные товарищи в добротных костюмах с депутатскими значками на лацканах. В зале – опытные партийные аппаратчики. Обстановка в точности, один к одному, напоминает прошлые «застойные» времена, которые так нещадно подвергает критике Горбачев.
А на дворе, между прочим, конец восьмидесятых. Уже страна в нищете и развале, уже просим мы взаймы денег у капиталистов, уже ездит Горбачев по Европе, по всему миру с протянутой рукой. Да что он – мы все, триста миллионов человек, повернувшись лицом на Запад, стоим с протянутой рукой. И капиталисты, в том числе и те, кого мы разбили в войну, шлют нам, нищим, консервы и колготки. Унизительно, но – берем. Стыдливо прячем глаза, но берем. А что в ответ?
В Минске, поднявшись на трибуну, Горбачев в очередной раз обрушивается на «так называемых демократов».
– Они отвергают социалистическую идею, выступают за капитализацию общества!
Вот так: просит милостыню и одновременно ругает тех, кто подает, – новый образ лицемерного нищего. Но, столько раз бывая в капиталистических странах, по сути, не выезжая оттуда, неужели наш вождь не увидел, не разглядел, как живут там люди. Неужели не знает, что оттуда к нам никто не рвется, а от нас туда – бегут десятки, даже сотни тысяч, а открой границу – побегут миллионы. Неужели не видит, по-школьному говоря, что там – хорошо, а здесь – плохо, и чем дальше, тем хуже.
Но это еще был не стыд. Стыд был потом.
Мы ездили по городам и весям Белоруссии. Обычные ритуальные вопросы высокого гостя, такие же ритуальные ответы. И в одном местечке женщина в окружении земляков осмелилась спросить о том, что волновало всю республику, весь СССР, весь мир. Она сказала долгожданному, дорогому, всесильному гостю о том, что земля в их районе заражена радиацией, что жить здесь нельзя, люди болеют и умирают.
Что же ответил Горбачев?
– Ну, знаете, это еще надо проверить, можно ли тут жить или нельзя.
Кажется, с людьми случился шок. Они-то думали, что Горбачев все знает, не на прогулку ехал сюда.
К нему, президенту, обращались люди, приговоренные к смерти.
Чернобыль был первой международной, вселенской ложью Горбачева, опаснейшей для всего человечества. Мы скрывали катастрофу сколько могли. Руководители Украины вывозили своих детей из Киева, а детей рядовых сограждан буквально через пять дней после аварии – 1 мая 1986 года – вывели на освещенную солнцем площадь Киева салютовать этим руководителям. Мы бы и скрыли, промолчали, если бы было возможно. Если бы не этот «проклятый Запад», который всегда нам так мешает проводить свою политику. Радиоактивные вещества были обнаружены далеко за пределами нашей страны, скрыть аварию оказалось невозможно, тогда мы стали изворачиваться и лгать…
Горбачев и охрана
Недовольство Горбачевым в народе зрело, нарастало, превращалось едва ли не во всеобщую озлобленность, которая принимала самые разные формы – от фашистских карикатур на него во время митингов и демонстраций, от гневных речей против него до разного рода провокаций и реальных угроз.
Находясь с визитом в Киеве, президент по своему обычаю, а точнее, по обычаю Раисы Максимовны показать себя народу, неожиданно для нас остановил машину и вышел на людную площадь. Охрана располагалась по боевому расписанию. Неожиданно с задних рядов в сторону президента полетел кейс. Офицер личной охраны Андрей Беликов на лету перехватил его, прижал к животу, склонился над ним, закрыв своим телом, и бросился в сторону от Горбачева. Андрей ожидал, что в чемодане – взрывчатка. К счастью, взрыва не последовало. Того, кто бросил, не нашли, мужчина исчез, как будто растворился. Допускаю, что это мог быть и отвлекающий маневр, а главная угроза таилась в другом источнике. Да и без всяких других угроз, если бы плотный кейс попал Горбачеву в голову, выходка бы оправдала себя – прежде всего политически, не говоря уж о травме.
Управление КГБ наградило Беликова ценным подарком. Охранник за спиной Горбачева сработал так чисто, что Михаил Сергеевич, увлеченный собственным красноречием, ничего не заметил.
Другой неприятнейший момент – во время демонстрации на Красной площади, когда мужчина выхватил из-под полы ружье. Охрана и тут сработала четко. И снова Горбачев, кроме какого-то короткого шевеления в толпе, ничего не заметил.
Подбирать охрану пришлось заново. С одной стороны, вроде бы проблем не должно было быть – руководство управления КГБ шло нам навстречу. С другой – Горбачев, бросив свою охрану, не удовлетворился и теми, кто их сменил, теперь появился я и вынужден был подбирать уже третью смену за короткий, чуть более месяца, период. Очень помог старший инструктор отделения КГБ Валерий Иванович Самойлов – каратист, обладатель черного пояса. Фанат своего дела, он сам разрабатывал программу подготовки личного состава охраны. Но мне нужны были не только спецы высшего класса, но и люди, воспитанные и закаленные нравственно, привлекательные внешне, один вид которых вызывал бы расположение Генерального.
Таких ребят я подобрал. Выручило то, что я хорошо знал отделение подготовки наших кадров, которое сам прошел. Все были молодые, на взлете. Они могли еще расти и расти. Если бы не август 1991-го… После этих событий все ребята разошлись, их буквально расхватали хозяева коммерческих структур.
К сожалению, в отношениях между Горбачевым и охраной появилась отчужденность. Ни он, ни Раиса Максимовна в людях людей не видели, условиями жизни их не интересовались. Оба говорили: если человеку по закону квартира положена – пусть получает. Да у нас, миллионы людей десятки лет маются в жилищных очередях, «по закону» им всем квартиры положены, а получить ничего не могут. А при нашей напряженнейшей работе, если человек в коммунальной квартире не выспится, не отдохнет, какой с него работник. Как Суворов говорил: ты сначала солдата одень, накорми, а потом спроси с него.
Но самое главное – между охраняемым и охраной стало проявляться отчуждение. В отношениях с нами он повел себя как закоренелый партийный функционер, все вопросы, даже мелкие, бытовые, решал только через Плеханова. Купить цветы ко дню рождения Раисы Максимовны – распоряжение через Плеханова, рубашку погладить – тоже через начальника управления КГБ. Я уже не говорю о более серьезных вещах – состав отделения, подготовка к командировке. Несколько раз я просил Горбачева:
– Вы хотя бы дня за три скажите, куда предстоит командировка.
– Жирно будет: за три дня!..
Все держал в тайне – даже от меня. Это сильно затрудняло работу охраны. Зато вполне устраивало Плеханова. Он с удовольствием брал на себя все хозяйственные и бытовые заботы, понимая, что становится как бы доверенным лицом Генерального. Раньше он пытался через меня добывать любую информацию о настроении хозяина – если Горбачев в добром расположении духа, Плеханов меня, как говорят, в упор не видит, но если Горбачев недоволен, сердит, Плеханов тут же приглядывается ко мне, даже заискивает, пытаясь угадать, выяснить – нет ли тут прокола со стороны управления или его лично. Теперь Юрий Сергеевич сам непосредственно оказался вхож к хозяину по любому поводу.
Доходило до несуразностей. Горбачев просит о чем-то меня через Плеханова, а тот, человек уже немолодой, забывает передать. Случалось, передавал что-то через секретаря, и тот также забывал. Вот такое чиновное общение – через посредников. А в итоге случалось, что Горбачев выходил из кабинета и – ко мне:
– Поехали.
– Куда? Машина не заказана, вы меня не предупреждали.
Глупость, конечно, величайшая: глава государства выходит к подъезду, а машины для него нет. Он возмущается, ругает меня, Плеханова, потом говорит:
– Пойдем пешком. Прогуляемся.
Выясняется: из ЦК он собрался в Кремль. Дорога из кабинета в кабинет, в общем, недальняя.
В первые годы Михаил Сергеевич больше времени любил проводить в цековском кабинете на Старой площади, который он получил по наследству от Брежнева. Здесь он принимал руководителей коммунистических партий зарубежных стран, наших советских, партийных деятелей. Потом, когда репутация партии покатилась вниз, любимый кабинет он решил оставить и чаще стал работать в Кремле, и здесь кабинет остался тот же – от Брежнева, но простую мебель предшественника – большой стол и стулья – Горбачев поменял на более изысканную – кожаные кресла, диван.
Когда мы из ЦК отправлялись в Кремль пешком, машины догоняли нас по дороге, где-нибудь на улице Куйбышева. Случалось, Горбачев не садился в машину, так и шли пешком. Я старался говорить охране: не трогать людей, не привлекать к себе внимания. Некоторые прохожие просто не замечали нас, другие узнавали, улыбались, и все проходило спокойно. Но молодые охранники, шедшие впереди, нервничали, не выдержав, полушепотом, жестко говорили: «Посторонитесь, освободите дорогу». Люди расступались, иногда терялись, и Горбачев, видя это, сердился:
– Володя, ну что это такое?
Горбачев, как и Брежнев, не любил бронированную машину. Она была более тесной, с низкой крышей, вентиляция в ней хуже, окна не открывались. Но – могучая, оконные стекла – толщиной сантиметров семь, не меньше. Не только пуля, никакая граната не достанет.
Разве что из огнемета или из пушки можно взять. На наши рекомендации по поводу безопасности Горбачев отшучивался: «Что будет, то будет – от судьбы не уйдешь».
Потом стал сердиться, когда мы настаивали на бронированной машине. Приходилось решать вопрос через председателя КГБ. Горбачев нехотя соглашался на определенный срок, но потом снова просил свою привычную машину.
Оба, и Брежнев, и Горбачев, в личном плане были далеко не трусы.
Но мне кажется, все-таки главная причина нелюбви Михаила Сергеевича к бронированной машине – там не было стеклянной перегородки, отделяющей его задний салон от нас с водителем. Ведь он любил скрывать от меня даже то, что я обязан был знать по службе. Однажды он заказал мне в машине разговор, я соединил его, он попытался поднять стеклянную перегородку, но что-то заклинило, ничего у него не вышло, и он досадливо объяснил нам с водителем свои безуспешные попытки уединиться:
– Меньше знаешь – лучше спишь.
Брежнев, насколько помню, никогда этой перегородкой не пользовался. «Ташкент, первого секретаря!» Или кого-нибудь еще заказывает, говорит при нас. Во-первых, он знал, что ни от Рябенко, ни от меня никакой утечки информации никогда не будет – исключено. Во-вторых, он никогда никаких сверхсекретных разговоров из машины не вел.
Не останавливать личные машины, не задерживать общественный транспорт на трассах следования, не выставлять много охраны в командировках – все эти внешние атрибуты демократии, которым следовал Горбачев, доставляли охране немало беспокойства. Иногда приходилось элементарно обманывать его, например, на постоянной его трассе – с работы и на работу – мы весь личный транспорт загоняли «в карманы» – переулки и тупики, Генеральный не видел этого.
В командировках же местные власти всегда перестраховывались, и мы ничего не могли поделать. «Вас за перестраховку поругают – и все, – повторяли всюду одно и то же, – а нам, если вдруг ЧП, головы не сносить». Канцлер Коль приехал к нам на переговоры, они проходили в Ставропольском крае – в Архызе. Местные власти настояли на своем, Ставрополь был утыкан милиционерами и военными. Это, к счастью, не бросилось в глаза ни Колю, ни Горбачеву, ни, самое главное, Раисе Максимовне. Все благополучно закончилось, высокий гость отбыл на родину.
А через полторы недели Ставрополь посетил еще один высокий гость – Толя, муж Ирины, дочери Горбачева. Там ему соседи, знакомые, родственники рассказали, что во время визита западногерманского канцлера на улицах Ставрополя было много военнослужащих, на улицах молодежь в первые ряды не пускали, а выставили ветеранов войны, которые выглядели, мягко говоря, не очень респектабельно. Вернувшись в Москву, Анатолий рассказал об этом дома. Раиса Максимовна возмутилась, Михаил Сергеевич устроил нам, охране, взбучку.
– Сколько раз я говорил вам, чтобы солдат было меньше видно… Вы все не хотите думать, что скажут обо мне люди.
Ему важнее было казаться, а не быть.
А кто, интересно, виноват в том, что наши ветераны войны, наши победители – самые достойные люди в стране – выглядят столь нищенски, что их неудобно показывать руководителю побежденной нами страны?
Чтобы не выставлять охрану на улицах, нам пришлось создавать дополнительные оперативные силы, которые мы прятали в многоместных машинах, и таскать их за собой в кортеже.
Больше всего хлопот доставляли неожиданные желания Горбачева выйти из машины – «к людям». Я ставлю здесь кавычки, потому что, как говорил уже, эти выходы ничего нового не давали ни ему, ни людям. Популярность прибавляли, это – да, но и то лишь первое время. Чаще, как я уже говорил, просьбы шли от Раисы Максимовны. Завидев скопление людей, она просила остановиться, и Михаил Сергеевич открывал дверцу машины.
В США, кроме того, что охрана сама по себе намного больше, чем у нас, там еще и все строго расписано, заранее известно, где остановится президент, и как только машины начинают тормозить, охранники уже вылетают. У нас – Горбачев мог выйти, где заблагорассудится Раисе Максимовне. «Михаил Сергеевич, надо выйти к людям», – объявляла она. Колонна машин на полном ходу останавливалась, нас окружали толпы народа, отгораживая от следующих за нами оперативников. Оперативная же машина, отставшая, отрезанная от нас, пробивалась к нам через толпы людей с воем сирены, возникало столпотворение. Иногда оперативники, оставив машины, только-только примчатся к нам, а мы уже садимся, трогаемся дальше, они бегут обратно.
Первая же поездка в Ленинград Генерального секретаря ЦК КПСС заставила нас искать варианты усиления охраны, о которых мы прежде не думали. Тогда, на первых порах, Горбачева встречали с интересом, даже с восторгом, ловили каждое его слово. На площади Победы он по привычке остановился для беседы, и огромная масса людей едва не смяла нас вместе с машинами. Тут еще и Раиса Максимовна стремилась сама устроить дискуссию со своим народом, отставая от мужа и тем самым растягивая и без того малые силы охраны.
Несколько раз я пытался внушить Михаилу Сергеевичу, что покидать машину так непредсказуемо – опасно.
– Я занимаюсь свои делом, – отвечал он, – а вы занимайтесь своим. Это для вас хорошая школа.
Пытался беседовать с ним и начальник управления охраны, ответ был еще более резким:
– Это что же, охрана будет учить Генсека? Не бывать этому, не бывать!
То же самое происходило и за рубежом. Перед поездкой в Японию посол этой страны направил к нам двух своих представителей охраны. Они в жесткой форме потребовали, чтобы мы уговорили Горбачева не выходить из машины там, где это не предусмотрено, и очень были удивлены тем, что мы не можем повлиять на своего шефа. Дисциплинированные японцы никак не могли поверить: как шеф может капризничать, если это в целях его же собственной безопасности. Для нас обстановка осложнялась еще и тем, что в Японию нельзя провозить оружие, это касалось и нашей охраны – оружие мы оставляли на японской таможне.
– Безопасность мы обеспечим сами, – говорили японские коллеги. – Как? Это уже наше дело. Ваше – принять наши рекомендации.
Заколдованный круг. Японцы упорствовали: «Идите и прямо сейчас доложите Горбачеву наши требования. А мы подождем ответа». Никуда мы, конечно, не пошли и даже потом разговор этот Горбачеву не передали: бесполезно. Японцы крепко разнервничались. В конце концов договорились, что мы предпримем свои меры усиления охраны, речь шла о дополнительном «рафике» сопровождения с оперативниками – «нисане». Японцы с некоторой корректировкой приняли это предложение и ушли от нас разочарованные, недовольные.
Далее все пошло по заведенному беспорядку. Проезжая по улице японской столицы, Раиса Максимовна предложила выйти из машины. Японцы тут же бросились к нам, окружили плотным кольцом. Нам с трудом удавалось образовать коридор, чтобы Михаил Сергеевич с супругой могли двигаться по улице. Оперативный отряд дополнительных сил японской полиции, который двигался в конце кортежа, помчался к нам, сметая все на своем пути, – мчались впереди люди, мотоциклы, машины. Японский посол, который сопровождал нас, получал толчки, тычки и слева, и справа: и со стороны охраны, и со стороны прохожих, бегущих за нами по улице. Посол был крайне раздражен, ситуация возникла действительно некрасивая, а с точки зрения безопасности – просто безобразная.
Нечто подобное случалось часто. В Париже на площади Бастилии среди праздношатающихся оказалась и большая группа журналистов. Там мы вообще не имели возможности двигаться, возникла аварийная ситуация, многие на площади получили синяки и даже ушибы, охране было не до деликатностей и извинений. В этой круговерти Горбачев как бы забавлялся, чувствовал себя мальчиком, играющим в кошки-мышки: едва охране с трудом удалось подать ему машину, как он, проехав сотню метров, снова приказал остановиться. При этом объяснил:
– Я сделал ход, обманул корреспондентов. Остановились, а журналисты и толпы людей снова догнали нас. И опять мы, охрана, вступаем в единоборство.
Сколько раз мы чудом избегали трагедии, ведь огромные массы народа могли просто смять и раздавить детей, стариков и женщин. Горбачев рисковал больше ими, чем собой (тут он на нас надеялся как на всемогущего Бога).
Во время визита в США на одной из улиц Горбачева прикрывал американский охранник, он просто навис над ним, закрыв его своим телом. Люди тянулись к советскому лидеру со всех сторон и получали в ответ резкие удары по рукам. Охранник буквально развернул нашего президента и стал подталкивать его к машине. Когда мы вернулись в резиденцию, он показал мне, что весь мокрый, и через переводчика сказал:
– Это очень несерьезные игры!..
Он нашел верное слово – игры. Я определил, как кошки-мышки, но это была еще и политическая игра, «ядовым людям» во многих странах нравились подобные Уличные экспромты, о них потом писали газеты и журналы во всем мире. Да и многим главам государств нравилось. Когда Горбачев встречался с Бушем, он непременно ставил в известность американского президента:
– Я вчера знакомился с городом, с людьми.
– Да, я слышал, что вы гуляли, – отвечал Буш со знаком одобрения.
Да, это – тоже политика. И она действовала.
Каждая поездка за рубеж требовала с нашей стороны огромной подготовительной работы. По-прежнему, как и раньше, предварительно отправляли небольшую подготовительную группу из протокольных отделов президента и МИДа. Затем, за две-три недели до визита, другую группу, куда входила и охрана, готовившая пребывание. И уже за час-полтора до основного вылета отправляли еще один самолет – с питанием, сопровождающими лицами, другой охраной. Отдельно отправляли основную машину Горбачева и машины для прикрытия.
Всего зарубежный вояж руководителя страны требовал четырех, а то и пяти самолетов, в том числе могучего «Руслана». Если судить по западным меркам – немного. У лидеров капиталистических стран одной охраны в сопровождении – полторы сотни человек. Мы везем – около тридцати.
При Горбачеве прибавилась еще одна служба – при знаменитом секретном чемодане. Операторы-связисты ездили с ним вместе с охраной. В Форосе, в гостевом домике, несли круглосуточную службу шестеро связистов – одни и те же, они не менялись. Руководил ими средних лет полковник. Все они подчинялись непосредственно мне.
На моей памяти Михаил Сергеевич только один раз воспользовался этим чемоданчиком. В Нью-Йорке на морской пристани мы готовились взойти на паром, чтобы отправиться на остров, где находилась военно-морская база США. Связист через Плеханова отозвал Горбачева в сторону, и «через чемоданчик» тот переговорил с Рыжковым. Вернувшись, сказал нам:
– Землетрясение!..
Это было знаменитое, беспощадное землетрясение в Спитаке.
Горбачев сократил тогда пребывание в США на два дня.
Раиса Максимовна
Согласовывалась предварительно не только программа визита лидера страны, но и, как у нас говорилось, «женская программа», на нее уходило много сил и нервов. Раиса Максимовна почти всегда была чем-то недовольна – то в машину к ней подсадили лишних людей и ей оказалось тесно, то в переводчики ей назначили женщину, а она хотела, чтобы был обязательно парень.
Весь визит, самый сложный, ответственный, мог пройти успешно, но все равно какой-то мелкий ее каприз заканчивался нагоняем мне или Плеханову.
Капризы – не капризы, но все сказанное так или иначе относилось к нашим прямым обязанностям. Более неприятными оказывались трудности другого рода.
Вопросы охраны и обслуживающего персонала для членов Политбюро были вопросами престижа. Не случайно разговор об этом Раиса Максимовна завела еще за полгода до того, как ее муж стал первым лицом в государстве. Помню, как в свое время Тихонов, только что избранный кандидатом в члены Политбюро, прямо в перерыве пленума подошел к нам с Рябенко и начал подробно расспрашивать, какие льготы ему теперь полагаются – какова будет охрана, сколько поваров, какие машины и т. д.
Набор обслуживающего персонала – одна из новых и неприятных обязанностей, которая свалилась на меня, когда я заступил на службу к Горбачеву. Свита у него по сравнению с прежней должностью рядового секретаря ЦК заметно прибавилась – увеличилась обслуга, была создана отдельная комендатура по охране дачи.
Обслуживающий персонал – трех поваров, трех официанток, трех горничных – подбирали мы с комендантом. Я приводил их по одной к Раисе Максимовне, она просматривала кандидаток, беседовала с ними – обходительно, деликатно, а потом звонила мне:
– Владимир Тимофеевич, давайте попробуем возьмем. Первое впечатление приятное.
Или:
– Что-то мне не нравится. Воздержимся. Поищите еще кого-то.
Подобрать было непросто. Ищем, например, специально поваров-мужчин, чтобы сплетен было меньше. Раиса Максимовна просит обязательно женщин. Подбираем – не подходит: слишком толстая, толстых она не любила.
Но не в этом была главная трудность, а в том, что люди к нам не хотели идти: были наслышаны о характере «хозяйки». Справедливости ради, требовательность Раисы Максимовны была порой вполне оправданна, но при всеобщей, заранее непредрасположенности к ней очень трудно было создать доброжелательную атмосферу. Работа у горничных была тяжелая, нервная, если выдавалось свободное от уборки дачи время, они вместо отдыха занимались уборкой квартиры детей, которые за собой прибирать не привыкли. Повара за те лее деньги могли найти работу посвободнее. А если бы пошли в рестораны, получали бы куда больше, да и с собой каждый вечер могли уносить. Все эти люди были, как мы говорим, «с погонами», то есть работниками КГБ. Некоторые просили меня разрешить уйти «по-хорошему», другие готовы были даже уволиться из органов.
Подобные разговоры до Раисы Максимовны не доходили, она считала и упрямо повторяла, что работать у Генерального секретаря – большая честь, людям оказаны большое доверие и почет, и они должны быть благодарны.
К сожалению, и меня посещали эти грустные мысли – уйти. Выволочки, подобные той, о которой я уже говорил, когда заболела одна из горничных, повторялись регулярно. Почему-то Раиса Максимовна считала, что хорошие работники не имеют права болеть.
– Почему мы принимаем к себе сотрудников, которые болеют?
– Но они ведь живые люди, – пытаюсь я объяснить.
– Не надо, Владимир Тимофеевич, меня ваше мнение не интересует.
Я замолкал. Однажды, правда, сказал:
– Этих людей мы с вами вместе отбирали.
– Все, кого набрала я, работают хорошо, а те, кого набирали вы, – плохо.
Дело иногда касалось каких-то ничтожных дачных мелочей, я сказал один раз:
– У нас есть комендант. У меня ведь другие обязанности.
– Это все ваши обязанности, – чеканя каждое слово, металлически ответила она.
Самое неприятное и унизительное – это ее страсть выговаривать при муже.
– Вот сейчас выйдет Михаил Сергеевич, и мы поговорим.
Держит меня возле себя, молчит. Выходит Горбачев.
– Михаил Сергеевич, ты хотел поговорить с Владимиром Тимофеевичем.
Он отмахнется:
– Да ладно.
Раз отмахнулся, другой, потом она его все же «заводит», он начинает говорить на повышенных тонах и в конце концов срывается до крика.
Так случилось на отдыхе в Крыму, когда я отпустил двух женщин в Ялту. У них был выходной в этот день, и они попросили у меня разрешения съездить в магазин за школьными тетрадями, которых в ту пору в Москве было не достать. Раисе Максимовне для каких-то своих личных нужд понадобилась свободная от работы женщина. Узнав, что я отпустил, да еще двоих, в магазин, она устроила разнос всей обслуге. Как всегда, я был вызван к подъезду, вышла она, молча стали ждать его.
– Михаил Сергеевич, – как всегда, обратилась она, едва он появился.
Видно было, что не хочет он сейчас ни во что встревать – время послеобеденное, для спокойного отдыха, – но она остановила его. Он вполне спокойно спросил, почему я отпустил работниц с территории дачи. Я объяснил: школьные тетради для детей, женщины свободны от работы, отсутствовали всего один час. Уже раздражаясь, он ответил:
– Эти люди приданы мне, и без спроса у меня ты не должен их отпускать.
– Михаил Сергеевич, я посчитал, что неуместно беспокоить вас по такому мелкому поводу и что у меня достаточно служебных прав, чтобы ими воспользоваться. К тому асе я решил, что если не отпущу их и вам об этом доложат, вы же сами и отругаете меня за то, что я не забочусь о людях, подчиненных непосредственно мне.
Я отвечал чистосердечно, но то ли намек о заботе Михаил Сергеевич принял на свой счет, то ли по другой причине, но он распалился, стал кричать на меня: что заботиться о людях не мое дело, о них заботится государство, а мое дело – требовать службу, и поменьше своеволия!.. Когда гнев достиг высшей точки, Раиса Максимовна взяла его под руку.
– Ну хватит, Михаил Сергеевич! Наверное, Владимир Тимофеевич сделает из этого разговора соответствующие выводы.
С торжествующе-царственным видом она поворачивается ко мне спиной, давая понять, что разговор окончен, и оба удаляются.
А я долго не могу прийти в себя. Я не понимал простых вещей: как можно кричать на кого бы то ни было; как может человек, занятый государственными делами, отчитывать за мелочи, о которых он и знать-то не должен; почему жена – по существу домохозяйка – ведет себя… и так далее.
Подобное считалось в порядке вещей – обычные будни. Кто-то не так сорочку погладил – разнос. Когда дежурный в приемной говорил мне: «Раиса Максимовна просит, чтобы вы ей позвонили», я становился как комок нервов.
Обслуживающему персоналу приходилось угождать не только хозяйке, но и дочери, и внучкам. Когда горничная пригрозила наказать старшую внучку, ее тут же убрали с работы.
Работницы приходили ко мне в слезах. Я собирал совещания, успокаивал женщин, уговаривал остаться, иногда осаживал, когда в адрес семьи Горбачевых говорились резкости, иногда направлял за советом и помощью к руководству управления КГБ. Что я в принципе мог сделать, если сам оказывался в их положении и они видели это.
Мне передали, что супруги заводили речь о том, чтобы меня убрать. Но, как всегда, решение вынесла Раиса Максимовна:
– А, поменяешь – какая разница, такие же придут.
Сам по себе Горбачев по мелким бытовым делам вспыхивал редко, хотя – случалось, и почти всегда – неожиданно. Буквально в первый же месяц моей работы он в Кремле готовился после обеда встретиться с делегацией.
– Володя, я сейчас переоденусь. Отдай погладить костюм.
Времени в обрез, как раз сотрудник из обслуживающего отдела занес Михаилу Сергеевичу обед и возвращался в буфет. Я выскочил из комнаты отдыха Горбачева, позвал официанта по имени, может быть, чуть громче, чем обычно, и передал просьбу погладить костюм. Он кивнул и ушел. Когда я вернулся к Михаилу Сергеевичу, то увидел его крайне раздраженным.
– Что ты кричишь, как в казарме!
– Извините, если я сделал что-то не так, но у вас очень мало времени.
– Успею, – сказал он, отвернувшись. – Нечего горячку пороть. А на будущее – не упрощай!
Имелось в виду – соблюдай дистанцию. Знай и всегда помни, с кем имеешь дело.
Несмотря на подобные вспышки, я готов был терпеть личные трудности, потому что, как и все, ждал каких-то перемен в стране, чего-то главного, что должно вот-вот для всех наступить.
Однажды Михаил Сергеевич направился в Ташкент, где должен был встретиться с лидером Афганистана Наджибуллой. В резиденции сразу после прибытия Раиса Максимовна решила поменять костюм. Она вызвала меня и в коридоре спросила:
– Вещи не прибыли?
– Нет, Раиса Максимовна, еще в дороге.
С разницей в несколько минут она вызывала меня еще дважды. Вещи наконец прибыли, минут через двадцать пять – тридцать. Оказалось, что местные гаишники просто-напросто прижали транспорт с багажом к обочине, притормозили, не разобравшись, что машины – из нашей колонны. Когда вещи были доставлены, Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна вызвали меня уже вдвоем. Накачала она его, видно, уже очень крепко, он едва сдерживал себя:
– Почему так долго не было вещей?
– Транспорт был остановлен местной милицией, Михаил Сергеевич.
– А какого черта ты здесь делаешь?
– Я занимаюсь своими обязанностями.
– На хрена ты мне здесь нужен, ты должен был вещи доставить!
Он кричал, и крик его разносился далеко по коридору. Я вдруг почувствовал, что он готов меня ударить.
Когда он терял самообладание, лицо покрывалось краской.
– Прилетим в Москву – я тебя выгоню!
– Я готов.
Объективно, наряды нужны были ей – для обеда с Наджибуллой. Но Наджибулла жил в соседней резиденции и вполне можно было встретиться чуть позже, все-таки мы – с дороги. Могла она пойти на обед и в прекрасном дорожном костюме, не такая уж это великая встреча.
В Москве Горбачев к этому разговору не вернулся, остыл. Конечно, он прекрасно понимал обязанности охраны, мои лично и знал, что служба наша поставлена высокопрофессионально. Но барские угрозы его «выгоню с работы!» звучали очень часто, в том числе и в отношении людей высокого уровня. Помню, как после просмотра какого-то фильма он шел с Ермашом, тогдашним министром в нашем кино, и громко отчитывал его:
– Таких руководителей надо гнать с работы!..
Они шли впереди, и сути я не понял: то ли выпустили на экраны плохой фильм, то ли, наоборот, хороший – задержали.
Однажды после очередной вспышки не выдержал уже я и сам попросился:
– Михаил Сергеевич, если я не подхожу вам, убирайте меня.
– Это не твое дело. Когда надо, тогда уберем.
Особые хлопоты доставляли нам взаимоотношения Раисы Максимовны с теле– и фотокорреспондентами. Она требовала, чтобы кассеты с записью зарубежных визитов после возвращения давали ей на просмотр. Всегда спешила к программе «Время», чтобы увидеть себя. Снимать ее было сложно. На встречах, приемах, проводах стоит при Михаиле Сергеевиче как бы спокойно, но как только видит, что на нее наводят камеру, тут же начинает проявлять активность, кому-то что-то указывает, поднимает зонтик и т. д. Напрямую о себе она не говорила, делала замечания иного рода и мне, и Плеханову:
– Михаила Сергеевича снимают неудачно – сзади, с неудобной точки. Почему вы не обращаете внимания на подбор корреспондентов? Вот американские корреспонденты – вот снимают, смотрите! Неужели наши так не могут?!
В службе охраны говорили друг другу: «А мы-то, охрана-то, здесь при чем?» Бывало так, что меняли чуть не полностью тассовских фотокорреспондентов на апээновских. Подбором фотокорреспондентов занимался иногда… Плеханов.
Ситуация осложнялась и взаимоотношениями между Плехановым и Виталием Игнатенко, возглавлявшим пресс-службу президента. В свое время Виталия привез в Форос для беседы Евгений Примаков. Безусловно, Игнатенко понравился Горбачеву, они ужинали часа два, затем вышли втроем, веселые. Игнатенко что-то оживленно рассказывал, ко всеобщему удовольствию. Они были один вечер и тут же отбыли, наверное, отдыхали по соседству, в санатории «Южный». Игнатенко после этой встречи возглавил президентскую пресс-службу. Я думаю, что Плеханов, стремившийся к близости с президентом, просто-напросто ревновал к Виталию. Ему не нравилось, что Игнатенко, как ему казалось, подобострастно пристраивается возле Горбачева, берет его чуть не под локоть и что-то нашептывает на ходу. Между ними возникали разногласия, каких журналистов допускать на те или иные встречи. Если, допустим, Игнатенко не включал кого-то в список, они обращались к Плеханову, и он разрешал. Конечно, это не дело охраны – командовать журналистами.
Стремление Раисы Максимовны обратить на себя внимание ставило иногда главу государства в неудобное положение. Я запомнил визит в Испанию в октябре 1990 года. Мы все были очарованы семьей короля Хуана Карлоса П. Действительно – королевская семья! Сам король – высокий, стройный красавец мужчина с великолепными светскими манерами. Жена София – также красавица, ладная внешностью, она была внимательна буквально ко всем гостям, но особенно – к Раисе Максимовне. Королевские дети – также высокие, стройные, красивые. В королевском дворце был организован прием «а ля фуршет». Михаил Сергеевич с королем и другими господами беседовал в одном конце зала, Раиса Максимовна с королевой – в другом. Неожиданно Раиса Максимовна поворачивается к королеве спиной и заводит разговор с кем-то из наших посольских дам. София несколько растерянна, пытается подойти к Раисе Максимовне то слева, то справа, но та очень искусно подставляет спину. Это стали замечать и. другие приглашенные. Королева осталась одна, ей, видимо, неудобно было заводить разговор с мужчинами, которые вели свои деловые беседы, она резко развернулась и ушла к группе приглашенных.
В Испании традиционно первыми покидают зал приемов хозяева с важными гостями, а затем все остальные. Прием завершался, Михаил Сергеевич в сопровождении короля и королевы двинулся к выходу. Раиса Максимовна и здесь, с кем-то разговаривая, задержалась, как мне показалось, специально, чтобы подчеркнуть важность своей персоны, которую ждут все. Король, королева, президент – стояли на ступеньках, Раиса Максимовна, не обращая на них ни малейшего внимания, продолжала вести светскую беседу. Неприятная пауза длилась несколько минут, Михаил Сергеевич, едва сдерживая себя, но с улыбкой попросил:
– Раиса Максимовна, поднимайтесь к нам.
Она продолжала беседовать, прошла еще минута. Горбачев повторил громко и резко:
– Раиса Максимовна, мы все ждем!
Почувствовав в голосе мужа металл, она двинулась к нам. Конечно, это был спектакль, прекрасно ею разыгранный. Подобное происходило и во время встреч с, госпожой Коль, с госпожой Нэнси Рейган, когда Михаил Сергеевич в разговорах с супругой переходил на зловещий шепот.
Аппаратные игры
В Испанию мы поехали, когда уже начались кровавые события в Приднестровье, в Молдавии гибли люди. Перед этим, когда всех ошеломили события в Фергане, генеральный секретарь оказался в Бонне. Когда зрели события в Тбилиси, Горбачев оказался в Англии… А потом выяснилось – не знал, не ведал.
Рыжков, по-моему, сказал очень точно: я знаю генерала Родионова – делового, спокойного, четкого, без приказа министра обороны он бы в ту ночь даже велосипеда на площадь не выпустил, не то что танки. С другой стороны, Дмитрий Язов без благословения Генерального секретаря, которому непосредственно подчинялся, также не отдал бы приказа о вводе войск в ночной Тбилиси. «Почему, почему Генеральный все время молчал, глядя в стол президиума, пока народные депутаты искали и не находили стрелочника?» Вопрос Рыжкова повис в воздухе.
А я вспоминаю, как Горбачев, сев в машину, сказал в сердцах:
– Как же Патиашвили мне не позвонил? По пустякам звонит, а тут…
Сказано было в обиженном тоне: вот, мол, подвели его, подвели… Вынудили в итоге дать «добро»…
Все же знал. И о событиях у Вильнюсского телецентра имел четкое представление, выразив соболезнование по поводу погибших мирных литовцев лишь на десятый день… Да что же это за президент: вокруг него – море крови, а он, как на острове, ничего не знает.
«Не знать» всегда удобнее, выгоднее. Но удобства и выгоды всегда временны для политика, ибо все тайное рано или поздно обязательно становится явным. Сейчас мало кто помнит или знает, с чего начались карабахские события, которые не затихают и теперь. В августе 1987 года карабахские армяне направили письмо Горбачеву с требованием присоединить Карабах к Армении. Подписали его 75 тысяч человек! Горбачев даже не ответил. Можно по-разному отнестись к этому требованию, но ответить-то – надо!
Не ответить – выгоднее.
Играя в аппаратные игры, можно ли сохранить честность? Можно ли, поступившись честностью во внутрисоюзных делах, сохранить ее в международных отношениях? А Чернобыль, посадка Руста на Красной площади, сбитый корейский «боинг», пакт Молотова – Риббентропа, расстрелы в Катыни – разве это не ложь в международных отношениях? Как просил Ярузельский, весь польский народ просил сказать правду о Катыни! И когда лгать дальше уже было невозможно, Горбачев нашел вариант с наименьшими издержками для нас: виноват во всем Берия. Слукавил. Увел в сторону Сталина, Ворошилова, Молотова, Микояна, Калинина, Кагановича, которые принимали политическое решение о казни поляков.
Назови он их, это значило бы – советская власть.
Свой народ распознал его довольно быстро, но как сумел он сохранить международную репутацию, для меня и сейчас – одна из загадок…
Горбачев боролся с привилегиями. На моей памяти все лидеры государства боролись с привилегиями.
Один Брежнев не боролся.
До него этим пытался заниматься Хрущев, после него – Горбачев. Но почему же ни тот, ни другой не преуспели в этом благородном деле? Они боролись со следствием, а не с причиной. Причина же – в системе, которую почему-то назвали социалистической. Если это был социализм, то до неузнаваемости изуродованный, обезображенный, а будь он истинный, хочется верить, что жили бы мы иначе. Я думаю, что даже людям разуверившимся не надо поносить социализм: мы в нем не жили и не знаем, что это такое.
Вторая причина – всякое благородное дело надо начинать с себя. Я не помню, чтобы во времена выдающихся решений пленумов, съездов, пламенных призывов партии и т. д. на целину, на БАМ, на другие великие стройки коммунизма, на афганскую войну, на все прочие трудовые и ратные подвиги отправлялись бы дети тех, кто к этим подвигам призывал.
Борьба с привилегиями – то же самое.
Не знаю, насколько Хрущев был искренен, когда стал отбирать у высоких чиновников «излишки» служебных машин, «конфисковал» в пользу «народа» несколько привилегированных дач и санаториев. По существу, он просто ликвидировал эти санатории, они зачахли, потому что лишились финансовой поддержки правительства, материально-технической базы, опытные врачи ушли в другие, престижные лечебные заведения. Очень легко оказалось сделать популярный жест и куда труднее действительно озаботиться здоровьем народа.
С Горбачевым все яснее. Вначале он доказывал, что никаких привилегий не существует. Телезрителям памятна его беседа в кулуарах Дворца съездов во время перерыва заседаний съезда народных депутатов.
– А какие у нас привилегии? – с недоумением и пафосом спрашивал он.
– Никаких, – дружно поддержали его окружавшие депутаты, такие же партийные функционеры с мест, Горбачевы в миниатюре, с соответствующими лее – по нисходящей – привилегиями.
– Поликлиники, санатории, – продолжал Михаил Сергеевич, – они есть и у других ведомств. Например, на автозаводе Лихачева – замечательная поликлиника. Какая же это привилегия?
Все собеседники единогласно согласились, что у них всех единственная привилегия – работать по двадцать четыре часа в сутки.
Резонанс от этой исповеди был достаточно велик. Тут же, на первой волне борьбы со всяческими льготами, премьер-министр Николай Иванович Рыжков потребовал сделать продовольственные заказы своего аппарата такими же, как… на заводе имени Лихачева. И что же? На другой день на ЗИЛе улучшился ассортимент заказов. Думаю, что порыв премьер-министра был неподдельным, но, повторяю, нельзя избавиться от следствия, не устранив причин.
И опять же – пусть, но сделайте же прежде хоть что-то для собственного народа, хоть немного облегчите его многострадальную судьбу, потом – себе.
Мне кажется, изменился лишь вид привилегий и способ получения. Впрочем, прежние прямые пути тоже остались. Я имею в виду нашумевшую историю с квартирой для Леонида Ильича Брежнева на улице Щусева. Огромная жилая крепость стала почти легендарной не в те времена, что было бы естественно, а в нынешние, демократические, когда в эту квартиру наконец вселились.
Как ни покажется странным, Брежнев не построил для себя ничего, ни одного квадратного метра. В Крыму, в Ливадии, отдыхал на даче, которая была построена для Хрущева еще в середине пятидесятых годов. Она вполне устраивала Хрущева, почему же не могла устроить Брежнева? Сама по себе без особых излишеств, есть где поработать, отдохнуть, принять гостей, главная роскошь – микроклимат, природа – многолетние хвойные и лиственные деревья. В Заречье дачу Брежневу перестроили – на том же месте, за тем же забором. Начали было строить в Крыму для него еще один дом, под Мухолаткой, но не успели. Я, однако, не уверен, что он бы туда согласился поехать, если бы дожил. Сам-то ведь он ни о чем не просил, вполне бы могло произойти то же, что с московскими квартирами.
На рубеже 70-х годов ЦК КПСС направил в Моссовет помеченное грифом «секретно» решение о сооружении жилого дома для партийных и государственных руководителей. Участок живописный, рядом Москва-река. Как вспоминает бывший председатель Моссовета В.Промыслов, проект здания был разработан по «спецзаказу»: внизу – помещения для охраны и обслуги, далее все по принципу «две квартиры – этаж». Среди новоселов – Брежнев, Подгорный, Громыко, Полянский… Именем Брежнева все и пробивалось.
Первоклассные импортные стройматериалы (розовый кирпич), новейшая техника. Главмосстрой возводил здание быстро. Но жизнь неслась еще стремительней, политические события опередили график строительства. Подгорный был освобожден от занимаемого им поста Председателя Президиума Верховного Совета СССР, Полянского назначили министром сельского хозяйства СССР, а затем отправили послом в Японию… Состав новоселов распадался. Но главное не в этом, достойную замену в новом доме им бы подыскали. Главное, Брежнев отказался от новой роскошной квартиры в новом роскошном доме. Узнав об этом, моментально отказался от новоселья и Громыко. Компания развалилась окончательно. Но что же делать с домом-то? Вышла заминка. Выручил Косыгин. Он посоветовал Промыслову:
– Академия наук СССР отмечает юбилей. Пусть академики берут этот дом, возместят затраты – и вселятся.
Так и поступили.
Двойная мерка для сооружения жилья отражала двойную мерку существования людей в стране. Жилье по «спецзаказу’ в официальных бумагах именовалось довольно скромно – «дома улучшенной планировки». Я думаю, что именем Брежнева также воспользовались, когда в том же Кунцеве за короткое время вырос целый район таких зданий. Москвичи окрестили этот район «Ленинградом». А еще звали его «ондатровый заповедник». (По примеру Генерального секретаря все его окружение также носило ондатровые шапки.)
Затем, в расчете на квартиру для Брежнева, стали строить еще один дом в самом центре Москвы – на улице Щусева. И руководство нашего управления КГБ, и управделами ЦК КПСС Павлов, ныне покойный (он покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна именно этого дома), ставили Брежнева в известность о ходе строительства. Но Леонид Ильич, узнав о размерах жилой площади, и в эту квартиру въезжать отказался. Виктория Петровна при мне несколько раз просила Леонида Ильича хотя бы посмотреть квартиру, но даже смотреть он решительно отказался:
– Нет!
В таких хоромах, размером с городской квартал, он и она, немолодые люди, могли просто заблудиться, им пришлось бы днями и неделями разыскивать друг друга.
Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев… Четыре генеральных секретаря ЦК КПСС (!) не решились (или не захотели) занять эту квартирищу.
В безразмерную квартиру, сооруженную для предыдущего Генсека, Михаил Сергеевич не въехал отнюдь не от избытка скромности. Опытный политик, он понимал, что его тут же накроет тень предшественника, принявшего достаточно государственных подношений, но от этой именно квартиры отказавшегося.
Собственно говоря, Михаил Сергеевич жил в этом же доме, на Щусева, его квартира и квартира дочери – на одной лестничной площадке. Как только он стал Генеральным секретарем, на улице Косыгина заложили новый дом. Здесь сооружалась не только специальная квартира для Генерального, но и для дочери с семьей. Построили за год! Въехали в новые квартиры – Язов, Лигачев, Болдин, Марчук и прочие новоселы этого же уровня. Михаил Сергеевич и дети – снова по соседству.
В первое лето Горбачев с семьей отдыхал на ливадийской даче, которая всегда прежде устраивала и Хрущева, и Брежнева. Ежегодно она как бы заново приводилась в порядок, прихорашивалась. Кому она не пришлась по вкусу теперь – не знаю: Михаилу Сергеевичу, Раисе Максимовне? Возникла мысль о новой даче, в Форосе. Кто облюбовал место, также не берусь сказать. Ландшафт с виду неказистый – голые скалы, без зелени, сквозные ветры. Чтобы изменить, подчинить себе природу – на одно это ушли силы и средства огромные… Когда же воздвигли храм, ливадийская дача в сравнении с ним показалась золушкой.
Через год после того, как была готова дача в Форосе, отгрохали еще одну, тоже на Черном море – в Мюсерах, рядом с Пицундой. Могучее сооружение, на всех трех этажах – огромные люстры в виде виноградных гроздьев. От дачи к морю пробили тоннель… Все это соорудили неподалеку от бывшей дачи Сталина, она, сталинская, рядом с новостройкой выглядит просто нищенски.
Построили и третью дачу – под Москвой – в районе Архангельского, на берегу Москвы-реки. Как и те две, строить начали в пору, когда Горбачев стал Генеральным секретарем, и закончили также в рекордно короткий срок.
Единственное, вечное оправдание власти: это не личное, это государственное, дается на время, пока человек исполняет высокие обязанности. Да, так. Но строятся все дворцы целенаправленно, под кого-то и для кого-то конкретно. И никак не временно, а пожизненно, поскольку все лидеры партии и государства, за исключением обманутого Хрущева, власть свою утрачивали лишь со смертью.
Все строилось – под Горбачева и для Горбачева, как всегда, для пожизненного пользования, но век его, несмотря на немыслимые лавирования между правыми и левыми, партократами и демократами, оказался довольно короток на обоих постах – и Генерального секретаря ЦК КПСС, и Президента СССР. На даче в Мюсерах он даже не успел пожить.
Может быть, я излишне критичен? Может быть. Но есть поступки – личные, которые дискредитируют новую демократическую власть больше, чем все неудавшиеся реформы, несделанные дела, невыполненные обещания. Ведь я готов «потерпеть», «пережить трудное время» во имя будущих дней, к чему меня призывают, но тут же я вижу, что со мною вместе, с народом вместе новая власть ни «терпеть», ни «переживать» не хочет и не будет, что эта демократическая власть никогда не разделит со мной не только тягот, но даже неудобств.
Лишь после того, как Горбачев построил для себя все возможное, он подключился к борьбе с чужими привилегиями, лично распорядился раздать некоторые здравницы, дачи ЦК и госдачи – «народу». Я ставлю кавычки, потому что народу не досталось почти ничего из того, что принадлежало властям, все моментально пришло в запустение, даже стены стали ветшать и рушиться. Как и при Хрущеве, народ никого не интересовал, санатории, ставшие народными, бросили на произвол судьбы – без денег, безо всяких средств к существованию.
Легко раздавать то, что тебе лично не принадлежит, да еще безо всяких обязательств сохранить, сберечь подношение. Жест – царственный, на всю страну, а то, что за этим – пустота и разорение, узнают немногие.
Август 1991 года. Форос
Август 1991 года. Последний отдых в Форосе Президента СССР. Все лето было очень тревожным. Михаил Сергеевич готовился к подписанию союзного договора. Шли бесконечные совещания. И в июне, и в июле обстановка в столице складывалась напряженно. Начались сильнейшие нападки на партию, один за другим проходили шумные митинги. Повсюду кричали о привилегиях.
Мы жили в дачном поселке ЦК КПСС. По вечерам поселок в открытую атаковала пьяная молодежь – врывались на территорию, грабили дачи, били стекла домов, прокалывали шины автомобилей. С балкончика нашей дачи были украдены все соленья и варенья, которые заготовила 78-летняя мама Даны, жены. Вообще жили здесь в основном старики, женщины и дети. Страх овладел всеми дачниками. Администрация поселка оказалась не только бессильна принять какие-то меры, но как будто даже заискивала перед хулиганами. По распоряжению дирекции перестали закрывать входные ворота, а нам, жителям поселка, объяснили: «Лишь бы не вызывать озлобление народа». Дана все время ждала чего-то ужасного, и когда я поздно вечером, а иногда к полуночи возвращался домой, она спрашивала меня:
– Как там? Как Михаил Сергеевич?
Я никогда никаких подробностей не рассказывал.
– Не волнуйся. Все в порядке.
Но жена чувствовала, знала, что происходит вокруг. Она приходила, например, в бассейн, и администратор говорила:
– Хоть бы нашелся кто-нибудь – убил Горбачева, я ненавижу его. Правда, вашего мужа мне будет жаль.
В Москве начались самозахваты квартир, в основном – в «домах улучшенной планировки’, практически они были санкционированы бездействием районных властей. Подобный самозахват произошел и в подъезде нашего дома, под видом очередников вселились лимитчики. В тихом нашем доме стали слышны пьяная брань, отголоски квартирных драк, выбили стекла парадного подъезда, разрисовали, исписали стены подъезда и лифта.
Жена очень надеялась, была даже почти уверена, что в такое тревожное время Михаил Сергеевич отменит свой отпуск в августе, перенесет на более позднее время. Она вспоминала потом:
– Неужели Горбачев ничего не видел вокруг, не знал, не понимал, что происходит в собственной стране? Я – видела, знала, понимала, а он – нет? Что это – полное незнание жизни своих сограждан, обычная его самоуверенность? Подумать только, останься он в этот период в Москве и – ничего бы не случилось.
Каждый отпуск Дана старалась вывезти дочерей к морю Естественно, подгадывала отпуск к моей командировке в Крым. На этот раз она вылетела с дочерьми в санаторий «Форос» 2 августа, зная, что через несколько дней я прилечу на президентскую дачу вместе с Горбачевым.
Санаторий «Форос» в бухте Тессели находится в трех километрах от президентской дачи. Она знала, что встречи со мной будут редкими, раз в неделю, и очень короткими. Но одно то, что я рядом, и радовало, и успокаивало ее. Кроме того, от санатория к даче ведет пешеходная дорожка – над берегом моря, и Дана знала, что, как обычно, каждый вечер она с дочерьми будет прогуливаться до ворот президентской дачи, возле которых дежурит неприступная охрана из местных пограничников. Каждый вечер она мысленно будет со мной.
…Что там женские предчувствия Даны – вся страна, пожалуй, угадывала развитие событий. Тем более недавно состоялось что-то вроде генеральной репетиции: десантные и прочие воинские части стянулись к Москве, депутаты предупредили Горбачева, но министр обороны Язов с трибуны депутатского съезда объяснил ситуацию по-детски просто: армия стянута к столице в связи с сельскохозяйственными работами в Подмосковье.
Не надо бы уезжать Горбачеву, не надо. 20 августа – подписание союзного договора. Тот же Язов 17 августа после встречи у Крючкова на секретном объекте КГБ «АБЦ», уезжая в 18.15, бросил в машине фразу: «Подписал бы договор, а потом в отпуск отправлялся. И все было бы хорошо…» Странные, кажется, сочувственные слова, сказанные как будто подневольным участником заговора.
Вся страна предчувствовала грозу, единственный человек ничего не ожидал и не понимал – тот, которому на стол выкладывали всю (!) без исключения информацию. Даже зная о положении в стране через камердинеров, можно войти в курс дела. Самоуверенность, самовлюбленность, преступное легкомыслие – все тут сошлось.
Трудно, наверное, подозревать заговор в среде людей, которых ты сам выбрал в сподвижники, проталкивал на верхние ступени, часто – с нескольких попыток, вопреки воле народных депутатов. Трудно поверить в заговор, когда те же, свои люди, к которым привык, провожают тебя в аэропорт с тем же почетом, говорят те же слова, а по прилете – такая же, как всегда, дружеская встреча.
В Бельбеке в аэропорту президента встречала свита: Украину представляли Гуренко – первый секретарь ЦК КП республики, Кравчук – второй секретарь ЦК КПУ, Галушко – председатель КГБ Украины; крымское руководство – Багров, председатель Верховного Совета, Курашик – председатель Совета Министров, Грач – первый секретарь республиканского комитета партии, Хронопуло – командующий Черноморским флотом, Ермаков – председатель горисполкома Севастополя.
Встречавшие горячо приветствовали высокого гостя. Как всегда, как обычно, здесь же, в Бельбекском аэропорту, организовано было застолье, здравицы партийных и государственных деятелей, по сути, мало отличались от прежних, давних, правда, вместе с тостами за партию звучали и тосты за единый обновленный Союз. Лишь одного человека в этой компании я не знал в лицо – сорокалетнего Леонида Ивановича Грача, самого молодого среди всех, избранного на местном пленуме первым секретарем рескома партии совсем недавно. Он просто, почти по-домашнему предложил тост за спутницу и единомышленницу президента. Официальная обстановка исчезла, усталый Горбачев оживился, обкатанные слова сменились человеческими. Михаил Сергеевич вспомнил студенчество, знакомство, более чем скромное житье, свадьбу…
И Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна были довольны встречей. По дороге на дачу, в машине, и он, и она вспоминали:
– Смотри, молодой-то!
Все шло своим ходом, как всегда. Те же звонки от тех же людей из Москвы. И гости те же. К середине августа подъехал ненадолго земляк, первый секретарь Ставропольского крайкома партии Иван Сергеевич Болдырев.
При такой обычности, привычности, когда в радиусе одного метра от тебя ничего внешне не меняется, все кажется вечным, а вечнее всего – собственное кресло, не хочется верить ни во что опасное и заглядывать дальше этого одного метра.
Кажется, и я, далекий, от политических интриг, знающий лишь свои прямые обязанности, мог без труда предположить расписание второй половины отдыха. 19-го вылетаем в Москву. 20-го – подписание союзного договора. Возвращаемся обратно. 22-го – снова здесь. 22-го – мой день рождения… Я знал, как он пройдет.
Каждый раз я отмечаю день рождения в командировке, при отдыхающем вожде. Во времена Брежнева это было, как правило, в Ливадии, иногда в Астрахани, в охотничьих угодьях. Обычно в первой половине дня кто-то из официанток или обслуги окликает: «Владимир Тимофеевич, вас просит Леонид Ильич». Но чаще Рябенко говорил: «Володя, зайди». Леонид Ильич жал руку:
– Володя, поздравляю! Успехов тебе всяческих, здоровья. – И тут же добавлял: – Ну, здоровье у тебя вроде в порядке.
Действительно, здоровье всегда было и осталось отменным.
Брежнев вручал подарок, фантазия небогатая, почти всегда это были часы – ручные, карманные, будильник. Поздравляла каждый раз и Виктория Петровна.
Однажды оказался рядом Бугаев, он также вручил подарок от себя – часы.
Ребята, конечно, тоже скидываются, поздравляют. Вечером в служебном домике собираемся своей компанией.
Весь день звонят товарищи из Москвы, из «девятки»:
– Привет, Володя!
У одного из наших коллег день рождения 23 августа, а у самого Рябенко – 25 августа И очень часто 25-го мы устраивали общее застолье. Леонид Ильич иногда спросит в этот день:
– Где Рябенко?
Кто-нибудь подскажет:
– Сидят, отмечают…
– А, а, ну пусть, пусть, не зовите.
При Горбачеве ритуал сохранился. Очень хорошо, тепло поздравляли и Михаил Сергеевич, и Раиса Максимовна. Подарки стали разнообразнее – столовая посуда, чайный сервиз. Если Брежнев мог забыть иногда о моей дате и Рябенко ему напоминал, то Горбачевы – и он, и она – помнили, я даже удивлялся этому. Однажды вечером я с Михаилом Сергеевичем плавал, и он сказал вдруг:
– А ты чего, у тебя ж день рождения? Иди, отдыхай.
На октябрьские и майские праздники Раиса Максимовна передавала для моей жены Даны цветы. В этом отношении они оба были внимательны.
Когда исполнилась круглая дата, мне вручили орден Красной Звезды. Боевая награда – очень дорога мне.
Мы прилетели в Форос 4 августа, и буквально на второй день Плеханов заговорил вдруг о моем самочувствии:
– У тебя усталый вид. Как твое состояние, как нервы?
– Год без отпуска, – ответил я, – год был напряженный.
– Отдохнуть бы тебе надо, – неожиданно сказал начальник управления.
Меня подобная неожиданная забота удивила. Все годы ни он, ни другое руководство подобных разговоров не заводили, раньше декабря вопрос об отпуске вообще не возникал.
– Отдохнуть бы не мешало, но так не делается, – заметил я. – Только прилетели, едва началась командировка, и вдруг – все бросить, сорваться, уехать… Такого еще не бывало.
Сам Плеханов должен был через пару дней возвращаться обратно в Москву.
– Ну, я поговорю с Михаилом Сергеевичем.
– Не надо, я думаю, что он отпуск не даст.
Такая настоятельная, почти настырная забота. Только потом, после событий 19 августа, я все понял. Когда Горбачева еще только отправляли на отдых, план заговора уже существовал, я в этот план никак не вписывался, и меня решили выманить из Фороса. Думаю, что Плеханов хотел забрать меня в Москву вместе с собой. На следующий день он действительно завел разговор с Горбачевым о моем отпуске и получил резкий отпор:
– Он что, больше всех устал?
Мне Плеханов передал в мягкой форме: «Михаил Сергеевич отказал…»
Горбачев сам ни о чем у меня не спрашивал, а я тем более в объяснения не вступал, но он остался недоволен мною, я понял это по его холодности ко мне. Глупо. Тем более что никогда таких проблем не возникало. Горбачев и сам часто говорил: «Ты пока в отпуск не собирайся, предстоят сложные поездки. А потом мы к этому вернемся».
…Наверное, потом у Михаила Сергеевича какие-то подозрения пали и на меня – в соучастии!.. Все, дескать, уже знал, хотел смыться…
При Брежневе, кстати, подобной ситуации бы не возникло, хотя он, как и Горбачев, давал отпуск с неохотой. Там начальник охраны о своем отпуске спросил бы у шефа сам, непосредственно. Здесь же Горбачев, отдалив меня, сделал Плеханова доверенным лицом по всем вопросам, даже по моим отпускным делам. Я оказался маленьким винтиком.
История с Плехановым – еще один факт непонимания людей, неразборчивости и полной слепоты Горбачева. Две недели спустя это скажется роковым образом.
Плеханов, впрочем, стараясь сблизиться с Горбачевым, занимаясь даже мелкими хозяйственными и бытовыми вопросами, тоже становился винтиком, хоть и покрупнее.
Вот в чем принципиальная разница между Брежневым и Горбачевым: Брежнев был ближе к людям, непосредственнее. Другое дело: мягкий – жесткий, справедлив – несправедлив, прав – не прав, но ближе.
Михаил Сергеевич высокомерно-холодно надулся, не снизойдя до объяснений с начальником личной охраны. Брежнев бы спросил у верного ему Рябенко: «Ты что?!»
Отдых проходил, как всегда, размеренно. Михаил Сергеевич вставал довольно поздно, часов в восемь. Около девяти – завтрак. Первыми к морю спускались Ирина, Анатолий, Ксана. После десяти – Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной. Он – в легкой рубашке, шортах, туфлях «сабо» на босу ногу, на голове – легкая кепочка цвета хаки. На пляже он оставался в плавках, брал в руки книгу и так, стоя, загорал. Просматривал газеты, свежая почта приходила около часа дня. Раиса Максимовна, лежа, читала у моря.
В воду они входили всегда вместе. Он надевал резиновую шапочку, плавал долго, часто резвился в воде, уплывал вперед, возвращался к Раисе Максимовне, которая плавала спокойно, академично. Каждый раз, возвращаясь на берег, спрашивали у меня, сколько они пробыли в море. Обычно купались минут сорок. Он плавал хорошо, мог бы побыть в море и подольше, но его донимал хондроз.
После купания – душ. Потом – массаж, сначала он, потом – она.
После массажа – отдых, потом – работа в кабинете.
В 15.00 – обед. На веранде, на северной стороне, солнце уже уходило, оставляя тень.
После обеда работал. Я заносил ему документы от Черняева – его помощника.
С пяти до семи вечера Михаил Сергеевич с Раисой Максимовной гуляли по терренкуру или шли к морю.
Потом – ужин и снова прогулка.
Одевался Михаил Сергеевич предельно просто, весь набор его одежды – несколько пар спортивных маек, свитеров, летних брюк, кроссовок и летних туфель. Да, и еще, конечно, шорты. На подмосковной ли даче или в Крыму – в спортивных майках и кроссовках. К вечеру, если было прохладно, набрасывал курточку и обязательно надевал кепку или спортивную шапочку. Он почему-то очень боялся за голову, даже в теплое время надевал головной убор. В зимнее время особенно утеплялся, шапку-ушанку подвязывал под подбородком.
Будучи непритязательным в одежде, когда речь шла о новом костюме, он становился требовательным, даже придирчивым. Портные являлись работниками 9-го управления КГБ, несмотря на то, что у Михаила Сергеевича было много претензий к их работе, брать кого-то другого со стороны он не хотел. Видимо, опасался лишней утечки любой информации при новых мастерах.
Сложность состояла в том, что под Горбачева подгоняли готовые импортные костюмы. Подгонять труднее, чем шить, тут и малые допуски на швах, и разная технология пошива, прочие трудности. Многочисленные примерки, исправления, тут Михаил Сергеевич был терпелив, время – когда нужно, сколько нужно – уделял безоговорочно.
Главным приемщиком была Раиса Максимовна. Она распекала мастеров, не стесняясь. Иногда, кажется, все было хорошо, нам всем нравится, главное, и ему нравится, а она – нет. И почти всегда она оказывалась права. Вкус у нее, безусловно, был хорошим.
Собирались в отпуск обычно на подмосковной даче. Иногда Михаил Сергеевич надевал в дорогу костюм, галстук. Но уже в пути, прямо в автомашине, сбрасывал пиджак, расстегивал ворот, снимал галстук Непритязателен был в этом смысле.
В летнем кинотеатре под открытым небом прямо перед ними на столе лежал список фильмов с краткой аннотацией, иногда между членами семьи затевалась дискуссия – какой фильм смотреть Обычно шли друг другу на уступки. Случалось, начинали смотреть кино, потом давали знак киномеханику, просмотр прекращали, заказывали другой фильм.
Ложился спать в час-полвторого. То есть даже на отдыхе спал часов шесть-семь, не больше.
Два генеральных были не просто разными, но прямо противоположными. На службе: Брежнев, особенно в последние годы, многие вопросы передоверял своим сподвижникам. У Горбачева же – все в руках, мобильный, моторный, даже в машине – звонит, времени даром не теряет. Тот о многом не знал, забывал, этот все держал в голове.
На отдыхе – все наоборот. Брежнев – лихие скорости за рулем, десятки километров лесных завалов или по глубокому снегу в поисках раненого зверя, многочасовые купания в штормовом море. И будучи больным, Брежнев не отказывался от своих пристрастий, в последнее перед смертью лето 1982 года он так же далеко и подолгу плавал даже в плохую погоду.
Горбачев же, молодой и сильный, вел на отдыхе жизнь размеренную, скучную. Весь был запрограммирован, законсервирован, лишен обыкновенных человеческих страстей. В охотничьем Завидове он бывал несколько раз – погулять. Один раз, вскоре после прихода к власти, Михаил Сергеевич охотился. Вроде бы понравилось. Но шла волна разговоров о барских забавах Брежнева, и Горбачев перестал ездить в Завидово.
В Крыму он купался дважды в день – перед обедом и ужином, по полчаса. Все по программе, как автомат. Мне кажется, мало они оба бывали на воздухе. Ну, посиди ты лишний час у моря. Я им обоим сочувствовал, а его – даже жалел. Весь год вкалывает, вечерами иногда как выжатый, как из горячего цеха. Даже рубашку мокрую иногда менял. Очень часто возвращался после работы на дачу часам к десяти вечера. Работал много, напряженно. После пленумов или съездов иногда уединится с кем-нибудь – душу отводит. Он уже даже читал стоя – уставала спина: остеохондроз.
Раза два в месяц все же выбирался в театр. Культурным досугом его занималась Раиса Максимовна. Она давала мне задание выяснить, что где идет, и я предоставлял ей программы нескольких театров. Она выбирала что-либо на свой вкус, и они всей семьей направлялись на спектакль. В антракте пили чай, приглашали и меня. В Большом театре он слушал «Хованщину», в Малом смотрел чеховского «Иванова», в Ленинградском БДТ имени Кирова после спектакля «На дне» встретился за кулисами с актерами – целое созвездие: Стржельчик, Басилашвили, Фрейндлих. В Москве, когда в Большом пел Паваротти, Горбачев также отправился к нему за кулисы. За рубежом очень часто актеров приводили к нему в ложу. Случалось это и у нас. Так, на благотворительном концерте в зале Чайковского к нему в ложу привели балерину Людмилу Семеняку. Бывал также во МХАТе, в зале консерватории, в общем, о культурной жизни в стране представление в общих чертах имел.
Мне кажется, его очень сдерживала на отдыхе в Крыму Раиса Максимовна. Его запрограммированность и зашоренность – от нее. Он ей подчинен был. Под ней ходил. И другие это видели, а вот в чем причина этой зависимости – никто так и не понял. По любому вопросу – к ней. У него была, если можно так сказать, мания ее величия. Однажды Раису Максимовну деликатно поправил знаменитый театральный режиссер – один из лучших в стране, Горбачев поправку отмел:
– Нет-нет. Вы ее слушайте, она знает, она знает…
Плеханов или я перед очередной командировкой подходим:
– Михаил Сергеевич, когда завтра вылетаем, в десять или в одиннадцать?
– Потом скажу. Выясню.
Все понятно: спросит у Раисы Максимовны, потом объявит нам.
Когда они ехали в машине вместе, она садилась на его место – сзади справа, а он рядышком, как бы при ней.
Без нее бывал другой – раскованней, веселей, коммуникабельней. Хотя говорил нам:
– Хорошо, что со мной ездит Раиса Максимовна. Без нее бы я до трех-четырех утра работал, а так она меня вовремя спать отправляет.
Иногда она его все-таки «доставала» – он вспылит, расходятся в разные стороны. И в дом возвращаются по отдельности.
…17 августа они возвращались вечером с пляжа. Видимо, все уже обсудили.
– Володя, послезавтра, девятнадцатого, в час будем вылетать, – сказал Михаил Сергеевич. – Когда надо с дачи выезжать?
– Ну, ехать минут сорок. Если вы особо прощаться ни с кем не будете, в двенадцать выедем.
Я тут же связался с Москвой, с В.Генераловым, заместителем Плеханова.
– Я за вами этим же самолетом и прилечу, – ответил он. – Заеду на дачу.
Так было заведено уже при Горбачеве. Когда он возвращался откуда-либо в столицу, за ним обязательно прилетал кто-либо из руководства московской «девятки». Для чего так перестраховывались, я не понимал, но дело не мое, порядок есть порядок.
Помощник президента А.Черняев попросил меня связаться с другим помощником – Г.Шахназаровым, который отдыхал в санатории «Южный», в десяти минутах езды от нас. Я сообщил ему о времени вылета и о том, что он должен лететь с Горбачевым.
18 августа также был обычным днем. Около одиннадцати часов Михаил Сергеевич и Раиса Максимовна спустились к морю. Она, немного отдохнув, стала плавать, а он читал на берегу книгу. Через час с небольшим они отправились к дому. По дороге еще раз уточнили время отъезда и вылета.
Я вернулся к себе в кабинет, отдал ряд распоряжений, касающихся отъезда. Пообедал.
В 14.30 позвонил жене в санаторий «Форос». Договорился, что сегодня в девять вечера я постараюсь к ним подъехать, поскольку завтра вылетаю в Москву.
…Примерно через два часа мне позвонил дежурный по объекту:
– Владимир Тимофеевич! Пограничникам поступила команда: через резервные ворота дачи никого не выпускать!
– От кого поступила команда?
– Не знаю.
Я стал выяснять, и в этот момент в кабинет ко мне вошли оба моих начальника – Плеханов и Генералов.
Только что, недавно я говорил по телефону с Москвой – с Генераловым, обо всем договорились, и вдруг он здесь вместе с Плехановым. Мы поздоровались, и я сразу же спросил:
– Кто отдал команду перекрыть выход?
– Я. – Плеханов улыбался. – Не волнуйся, все в порядке.
Когда на объект приезжает начальник управления, все бразды правления переходят к нему, он имеет право отдавать любые распоряжения любому посту. Формально тут не было никаких нарушений или превышения власти, по существу же – я, начальник охраны, оказываюсь не в курсе.
– К Михаилу Сергеевичу прилетела группа, пойди, доложи.
– А кто приехал? По какому вопросу? Как доложить?
– Не знаю… У них какие-то дела…
Плеханов нервничал, я заметил, но отнес это к важности дела, по которому они прибыли. Это теперь уже, спустя время, я анализирую – нервничал, волновался, неспокойный был какой-то, а тогда это все мелькнуло и ушло.
– Ну ладно, – сказал Плеханов после паузы, – мы пойдем к нему.
– Как же вы пойдете, надо же доложить.
– Ну иди, доложи.
Он назвал прибывших – Шенин, Бакланов, Болдин, Варенников. Перечень имен исключал всякие подозрения, больше того – успокаивал.
Во-первых, сам Плеханов – доверенное лицо Горбачева.
Шенин Личность сама по себе интересная, неординарная Горбачев прилетал к нему, когда тот был еще первым секретарем Красноярского крайкома партии И встреча, и проводы были теплыми, дружескими Горбачев взял его в Москву и поставил не куда-нибудь, а заведующим отделом оргпартработы, то есть доверил все кадровые вопросы. В Москве оба сохраняли близкие отношения.
Бакланов. У меня с ним сложились добрые отношения. Он – человек в принципе дружелюбный, при встрече тепло здоровался. Секретарь ЦК, ведал военно-промышленным комплексом, космосом. Со всякой информацией звонил Горбачеву, иногда через меня.
Болдин. Начальник аппарата президента. Весь повседневный календарь – у него. Он заходил к Михаилу Сергеевичу и ни разу не сказал секретарю: «Доложи, что я здесь». Входил прямо, без доклада.
Генерал Варенников. Тоже из ближайшего окружения.
Все – свои. Самые, самые свои.
Плеханов остался у меня в кабинете, в гостевом доме, остальные находились в комнате отдыха. Я направился к Михаилу Сергеевичу.
Он сидел в теплом халате, читал газету. Дня три-четыре назад его прихватил радикулит, то ли переохладился, то ли просто ветер дунул. Возвращался после прогулки, поднял ногу на ступеньку и охнул.
– Михаил Сергеевич, разрешите?
– Заходи. Что там?
– Прибыла группа. – Я назвал по именам. – Просят принять.
Он удивился:
– А зачем они прибыли?
– Не знаю.
Горбачев надолго замолчал. Я стоял около минуты. Он что-то заподозрил. Почему же не захотел посоветоваться, прикинуть варианты: Володя, задержись, потолкуем. С кем приехали – одни, с «Альфой»? Какой был разговор? Не уходи. Будь со мной и выполняй только мои распоряжения. Или, если разговор секретный: возьми своих ребят и будьте рядом, наготове.
Мне кажется, какой-то предварительный разговор о том, чтобы ввести в стране чрезвычайное положение, у них с Горбачевым был, может быть, в самой общей форме. Ведь они прилетели не арестовывать президента, а договориться с ним, уговорить его поставить свою подпись. Раз летели, значит, надеялись. Что же, в итоге не сошлись в формах и методах?
Ни они не знали, чем кончится разговор, ни он не знал, поэтому не счел нужным переговорить со мной. Тут еще подвела его и отчужденность с охраной – общение лишь через Плеханова, и вечная привычка советоваться с Раисой Максимовной. Он же после минутного раздумья и легкого замешательства пошел к ней в спальню…
А я отправился обратно к себе в кабинет.
Так и вышло по его теории: меньше знаешь – лучше спишь…
В кабинете у меня по-прежнему сидел Плеханов. Я сказал, что приказание выполнил, доложил, но Михаил Сергеевич не сказал ни «да», ни «нет».
Плеханов сам повел группу к Горбачеву.
Вскоре вернулся, сказал, что Михаила Сергеевича в кабинете нет, и попросил меня пойти в главный дом и разыскать Горбачева. Я ответил, что он, видимо, в спальне, не исключено, что переодевается.
– Подождите, он выйдет.
Время шло, Михаил Сергеевич не появлялся. Начальник управления снова попросил сходить, выяснить. Я снова отказался:
– Ходить по дому и искать президента не буду.
Хождения в главный дом были строго ограничены, что вполне справедливо: семья находится на отдыхе, и каждое чужое появление сковывает и раздражает. Появился Болдин:
– Нет его, пойди найди.
– В спальную комнату не пойду.
Опять подключился Плеханов, в два голоса они настояли:
– Ну посмотри. Люди же ждут.
Вместе с ними я снова поднялся в дом. Вся группа по-прежнему сидела в холле. О чем-то негромко переговаривались, вполне спокойно, без видимого напряжения. Я уловил главное: в Москве что-то случилось, но нашей службы это не касается. Болдин и Плеханов присоединились к группе, а я направился в кабинет. Опять – пусто. С минуту постояв, развернулся и мимо всех молча направился к себе.
Вскоре вернулся Плеханов.
– Что случилось-то? – снова попытался я выяснить.
– Да дела какие-то у них…
Заговорили о повседневных заботах. Я рассказал о радикулите, как это произошло. Как еще раньше Раиса Максимовна вызвала начальника отдела и велела заменить хрустальные люстры в домике на пляже на другие – попроще. И опять в тон общего разговора спросил:
– Для чего группа-то, Юрий Сергеевич?
Он снова засмеялся и повторил:
– Да успокойся ты, успокойся, все в порядке.
Тут я снял домофонную трубку. У Горбачева должен загореться огонек, если он на месте – поднимет трубку… Но Плеханов объявил:
– Не трогай. Телефон не работает.
Тут я понял: хрущевский вариант, вся связь отключена.
Мы вышли на улицу, остановились возле нашего подъезда. На выходе из гостевого дома появились визитеры. Плеханов громко, через дорогу, спросил:
– Ну, что там?
Болдин так же громко ответил:
– Да ничего… Нет, не подписал.
Ответил разочарованно, но спокойно, как будто и предполагал, что так оно, вероятно, и будет.
Плеханов двинулся им навстречу, и они о чем-то беседовали.
Если бы Михаил Сергеевич хотел изменить создавшееся положение!
Ребята были у меня под рукой. В моем подчинении были резервный самолет «Ту-134» и вертолет. Технически – пара пустяков: взять их и в наручниках привезти в Москву. В столице бы заявились, и там еще можно было накрыть кого угодно. Было еще только 18-е… Что же Горбачев – не смекнул? Не знал исхода? Но как же тогда мы, охрана, могли догадаться?
Для меня, как начальника охраны, главный вопрос: угрожало ли что-нибудь в тот момент жизни президента, его личной безопасности? Смешно, хотя и грустно: ни об угрозе жизни, ни об аресте не могло быть и речи. Прощаясь, обменялись рукопожатиями. Делегация вышла от Горбачева хоть и расстроенная, но, в общем, спокойная: не получилось, и ладно, они этот исход предполагали. Что будет дальше, не знали ни Горбачев, ни те, кто к нему пожаловал.
О чем они там советовались после неудавшейся беседы – не знаю. Плеханов двинулся ко мне и завел в кабинет:
– Михаил Сергеевич продолжит отдых. Генералов остается начальником охраны на объекте, а вместо тебя… кого ты оставляешь?
Вошел Климов.
– Вот, Олег будет выполнять твои обязанности. А тебе – три минуты на сборы, полетишь с нами в Москву.
Я – работник КГБ. Генерал КГБ. Там, в КГБ, я получал зарплату, много лет назад там, в КГБ, я давал присягу и этой могущественной организации был всецело подчинен. Более того, именно Плеханов непосредственно ввел меня в кабинет Горбачева, и он же своей властью отстраняет меня от работы.
Разговоры о том, чтобы вывести охрану Президента СССР из-под крыши КГБ, велись давно Александр Николаевич Яковлев убеждал в этом Горбачева Во всех цивилизованных странах охрана подчинена президенту. Мы, охрана, и я в том Числе, были «за» А Плеханов – против.
– Президента станет охранять только его личная охрана, – говорил он Горбачеву, – а так этим занимается весь КГБ.
Теперь с моей стороны речь шла об элементарной воинской дисциплине.
– Это приказ? – спросил я.
– Да! – ответил Плеханов.
– Вы меня отстраняете? За что?
– Все делается по согласованию.
– Давайте письменный приказ, иначе не полечу. Дело серьезное, вы завтра откажетесь, а я как буду выглядеть?
Плеханов взял лист бумаги, ручку, сел писать.
– У меня вещи на пляже, – сказал я.
– Пришлют. Три минуты на все.
Я собирал то, что было под рукой, а он писал приказ. Вошел Болдин:
– Поехали!
Плеханов:
– Сейчас. Один момент.
Он протянул мне письменный приказ.
– На, ознакомься.
Арест – не арест? Оружие не отобрали. Я достал из сейфа пистолет и подвесил его на ремне. У выхода из дома увидел доктора.
– Не поминайте лихом. Будьте здоровы.
Конечно, мои начальники хорошо понимали, что оставить меня на даче нельзя, на сговор с ними я бы никогда не пошел, продолжал бы служить президенту верой и правдой, как это было всегда. Это значит, что я обязательно организовал бы отправку Михаила Сергеевича в Москву, не говоря уж о налаживании связи со всем миром, повторяю, и экипажи дежурных самолета и вертолета, и все наличные силы на территории дачи подчинялись мне.
Могу поставить себе в достоинство: мои шефы, зная меня хорошо, даже не пытались войти со мной в сговор.
Выехали на трех «Волгах». По дороге ни с кем не обмолвился ни словом.
В Бельбеке подошел ко мне Шенин:
– Чего такой грустный-то?
– А чему радоваться? Вас никогда не арестовывали?
Он заулыбался:
– Да брось ты.
Я отошел в сторону, один – ото всех. Состояние идиотское. Душила обида. Меня подставили, предали. Все делали за моей спиной и ничего мне не объяснили. Компания прибывших держалась вместе, по-прежнему беседовала спокойно, во всяком случае внешне. Теперь ко мне подошел Бакланов, и разговор повторился почти дословно.
– Чего грустишь-то?
– А чему радоваться?
– Да мне тоже, знаешь, неприятно… – сказал он неожиданно вполне по-человечески.
В аэропорту пробыли минут пятнадцать. Варенников остался, а остальные четверо сели в самолет.
Начальник местной «девятки» мое положение знал. Другой бы на его месте не подошел, а Толстой предложил: «Давайте помогу». – «Давай, давай, полковник, помоги последний раз». Он взял мой чемоданчик и занес в самолет. Что-то успокаивающее говорил мне, я что-то отвечал – не помню. Он пожелал мне: «Ну, счастливого пути», и ушел. Я сел в самолет, в отдельную кабину, и уставился в иллюминатор.
Приземлились под Москвой, на Чкаловском аэродроме. Все отправились в Кремль, и мне Шенин предложил: «Садись, поехали». Но в Кремле я оказался не у дел.
– Поезжай. Будь дома, – сказал Плеханов.
Отправился на служебную дачу в Заречье. Там встретила меня Елена Федоровна, Данина мать, и я сказал ей, что отозван с работы.
Много я размышлял потом. А если бы Горбачева действительно приехали арестовывать? Силой? Мы бы не дали. Завязалась бы борьба. Но если бы Крючков или его заместитель, или тот же Варенников предъявили ордер – мы бы подчинились. Подчинение воинской дисциплине – мой долг, этому я присягал.
Если суждено было случиться тому, что случилось, хорошо, что все произошло именно так. Без замыслов ареста, угроз, насилия, шантажа, То есть в данном случае подчинение дисциплине не разошлось с нравственным пониманием долга.
Какая там физическая угроза устранения… Даже душевный покой президента в тот день не нарушили. Мы улетели, а он отправился… на пляж. Загорал, купался. А вечером, как обычно, – в кино.
Забеспокоился он много позже, спустя более суток. То есть вечером 19 августа, когда Янаев на пресс-конференции объявил его, Горбачева, больным…
Ельцин, придя к власти, быстро сделал правильный, очень важный шаг – личную охрану вывел из-под власти КГБ, сделал ее действительно личной, подчиненной только ему.
…Утром 19 августа, как и велел Плеханов, я прибыл в Кремль, но он сказал:
– Не до тебя.
И я на его машине уехал к себе, в Заречье, там собрал вещи и отправился в деревню к родителям.
У стариков – тишина, ни газет, ни радио. Телевизор сломался. Меня ничто не интересовало.
20-го в конце дня пришел брат: «В Москве такие дела, а ты здесь сидишь?»
21-го я снова в Москве. Позвонил на дачу Горбачева. Поднял трубку кто-то из моих ребят (там находились и комендант, и мой заместитель), кто – не помню.
– Приезжай сюда.
Прибыл. Выяснил, что два самолета вылетели в Форос. Решил отправиться в аэропорт – встречать. Связался с Форосом, со своими. Ребята сказали, что с дачи уже выехали, вылет тогда-то.
Внуково-2. Суета. Бегают солдаты. Баранников, Шахрай, Станкевич. Подъехал Бессмертных. Меня удивило, что Баранников – министр внутренних дел, не знал, в каком самолете летит Горбачев.
– Во втором? – спросил он меня.
– В первом.
Подошел Станкевич.
– Вы разве здесь? А я думал – там.
– Меня отозвали.
Прилетел самолет, и начался спектакль.
Могу в чем-то ошибиться, но, всю жизнь профессионально занимаясь безопасностью первых лиц страны, утверждаю: был поставлен спектакль. Самолет приземлился и встал чуть дальше, чем обычно. Как объяснял потом всей стране Руцкой: «Если вдруг аэропорт блокирован, тут же прямо и взлетаем». Глупость! У них же связь с землей. Там, в воздухе, они все знали – кто встречает, кто где стоит.
Подали трап. Открылась дверь. В проем выглянул начальник личной охраны Руцкого и с автоматом наперевес картинно сбежал по трапу вниз. Подошел к Баранникову; о чем-то пошептался с ним и также картинно вбежал обратно – в самолет.
Только после этого скова открылась дверь. Появилась личная охрана Горбачева, все – с автоматами наперевес, как будто только что вырвались с боем из тяжелого окружения, за ними появился сам Горбачев, за ним Бакатин, Раиса Максимовна… Далее – интервью, его знаменитые слова, которые войдут в историю, о том, что там, в Форосе, он «…контролировал ситуацию».
Спустили и задний трап, там – тоже охрана.
Потом Голенцов, мой второй заместитель, сопровождавший президента, рассказывал, что, когда самолет приземлился, Раиса Максимовна спросила:
– Кто встречает?
Голенцов перечислил всех, в том числе и меня.
– А этому что здесь надо? – спросила она.
Сойдя по трапу, Михаил Сергеевич прошел взглядом мимо меня, поздоровался с моим заместителем Пестовым.
Я спросил Голенцова.
– Как обстановка?
– В машине поеду я, – ответил он коротко, – остальное расскажу на даче.
Я понял, что моя песенка спета. Кости мои перемолоты там не единожды. Все закончилось.
Доехал все-таки с ними до горбачевской дачи – до Раздор. Там еще раз вспомнили Форос, я объяснил, что подчинился письменному приказу.
Переговорив с ребятами, уехал, а назавтра снова прибыл на дачу.
Комендант Бондарь впервые обратился ко мне на вы:
– Михаил Сергеевич просил вас сдать оружие и покинуть территорию дачи.
Было 22 августа, день моего рождения. Этот вечер мы провели дома вдвоем с Еленой Федоровной. Через два дня прилетела из Крыма Дана.
– Вот и все, – сказал я ей, – вот и все.
– Ну и слава Богу.
Я встречал Дану в аэропорту. Как говорила она потом, мой вид поразил ее – похудевший, осунувшийся, глаза запали.
За эти дни, что мы жили на даче, произошла цепь трагических событий. Покончили ясизнь самоубийством несколько высокопоставленных лиц, которых я довольно хорошо знал. По-человечески искренне было жаль их. Тревога усиливалась, вокруг нас неотвратимо сжималось какое-то невидимое кольцо. Меня буквально преследовали фотокорреспонденты, газетчики, телевидение. Это была настоящая охота. Они без стеснения врывались в дом, когда нас с женой не было. В квартире лежала больная дочь с температурой 40°, рядом с ней – старая мама Даны. Телевизионщики, перепутав, приняв ее за мою маму, задавали ей нелепые вопросы:
– А мог ваш сын оказаться предателем?
Она не знала, что отвечать, путалась, и они снимали ее.
Мы с Даной однажды подходили к даче, когда взволнованная Елена Федоровна встретила нас у калитки: «В доме корреспонденты телевидения». Я свернул в рощу, побродил, пообдумал, что к чему, только потом вошел в дом. Телевидение уже успело заснять не только Дану, но и ее мать, и без того вконец расстроенную. У нас разговор вышел недолгий, поскольку меня вызывал наш новый руководитель, исполняющий обязанности председателя Комитета госбезопасности Иваненко. Журналисты тоже помчались вслед за мной и успели переговорить с Иваненко раньше меня.
– Вы будете с Медведевым беседовать или вести допрос? Как со свидетелем или как с обвиняемым?
– Конечно, беседовать. Конечно, как со свидетелем.
Но даже и беседы с новым руководством КГБ у меня практически не было.
– Извините, – сказал Иваненко, – у меня вопросов к вам нет. Но вами интересуется прокуратура. Поезжайте прямо сейчас.
Журналисты, фотокорреспонденты, телевидение всем скопом поехали за мной и в прокуратуру, но там их не пустили.
Заместитель прокурора России Лисов встретил меня уважительно, поздоровались за руку. Следователь задавал вопросы: о приезде группы ГКЧП, о разговорах в Форосе, моем отъезде. Лисов записывал ответы. Говорили около получаса, не более.
Спустился вниз – все та же бесцеремонная компания тележурналистов ждала на выходе.
Еще дважды вызывали меня в прокуратуру. Вопросы все те же – «о событиях и фактах 18 августа в Форосе», но более подробные – по часам, по минутам. Следователи держали себя чрезвычайно корректно.
Потом телевидение показало эту передачу. И показали Данину маму, что-то она там бормочет… Старая женщина увидела это все, она так нервничала. В сентябре у нее случился обширный инфаркт миокарда. В январе 1992 года мы ее похоронили…
Исход
После августа 1991-го моя служба оборвалась. Пока оформляли мне пенсию, пока сходил в отпуск (снова зимой), наступил уже март 1992-го. Не знаю, почему затянули с оформлением пенсии, может быть, потому, что «девятка» сразу же после августа выкинула меня из своих штатов и передала в распоряжение общего управления кадров. Там другой коэффициент, другая пенсия – ниже. Вообще для этого управления я человек чужой. Меня вызвали туда и сказали:
– Предоставить вам работу не можем. Если сами что-то найдете, препятствовать не будем.
– Не волнуйтесь, я уйду в отставку, – ответил я.
Дважды я чувствовал свою полную ненужность: конец службы как конец жизни. Однажды – когда скончался Брежнев, теперь – когда скончался СССР и вместе с ним политически умер Горбачев. В тот раз меня охватило состояние растерянности, теперь – опустошения.
Снова, как и тогда, прекратились звонки от коллег, которых я сам подбирал для личной охраны, пестовал.
Тогда нижние чины, прежде передо мной заискивавшие, встретили мое отлучение со злорадством, далее чувством мести за собственные бывшие унижения, может быть, была прежде и зависть – не знаю. Но все же высшее руководство предоставило мне в ту пору право продолжать служить в органах КГБ, в престижном и интересном подразделении.
Теперь и руководство КГБ от меня решительно отвернулось. Я оказался пешкой в их грязноватой игре, они сговорились за моей спиной, предав меня, а в итоге предателем в глазах многих оказался я… Противное состояние.
События развивались в прискорбной последовательности – так, как и должны были развиваться в стране, где человек не защищен ничем, кроме должности. И, утратив должность, теряет все. Задолго до того, как были оформлены пенсионные документы, я, продолжая оставаться сотрудником КГБ, пришел в очередной раз за продуктовым заказом. Мне сказали: «Вы исключены из списка».
В дачном поселке, атакуемом окрестными хулиганами, сезон заканчивался в октябре. Но сразу же после августовских событий нам, как и другим жителям поселка, было предложено покинуть дома в течение двадцати четырех часов. Старики, женщины, дети, униженные и напуганные, были вынуждены срочно сниматься с места. Многие просили дать время на сборы, но администрация, ссылаясь на указания сверху, была непреклонна. Все это очень напоминало эвакуацию военных лет, когда наступали фашисты.
Мы намечали построить себе дачу, но после августовских событий и эта затея сорвалась, участок, который мы начали было оформлять, нам так и не выделили.
Так все и шло, катилось – одно к одному.
У нас во все времена так: если превозносим, то до небес, если развенчиваем, то до полного изничтожения, вбиваем по самую шляпку, как гвоздь в доску. Сколько человеческих судеб было изуродовано за эти буквально несколько дней!..
Не могу удержаться, чтобы не процитировать статью, опубликованную в «Известиях», потому что эти строки еще долго будут касаться моих сограждан – долгие, долгие десятилетия.
«Свободу недостаточно завоевать, ее надо заслужить. Теперь, когда рухнуло крепостное право партии и все рванулись в первые ряды, стремясь перекричать друг друга, хочется попросить: говорите тише, вас не слышно.
Крикливее других профессиональные трусы и завистники.
Время раздрызганной свободы для всяких самоутверждений, как ночь для воровства. Самое неизбывное стремление – к господству. В мире, где истинное и мнимое давно и прочно перевернуто, мерилом ценностей всегда была Власть. Не ум, не талант, не совесть, не деньги даже – Власть.
Кто вчера более других пресмыкался перед Властью, тот сегодня кричит яростнее других, мстя бывшим самодержцам за собственные унижения, беря реванш у себя самого, самому себе возвращая собственные долги.
Это в крови у нас. Всю жизнь, каждый день кого-нибудь преследовали – меньшевиков, эсеров, крестьян, интеллигенцию, церковь, науку, воинство, правых, левых. Вспомните, кого у нас не преследовали?
Мы не можем без врагов. Как же так, живем – и вдруг некого гнать…»
Исход – так обозначил я события после августа 1991-го, коснувшиеся меня, Горбачева, всей страны. Ушли из жизни многие из тех, кого я знал. Знаменитые «высокопоставленные», как писали о них, самоубийцы – с каждым из них мне приходилось общаться. Не думаю, что все они покончили с собой из-за боязни ответственности, нет. Маршал Ахромеев, например, человек достаточно волевой, не трус, он просто окончательно во всем разуверился, жизнь для него пошла прахом. Над могилой его надругались, один только этот факт говорит о нынешнем состоянии общества больше, чем падение экономики, жизненного уровня и так далее. Падение нравственности – вот главное, все остальное – производное.
После августовских событий, буквально вслед, в течение нескольких дней скончались мои молодые коллеги. Саша Соколов – «прикрепленный» Лигачева. Оторвался тромб: закупорка сердечных сосудов. Володя Тараканов – комендант у Черненко. Скончался после операции.
Это все выходцы из нашего 18-го отделения КГБ. Проработали по двадцать пять – тридцать лет.
Начали сыпаться… Никому из них не было пятидесяти.
ЮНЕСКО проводит исследование о скоротечности жизни людей разных профессий. Хорошо бы и нас включили в свои данные: на каком месте в списке недолгожителей – мы?..
Жизнь в России, к сожалению, такова, что люди моей профессии и моей квалификации становятся все нужнее. Убийства, изнасилования, похищения людей, квартирные кражи становятся бытовым явлением, люди привыкли к ним. Привыкли к тому, что дорогие вещи и украшения носить на улице нельзя, что после восьми вечера появляться на улицах в одиночку опасно.
Впрочем, опасно становится в любое время и где угодно – на улице, дома, на работе.
Межнациональные конфликты, расслоение общества, рост социальной напряженности, нищета, безработица – все это причины разгула преступности. В нынешних условиях растет не только корыстная преступность (рэкет, воровство, коррупция), но и, если можно так сказать, «бескорыстное» насилие, общество звереет. После выпитой бутылки сосед убивает соседа, сын – отца. Хроника уголовных происшествий занимает все больше места во всех газетах и на телевидении.
По всей стране свободно кочует масса оружия. Десятки тысяч стволов, гранат, приборы ночного видения – любое армейское вооружение можно практически свободно купить и продать.
Наряду с профессиональной охраной появились профессиональные убийцы – то, чего никогда прежде не было. Убийство можно заказать, цены – разные, в зависимости от значимости жертвы, от квалификации исполнителя, от шансов «не засветиться».
При всем при этом правовой основы для борьбы с преступностью практически нет. До сих пор не приняты, даже не разработаны законы о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, об оружии, о правовой защите работников правоохранительных органов.
Правовой беспредел – могучий стимул для преступников. Дело идет к тому, что скоро надо будет приставлять охрану к каждому человеку.
В этом мутном водовороте найти какую-либо работу не составляло труда. Трудно было найти именно ту работу, которая соответствовала бы моему уровню знаний и опыта. Я нашел ее. В одном из малых предприятий возглавил охрану иностранных туристов и бизнесменов. Начал практически с нуля, и это хорошо, потому что вся организация дела исходила от меня. Я пригласил на работу бывших сотрудников КГБ, которых хорошо знал, и они без колебаний согласились вновь работать со мной. Многие – в достаточно высоком звании. Теперь мы снова вместе…
Чужие люди спешат мимо меня. На улицах, в магазине, в кино, в метро на меня указывают пальцем, я слышу за спиной шепот: «Он?» – «Не он?» Люди смотрят на меня, как на пришельца с другой планеты. Случается, останавливают:
– Вы?
– Я.
Какая-то пожилая женщина подошла ко мне в метро и перекрестила…





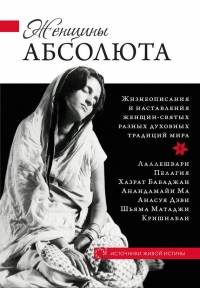

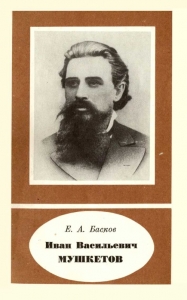

Комментарии к книге «Грехи Брежнева и Горбачева. Воспоминания личного охранника», Владимир Тимофеевич Медведев
Всего 0 комментариев